Полоса
ПОВЕСТИ
«Роковая ошибка»
— Ну чего ты, Надек, пошли! — Бухара попрыгивала на месте, ей не терпелось начать, она поглядывала в сторону станции, откуда метро выбрасывало народ.
Бухара попрыгивала, Ленок затягивала молнию на куртке, Жирафа сделала постное, печальное лицо. Они втроем стояли, а Надька сидела на бульварной скамейке, осыпанной сентябрьским листом, один кленовый лист крутила за длинный черенок меж пальцев. Что-то ей скучно было вступать в игру. Вы давайте, давайте, говорил ее вид, я-то успею, свое возьму.
— Пошли, Жир! — сказала маленькая черная Бухара длинной белесой Жирафе. — Жир!..
И они пошли.
— Ты чего? — спросила Ленок Надьку.
— Да не, ничего, я сейчас… Вон бери, твой! — И Надька показала на мужчину в шляпе, который, выйдя из метро, остановился закурить: поставил портфель между ног, а на портфель торт в белой коробке. Сразу видно: в хорошем настроении, значит, добрый. Ленок тут же послушалась и мягко двинулась наискосок к мужчине, чтобы вынырнуть возле него сбоку. Ленок узкая, как кошка: голова обтянута шапочкой, спина — курткой, зад — джинсами, ножки — сапогами. Нет, не кошка — змейка, змея.
Надька наблюдала издали. Видела, как Жирафа подошла к телефонным будкам, а Бухара к киоскам — там слепились «Союзпечать», «Табак», «Мороженое» и гуще толпился народ. Ленок приблизилась к мужчине. С жалобным лицом, смущаясь, но и чуть виясь, не скрывая своих достоинств, лепетала: «Извините пожалуйста, у вас не найдется пятачка на метро, домой не на что доехать…» Мужчина уже наклонился было за тортом и портфелем и хотел бежать дальше в том же темпе, в котором выбежал из метро, но — Ленок била в десятку — пыхнул дымком сигаретки, вгляделся: та стояла бедной скромницей. Надька услышала веселое:
— Дайте пятачок на метро, а то на портвейн не хватает, а? — Мужчина был еще не старый и говорил громко. Он полез в карман, порылся и раскрыл ладонь с мелочью: — На, держи!.. — Ленок опять вилась, стоя на месте: мол, зачем мне столько? Потом выставила руку. — Держи, держи, сами такие были! — Мужчина подмигнул и побежал беспечно, помахивая тортом. Ленок опустила мелочь в карман, повернула голову к Надьке, подмигнула. «Отлично! — отвечала та взглядом. — Не слабо!»
А возле автоматов Жирафа уныло клянчила двушки у тех, кто помоложе, — вон к такому же длинному, как сама, парню подошла, и тот нехотя отдал ей монетку.
У киосков за мелькающими людьми Бухара, тоже понуро, стояла перед молодым мужчиной, который, видно, на минуту выбежал из дома в одной клетчатой рубахе и без шапки, — он держал в руках, одну на одной, сразу несколько пачек пломбира. Наклонясь к Бухаре, нетерпеливо слушал, потом подставил ей нагрудный карман рубашки, чтобы она сама вытянула оттуда деньги. И она, кажется, взяла сразу бумажкой — должно быть, рубль. Мужчина еще протянул ей брикеты с мороженым, и Бухара — цап! один, а он щелкнул остальными ловко, как в цирке, скрепив их опять давлением.
С этим брикетом Бухара примчалась к Надьке:
— На! — Ее уже охватил азарт добычи. — Видала? — И она в самом деле показала рубль. — Ты-то что?..
— Я не хочу, — сказала Надька про мороженое.
— Ну, а куда его? Ешь! — И Бухара умчалась.
Надька откусила и положила пачку на скамейку. Полезла в карман брюк, достала деньги: рубли, трешки, мелочь — рублей пятнадцать набиралось, — сунула назад.
Не так уж деньги им были нужны — они развлекались.
Посмотрела опять: где кто? Ленок стояла перед интеллигентного вида женщиной, та рылась в кошельке, искала, видимо, пятачок. А от киосков вдруг взметнулся женский высокий голос: тетка с сумкой и с пакетом чистого белья из прачечной кричала вслед отступавшей Бухаре:
— Как не стыдно! Только что просила вот тут у гражданина! Ни стыда, ни совести! — Женщина пыталась привлечь внимание общественности, но общественность реагировала так себе, а Бухара уходила, ввинчивалась в метро, где не вход, а выход. И тут же возникла Ленок, кивнула Надьке и тоже двинулась к метро. За ней Жирафа с округлившимися сразу глазами.
— Какие наглые! — шумела женщина. — Вы подумайте! Все им можно!
Надька бросила без жалости почти целую пачку мороженого в урну и пошла тоже. Нарочно сблизилась с теткой, которую уже все покинули, пробасила:
— Ладно орать-то! Чума! — И нырнула в метро.
Они сидели на лавке на перроне и обсуждали происшествие. Бухара изображала тетку, растопырясь и держа в руках невидимую поклажу.
— А ты кончай, Надек, — вдруг ни с того ни с сего сказала Жирафа. — Мы это… а ты сидишь.
— Да! — Кажется, уж кто бы говорил — тут же прищурила и без того узкие глаза Бухара.
— Да! — сказала и Ленок. — Так не полезно. — И кинула в рот таблетку: она все время глотает разные витамины, знает, что́ полезно, что́ не полезно, у нее мать в аптеке работает.
Надька поглядела жестко в сонные глаза Жирафы, и та тут же стушевалась, нагнула голову в нелепой вязаной коричневой шапке. Ленок и Бухара тоже отвели глаза.
— Ладно! — Надька говорила властно и кратко. — Вон компоту хотите?
Они так сидели, что перед ними мелькали только ноги и сумки прохожих. Народу было уже не так много. Надька кивнула вслед женщине, которая несла в авоське три банки венгерского «глобуса».
— Компоту! — ухмыльнулась Бухара, намекая на невыполнимость задачи.
— Компот — это полезно, — одобрила Ленок.
— Ну, на́ спор? — сказала Надька, уже неотрывно глядя в спину женщины с компотом, и повторила любимое свое словечко: — Чума…
И вот они вошли в вагон. Женщина — высокая, белокурая, усталая, обе руки заняты — с облегчением увидела, что есть место, села, одну сумку, матерчатую красную, поставила у ног, другую, сетку с банками, — на сиденье рядом с собой. И попала взглядом на Надьку, та опустилась рядом.
Надька еле слышно всхлипывала, утирала слезы. Вроде тайком, не напоказ.
— Девочка!
Надька отворачивалась с таким видом, что, мол, кому до меня дело.
— Девочка, ты что? Что-нибудь случилось?..
Люди со стороны поглядывали с любопытством, но поскольку женщина с компотом уже занялась девочкой, тут же поостыли.
В соседнем вагоне, таясь за торцевым стеклом, маячила кудрявая, теперь без шапки, голова Жирафы.
— Ну скажи. Ты откуда?..
— Ниоткуда! — со всхлипом отвечала Надька.
— Ну? — Женщина протягивала к ней свою добрую руку. — Ну? Кто тебя?..
— Да ну ее!
— Ну кто, кто?
— Да мать! Я у нее приемная, так она хуже мачехи… домой не пускает, я уже второй день… — Надька била сразу из крупной артиллерии. И поглядывала на компот, невольно отвлекая взгляд женщины на сумку. — Совсем уж! И никакой управы на нее нет. Чума!..
— Ох, боже мой! Как же так? А родная мать?
— Да бросила! Сама на Дальнем Востоке.
— Как бросила?
— Да так! Как бросают!
— Ой, боже, боже! А ты учишься, работаешь?
— Учусь. В хлебопекарном. Да она и в училище придет, будто помои на меня выльет: такая я, сякая, а сама…
— Господи, что делается на свете! — уже вовсю жалела Надьку женщина, а Надька только махнула рукой: мол, что уж тут говорить. А сама не сводила взгляда с компота.
— Может, тебе денег немножко?..
— Ну что вы, спасибо, я не возьму. — И не было сомнений, что эта бедняга девочка не может взять у незнакомого человека деньги. — А это что у вас? Я таких банок сроду не видела.
— Да ты что? Это компот венгерский. Как не видела?
— Да не видела, где я увижу?
— Боже мой!.. Дать тебе?
— Зачем? Я не возьму.
— Да ну что ты! Возьми! — Женщина уже запускала руку в сумку и доставала банку. — Возьми, ерунда — компот. — Она рада была хоть чем-то помочь бедной девочке и тем, кстати, выйти из положения.
— Вам тяжело, я вам помогу нести, — сказала Надька светлым ангельским голосом, уже как бы в компенсацию за явившийся наружу компот. Она без зазрения совести глядела в доброе, усталое и блестевшее от усталости, словно от крема, лицо женщины и боялась даже покоситься в сторону, где за стеклами соседнего вагона уже готовился, конечно, взрыв восторга.
И вот холодная банка в руках у Надьки, женщина еще что-то говорит, сердобольно на нее глядя, но поезд тормозит, пора. На перрон вылетают девчонки с воплями, и Надька выскакивает к ним.
— Компот! Компот! Надек-молоток!
Надька победно подняла банку компота — словно кубок.
Перебежав перрон, они влетают во встречный поезд.
Вагон полупуст, сидят поблизости две железнодорожницы с набитыми сумками, тетка с тазом в мешке, молодая женщина в очках с книгой, другая женщина с мальчиком лет восьми. Влетев, Жирафа цепляется двумя руками за поручень, виснет на нем, а задача других — оторвать ее, повалить.
— Гроздь!
— Гроздь! Гроздь!
И все кидаются, тоже виснут, орут.
— Гроздь!
Оторвали Жирафу, повалились на сиденье с воплями. Полный восторг.
Надька и Ленок поднимались по лестнице на последний, пятый этаж старой пятиэтажки без лифта. Дурачились, висли на перилах, приваливались к стене.
— Сейчас поесть чего-нибудь! Я ужас как! А ты, Лен?
— Не полезно на ночь.
Да, Ленок красавица. У нее манера. Надьке против нее куда! С кургузой своей фигурой, широкой мордой, прямыми дурацкими волосами. Когда они остаются одни, то Ленок сразу берет верх, а Надька теряет всю свою власть.
Надька открывала своим ключом дверь, дверь не поддавалась.
— Заперлась, дура! — Надька нажала звонок, и звон хорошо был слышен внутри квартиры. Дверь не открывалась. Надька нажимала еще и еще. — Ну!.. — Она опять выругалась, повернулась и стала стучать в дверь каблуком.
И вдруг из-за двери:
— Не стучи! Не открою!
— Открой, ты чего?!
— Не открою! Иди, откуда пришла!
— Открой! Видала, Лен?.. Вот чума!.. Открой, я здесь с Леной!.. Мамка Клавдя!
— Хоть с чертом! Тебе когда сказано приходить?
— Открой! Сейчас дверь расшибу!
— А я вот милицию, она тебе расшибет!
Ленок сразу заскучала:
— Я пойду, Надь.
— Стой! Я сейчас!.. — И Надька стала еще пуще — от стыда перед Ленком — колотить и орать: — Открой! Открой!..
У соседей напротив уже глядели через цепочку. Ленка кинулась вниз по лестнице. Бедная мамка Клавдя уже не рада была — гремела замком, отпирала, а Надька билась о дверь, стучала кулаками в ярости, но без слез.
…Выходит, в дом-то ее и правда не впускают.
Из холодильника Надька достает банку лосося, за нею банку сгущенки. Обе банки ловко вспарывает на дешевой клеенке кухонного стола. Тут же полбатона белого, тут же видавший виды «маг», который испускает свои «лав», «лайк», «гив», «май». Это очень интересный «маг»: передняя крышка с него снята, задняя тоже, и видно все сложное, на схемах и в цветных проводах, нутро аппарата.
Надька сидит одна за столом, ест. А за спиной ее — всхлипывания, сморкание, кашель и бесконечный монолог, каждый день Надька его слышит.
— Ну змея выросла, свет не видывал! Во, возьмет банку лосося и уговорит одна всю! Ей что! Мать болеет, мать того гляди помрет как собака, воды некому подать будет, — да черт с тобой, кому ты нужна, она только рада будет — наконец место освободила, слава богу! И жилплощадь теперь вся наша, води сюда всю банду свою, гуляй!
Кашель только и останавливает мамку Клавдю, она чуть не плачет от жалости к себе, на самом деле представляя, как это она помрет, а Надька тут же наведет своих подружек и будет здесь безобразничать, прогуливать нажитое.
Надька, разумеется, и ухом не ведет, нарочно громче делает музыку, хотя, конечно, все слышит и про себя еще мамке Клавде и отвечает кое-что не больно вежливое: губы шевелятся.
— Бесстыжая, больше никто! — продолжает мамка. — Уговорит хоть три банки зараз, сгущенки налопается, и плевать ей, откуда ты, мать, взяла, где у тебя денежки удовольствия ей справлять. Одни удовольствия, одни удовольствия им подавай: поесть вкусно, да танцы, да кина, — вот вам и вся жизнь! Откуда паразиты такие только повыросли!
Опять кашель, опять вызов: мол, ну, ответь, ответь, я тебе еще тогда не такое скажу, но Надька молчит, и мамка Клавдя переходит к самому больному месту:
— А какая девочка была, два годика, куколка, звездочка! У нас с хлебозавода Нюрку тогда выдвинули, она со мной сама лично ходила в детдом, хлопотала, я год ждала, чтоб подобрали девочку получше, чтоб у ней хены не срабатывали далеких предков, — нате вам, дорогой товарищ Шевченко, вот оно выросло! Откудова только набрали таких хенов в один организм — вот что страшно-то! А выдали-то? Толстенькая, в белом платьице, волосики вьются прям локонами, глазки, как у куколки, открываются, так и сияют — ангел! Вот он, ангел!..
Тут не выдерживает мамка Клавдя и ревет.
Выходит, Надежда и насчет детдома не врала женщине с компотом… Историю про себя маленькую она слушает с интересом: все мы любим, когда нам о нас же рассказывают.
А мамка Клавдя продолжает:
— А ручки-то крохотулечки, пальчики тепленькие всегда, горячие, как возьмешь в свою рабочую лапищу-то нежность этакую, заплачешь, ей-богу, заплачешь. Сидит, бывало, в ванночке, ручонками шлеп-шлеп, резиновым крокодилом шлеп-шлеп. Ма-ма!.. Что, моя жданочка, что, моя звездочка?.. Ну, слезы, слезы, не нарадуешься, откуда ж счастье-то привалило тебе, дуре одинокой, — так и плачешь над нею, крошечкой, и сама-то сирота выросла, фашист все пожег, всех загубил, с пятнадцати лет в городе на работе, сначала камни растаскивали, цельные улицы разбитые, а потом, спасибо, на хлебозавод определили… И откуда, — тут опять высоко поднимается мамкин голос, — такое-то, зачем только растут? Так бы и засахарить их крошками-то! А то ведь кто выросло! Кто? Черт ядовитый, больше никто! Вот и вся куколка!..
(Ну и переходы у вас, мамка Клавдя, ну и переходы!)
— Мать в гроб вгонит — и порядок в танковых частях, это ее мечта-то и есть! Ну? Все? Отзавтракали, ваша величество? Хоть банку бы за собой выкинула, привыкла: подай, принеси, всю жизнь выносить за тобой матери!..
И — не выдержала Надька, заорала:
— Замолчи! Какая ты мне мать? Чума!
«Маг» в играющем виде сунула в кустарную холщовую сумку, кота Сидора отбросила ногой, об которую он терся, по столу стукнула так, что банки подпрыгнули и повалились. А мамка Клавдя этого и ждала.
— Ах, не мать! Катись! К своей катись! Она вон завтра явится, пусть берет тебя к черту! «Прилетаю завтра рейсом…» Прилетает она, ведьма летучая!.. На вот, встречай иди! И глаза б мои вас больше не видали! — кинула Надьке телеграмму и зарыдала, пошла багровыми пятнами.
Бедная мамка Клавдя! Плюхнулась на табуретку в своей пятиметровой кухне, подперла голову, некрасивая и нескладная, как кривое дерево, — передовица своего хлебного производства, уважаемая работница, а тут, дома, никто, «дура старая», каждый день одни обиды — конечно, за душу возьмет. Да еще э т а приезжает — нет, к сожалению, в нашем языке такого слова, которое бы определило это понятие — мать, которая родила, но не воспитывала своего ребенка. Как назвать такую: родительница, рожальница, детородница, производительница?
Мамка на кухне кашляет и плачет, Надька в ванной закрылась, кот Сидор банкой из-под лосося по полу гремит.
А вот, пожалуйста, кинохроника — расширим границы нашего повествования прямо до Дальнего Востока — кинохроника: синее море, белый пароход, синее море, Дальний Восток.
Плавучий рыбный завод. Лебедки заносят над трюмами тугие от рыбы пузыри сетей. Как серебристая мелочь, сыплется рыба и мчится по мокрым транспортерам в разделочные цеха.
Крутятся механизмы, дымят котлы, щелкают и гудят автоматы. А вот и банки из-под лосося. Вернее, для лосося. Они тарахтят, заполняя длинные столы. А вот и руки, которые укладывают в банки разделанную рыбу. Это женские руки. Две руки, четыре, шесть, сто, двести. Гигантский цех, сотни женских голосов. Голос диктора сопровождает эти кадры бодрыми словами о перевыполнении плана, комментатор берет интервью у бойкой белозубой рыбоукладчицы. И опять рыба, сети, автоклавы, банки с нарядными наклейками…
И на этом фоне начинается еще один монолог, тоже женский. Но женщина теперь иная: крепкая, широколицая, хорошо одетая (жабо белой японской блузки), причесанная в «салоне». Разговор идет с соседкой по самолетному креслу: лететь далеко, можно обо всем на свете переговорить.
Стюардессы разносят обеды, женщины едят, подставляют пузатые стаканчики, в которые им наливают вино, обе оживлены, свободны, веселы: полет, еда, разговор, мужские взгляды — жизнь!
Смеются.
— Чего бы покрепче! — Будем здоровы! — Смотри, икру дают! — Глаза б мои на эту икру не глядели!
— …Ну вот, — продолжает свой, видимо, издалека начатый разговор мамка Шура, так ее зовут в отличие от мамки Клавдии, — живу как сыр в масле, грех жаловаться, а ведь все сама, всю жизнь вот этими руками — видала такие руки?
Она показывает руки, и они поражают своей шириной, толщиной. Такие руки бывают только у работниц рыбзаводов, разделочниц и укладчиц, кто имеет дело с рыбой, крабами, креветкой: рыба и соль разъедают натруженные руки, они пухнут, раздуваются — это профессиональное заболевание. Вернее, даже не заболевание, а результат, признак именно этого труда. Как мозоли у плотника.
— Я его любила без памяти, — рассказывает Шура, — я за ним на край света пошла в буквальном смысле: взяла да прилетела к нему на Камчатку. А мне еще восемнадцати не было. Мы десять лет безразлучно на одном судне плавали, я все навсегда позабыла. У меня мама померла в Воронеже, я только через три месяца об этом узнала. Он краба ловил и креветку, корюшку, лосося, он у меня рос год от года, его весь Дальморерыбопродукт знает, мы с ним два года в Сингапур ходили, — видишь, у меня шмотки — импорт, фирма́, мы на двоих такую деньгу заколачивали, мама родная, не приснится! Тем более он молодым сроду не пил, только трубку курил да книжки читал. Как я его любила — это роман, ей-богу, если описать, одно счастье и счастье было у меня в жизни, больше ничего. Не расставались нигде!.. Ну и куда мне было с дитем, подумай? Сама еще девчонка, все в самом разгаре, один он у меня в голове, — и вдруг на́ тебе! Как я пропустила, не поняла по неопытности, а потом хвать — поздно! Вот это была моя самая р о к о в а я о ш и б к а в жизни! Ей-богу, я всегда так и говорю: «Надька — ты моя роковая ошибка!..» Да уж, видать, так устроено — за все расплачиваться. А ребенок значил конец всему: в плавание с ним уже не уйдешь, разлучайся, значит, на семь-восемь месяцев, он в море, ты на берегу — это все. Там таких, как я, на плавбазе еще четыреста пятьдесят, а он как выйдет с трубкой, глаз прищурит и по-английски: ду ю уот ис лэди дуинг ивнин тудей? И — отпад, любая тебе лапки кверху… Как мне его было оставить?.. Да где оставить! В слабость кидало, если я полдня его не вижу, не дотронусь хоть вот так. Я ни одного дня и ни одной ночи без него не жила. Нет, не опишешь!.. Короче, он даже не узнал ничего. Я вроде мать навещать уехала, она еще жива тогда была, все болела, а он в Ленинграде был на курсах повышения, и я с ним. Я так подгадала, что на три месяца нам расстаться, — господи, выживу ли?.. Ну, подгадала, чего только не делала врачиха, Ирина Петровна, век ее не забуду, такое золото попалась, я полтора суток в родилке, чуть не померла, она меня не бросила. Я ей-то все и рассказала потом. Роковая, говорю, ошибка этот ребенок, загубит он всю мою жизнь. Я даже видеть ее не хотела, представляешь, какая злая была. Кормить отказалась. Меня спрашивают, какое имя дать девочке, я молчу. Какое, говорю, хотите, такое и давайте. Ну что ты хочешь, мне двадцать лет, ни кола ни двора, а в голове только он! Он меня в Ленинграде ждет, а я что ж, с дитем на руках к нему явлюся? Он и так все спрашивал, что со мной, а я — ничего да ничего. Чтоб он фуражечку вот так, честь отдал и гуд бай, леди?.. Короче, пиши, говорит Ирина Петровна, заявление и забудь навсегда, что была у тебя дочь, глаза б мои на тебя не глядели! Четвертый, говорит, случай у нас, будьте вы прокляты, такие матери!
Стюардессы собирали обеденные подносики, мамка Шура обтерла свое крепкое лицо и твердый рот мокрой бумажной надушенной салфеткой, подкрасила снова губы, закурила «Мальборо» и продолжала, не могла остановиться, историю свою и своей дочери:
— Знаешь, вот сейчас говорю и будто про кого-то другого говорю, будто то и не я была и случай этот не со мной. Как сон или под гипнозом я каким находилась, ну ей-богу! Человек, говорят, весь целиком за семь лет меняется. Так я, выходит, с тех пор два раза переменилась. А было, знаешь, время, что я вроде и забыла про это. Нету. Не было. А чем дальше, тем больше мучить стало. И Николаю рассказала, не смогла, лет, может, через пять или шесть как-то под горячую руку. Он потом спрашивает — умный он у меня, понял: неужели, говорит, ты меня так любила, что ради меня ребенка нашего бросила? Ну и сам сказал: надо, говорит, ее найти. А где, как? Я стыдилась, да и не хотели нам говорить. Ирина Петровна сама в Сирии три года работала, я ее ждала, к ней потом поехала, во Львов. Ну, найти, говорит, можно, но зачем? У девочки другая семья, мать другая, вся жизнь другая. Мы с Николаем говорим: ну мы хоть издалечка поглядим. Нет, говорят, не мучайтесь и других не мучайте. Я говорю: Коля, если ты так ребенка хочешь, я тебе рожу. И тут он отвечает: нет, еще поплаваем, я без тебя тоже не могу. Вот такая судьба…
Соседка уже почти дремала, глаза ее хлопали, закрывались и открывались, что доказывает, кстати, нашу уже некоторую привычку к подобным историям, невосприимчивость.
— Ну и что же, — спросила соседка, торопя развязку, — так ты ее и не видела, дочку?
— Я-то? Я да не увижу! — Шура твердым жестом гасила сигарету в подлокотнике, глядела на кипень белых облаков за окном. — Каждый год вижу. Мы договорились: у той матери не забирать, ладно, хоть и проку там мало, одинокая всю жизнь, на хлебозаводе работает, одна тупость, но теперь… — Шура прищурилась. — Помогать мы все время помогали, и сейчас полный чемодан ей везу… Нет, теперь все не так…
Что́ именно «не так», Шура не договорила.
— Ох, господи, чего на свете не бывает! — сказала соседка и зевнула. Она, должно быть, ожидала некий более страшный конец истории. — Может, поспим часок? В сон клонит, прям не могу.
— Да, спи, спи, конечно, — сказала Шура. — Спи.
— А она-то к тебе как? — еще поинтересовалась соседка.
— Кто?
— Дочка.
— Дочка? Нормально.
— Ну и все. Что душу бередить, она теперь уже считай выросла.
— Это да.
Соседка откинулась, уже откровенно закрыла глаза. А Шура отвернулась к окошку.
Там сверкающие облака стояли внизу, как белое море.
И вот закачались на белом, как в мультяшке, черные сейнеры. Закачалась черная матка-плавбаза. И подул ветер, зазвенели снасти.
И покатилась опять рыбацкая хроника: женские молодые лица под капюшонами, твердые морские фуражки, лебедки с пузатыми тралами. Ручьями льется рыба. Речушками. Реками. Серебряный поток. Золотой… Потом это превращается в брикеты мороженой рыбы. Вот холодильные камеры. Трюмы рефрижераторов. Мощные автофургоны. Наклейки. Клеймы. Подписание торговых соглашений. Аплодирующие друг другу внешторговцы.
Сейнер мотает на волне, и вода перелетает через него, как через поплавок. Игрушечный кораблик в ванночке. Дитя, сидя в воде, лупит по воде корабликом. Рыба идет стаей.
…Не соврала, выходит, Надька и про Дальний Восток.
Гонит ветер корабликами сухие листья по тротуару, и они не шуршат, а гремят, как жестяные. Осень стоит сухая, солнечная, но сегодня вот ветер сорвался, бегут облака, и сразу нервно и неуютно на душе.
В районе, где живет Надька, все как в маленьком городе: дома не выше пяти этажей, мостовая еще булыжная, по узкой улице летит трамвай, сотрясая маленькие дома с геранями на подоконниках. Целый пролет меж двумя остановками занимает красная кирпичная стена старинного завода, где делают теперь холодильники, и длинные высокие окна забраны железными решетками. В окнах горит дневной свет, и больше ничего не видно.
Надька не села на трамвай, идет пешком вдоль заводской стены. На той стороне — домишки, деревья, заборы, вон детская площадка, давно ли Надька сама качалась там до одури на железных качелях, а теперь мотается с утра пораньше девчонка в голубой пуховой шапке, и качели визжат так же, как десять лет назад.
А там, за облетевшими кривыми липами, старинное здание школы. Надька ее не любит, школу, ничего хорошего не вспомнишь. Училась она плохо, была упряма, учителям грубила. В пятом классе хотели оставить на второй год, да мамка Клавдя пошла плакать, упрашивать, Надьку оставили, но с тех пор она не могла больше и х в с е х терпеть — за то, что одолжение сделали.
В школе учился один знаменитый летчик, построена она была еще до войны, но все это не интересовало Надьку, и она не понимала, что это значит, «до войны».
За каменным сараем двое девятиклассников передавали сигаретку один другому по очереди.
— Эй, Белоглазова! Здорово!
— Привет!
— Как живешь? В ПТУ топаешь?
— В МГУ! Захохотали.
— А у нас Марь Владимировна на пенсию ушла, слыхала? Помнишь, как она тебя?.. — Хохочут. — Возвращайся теперь, Белоглазова. У нас мемориальную доску открыли. Имени летчика Солнцева.
— Нужна мне ваша школа! — говорит Надька и отворачивается, а ее бывшие однокашники, затоптав наконец свою сигаретку, мчатся к школе, размахивая портфелями.
Она тоже явно опаздывала в училище, но никаких угрызений совести по этому поводу не испытывала — ну опоздает, ну и что? Пусть спасибо скажут, что вообще пришла. Потому что это училище, эта учеба — тоже — зачем?..
Вот стоять просто, и глядеть, и слушать, как несет ветер листья, как они скользят по асфальту, остановятся вдруг, а потом опять — загремели, понеслись, не хуже трамвая…
В железных чанах железные кривые руки-шарниры месят тесто. Гудит черно-белый тестомесильный цех. Стайка девочек в белых шапочках, в халатах, узко стянутых на талии, с тетрадками в руках, записывают на ходу лекцию, которую читает им прямо на месте преподавательница училища, — училище находится здесь же, при заводе.
Долетают слова: «Вымес продукции производится автоматами типа… выпечка хлеба в нашей стране достигла сорока миллионов тонн в год…» Преподавательнице Ирине Ивановне лет тридцать пять, у нее прямая стрижка, очки, вид самый обыкновенный. А Надька ее не любит. За что, сама не знает. Надька тоже в белом халатике, в колпачке, с тетрадкой — и Ленок с ней, и Бухара, — смотрит на Ирину Ивановну, суживает глаза: мол, говори, говори, я все равно не слышу.
Девчонки шушукаются, смеются.
— Девочки! — говорит преподавательница. — Ну что вы все смеетесь? Ну что вам все время смешно? — И глаза ее вдруг наполняются слезами.
— Чего это она? — шепчет кто-то.
— Депрессуха, — острит Бухара.
Ирина Ивановна оборачивается прямо на Надьку. Взгляды их встречаются. Казалось бы, в глазах девочки должны быть неловкость, сочувствие. Нет, у Надьки вызывающий, скучный, безжалостный взгляд.
Группа движется дальше. Механические руки месят и месят тесто.
Бухара дергает Надьку за халат: отстанем. Она запускает палец в тесто, пробует и корчит рожу. Они в самом деле отстают, шмыгают на лестницу, спускаются на один марш и останавливаются у автомата с газированной водой. Как не попить бесплатной газировочки, хоть и несладкой. Бухара пьет жадно, Надька нехотя.
И вдруг — мамка Клавдя. Она тоже в белом халате, краснолицая, потная.
— Вот они где! Здрасьте! — Мамка Клавдя отходчивая, а за работой вовсе забылась, и теперь тон у нее такой, что вроде ничего и не было накануне. — Надь! Ты не забыла? — Она тоже ополаскивает стакан, пьет. — Ты не уходи, я с ей одна сидеть не буду… Слышь?
И тут сверху, с лестницы, слетает белыми халатами опять вся группа.
— Газировочки! Пить! Давай!
— Надь! Надь! — перекрикивает всех мамка Клавдя. Надьке неприятно, что эта некрасивая, нескладная работница имеет к ней отношение. Хотя большинство девчат, конечно, мамку Клавдю знают. Но Надька демонстративно не слышит. И только хуже делает: высокая и толстоватая отличница Сокольникова Люся толкает Надьку в плечо:
— Тебе говорят, не слышишь?
— Что? А тебе что? Ты кто такая?
— Никто. Чего ты?
— А чего хватаешь? Больше всех надо?
— Да ты сама-то кто?
— Я?
Надька — сплошное презрение, а сбоку уже подтягивается Бухара. Ленок делает вид, что ее это не касается. Но тут сама мамка Клавдя вступает:
— Вы чего? Надя!.. Я кому говорю-то!
— Да отстань, слыхала я! — отсекает ее Надька и продолжает с Люсей: — Я — кто? Ты не знаешь?
Сокольникова отворачивается, а другая девушка, пучеглазая Виноградова, заслоняет ее и говорит Надьке:
— Опять нарываешься? Чего ты все нарываешься?
— Девчата, вы что это? — шумит мамка Клавдя. — Вы чего? Вы это тут бросьте! Вы на производстве! Вы у хлеба находитесь! Хлеб этого не любит! — Она явно обращается к девушкам, которые ни в чем не виноваты, и выгораживает Надьку. — Вы тут не на улице!
Сверху спускается Ирина Ивановна.
— Здрасьте, Клавдия Михална! Что тут такое?
Прямо такое почтение, куда там!
— Да это ничего, ничего, — начинает объяснять мамка Клавдя. Надька не слушает, кривится и идет в сторону. — Надьк! — несется ей вслед. — Сразу домой, поняла? Я с ей сидеть не буду!
Надька красуется перед зеркалом в новом тонком белом свитере, в светлом комбинезоне. Рядом другой свитер, зеленый, натягивает на голое тело Ленок. Шнурует на ноге кроссовку Бухара. Вещи, вещи, вещи. Из раскрытого чемодана парящая надо всем Шура вынимает еще нечто яркое, сине-белое.
— А это вот Клавдии Михалне!.. Михална, ну-ка!
— Чего это? Чего? — бросаются от своих обнов девчонки.
— Мне? А мне-то зачем? — Мамка Клавдя туго краснеет. Но ей уже дают сине-белое в руки, ведут, заставляют примерять, надевать, и оказывается, это кофта в крупную полосу, белую с синим, как тельняшка. — Господи, куда это мне такое? — Но сама еще пуще рдеет, глядится в зеркало — видно, что ей нравится.
— Уж не знаю, угодила ли, старалась, — не закрывает рта Шура, — у нас теперь товаров очень много, японских, сингапурских, каких хочешь. Ой, Михална, ну ты у нас невеста!
Они говорят, между прочим, все вместе, все разом, и все друг друга слышат. Мамка Клавдя так и ходит потом в новой кофте — ставит на стол тарелки с нарезанной колбасой, с сыром, — стол уже и без того уставлен, накрыт, торчит на нем бутылка вина.
— Надь, ну продашь мне этот зелененький-то, Надь? — страстно шепчет Ленок про пуловер, который остался на ней после примерки и облегает ее тонкую спину и талию.
— Ну отличные! — топочет кроссовками Бухара. — Ну отличные, Надь! Только они тебе малы будут!
— Чего это малы, чего это малы? — отвечает Надька и сразу же Ленку: — Ну чего это продашь-то, Лен? Мне самой хорошо. Я тебе потом дам. Поношу — ты поносишь.
— А вот еще, Надь! — кричит Шура, извлекая из чемодана платье. — Поцелуй хоть мать-то, спасибо хоть скажи!
— Спасибо! — кричит издали Надька, а сама усмехается.
Бухара передает ей платье: надень, Надь, надень.
— Да ладно, хватит, — говорит Надька. — За стол пора садиться, есть охота.
— За стол, за стол! — повторяет мамка Клавдя. — Я блины несу!
И тут же раздается звонок в дверь, и входит еще Настя, племянница Шуры, воронежская родственница, очень на нее похожая.
— Ой, Шурёна!
— Ой, Настёна!
Объятия, возгласы, восклицания, быстрые слезы, подарки, опять призывы: за стол!
А между тем Надька надела-таки платье и стоит перед зеркалом. Платье нежное, красивое, очень ей идет, и из зеркала глядит вдруг нормальная и н т е р е с н а я девочка-девушка. Надька смущена этим непривычным для нее видом. Что это? Кто это? Удивленно глядит Бухара, чуть приподнимает подбородок Ленок. Это Надька? Гадкий утенок?.. А Надька фыркает и прямо-таки выдирается из платья. Зачем оно ей? Зачем ей быть такой?
Но вот наконец все за столом, чокаются красным кагором, смеются, и Шура начинает:
— Я его как любила-то? Без памяти. Я за ним на край света отправилась. На Камчатку прилетела — сама, а мне восемнадцать лет! Да еще и не было-то восемнадцати!.. — И она горячо и охотно повторяет все то, что уже слышано здесь не раз. И когда доходит до рождения Надьки, говорит: — Конечно, меня хоть под суд за такое дело! Да что же мне было-то придумать? Она ведь была-то — ну роковая ошибка! Ей-богу, прям роковая ошибка, что я ее родила!
— Ну-ну, слышали уже! — говорит воронежская Настя — даже у нее хватает соображения остановить Шуру. Потому что девчонки сидят потупясь, а Клавдя двигает стулом и уходит на кухню.
— А чего? — удивляется Шура. — Я честно говорю. На кой она была тогда нужна? Ну?.. А теперь, — она внезапно склоняется к Надьке и берет ее за руку, шепчет: — А теперь мы что надумали: забирать тебя через годик, а? Забирать, забирать на Дальний на Восток!
Бухара подавилась блином, Надька дернулась, Бухара с Ленком уставились на нее, а Настя потянулась Надьку по голове погладить: мол, вот и хорошо, и правильно.
А Шура, даже и не продолжая ничего на этот счет, — мол, дело решенное, — встала.
— А где это моя тут гитара-то? Жива еще? Надь?.. А, вон она! — Увидела гитару на шкафу и сама встала, достала. — Уф! — Полетела пыль, и Шура крикнула: — Михална! Тряпку захвати, гитару обтереть!.. Эх! Отвяжись, худая жисть, привяжись хорошая!.. А какую я вам сейчас сладкую спою, милые вы мои, вы такого-то и не слыхивали!.. Михална!.. Все ради отца твоего, орла морского, Надя, и на гитаре я выучилась, и чему я только не выучилась!.. — И, стараясь не запылиться, перебрала струны.
Бухара слетела со стула за тряпкой и быстро принесла. Гитару вытерли, и Шура — перебор за перебором — запела: «Не уезжай ты, мой голубчик, печально жить мне без тебя…»
Мамка Клавдя вошла в новой, дурацкой, слишком для нее яркой кофте, с новыми блинами, на Шуру не глядела. И Надька глядела на мать так себе, вполглаза, усмешка была на губах, и взгляд беспощадный, без капли тепла.
— Твоя-то! Во дает! — шепнула Бухара.
— Чума, — медленно сказала Надька.
А Настя наклонилась к мамке Клавде:
— Михална! — зашептала. — Слыхала?
— Слыхала, — сказала мамка Клавдя. — Давно слышу.
— Куда она ее возьмет-то? Зачем она ей нужна?..
И Надька это слышала и еще покривила губы усмешкой.
На стадионе «Динамо», у нового, к олимпиаде построенного сектора, из-за забора девчата смотрели, как бежит по гаревой дорожке Жирафа. И когда Жирафа приблизилась, дружно заорали:
— Жир! Кончай! Давай сюда! Жир!
Бухара старалась протиснуть сквозь забор ногу в кроссовке. Надька оттягивала на груди белый свитер, а Ленок — зеленый пуловер. И Жирафа, хоть и не остановила бега, вытаращила глаза — всем на потеху.
А потом Жирафа так же спортивно выбежала из служебного входа, возле которого сидела на табуретке на воздухе вахтерша, и девчонки ее здесь встречали, и, увидев вблизи обновы, Жирафа изобразила «отпад». Полный отпад. Смотрела, щупала, трогала. На ней самой были страшные кеды, не меньше тридцать девятого размера.
— Надек-то у нас на Дальний Восток ту-ту! — объяснила с ходу Бухара.
— Ладно тебе! — Надька между тем следила за синей машиной, которая вопреки правилам пробиралась по асфальтовой дорожке прямо к огромному зданию спортзала. Даже вахтерша привстала со стула и махала рукой: сюда, мол, нельзя. Но машина двигалась, выбирала себе место для стоянки, стала, наконец, боком, и оттуда выпорхнула молодая женщина в белых брюках, маечке, со спортивной сумкой. Завидя ее, вахтерша засияла, люди, в основном спортивная молодежь, оборачивались, а та грациозно бежала к спортзалу.
Жирафа, когда увидела, тоже повела головой за ней, раскрыла рот и сказала:
— Булгакова!
— Кто это? — спросила Надька, оттопырив губу.
— Чемпионка мира! Булгакова!
— Фига́, чемпионка! — Надька хмыкнула. В новом наряде она чувствовала себя неотразимой.
Жирафа продолжала зачарованно смотреть вслед спортсменке.
— Закрой варежку-то! — со злостью сказала Надька. — Знаем мы этих чемпионок!.. Вот ты у нас тоже! — Она пихнула Жирафу, и та чуть не упала через бордюр на рыжую осеннюю траву.
— Ты чего? — обиделась Жирафа.
— Чемпионка!
Бухара и Ленок засмеялись.
И они пошли как раз мимо синей машины, и, когда поравнялись, Надька вдруг стукнула кулаком по багажнику и плюнула.
Жирафа дернулась, но смолчала.
Девчонки идут развязным шагом и так и ищут, что бы такое сотворить, какую глупость.
Набились в телефонную будку, набирали 01, 02, 03, пищали в трубку. Женщина шла с собачкой, Бухара упала на четвереньки и как залает на собаку — та завизжала со страху. Потеха. Вошли в ворота парка, — здесь было пустынно, все в опавшей листве, две матери катают коляски с младенцами, да трое стариков дуются на скамейке в шашки: двое играют, третий стоит и смотрит. Ветер, желтая трава, сухие листья, запертые фанерные павильоны. А вон стоит возле дерева парочка — лейтенант с девушкой в белой медицинской шапочке и плаще внаброску, из-под которого белеет халат, — целуются. Девчата по дорожке идут, по аллейке, а они на траве стоят, на газоне, за скамейкой. Девчат прямо разрывает от смеха. Они сдерживаются, сдерживаются из последних сил, а эти и не видят и не слышат. И тут Надька басом как рявкнет:
— Не верь — обманет!
Девчонки скорчились от смеха, поползли в стороны, повалились на скамейки. А Надька, конечно, отвернулась, будто это и не она. Потом покосилась: те двое отпрянули друг от друга.
— Ну! Вы! Кобылы здоровые! — крикнула подругам с невозмутимым видом. — Мешаете же людям!
— А он сим-пом-по! — оценила Ленок.
— Беру его на себя, — сказала Надька. — Хотите?
— Она тебе харикири сделает. — Ленок имела в виду медсестру.
— Ну? — повторила Надька. Быстро скомандовала Бухаре: — Ты закричи и беги. А вы, — Ленку и Жирафе, — тоже. Только быстро! И скрыться из глаз! Ну?
— А-а-а! — вмиг завизжала Бухара и побежала. Молодые матери с колясками вздрогнули, старики подняли головы от шашек, лейтенант с медсестрой резко оглянулись. Надька, скорчась, валилась на скамейку, а Ленок с Жирафой дунули за Бухарой — та продолжала вопить на бегу.
И вот над Надькой склонились белая шапочка и военная фуражка. А она корчится на скамье, схватившись за живот.
— Ты что? Что с тобой? Эй!.. Ты слышишь?.. Говори!.. Ну, где, где?..
Близко их лица, совсем близко. Ладонь лейтенанта держит Надькину голову. А медсестра уже профессионально, сильными руками поворачивает, заставляет раскрыть рот.
— Ну, говори? Что с тобой сделали?
— Не знаю. Болит! Ой! Не могу!
— Ты придуряешься, что ли? — резко спросила медсестра. — Ну? Нет у нее ничего, — сказала она лейтенанту.
Надька скорчила гримасу:
— Да, вам бы так! Ой-ой-ой!
— Ну что? Где? — Медсестра опять склонилась, ощупывала.
— Давай ее к нам, — сказал лейтенант. — Ну ты скажи, что с тобой? Дохулиганились?.. Тоня! Давай?
— Ой, мамочка! — завыла Надька и опять повалилась.
— А ну-ка, Сережа, помоги! — решила медсестра, которую назвали Тоней, и они потащили, почти силой поволокли Надьку.
И вот они в коридоре, белая дверь процедурной, еще две сестры, одна толще другой, белые, как айсберги, и Тоня отдает Надьку в их крепкие руки:
— Девочки, посмотрите ее, плохо на улице стало, не аппендицит ли? Я сейчас Федора Иваныча попрошу… Да не бойся ты, чего ты боишься, может, тебя просто прочистить надо…
— Чего? Что? — Надька стала извиваться.
Но ее уже держали крепко.
Девчонки всовывали лица в прутья ворот.
— Чего это у вас здесь? — спрашивала Бухара. — Больница?
— Госпиталь, — отвечал дежурный солдат. — Интересуетесь? У нас требуется обслуживающий персонал. — Он показал на объявление на воротах. — Санитарки, нянечки.
— Тебе, что ли, нянечку? — невзначай бросила Ленок, и подруги прыснули.
— Чего? Больным.
— А ты не больной? — спросила Бухара.
— Давайте отсюда! — Солдат обиделся.
— Нам про подругу узнать. Вот сейчас провели.
— Как провели, так и выведут. Давайте! — Тут к воротам подъехала машина, солдат пошел открывать, девчонки отступили.
— Чего делать-то? — сказала Бухара. — Ждать теперь.
— Ждать не полезно, — сказала Ленок. Она вилась, покачивалась и катала во рту таблетку.
— Да ну ее! — сказала Жирафа про Надьку. — Всегда она это, а мы это…
— Пошли там на скверике посидим.
— Холодно.
— Ну в кафе пойдем.
Машина проехала, солдат закрыл ворота и опять оказался вблизи. Бухара приказала ему:
— Слушай, наша подруга выйдет, скажи, мы в кафе ее ждем, знаешь, там у входа, синие буквы?
— Не знаю я ничего.
— Ну ладно, чего ты обиделся-то? Пошутить нельзя?.. Скажи, ладно, а то мы замерзли. Скажешь?
— Ладно. — Солдат сдался.
— Ну вот, видишь, какой хороший! Ленок, скажи, он прелесть!
— О, да! — сказала Ленок величаво, покачивая узким станом. И солдат вздрогнул и зарделся.
Надька сидела на клеенчатой холодной кушетке в одних трусиках, закусив губу, натягивая комбинезон. Сестра Маша, огромная, как белый слон, мыла в стороне, у раковины, руки.
Энергично вошла медсестра Тоня, кому-то что-то говорила назад, в дверь, и смеялась, — Надьке тут же почудилось, что над нею, и она напряглась. Теперь это была не та Тоня, что на улице, даже лица которой Надька при других обстоятельствах и не запомнила бы. Здесь она держалась хозяйкой, щеки скуласты и румяны, узковатые глаза поблескивают остро и властно, крепкие ноги обуты в тапочки без каблуков, и оттого походка и осанка у Тони тоже крепкие, женские. В белоснежном накрахмаленном халате она казалась еще плотнее, чем на улице. Все это было слишком основательно, чисто, энергично и оттого враждебно Надьке.
— Ну что, дева? — спросила Тоня почти с насмешкой. — Легче стало? Одевайся, одевайся, пошли, а то еще попадет за тебя от начальства… Ну?
Она подошла близко к Надьке. Та застегивалась, глядела вбок. Все равно хочешь не хочешь надо было изображать болезненную слабость. Помедлить. Поморщиться. Покачнуться.
— Ну-ну, не упади. Дойдешь сама-то?.. Тебя хоть как зовут-то?.. Не слышу.
— Лариса, — сказала Надька еле слышно.
— Понятно. Ну чего ты губы-то дуешь? Тебе хотели как лучше. Почему у тебя голова-то такая грязная? — без перехода спросила Тоня. — Надо было тебе голову заодно вымыть. И как они мыться не любят, молодежь! — обернулась она к толстой Маше, которая вытирала полотенцем руки. — Глаза накрасят, а шея как сапог. Девушка-то должна прямо скрипеть от чистоты, как чистая тарелка… — И опять без перехода: — Пошли, пошли…
Все делалось быстро, неслось одно за другим. Надька не успела ничего сообразить, а они уже вышли в коридор. Здесь она ожидала увидеть лейтенанта, но его не было.
— Вот, все, — сказала Тоня, — беги, ничего у тебя нет, слава богу. Артистка.
Надька покривилась, показывая, что у нее все-таки живот побаливает. А на «артистку» она, мол, и отвечать не хочет… Неужели ее сейчас вытурят и все будет кончено?
— Ты далеко живешь-то?
Ответить Надька не успела. Из-за угла появилась моложавая высокая врачиха с фонендоскопом на шее, за нею санитар с пакетом рентгенснимков в руках, еще медсестра, и врачиха сразу зашумела:
— Вот она где! Шапошникова! А мы тебя ищем! К Федор Иванычу! Срочно. Орловского же на выписку!
Тут же о Надьке забыли, Тоня лишь подтолкнула ее в сторону выхода. Тоня оправдывалась, вдруг все повернули назад и втекли в какой-то кабинет. Врачиха говорила:
— Я сама сначала должна посмотреть, там было маленькое нагноение, прошло? Лейтенант Орловский! — скомандовала она на ходу. — Вы здесь?
Дверь закрылась, Надька осталась в коридоре одна и не знала, что делать. Дверь отворилась опять, толстая Маша везла из кабинета длинную алюминиевую палку на колесиках, наверху были укреплены две перевернутые бутылки с висящими из них трубками. Она никак не могла выйти в дверь, Надька подскочила помочь, и ей стало видно, как внутри кабинета, у окна, врачиха осматривает раздетого до пояса лейтенанта, слушает его трубкой, качает головой, а он усмехается.
Маша вытащила палку на колесиках, дверь закрылась, но Надьке казалось, что она продолжает видеть озабоченную врачиху, сестер, лейтенанта с усмешкой на лице. Надька хотела спросить, что с ним, но Маша уже покатила свою палку по коридору. Перевернутые бутылки сверкали.
У ворот солдат окликнул Надьку, она даже не поняла, что это ее, напряглась.
— Тут не тебя твои подруги искали? Одна черненькая такая? — Солдат изобразил Бухару, прищурив глаза. — Они сказали, в парке будут или в кафе. Слышишь?
Надька кивнула и пошла.
В парке все так же дуло, все так же играли в шашки старики, так же катали коляски молодые матери. У нее столько пронеслось событий, неужели они уместились в полчаса-час? Надо было как-то все переварить. Она села на ту же скамейку, где начала свою игру. По дорожке несло листья, они грохотали. Выражение лица у Надьки смягчилось, сделалось такое, какое было, когда она мерила платье. Но уже через минуту она усмехнулась криво и поднялась. Не́чего!..
На открытой терраске кафе, выложенной голубым кафелем, под голубым зонтом сидели за столиком Ленок, Жирафа и с ними мужчина лет тридцати. Ветер дул, было прохладно, народу никого, только две старухи пили кофе из граненых стаканов, грея о них руки. А за столом шла пирушка: стояла бутылка вина, горкой лежали на тарелках бутерброды и пирожные, и еще лежали на стуле придавленные синей спортивной сумкой от ветра несколько журналов и газет.
Надька остановилась, смотрела издали, из аллейки: кто да что? Мужчина говорил, сам смеялся, девчонки сидели чинно. Стаканы стояли перед ними.
Жирафа первая увидела Надьку, кинулась, вскочила, опрокинула стул.
— Гуляете? — сказала Надька. — А Бухара где?
— А ты-то где? Ты! С тобой чего? Бухара тебя ищет.
— Со мной нормально.
— А, нашего полку прибыло! — воскликнул мужчина. — Будем знакомы: Николай, лесник, охотник, а вы Надя, Надюша. Очень приятно. Я вот рассказываю девочкам как раз про чудеса природы… Да, кстати, Надежда… Это же Надежда, Вера, Любовь! Таким молоденьким девушкам пить нельзя, я пью один, но разрешите налить капельку, вот чистый стаканчик, символически… Я отдыхаю сегодня, один день проездом в городе, соблазны цивилизации, кегельбан, чертово колесо, глоток вина…
Он болтал, галстук у него был распущен, куртка расстегнута, кепка на затылке. Он был симпатичный, веселый, глядел синими глазами, и хотя был, конечно, старше лейтенанта Орловского, но казалось, что моложе. Судя по вытянутой спине и шее Ленка, он уже произвел на нее впечатление. Жирафа его, конечно, не интересовала, хотя он и о ней не забывал: Нина, Нина, Ниночка. Лицо у Жирафы было красное и грубое, не иначе выпила глоток.
— Ну, девочки, позволю себе за вас, за такую приятную юную компанию, мне просто повезло, я считаю, — такие девчонки, честное слово, я от души, ну символически, глоточек. Кто со мной? Живешь, как рак-отшельник весь год, не видишь живой души… Надюша, бутербродик! Надюша у нас серьезный человек, сразу видно, но не будем хмуриться, я вот рассказывал девочкам, приглашаю вас тоже к себе на кордон, — о, что я вам покажу! какие места!.. Всего три часа на поезде, там еще немножко автобусом, а если дадите знать, встречаю сам, на своем «газике», я охотник, Надюша, я лесник, я очень интересный человек, между прочим…
Тут Жирафа глупо икнула, и Николай тут же ее подбодрил:
— Ничего, Ниночка, не смущайтесь, все естественно. Может, лимонаду? — Он угощал, хрустел фольгой шоколада, не закрывал рта. — Проведем этот день вместе, а, девчата? Я хочу взглянуть на ночной город, скучаю по огням ночных городов. Я еще за нашу встречу! Мне просто повезло, ей-богу!.. Целый год — ружье, собака, приемник включишь, и все… Леночка, приедешь? Ну, за встречу! Капельку! Символически! А?..
— Мне это не полезно, — сказала Ленок, отодвигая стакан. Щеки ее и без того рдели.
— Ну, а Надюша?
Надька откинулась и сказала:
— Кислятина. Коньячку бы.
— Да? — Охотник удивился и поглядел на Ленка. Надька думала, Ленок ей подыграет, но та была невозмутима, лишь чуть покачивала спиною. Ну Ленок! Охотник посмотрел Надьке в глаза и сказал трезво: — Рано вам коньячку.
— Все вы знаете, — сказала Надька, — что нам рано, что не рано. Ленок! Пошли?
Тут Жирафа еще раз икнула и стала подниматься нетвердо.
— Да, я пошла.
— Куда, куда? — затараторил Николай. — На свежем воздухе сейчас все пройдет, что вы, девочки, нарушать такую компанию… Но можно на такси… Отвезти ее и…
— Ленок! — повторила Надька и тоже встала. Она ожидала, что и Ленок встанет. Но та отвела глаза и будто не слышала, не понимала.
— А мы еще посидим, Надюша. Ленок, мы посидим? — уговаривал Николай.
Жирафа уже уходила, торопясь, видно, ей хуже и хуже становилось.
А Ленок молчала.
И тогда Надька захохотала. Деланным, дурным смехом. Мол, ну-ну, давайте. Но без меня… И так с этим смехом и пошла.
Дверь открыл отец Жирафы, тоже длинный, тощий, ничего не понимал. Надька, поддерживая Жирафу, бормотала, что ей, мол, плохо стало в метро. Но отец отстранил Надьку, нагнулся и понюхал. И скорчил такую мину, будто на жабу наступил. И стал отстегивать подтяжки.
А в коридор уже вышла мать в ночной сорочке до пят и халате, с завязанным горлом и что-то хрипела шепотом. Жирафа беспомощно закрывалась, а отец хлестнул подтяжками, не попадая и сам трясясь, а мать не защищала дочку. Надька ринулась заслонить подругу, но отец и на нее замахнулся. Брюки с него сваливались, он держал их одной рукой, другой махал неуклюже, потом вдруг бросил подтяжки и пошел.
А мать неожиданно молча заплакала.
Надька лежала у себя на кухне на раскладушке, руки за голову, а мама Шура сидела рядом на стуле, не зажигая света. Но уличный фонарь сильно светил, и было все видно.
Мама Шура шептала, Надька слушала.
— Поедем, поехали, тебе говорю. А город-то у нас какой! Видела, небось, по телеку?.. Море, океан, корабли, военный флот! Одна молодежь там кругом. Сама увидишь. Так заживем с тобой, на радость. А тут-то не поймешь что. Что у тебя за жизнь, чего ты хочешь, учиться толком не учишься, какой смысл-то? Смысл в жизни должен быть, доченька! Смысл! Вот поедем, найдем тебе дело, парня хорошего, моряка, чтоб с деньгами, с перспективой, как у людей, с квартирой… Да у нас самих квартира, увидишь, обстановка вся — импорт, телевизор цветной… Надь! Ты слышишь? А?.. Что молчишь?..
А что было Надьке сказать? Что все это ей не нужно? Но насколько ей известен этот человек, ее мать, мама Шура, ей этого не понять. А сказочные ее посулы — за тридевять земель.
В комнате — сюда слышно — не спит, кашляет мамка Клавдя.
— А ей денег дадим, — шепчет про нее Шура, — не обидим, писать ей будешь. — Шура понизила голос, у нее, видно, все было решено. — Я думала-то попозже тебя забирать, через годик, а теперь гляжу: чего ждать-то?.. Слышь, Надь?.. Виновата ведь я перед тобой, дочка…
И тут раздался звонок в дверь, все испугались: кто бы это так поздно?
Надька побежала первой: кто там? Услышала ответ, стала открывать. Мамка Клавдя и мамка Шура стояли в разных дверях, ждали. За дверью была Ленок. Надька схватила Клавдино пальто с вешалки, набросила и вышла.
И вот они сидят не лестнице, на подоконнике. Ленок смотрит в одну точку.
— А потом что? — говорит Надька. — Ну?.. Так я и знала! Поверила! Ну дура!
Ленок молчит, удерживает изо всех сил слезу, но усмехается.
Тянется пауза.
— Охотник! — говорит Надька. — Адрес-то хоть оставил?
— Да никуда он не уехал, он тут у друга живет.
И Надька опять смеется — таким же, как в парке, смехом.
— Эх! — говорит Ленок. — Ладно! — И спрыгивает с подоконника. Но не уходит, еще что-то хочет сказать. Кидает в рот горошинку.
— Куда? В поздноту такую. Оставайся у меня.
Тут дверь открылась, и выглянула мама Шура в голубом халате:
— Девчата, вы что? Второй час. Хоть в дом зашли бы.
— Сейчас, — Надька отмахнулась от нее.
— Ну все, Надь, я пошла. — Ленок тряхнула головой, побежала вниз по лестнице.
— Чего она? — не поняла Шура.
— Ничего! — грубо сказала Надька и запахнулась в пальто.
— И что у вас за дела? Среди ночи!.. Что за подруги такие?.. Отшить это все! Пропадешь, ты что, с этой шушерой! Надь! Поехали, — Шура продолжала свою тему.
— Да куда я поеду? — наконец-то она ответила. Но грубо. Так, что Шура сразу напряглась.
— А что? Почему?
— Да не могу я.
— Почему?
И тут, неизвестно как и отчего, Надька выпалила:
— Нельзя мне, я ребенка жду.
— Что? — Шура вытаращилась. — Да ты что?.. Как?.. — Шура давилась словами.
Зашаркала, закашляла у самой двери, стала на пороге Клавдя.
— Спать идите! Вы чего тут?
Шура крутанулась, закусила губу, но, скрепясь почему-то, смолчала. И пошла в дом.
Надька сидела напротив госпиталя одна, на той же скамейке. В воротах общались через решетку больные в теплых халатах и навещающие их матери, отцы, военные.
Надька ждала. Чего? Сама не знала. Что ее сюда притянуло? Нет, понятно, ей интересно выяснить: выписали его или нет? Но зачем? За-чем? Вон идет, кстати, стройный, молоденький, в форме… Нет, не он.
— Дура! — сказала она и стукнула себя в лоб. — Дура!
Встала и резко пошла прочь.
В училище, вернее, в клубе хлебозавода, при котором училище, шел вечер по случаю нового учебного года, хотя учебный год уже больше месяца как начался, о чем и говорил висящий над сценой плакат: «С новым учебным годом!» На сцене в президиуме находились директорша Ольга Ивановна, белоголовый как лунь ветеран в значках и орденах, потом еще мужчина, тоже уже седоватый и в возрасте, и еще один моложавый военный — улыбающийся, радостный капитан.
Говорились речи, приветствия, призывы лучше учиться, говорилось, конечно, что хлеб — это основа, и директор Ольга Ивановна по бумаге читала цифры, сколько выпекается в стране хлеба, какие нужны специалисты. И, конечно, зал потускнел, начались шепот и разговоры между собой, пока выступал старик ветеран товарищ Богданов. Он тоже говорил высоким громким голосом про хлеб, про то, какой был голод в войну и еще раньше, в войну гражданскую, а теперь, мол, некоторые выбрасывают буханками. Эта тема, хоть и справедливая, всем была знакома, старик волновался, а зал не понимал его волнения… А потом Богданов сказал:
— В нашем обществе стало наблюдаться, что вы, молодежь, так себе думаете: чего хочу, того подай. Безо всякого. Хочу того, хочу сего. Вот у меня внук четырнадцать лет, а ноги — уже мой размер. И я ему дарю свои штиблеты. Очень даже хорошие штиблеты, крепкие, я их с пятьдесят второго года берег, сам не носил. А он поднимает меня с этими штиблетами на смех. — Бухара и Ленок засмеялись. Старик продолжал сердито: — Он поднимает меня на смех, но смеху, между прочим, здесь нет никакого. А это показывает, что человек заражен вирусом, чтобы было, как у всех. Но это глупый вирус и вот почему. Потому разве люди одинаковые? Люди очень разные. А хотят, как один, ходить в одних и тех же штанах. Вот я ему и говорю: глупый, в этих штиблетах ты будешь самый что ни на есть ни на кого не похожий, своего облику человек, скажи деду спасибо. Он говорит «спасибо», но это «спасибо» какое? — И дед изобразил ироническую гримасу, от которой Бухара совсем покатилась со смеху. — Ну, посмейтесь, посмейтесь, — сказал старик Богданов. — Смеяться не грех. Но я говорю перед вами, чтобы направить ваши молодые головы на то, что человеку надо. Надо трудиться на благо всех, а не забивать мозги про одни модные вещи типа каких-то красавок.
Все хлопали, смеялись, старик Богданов хотел говорить еще, но директриса передала слово военному капитану. Капитан глядел весело и уверенно — по залу прошел шелест одобрения.
— Хочу сразу спросить: есть ли среди вас такие, у кого или брат, или друг служит в рядах Советской Армии?
— Надьк! — Бухара хохотнула и двинула Надьку в бок, но Надька так глянула, что Бухара осеклась. А зал колыхнулся, кто-то смело крикнул:
— Есть!
Капитан поднял руку:
— Ну вот и хорошо. Потому что я как раз об этом хотел вам рассказать. Что в армии проверяются не только качества молодого человека, бойца, но проверяется и тот, кто его ждет, кто ему пишет. Как нигде, солдату или моряку нужны привет и забота родных и друзей, но особенно той, кто ему нравится…
Надька спохватилась, что слишком внимательно слушает, и сказала: «Какую-то чушь порет. Чумак». На нее зашикали. Тогда она встала и выбралась из зала.
Она сидела в закутке под лестницей, а по училищу уже гремела музыка, начались танцы, в фойе вышли, директриса и другие преподаватели провожать старика Богданова и капитана, — каждый держал в руке по три гвоздички (капитан отдал их потом обратно директрисе).
Девчонки стояли в стороне, Бухара приплясывала на месте: мол, пошли танцевать. Надька кривилась, Жирафа глядела уныло, а Ленок вдруг подняла пальчиком рукав и посмотрела на часы — электронную, с браслетом машину.
— Мне пора. Я с вами не могу.
— Что это! Что это, откуда? — Бухара так и вцепилась ей в руку. — Вы глядите! Ленок, откуда?.. Ну часы! У тебя ж не было!
Ленок отдергивала руку, все глядели на нее в упор.
— Где взяла, там нету, пусти! — Она еще раз рванулась от Бухары и пошла слепо, ни на кого не глядя.
— Куда это она? — Бухара смотрела на Надьку, и Жирафа смотрела. Между ними никогда не бывало тайн. — Ну дела! Добегается! Пошли?
Надька покривилась: мол, неохота. Жирафа тоже стояла вяло.
— Не пойдете, что ли? Ну ясненько! — И Бухара, закусив губу, побежала от них и ввинтилась в толпу, которая уже тряслась в фойе.
Надька потихоньку открыла своим ключом дверь, вошла и сразу услышала голоса, плач и кашель мамки Клавдии, высокий ее голос, и тема знакомая: растила, берегла-лелеяла, поила-кормила… Надька осталась за дверной занавеской в прихожей: может, сразу уйти? Клавдии отвечала на крике мамка Шура:
— Довоспитывались! Дождались! Шестнадцати нету девчонке!
Так-так. Надька уж и позабыла свою шутку, а тут, оказывается, страсти кипят.
— Мы-то хоть любили, с ума сходили, — кричит мамка Шура, — я в огонь и в воду готова была за своего-то, а эти? И без всякого тебе якова, спокойненько: жду ребенка, и все! Да я чуть с ума не сошла с этим ребенком, когда узнала, руки на себя готова была наложить! Нет, в сам деле, роковая это была ошибка, на всю жизнь горе!.. Ну хоть кто это? Кто? Кто приходит? Кто с ней ходит?
— Да я почем знаю? — кричит Клавдя, и Надьке видно в прорезь занавески ее спину. — Я такого и не слыхивала! Откуда ты взяла-то? Они и с парнями-то не гуляют, все сами!
— Кто? Кто? — не слушает мамка Шура. — Так своими бы руками и удушила!.. Я с собой ее хотела взять, с собой, понимаешь ты? Там простор, там ей перспектива, а здесь что? Тесто месить? Хлебобулочная!
— А, с собой! — взвивается мамка Клавдя. — Сговорила! Забирай, увози! Глаза б мои на вас не глядели! Всю жизнь им, всю жизнь! Измываются, как хотят! Я ее на руках вот этих… Хлеб тебе не нравится? — Видно, как она ухватила полбатона со стола. — Хлеб им не нравится! Та тоже нос воротит: от тебя мукой пахнет! Ах вы паразитки! Бери ее, одеколоном облейтеся, чтоб вам корки сухой не видать, как нам бывало! — Мамка Клавдя задыхалась, закашлялась, но все равно кричала: — Уйдите! Уходите! Забирай! Вези! И конец!
— Да? Теперь забирай? Кому она теперь нужна такая? Срамиться? — Шура деланно засмеялась. — Сберегли деточку! Спасибо!
Надька повернулась и пошла в открытую дверь. Детей рожать — срам и позор? Дети не нужны? «Роковая ошибка»? Правильно. Мы вам не нужны, и вы нам не нужны. Всё чума!
Она спустилась но лестнице вниз, а тут в подъезд вошли двое, и Надька не сразу узнала — они первые к ней обратились, мать и отец Жирафы. Одетый в длинный плащ, отец казался еще длиннее, мать держалась тихо, все с тем же завязанным горлом.
— Надюш! — зашептала она. — Надюш, ты куда?.. Вот она, видишь, дома, — обратилась она к мужу. — Здравствуй, Надюш!
Надька ничего не понимала.
— У тебя Нинки-то нашей нету? — Надька удивилась. — Вторую ночь дома не ночует, — объяснил отец. — Думали, у тебя.
Надька покачала головой, но они уже по ее виду поняли, что Нинка не у нее. Мать тут же повернулась уходить, отец насупился.
— А где она может быть-то? У кого еще?
Надька пожала плечами. Ну и Жирафа!.. Ничего, главное, не сказала. Где ж она в самом деле?
— Ты скажи, ты не скрывай, — шептала мать. — Ты сама-то куда?
Надьке хотелось им сказать: бить не надо было, а куда я — не ваше дело, но то, что они ходят в поздноту, ищут Жирафу, это все-таки было что-то, и обидеть их у Надьки язык не повернулся.
— Увидишь — скажи, чтоб домой шла. — Надька кивнула: хорошо. — Ну, где? Где она?
— Не знаю.
Отец потянул мать за рукав: пошли! И они отправились назад, оглядываясь на Надьку.
И опять Надька сидела в парке напротив госпиталя, ждала. Совсем похолодало, ветер гнал уже последние листья, легкая морось сыпалась сверху. Надька ждала, и ей представлялось одно и то же: белые халаты, врачиха с трубкой, усмешка на лице лейтенанта…
И дождалась, увидела: с той стороны ворот к проходной подходят Тоня в плаще и платке и лейтенант в фуражке и в шинели. Тоня что-то говорит озабоченно, спешит, а у лейтенанта лицо веселое, смеется.
Надька хотела вскочить и бежать, нет, сидела и смотрела, потом отвернулась, но точно знала: вот они проходную миновали, вот вышли в парк, вот… Их заслонило трамваем, и они исчезли.
И опять Надька (теперь с Бухарой) возле госпиталя. Они просят дежурного у ворот вызвать лейтенанта Орловского.
А потом убегают на другую сторону и смотрят из-за кустов.
Тянутся минуты.
Выходит лейтенант, быстро идет к проходной. Спрашивает солдата. Тот недоумевает, озирается. Лейтенант тоже.
Бухара прыскает. Надька усмехается. Они смотрят из своей засады, пока лейтенант не уходит. Он уходит, он их не видел, Надьку не видел, но она-то видела! И свидание ироде бы состоялось.
— Надек! — говорит Бухара. — А я придумала!
И они опять у решетки ворот. Только теперь с ними Жирафа и еще трое пионеров, это сестра Бухары Гулька, четвероклассница, и двое мальчиков из ее класса. Все в галстуках, с подарками, со свернутым в трубочку приветствием, с цветами — букетом астр.
И вот они в палате у лейтенанта, и Гулька читает стихи: «Уж небо осенью дышало…»
А лейтенант потом им рассказывает:
— Я маленьким еще всегда военным хотел быть. У меня дед, Иван Антоныч, деда Ваня, генерал. Представляете? Сейчас, конечно, уже на пенсии, а тогда он еще служил, и я, конечно, каждое лето — у деда Вани в гарнизоне, далеко, в Средней Азии: песок, граница, змеи да вараны.
— Кто? — переспросила Гулька.
— Ну, ящерицы такие древние, крупные… — Лейтенант рассмеялся: — У деда Вани с утра первая фраза: «Ну, гражданин Советского Союза Сергей Николаевич Орловский, кто у вас дед?» Я должен вскочить по стойке «смирно»: «Генерал, товарищ генерал!» — «А вы кем будете?» — «Маршалом, товарищ генерал!..» Я как от деда вернусь, только в войну играю, мать плачет, отец нервничает, пальцами хрустит — боже, боже! Они у меня типичная интеллигенция, оба в университете преподают. А один раз я в шутку — уже лет четырнадцать мне было — приемчики им разные показывал, — что с ними было! Бандит растет! А уже в десятом классе я сказал: иду в армию, больше ничего! И тут нам всерьез ссориться пришлось: они хотели, чтобы я был физик, историк, писатель — не знаю кто.
— А вы? — спросила Бухара.
— А я, естественно, хотел быть маршалом. Или Александром Македонским!
И тут в палату вошла Тоня и стала, слушая.
— У нас, Орловских, военная косточка, как дед говорит. И я все равно останусь в армии. — Это лейтенант сказал уже Тоне.
— Это там посмотрят, — отозвалась она. — А что у нас тут за делегация?
— Шефы! — сказала Бухара, а Надька отвернулась к окну.
— Вижу, какие шефы! — сказала Тоня и поглядела на Надьку.
И опять Надька стоит у ворот госпиталя, теперь одна, под мелким дождем. И опять ей кажется: вот он идет к проходной, движется прямо к ней… И пропустила момент, проглядела, когда к ней на самом деле вышли вместе лейтенант и Тоня под зонтиком.
— Лариса! — позвал лейтенант. — Смотри, Тонь!.. Привет! Ты чего тут?
— Вас жду, — сказала Надька хмуро.
— Да? Интересно! — Лейтенанту было весело. — Тогда пошли с нами!.. А, Тонь?.. Пусть она и побудет. Ты как?
Тоня посмотрела на Надьку испытующе. Надька готова была сквозь землю провалиться, нахамить, убежать, но ничего такого не делала, стояла покорно, как овца. Вот проклятье!
— Пускай, — сказала Тоня снисходительно и пошла вперед.
А лейтенант подмигнул Надьке.
Что все это значит, Надьке еще предстояло узнать.
И вот они пришли — уже в наступающих сумерках — к двухэтажному дому за сквозным забором, и Надька не сразу поняла, что здесь такое.
— Вы тут подождите минутку, — сказала Тоня и быстро пошла, а Надька с лейтенантом остались у ворот. Вышла молодая крупная девица в джинсах и в очках, надела брезентовые рукавицы и, открыв ворота, выкатила на улицу один за другим два здоровых мусорных бака. Лейтенант хотел помочь, но девица даже не взглянула.
— Во дворник теперь пошел! — сказал лейтенант. — Вот это дворник! Пойду в крайнем случае в дворники!
Девица в самом деле взяла метлу, начала мести двор. Мимо нее стали выходить женщины и мужчины с ребятишками за руку, и детский щебет летел из открывавшихся дверей. Это был просто детский сад.
— А ты давно из детского сада? — лейтенант все пошучивал.
— Давно, — сказала Надька. — А вы?
Лейтенант засмеялся.
— А я не ходил, я ж тебе рассказывал: у меня дед был и бабушка была.
— А-а! — Надька сказала это с горьким превосходством: мол, что ты тогда знаешь, маменькин сынок? — Вам хорошо. А я это ненавижу. Я один раз вообще убежала, меня целый день искали.
— Ты девушка с характером, это видно.
Надька хмыкнула. Но, помимо воли, как-то горячо стало: она не привыкла, чтобы ее называли девушкой.
Толстая девица, шаркая метлой, подступила вплотную, они отошли. Но тут появилась Тоня, вела за руку маленькую девочку лет четырех, в шерстяной шапочке, красной курточке и сапожках.
— Сегежа! Сегежа! — закричала девочка и побежала в руки лейтенанту — он присел и ловил ее. Черт побери, у них тут была уже целая семья. Ну чума!
— Знакомься, Светик, — сказала Тоня, — это Лариса.
— Я не Лариса, — вдруг сказала Надька хмуро. — Меня Надя зовут.
Тоня и лейтенант переглянулись, Тоня хмыкнула, но вроде не удивилась.
— Да, Светик, — сказала Тоня, — я забыла, это не Лариса, это Надя.
— А Гагиса мне лучше нгавится, — сказала девочка, не выговаривая ни «р», ни «л». — Можно, я тебя буду Гагиса звать?
— Нет, — сказала Надька, — зови Надя. Надя.
— Ладно, — согласилась девочка. — Пошли.
— Светик! Надя сегодня с тобой посидит. Ты посидишь с ней, а? — спросила Тоня Надьку. — Мы тут в одно место должны…
Надька кивнула. Хотя и не понимала: как это и зачем она будет сидеть с чужим ребенком?
— Нет, Гагиса лучше, — не унималась девочка. — Давай Гагиса?
— Нет, — сказала Надька круто, — всё.
Тут дворничиха опять подступила с метлой, и они пошли.
— Мы к десяти вернемся, — говорила Тоня. — Тебе куда ехать? На Первомайскую? Ну, это на метро пятнадцать минут.
Она летала по своей комнате, переодевалась за шкафом, бегала в ванную, красила губы.
— Ну, как я? — спрашивала.
— Отлично! — отвечала с полу маленькая Светлана, она возилась на полу с игрушками. Лейтенант сидел в кресле, резал ножом яблоко и тоже кивал: хорошо, мол. Другое яблоко ела Светлана, третье держала в руке Надька. Есть она не могла.
Еще был включен телевизор, еще заглядывала один, и второй, и третий раз соседка, тоже молодая женщина, звала Тоню к телефону, еще Тоня делала распоряжения:
— Чтобы в девять, как программа «Время», в кровать, вот тут все чистое, и хорошо бы под душем ее окатить, сумеешь?
— Да знаю я, все знаю! — кричала Светлана. — Мое полотенце синее вот тут лежит. — Она открывала шкаф, где виднелась стопка белья.
Все у Тони было раскрыто, открыто: здесь, мол, возьмете варенье, в холодильнике на кухне сосиски, пару картошечек отварите, там есть начищенная. Если что, Наташу позови, она дома будет. Это про соседку.
— Пока! Мы ушли! Мы скоро!
— Да знаю я, все я знаю! — повторяла Светлана и выталкивала мать. — Уже идите себе, куда идете, мы сейчас будем иггать, да, Надя? Будем?
Как только дверь за ними закрылась, Светлана тут же потянула Надьку за руку из прихожей: пошли, пошли скорей!.. Ты будешь со мной иггать? Будешь?
— Подожди, — сказала Надька и села в прихожей на стул. — Иди, я сейчас.
Очнулась — Светлана тянула ее, усаживала в комнате на пол, на ковер, тараторила. И вдруг обняла ее за шею, повернула к себе:
— Ну что ты, Надюша?.. Ты не ггусти, что ты ггустишь? Давай иггать.
Надька оторопела от этой детской ласки и не знала, как быть: обнять девочку или погладить?
— Во что? — спросила она. — Я не умею.
— Давай в больницу, — сказала девочка. — Ты будешь мама Тоня, а я Татьяна Петговна. Ты знаешь Татьяну Петговну?
Надька отрицательно покачала головой.
— Да что ты? Это ггавгач! Я буду ггавгач, а ты меня слушай. Мы будем лечить зверей. Как доктор Айболит. — И она потащила изо всех углов игрушки.
— Чума! — сказала Надька в растерянности.
— Чего? — спросила девочка.
— Так, ничего, — сказала Надька. — Давай играть.
Потом они смотрели «Спокойной ночи, малыши», и девочка сидела у Надьки на коленях. Потом она ее купала под душем, и соседка Наташа заглядывала на их крики. И она несла Светлану завернутой в синее полотенце. Потом кормила ее сосисками и пюре. Потом читала ей книжку с картинками. Потом сажала на горшок и опять читала. Ну, до упора дойдешь с этими детьми, ну и работа!
— Спи, я кому сказала! Поворачивайся и спи!
Наконец она заснула, — а было уже десять часов, — и Надька тут же заснула тоже, свернувшись в кресле.
Гремел вовсю телевизор, шел захватывающий фильм, и мамка Клавдя сидела в одиночестве с утра, пила чай и глядела вчерашнюю передачу.
— Ой! — вскрикивала она. — Куда ж он ее? Погубит!.. Батюшки! — Надька вошла, и мамка Клавдя так и обмерла, схватилась за стул: — Ой! О, господи, это ты!.. Надюшка!.. Ты живая?.. Что ж это ты делаешь-то? Дома не ночуешь! Где была?
Надька глядела мрачно, взяла со стола пряник, стала жевать, смотреть на экран. Налила из бутылки можайское молоко.
— Я у Жирафы ночевала, я тебе говорила.
— Чего ты мне говорила? Когда? А ну-ка! — Мамка Клавдя встала, взяла ее за руку, удивляя Надьку, осмотрела странно. — Достукалась?
— Да чего ты? — Надька продолжала смотреть на экран.
— Чего? Ты не знаешь «чего»? А? Не знаешь?
В это время на экране кого-то потащили, там закричали, посыпались выстрелы. И Надька и мамка Клавдя — обе глядели туда, но продолжали свой разговор:
— Уж и дома теперь не ночуй, да? Все одно?
— Да говорю, я у Жирафы, чего ты!
— Я знаю эту Жирафу! Как же ты могла-то? — Она опять схватила Надьку и странно глядела. — Ну? Ты скажи!
— Ну, чума! Отстань ты от меня!
— Она мне все сказала!.. Ой, срам! Ой, мало мне с тобой горя! Нет, она прокляла тебя, и я прокляну!
— Да какое ваше дело? — Надька вдруг засмеялась. — Какое?
— Не наше?.. А чье? Ты соображаешь?
На экране в это время убили женщину, и она умирала, закатив глаза.
— Ну? Что это значит-то с тобой? Как это? Когда?
— Да отстань!
Тут раздался звонок в дверь.
— Она! — сказала Клавдя. — Она-то прям не в себе. Гляди!.. Святая тоже нашлась… Иди вот сама открывай…
Надька, скривив улыбочку, пошла.
В дверь широко и резко вошла мама Шура.
— Собирайся! — сказала Надьке сурово. — И без всяких!
Надька откусила пряник и, не отняв его ото рта, смотрела на Шуру. Жевала.
— Без всяких! — напирала Шура. — Все!
Надькин взгляд говорил: не пугай. Ей было не до них.
Надька смотрела на огромную карту Советского Союза. Карта висела на вокзале. По карте протягивались черные линии железных дорог. Вот город Свердловск. Вот автомат с кнопками. На клавишах названия городов. Нажмем на город Свердловск. Побежали, затрепетали крылышки автоматического справочника, отщелкали и остановились. Свердловск. Отправление, прибытие, поезд такой-то, поезд другой, третий, цена билетов — все есть, пожалуйста, бери билет и езжай.
Лейтенант в это время стоял в воинскую кассу в короткой, человек из пяти, очереди.
Надька не выпускала его из поля зрения.
Вот он уже у окошечка. Отошел, изучая билет, положил во внутренний карман, застегнул шинель. Уезжает, значит? Ну-ну, слава богу.
Когда он один, лицо у него деловое, сосредоточенное, без всякой лирики. И ж а л к о его. Хочется пожалеть. Почему? К черту эту жалость! К черту!
Вот он идет. Теперь уже с билетом в кармане. А что, если в Свердловск поехать? А что там, в Свердловске? Экая даль!
Она следила за ним, шла, таясь за людьми. За-чем?
Вот подошел к киоску, купил газету, развернул на ходу, насупил брови, постоял, почитал, двинулся дальше. Газету убрал в карман.
Ничего не знает, ничего не чувствует, даже не оглянется. Интересно вот так следить за человеком. Как сыщик, идешь за ним, а он ничего не знает. Нет, вы не уйдете, товарищ лейтенант. Нет-нет, вам не удастся затеряться в толпе у входа-выхода. Куда? Куда?! Вон мелькнула фуражка. Пустите, разрешите! «Ты что, девочка, с ума сошла?» С ума сошла! С ума сошла!..
Она выскочила на ступени вокзала, увидела сверху, как лейтенант склонился к такси, открыл дверцу, сел и уехал.
Куда? В госпиталь? К Тоне?.. Зачем ему в госпиталь? Конечно, к Тоне! Пусть едет. Ей-то что!..
И вот она уже покупает билет в кино. Днем. У пустой кассы. И сидит в полупустом темном зале.
И опять Надька стоит у проходной госпиталя, опять с ней Бухара, и она спрашивает Тоню Шапошникову — дежурный звонит по внутреннему телефону.
— Шапошниковой сегодня нет.
— Спасибо. — Бухара вопросительно посмотрела на Надьку. — Небось, дома?
Надька кивнула, они отошли.
Так, соображала Надька, значит, дома. Что делать? Поехать туда?
— А что, взять и поехать, — сказала Бухара. — И ничего такого. Здрасьте, это я.
— Да на черта мне это надо? — Надька повернулась, чтобы идти, и увидела: подъехало такси, и из машины вылез лейтенант Орловский, а шофер подавал ему изнутри свертки-коробки. Надька замерла. Бухара тоже. И тут что-то упало у лейтенанта из рук. Бухара — раз, — только глянув на Надьку, подбежала и подняла.
Лейтенант увидел Надю.
— Надежда! Привет! — закричал он, и Бухаре: — Спасибо. Вы откуда?.. Помогите, пожалуйста, это я маленькие тут сувениры сестрам-врачам… Возьмите вот это еще, а? Пошли, пошли! Поможете… Это со мной, — сказал он солдату.
Но Бухара сказала: «Я здесь подожду», — выразительно глядя на Надьку. И осталась.
А Надька взяла сверток и пошла с лейтенантом опять через такую же знакомую проходную в корпус. Сердце у нее билось, но она усмехалась криво. Лейтенант попросил подождать и быстро ушел, путаясь со свертками. Надька поняла, что дальше, внутрь, ходить ей с ним не нужно. Она сидела одетая в коридоре, на скамье у входа, проклиная себя, и думала: надо уйти. В зоне зрения появилась толстая сестра Маша. Так, сейчас пристанет.
Та в самом деле удивилась:
— Ты чего тут? К. Тоне? Она сегодня отгул взяла.
— Нет, я знаю, я так.
— Не на работу к нам устраиваешься?.. Хотя мала ты еще у нас работать.
— Ничего, подрасту, — сказала Надька.
— Давай, давай, — сказала Маша. — У Тоньки будешь как за каменной стеной. — И ушла медленно.
И тут же подкатился совсем молоденький парень в больничной пижаме. В руке его болтался чертик, связанный, как это делают больные, из раскрашенных хлорвиниловых трубок. Парень ловко и забавно играл чертиком, как настоящий кукловод, и пищал:
— Уважаемая публика! У нас в госпитале посторонние! Непорядок! Как вы сюда попали? Ваше имя? — Он был наголо остриженный, с закованным в гипс горлом, бледный, худой, веселый. — Ваше имя! Ваше имя! — требовал чертик.
— Перебьетесь, — сказала Надька.
— Ой, как грубо! Ой, грубо! Какое грубое обращение с больными! Сейчас же к Федор Иванычу! — пищал чертик. — К Федор Иванычу. А лет сколько? Сколько лет?
Надька хоть и отвернулась, а рассмеялась.
— Смеется, ура! — хлопал и бил в ладони чертик. — Смеется!.. А может… ты к кому пришла? Ты не ко мне?.. Скажи! Скажи!
Тут подошли еще двое, один тоже молодой, а другой постарше, и оба с улыбками. Тот, что постарше, сказал:
— Селиверстов не теряется… Познакомь, кловун!
— Перебьетесь! — ответил им Селиверстов чертиком, точно скопировав Надьку. — Идите, дяденьки, своей дорогой… Правильно я говорю? — опять обратился чертик к Надьке, и она невольно кивнула.
Все рассмеялись, а Надька смутилась. Но тут, слава богу, в конце коридора показался лейтенант, он нес в руках свою шинель и на ходу надевал фуражку. Торопясь, он прихрамывал.
Все повернулись за Надькиным взглядом и поняли, кого она ждет.
— Ну, что тут? — Лейтенант всех оглядел. — Привет, Селиверстов!.. Не обижают? — обратился к Надьке.
— Здравия желаю, товарищ старшой! — весело сказал Селиверстов. — Вы что, как можно обидеть! Она сама нас обижает. Общаться не хочет. А вы, значит, все?
— Да вроде. Наконец-то.
— Да уж! Вы, говорят, тут побыли — ого!
— Не говори. А ты-то как?
— Нормально, товарищ старший лейтенант! — ответил Селиверстов чертиком, и все рассмеялись.
Второй, что помоложе, помог Сергею вдеть руку в рукав, тот поморщился, когда одевался, Надька это видела.
— На! — вдруг протянул ей Селиверстов чертика. — Возьми. Бери, бери, я себе еще сплету. Времени навалом…
Надька глянула на лейтенанта, спрашивая: взять?
Он разрешающе кивнул.
И Надька взяла: спасибо.
Они вышли, а Бухары не было.
— Где же она? — спросил лейтенант. Надька пожала плечами.
— Подождем или поедем?
— Куда?
— Как куда? К Тоне. Я ж уезжаю. Все.
— А я чего?
— Да ладно! Поехали!
Надька играла чертиком. Они ехали в автобусе, сидели на одном сиденье, автобус был полупустой.
— Ну, а у тебя что новенького? — спросил лейтенант.
— У меня?
— У тебя, у кого же.
Надька плечами пожала: мол, что может быть новенького?
— Все нормально. Уезжаю. На Дальний Восток.
— Ты? К кому? Зачем?
— Так.
— Выходит, нам по пути. Ты самолетом или поездом? — Он засмеялся.
— Поездом.
— Ну, все! Ты когда?
— А вы когда?
— Я девятнадцатого.
— Ну и я.
Он опять рассмеялся. А Надька нет.
— Кстати, ты где учишься? — спросил лейтенант.
— Нигде.
— Как нигде? Работаешь?
Надька покрутила головой. Чертик в ее руках мотался так и сяк.
— Так. Значит, не учишься и не работаешь?
— Не-а. Зачем?
— Как зачем? Зачем все учатся или работают?
— Не знаю. По глупости.
— Интересно. Выходит, все дураки?
Надька пожала плечами.
— У меня тоже был один такой солдат. Я, говорит, не хочу как все. Я…
— Я не солдат, — сказала Надька. — И потом… все равно я никому не нужна. — Надька говорила с ним, либо посматривая только на чертика, либо отворачиваясь в окно. И теперь совсем отвернулась, глядя и не видя бегущие мимо дома, деревья, магазины. И ожидала, что лейтенант будет продолжать опять что-то воспитательное или насмешливое. Но и он замолчал.
— Почему это? — спросил потом.
Она молчала.
— Так не бывает. Каждый человек кому-то нужен.
Она молчала. Потом взглянула искоса. Он смотрел на чертика. Тогда она повернула к нему голову. Лицо у него стало грустное, он усмехался.
— Я, похоже, тоже никому больше не нужен, — вдруг сказал он и подмигнул. — Но ничего. Ни-че-го! — И щелкнул по чертику.
Так они ехали, чертик болтался между ними.
— Слава богу, наконец! — Тоня стояла одетая в дверях. — А я уж заждалась! О, Надька! А ты откуда?.. Привет! Когда вы, интересно, сговорились?
— Военная тайна! — сказал лейтенант. — Да, Надь?
— Я за Светкой, я быстро, а вы посмотрите тут, Надь, сумеешь? — Она потянула Надьку на кухню, показала на кастрюлю борща, кипящего на малом огне, на другую с начищенной в ней картошкой, на приготовленную в духовке на противне утку — только огонь зажечь. — Я оттуда такси возьму. Утка уж готова, только разогреть… Сергей! — тут же позвала она и, обходя Надьку, ушла к Сергею, который уже разделся и причесывался в прихожей перед зеркалом. — Ну? — спросила она его. — Я жду, жду.
— Да я уже все сделал.
— Как? Сам?
— Пора без нянек обходиться. Сам.
— А билет?
— И билет взял.
Тоня хмыкнула как-то и сникла на глазах. Неопределенно улыбнулась: мол, воля ваша, хозяин — барин. Обернулась к Надьке, которая смотрела из кухни: ты-то не в курсе? Надька отвела глаза.
Вся эта ситуация была странной и странно Надьку мучила. Какая-то сила несла ее вперед, помимо воли, она делала, чего ей вроде бы не хотелось, противилась и не могла противиться. Как вышла эта встреча с лейтенантом, столь долгое с ним общение? А теперь Тоня уходит, и они опять вдвоем — что все это значит?
— На девятнадцатое? — спросила Тоня.
Лейтенант кивнул, улыбнулся.
— Ну, спасибо хоть на этом, еще два дня, — сказала Тоня. Не без обиды.
У них с Сергеем были свои дела и свой шифр.
— Ладно, я скоро, — сказала Тоня, — я обратно такси возьму… — И ушла.
Лейтенант прошел в комнату, включил телевизор. Надька вернулась из прихожей на кухню, но что делать, не знала; все, кажется, было сделано. Открыла холодильник — там стояли водка и шампанское.
Она попила из-под крана воды. Прислушалась. Звуки телевизора — больше ничего. Тянуло туда. Вот чума. Надо было что-то делать. А что? Зачем?
Она пошла на цыпочках в прихожую и взяла с вешалки куртку. Телевизор работал вовсю, лейтенанта не видно было. Уйти. Бежать. Раз и навсегда. Не одеваясь, взялась за замок.
И тут он вышел.
— Ты что? Ты куда?
— Я пойду.
— Почему? В чем дело? — Надька смолчала. Стояла понурясь. — Надя! Ну!
Она молчала. Он пошел прямо на нее и взял из рук куртку.
— Брось!
— Чего мне тут делать-то? — грубо сказала она.
— Тебе ж поручили за обедом смотреть.
Надька замерла. Они стояли чуть не вплотную. Сердце ее билось, и она боялась, что Сергею слышен его стук. Чума, ну чума и только.
— Пошли! — И он повел ее, пропустив перед собой, в комнату. — Ну что ты в самом деле? — Подошел и взял ее за плечи. — Я же уезжаю.
Он смотрел на нее, он улыбался, он был ласков, он шутил, — зачем все это? Что все это значило? Надька не знала, что делать. Она только чувствовала, что теряет себя, свою волю, силу, независимость. Чума… И ее надо одолеть. Ну, что он ее за плечи взял?.. Она вывернулась, как-то скособоченно стояла… Она вдруг потеряла и все свое искусство притворства, размякла. Что делать?
— Садись, будем хоккей смотреть, — предложил лейтенант. — Или ты не любишь? — Сел и похлопал по кушетке рядом с собой.
Надька осталась стоять. Он смотрел вопросительно.
— Возьмите меня в Свердловск, — сказала она.
Он раскрыл глаза: мол, ты что, девочка?
— Правда, — сказала Надька. — Мне все равно.
Тогда он опять поднялся.
— Это бывает в твоем возрасте. Это пройдет.
Надька хмыкнула, повернулась и пошла на кухню.
— Надь! — позвал он. Но она не вернулась. Телевизор загремел звуками хоккейного матча.
Она остановилась в прихожей. Перед ней было зеркало. Приложила руки к щекам — щеки горели. Прищурилась. Сказала себе: нет, она больше не останется. Вообще надо что-то делать. Сейчас, раз и навсегда. Покончить с этим. Что за дурь вообще?
Опять вышел из комнаты Сергей.
— Надь!.. Ну ты что?
— Все нормально, — сказала Надька. — Включите там духовку, а то я боюсь.
И когда он вошел в кухню, она взяла и задвинула задвижку на входной двери. И быстро скользнула в комнату, закрыла за собой и эту дверь.
В дверь стучат, в дверь звонят.
Сергей поспешно открывает, но не может понять, что закрыто на задвижку, дергает дверь и наконец открывает. Странно, что было закрыто на задвижку.
На пороге Тоня, за ней Светланка.
— Вы что закрылись? Я открыть не могу, звоню, стучу! — Глаза Тони быстро оглядывают дом, прихожую, Сергея. — А где Надька-то?
Сергей растерян.
А Тоня уже идет вперед не раздеваясь, вот дверь в ванную — открыта, вот дверь в комнату — закрыта. Почему? Она у них никогда не закрывается. Тоня оглядывается на Сергея.
Сергей ничего не понимает, он стоит за спиной Тони, а Тоня — раз! — и открывает дверь в комнату. Там темно, только работает телевизор, идет хоккей, и в свете экрана видно, что на кушетке кто-то лежит. Тоня тут же включает свет.
На кушетке — Надька, раскинувшись, то ли в обмороке, то ли спит, — разметалась, в лифчике, свитер и сапоги валяются на ковре. Ну и ну! Тоня оборачивается и глядит в упор на Сергея. Он в полном обалдении.
Маленькая Светка, проскочив вперед, тормошит Надьку:
— Надя! Надя! Ты спишь? Ты чего спишь-то? Мам! Чего она?..
Кипит на кухне борщ, кипит-булькает картошка, скворчит утка в духовке. Тоня шваркает крышками, дверками, она так и не сняла плаща. За нею Сергей.
— Тоня, ну ей-богу!.. Ну ты что, Тоня?..
Но крышки только бряк-бряк, ножи, вилки — дзинь, дверцы — шварк.
— Тоня!
— Ну хватит! Что я, маленькая, что ли?..
— А, черт!
Сергей влетает в комнату. Надька, натягивая свитер, еще сидит на кушетке, возле нее копошится Светка. Сергей на ходу прихватил Надькину куртку и шарф.
— Ну-ка! — Он поднимает Надьку резко под мышки и ставит на ноги. — Ты что сделала, а? Ты зачем это сделала? Ты понимаешь или нет? — Обдергивает на ней свитер, обматывает ее шарфом и сует в руки куртку. — Давай-ка отсюда! Ну-ка! По-быстрому! Марш!
— Надя! Надя — цепляется Светка. — Почему ты ее прогоняешь? Не уходи!
— Света! Ну-ка, посиди! — Сергей хватает Светку и крепко сажает на кушетку. — Иди, иди! — командует он Надьке и дергает ее — ах, она без сапог! А ну, сапоги! Быстро! — И он толкает ее, понукает, чуть не гонит.
Но надо же натянуть сапоги.
Надька натягивает сапог и начинает смеяться. Лейтенант, конечно, ничего не понимает и не подозревает, что Надька не над ним смеется и что она не его пришибла с Тоней, а себя, свою чуму, свою жалость — вот так ее!
И за этот смех Сергей чуть не вышвыривает ее. И захлопывает за ней дверь. И ему приходится стоять у этой двери спиной, потому что прибежала Светка и бьется о его ноги:
— Зачем ты ее погнал? Надя! Надя!.. Мама! Зачем он ее?..
В прихожую выходит Тоня, снимает плащ, ни на кого не глядя, и вдруг резко кричит Светке, которая к ней бросилась:
— А ну замолчи!
Девочка пугается. Она садится на пол и плачет.
— Ведь не для себя я, для нее! — Мамка Шура всхлипывает. — Мне не надо. Мне теперь… у меня…
Ей не идет плакать: лицо ее распухает, делается некрасивым. Тем более что она в действии: собирает вещи, затягивает ремни, застегивает, хотя чемодан и сумка уже собраны, сама она в шубе, в платке. Надька стоит у окна тоже одетая. А мамка Клавдя, наоборот, сидит за столом строгая и ясная, все она уже выплакала и выговорила, выложила на скатерть свои ручищи и сидит.
— А ей лучше будет, у нас перспектива, у нас… Надь! Ты документы-то взяла?.. Ехать ведь надо, сейчас такси придет… — Она приближается к мамке Клавде: — А ты в отпуск сразу к нам. У нас август — сентябрь сказка, прям сказка… Прости меня. — Она берет тяжелую руку мамки Клавди, и та не отстраняется. — Ей лучше будет, лучше…
Мамка Клавдя кивает: мол, да, понимаю, согласна. Врывается Бухара:
— Такси пришло!
— Ну вот, ну вот, поехали! — Шура опять суетится, застегивается, подходит к Надьке: — Надь! Ехать!
Надька кивает, но все так же отрешенно. Она поворачивается, ждет, чтобы встала и начала одеваться мамка Клавдя. Но мамка Клавдя встала, а ноги у нее не идут. И она опять садится и говорит:
— Да нет, я не поеду, вы сами. Вон девчонки проводят.
Надька не смотрит на нее, и она на Надьку тоже. Опять эта жалость, эта чума дерет Надьке сердце, и она в ярости не знает, как быть. Клавдя сидит странно спокойная, тяжелая, простая.
— Ну, ты что? — грубо говорит ей Надька.
— Надь! Ехать! — повторяет Шура робко.
И тогда мамка Клавдя еле-еле поднимается, опираясь о стол:
— Чегой-то прямо ноги отнялися, — говорит она виновато и даже с улыбкой. — Ну, Надюшка, не могу. Ехайте сами… Будь хоть там-то человеком, не срами себя…
— Надя! — зовет Шура.
Надька резко подходит к Клавдии — та не успевает обнять, задержать ее, — целует мамку в голову и тут же отпускает. И отходит без всякого, отшатывается, как ванька-встанька.
Шура обнимается и целуется с мамкой Клавдей, словно родней у нее и нет никого. А Надька, не взглянув на свой дом, вместе с Бухарой выходит, вдвоем несут чемодан. Неужели уезжает Надька? На Дальний Восток? Так вот — раз! — и уедет? Неужели кончилась ее непутевая жизнь и начинается другая?.. И мамку Клавдю она бросает и подруг?..
Бухара заглядывает Надьке в лицо, но понять ничего не может.
И вот аэропорт, и багаж уже сдан, и мамка Шура с Надькой расположились в ожидании посадки у стеклянной стены, за которой видны хвосты самолетов и откуда время от времени доносится самолетный рев.
Шура что-то говорит и говорит, на коленях ее сумка, а на сумке развернутая плитка шоколада, и она отламывает куски и дает Надьке. И Надька ест. Вот она, новая Надькина жизнь, — самолеты, небесные пути, серебряная фольга, вкус шоколада.
А где-то наверху, над головами, все время мелькает электронное табло: числа, часы, минуты, температура воздуха… И число, между прочим, девятнадцатое. Мелькает и мелькает, мелькает и мелькает.
— Надь, — говорит вдруг Шура, — я тебе там хотела, сказать, да уж ладно, не могу, тут скажу… Одна ведь я теперь, Надь, уже полтора года как одна, ты слышишь?
Надька слышит и не слышит. Еще не хватало. Может, и тебя пожалеть, Шура?
— Что ты так?
— Как?
— Смотришь нехорошо.
— А как мне смотреть? — Надька кривится.
А табло выбивает; девятнадцатое, девятнадцатое…
И Надька вдруг морщится, лицо у нее делается такое, будто ей нехорошо стало, она берется за живот. Мать пугается.
— Ты что? Так, может, все-таки правда?
Надька кривится: да нет, это твой шоколад. Она встает. Шура подхватывается тоже идти с ней, но у нее сумки, коробки, ручная кладь, и Надька машет: мол, не ходи, сиди, я сама. И Надька уходит. Она идет в ту сторону, где на указателе показаны туалеты.
На табло горит: девятнадцатое.
Шура бегает по аэровокзалу. Шура ждет. Люди идут мимо на посадку, там, за стеклами, уже наполнен автобус, и дежурная приглашает Шуру идти тоже.
Шура мечется. Шура объясняет. Шура плачет. Садится среди своих коробок и сумок и плачет.
А Надька едет в полупустом автобусе долгой дорогой из аэропорта. Едет и едет, едет и едет.
Потом на метро.
Потом опять на автобусе.
Первый пушистый снег выпал девятнадцатого числа.
Бухара, Жирафа и Ленок вышли из училища, вернее, из ворот хлебозавода после занятий и увидели… Надьку. Они стали как вкопанные.
Надька поманила Ленка отойти в сторону.
— Ты как?.. Ты же улетела! Откуда взялась? Ты что? — спрашивает Ленок. В ответ Надька снимает варежку и показывает аптечную коробку: маленькие желтенькие таблетки сыплются в ладонь.
— Что? Жить мне больше неохота, вот что!..
Они смотрят друг на друга. Со стороны глядят на них Бухара с Жирафой. У Ленка падает варежка. Она перебрасывает сумку с плеча на плечо и подставляет ладонь: сыпани и мне тогда тоже.
Но Надька качает головой, улыбается, делает шаг назад и, полуотвернувшись, жменей бросает таблетки в рот. Торопится, глотает. Еще. Еще.
— Ты что! Правда, что ли, проглотила? Отравишься! Плюнь, Надя!
Надька смеется. Хватает ладонью свежий пушистый снег и заедает.
— Выплюнь, ты что!
Ленок не очень верит Надьке, все это ее фокусы опять, но все-таки неприятно, она озирается и машет: сюда! Бухара и Жирафа мчатся изо всех сил. Надька отступает, Бухара с Ленком и Жирафа — за ней. Ленок на ходу объясняет Бухаре и Жирафе, в чем дело, те не верят. Куда ты, Надя? Постой! Надька бежит через улицу, за ней подруги перебегают перед машинами дорогу…
Потом они едут в метро.
— Ну ты дура! — говорит Ленок. — Ты совсем!
— А начинает уже все кружиться, — говорит Надька и смеется.
— Да что ты ей веришь? Ты Надьку не знаешь? — усмехается Бухара. — Ну витамин це, подумаешь!
— Это не це, в больницу надо, — говорит Ленок. — На промывание. «Скорую».
— Хватит, меня уже промывали, — говорит Надька и опять смеется. — Отстанете вы или нет? Вот чума!..
Надьке в самом деле все хуже. Перед глазами круги, ноги идут или не идут, непонятно, ее пошатывает и покачивает. А выходят они прямо на вокзальный перрон, прямо к табло, где отбито отправление свердловского поезда. Уже вечереет. Надька останавливается и, еле ворочая языком, говорит:
— Прошу! За мной… не ходите… больше… Все…
И решительно идет вперед одна.
Она идет одна, но ей приходится остановиться, опереться рукой о вагон. Она стоит и уже мало что понимает… Девчонки в отдалении движутся за ней.
— Она отравилась, я вам точно говорю, — шепчет Ленок подругам.
— Артистка! — говорит Бухара.
И вот вдали у вагона три фигуры: Сергей, Тоня и Светка, которая крутится у их ног.
Надька медленно приближается к ним. Она почти падает.
Они, наконец, видят ее. И отворачиваются, делают вид, что не видят.
Фига́! Интересно! Они не понимают! Они не верят! Они не знают, что и з-з а н и х она решилась умереть, убить в себе любовь к ним и сейчас, вот здесь, умрет у них на глазах! Надьку качает, она хватается за столб и больше не может идти.
Ленок хочет бежать к ней, но Бухара останавливает: «Нет, не мешайте ей!» Они потешаются с Жирафой: «Ну, Надек дает!» Они не понимают, в чем дело, ради чего они все оказались именно на вокзале, но вдруг детский крик несется: «Надя! Надя!» Это маленькая Светка увидела Надьку и бежит к ней.
А Надька осела возле столба, ей плохо, ей на самом деле плохо, но все только смотрят и смеются или усмехаются. И она сама смеется. Кто-то из прохожих остановился, обеспокоился: что такое с девчонкой? И проводница ближайшего вагона уже видит, что ей плохо, но с в о и не реагируют, не подходят. «Опять комедия!» — говорит весь вид Тони. Она отворачивается, по профессиональное чувство подсказывает ей: тут что-то не так. Она говорит с Сергеем, тот тоже старается не глядеть назад, но теперь, когда побежала Светка, обернулись.
— Надя! Надя! Ты что? — лепечет Светка, присев возле, а у Надьки закатываются глаза, она уже не может смотреть.
— Мама! Мама! — кричит Светка и бежит к Тоне. — Мама!
Надька падает ничком и тоже хочет повторить «мама», а шепчет:
— Чума…
Надька поднимается по своей лестнице домой — все кончено, оборвано, Сергей уехал, Тони ей никогда не видеть, никого не видеть, конец. Ее сопровождают Ленок и Бухара. Но потом отстают. Надька бледна, устала, открывает своим ключом дверь.
Но нет, дверь не открывается, она заперта изнутри. Надька не успевает постучать — открывают. Мамка Клавдя стоит на пороге: седая, простоволосая, старая, в старой латаной рубахе. И Надька тычется в нее, обнимает, приникает, опускается на колени, как блудный сын на картине Рембрандта.
Мамку Клавдю не держат ноги, она садится тоже, и Надька рядом с ней. Обе плачут и лепечут всякие слова:
— Родимая ты моя, жданочка…
— Кто она мне, чего я с ней поеду?..
И тут звук странный раздался, сбоку, с кухни. Обе обернулись: в дверях кухонных, поднявшись с раскладушки, стоит мамка Шура, сгорбилась и кухонной занавеской, обеими руками, закрыла себе уши, чтобы не слышать…
Вот чума так чума! А мамка Клавдя — ах, простая душа! — обернула от себя Надьку и толкнула в спину: подойди, мол, пожалей ее, ну! — и Надька подошла осторожно. И как схватила ее Шура, как сжала, зарыдала еще пуще, не в силах говорить…
Эта плачет, эта плачет, и Надька — куда деваться? — тоже плачет. Как они плачут втроем, эти женщины, обняв друг друга!..
Шура и Просвирняк
1
— Междугородняя, четвертый слушает!
— Два ноль шесть, возьмите Енакиево!
— Нет Катушкина, нет, я вам русским языком говорю! Кого еще в Новосибирске?
— Свердловск! Свердловск! Свердловск!.. Лиза, какого черта, пять минут вызываю!
— Разъединяю, разъединяю, довольно!
— Кого в проектном, у нас сто номеров в проектном, сами не кричите!.. Римма Павловна, поговорите с Магниткой, всю душу вымотал!..
— Междугородняя, первый слушает!
— Междугородняя, пятый слушает!
— Семь семнадцать, возьмите Свердловск, Голубова нет, Перчиян на проводе, говорите!..
Десятый час утра, в министерстве начался рабочий день, междугородку разрывают на части. Вчерашние заказы, позавчерашние (которые не прошли из-за повреждений или загруженности на линиях), сегодняшние — сотни звонков. Стучат, влетая, как пули, в гнезда, штеккеры — наконечники шнуров, — крутятся диски, пощелкивают ключи, на каждый сигнал коммутатор отзывается долгим зуммером, и десятки, сотни зуммеров вместе с голосами телефонисток образуют звуковой, музыкальный тон конторы связи.
Работают сразу пять телефонисток, и старшая, Римма Павловна, сидящая за отдельным столиком — она одна монотонно, ровно басит, — принимает заказы, записывает их и повторяет вслух. Остальные же на разные голоса, но на одной высокой звонкой ноте мечут свои отрывистые фразы, и впечатление такое, будто они не сидят на своих круглых вертящихся табуретках, а несутся верхом сломя голову.
Сегодня работают: Зоя (прозвище Кармен), Саша Капитанша, Нинка, Люся (прозвище Неваляшка) и Шура. И Римма Павловна само собой. Зоя, Саша, Шура — мастера, давно в конторе. Зоя и Саша еще с фронта пришли — вроде недавно, а уже лет семь проскочило. Нинка с Люсей — девчонки. А еще за коммутатором — высота его примерно в рост человека — на старинной банкетке красного дерева, бог весть как попавшей в этот подвал (на ней спят обычно попеременно ночные дежурные), полулежит с учебником физики Ванечка (прозвище Зяблик), телефонный монтер и студент-заочник, прячется от глаз начальства.
Телефонистки спешат, им каждая секунда дорога, а Ванечке к этому часу делать совсем нечего. Он приходит рано, в семь, за час-полтора успевает справиться с монтерской работой, проверить шнуры, номеронабиратели, ключи, лампочки, трубки, наушники. Трубки и контакты положено протирать спиртом, но вместо спирта дают одеколон, и в диспетчерской всегда, а особенно сейчас, с утра, стоит приторный запах «Тройного». С казенным спиртом, как известно, вечно махинации, и, например, другой монтер, из АТС, старик Митрофаныч, в хвост и в гриву поносит начальника конторы Дмитрия Иваныча за этот спирт, поскольку Митрофанычу, век работающему монтером и привыкшему к чистому продукту, приходится в последнее время пить вместо спирта одеколон, что, конечно, хуже. Но зато контора благоухает, и запах «Тройного» — это уже отличительный ее запах: спустишься в подвал, откроешь тяжелую, обитую черным дерматином дверь — и в нос сразу шибанет парикмахерской.
В узкий переулочек-колодец между махинами-зданиями двух министерств попал с небес лучик солнца, кажется первый после долгой октябрьской слякоти, и ближайшая к подвальному окошку телефонистка Саша Капитанша — Шура с этой стороны коммутатора первая от двери как войдешь, а Саша с той — выключила над собой рабочую лампу на раздвижном кронштейне. Только вспыхивают на ее стенде и гаснут красные, зеленые и белые огоньки лампочек под выпуклыми колпачками.
— Надо же, солнышко! — отмечает между прочим Капитанша, и все ее слышат, несмотря на общий шум. И даже кто-то отзывается улыбкой: мол, да, хорошо, и подсохло и вроде чуть подморозило, запахло зимой, хотя ни снежинки еще не упало. Кажется, у всех шести женщин сразу приличное сегодня настроение — удивительно. Или силы еще свежи с утра, в охотку работа и нервы не издерганы.
Ванечке делать нечего, он задремывает на кушетке над учебником, и путаются, сливаются с законом Ома юношеские Ванечкины грезы о его девушке Вале, о губах Нинки, которая взяла привычку утром, войдя в контору, в шутку целовать Ванечку в губы, обдавая его запахом пудры и надушенного мехового воротника. Длинная Нинка самая молодая в конторе, ближе всех к Ванечке по возрасту, но она и самая вольная, самая порченая, как считают остальные женщины, — таких молоденьких девчонок, чтобы папироска в пальцах, нога на ногу, матерщинка да пьяные глаза, прежде не бывало, что уж после войны появилось такое и что-то не убывает.
Задремывает Ванечка, но вот чей-то голос — Шуры! — выходит из общего тона: с кем это она схватилась?
— Да, мой номер четвертый, да, можете, жалуйтесь… Что?.. Да, мне известно, с кем я говорю, не пугайте, товарищ Артамонов…
Ого, оказывается, она с Артамоновым! Все опять слушают, все на миг умолкают, одна Нинка продолжает кричать разливисто и озорно: «Алё-лё-лё! Ленинград? Даю-у!..»
Телефонистки вполуха прислушиваются к тому, что говорит Шура, и по паузам угадывают, что говорят ей.
— Нет, — все тверже и неприятнее звучит голос Шуры, — и в течение часа не соединю, большая очередь… Что?.. А, ну, извините, тем более теперь не соединю…
Артамонов из новых молодых начальников, начальник главка, это не шутка. Всем известно: если начальник главка сам ведет переговоры с телефонисткой, это уж бог знает что, полное нарушение субординации. А Артамонов особенно въедлив, рано приходит, до ночи сидит, выслуживается, надо думать, а народ из-за него страдай.
— Сейчас будет чепе, — говорит Шура Римме Павловне, которая уже и без того напряглась, и Шурин тонкогубый рот кривит усмешка, — Артамонов опять. На Урал, видишь, он завтра летит, так снимай все заказы, а у меня канал — во́т загружен!
— Ну, ты тоже, мать моя! — Римма Павловна басит недовольно. — Уж с Артамоновым-то!
— Ну а что? — отвечает Шура. — Еще сразу хамить!..
В таких случаях телефонистки, конечно же, берут сторону товарки, галдят, выливают ушат помоев на абонента, вспоминая, что вот и тогда-то и той-то он тоже то-то и то-то сказал. Но теперь никто отчего-то не выступает в поддержку: может быть, жаль хорошего настроения, которое теперь наверняка сломается; опять Шурины принципы, усмешка, опять день начинается со скандала. Теперь вот жди грозы. А на междугородку и так всех собак привыкли вешать. Никто во всей конторе не работает больше телефонисток, никто не мотает себе так нервы по двенадцать часов подряд, и никому столько не достается из-за каждого пустяка. Кто везет, того и погоняют. А уж если начать артамоновых уму-разуму учить или вежливости — себе дороже!..
Но работа не стоит: Шура, как и другие, тут же снова выходит на линию — заказов действительно слишком много.
— Я четвертый, как слышите? У меня шесть заказов до двенадцати часов. Пропустим? Давайте, девочки, давайте, горим…
Голос у Шуры спокойный, будто ничего не произошло, и вслед за ней, наверстывая упущенные секунды, стучат штеккерами и выкрикивают номера остальные — вперед, вперед!
Но, разумеется, исподволь все теперь будут ждать и представлять себе, как кричит в эту минуту Артамонов на начальника конторы Дмитрия Иваныча, как Дмитрий Иваныч одной дрожащей рукой держит трубку у вмиг запылавшего уха, а другой дрожащей рукой выламывает из коробки, из плотного ряда папирос твердую «казбечину», крутит, дерет большим пальцем колесико зажигалки. Или, нажав кнопку, вызвав секретаршу Полину, шипит ей, прикрыв ладонью трубку: «Четвертый! Это кто?.. Ко мне! И Пошенкина сей момент, где его там черти носят?» И вот сейчас, еще несколько секунд, Полина всунет свою кошачью намазанную вражескую рожу в дверь и иезуитским голоском скажет: «Четвертый это кто у вас? Латникова, что ли? Латникова! К Дмитри Иванчу! Здрасте, девочки! Здрасте, Римма Павловна! Прям все время неприятности, еще день не начали!..» И скроется, змея, прекрасно знающая и кто четвертый, и кто такая Латникова, и как передергивает диспетчерскую от ее «здрасте» и особенно от ее «девочки». Мы тебе, лахудра, не девочки, это ты все девочку из себя строишь, старая ты задница, поглядела бы лучше на свою лысую башку!
Телефонистки ждут, они ко всему готовы, но работа ведет и уводит их с каждой минутой от случившегося все дальше.
Ванечка же, очнувшись и потеряв сразу сон, выбирается из-за коммутатора. На нем синий монтерский халат, а в вырезе белеет ворот толстого свитера — между прочим, свое прозвище Зяблик получил не из-за каких-либо мелкоптичьих нравственных черт, а исключительно от глагола «зябнуть» (хотя знающие птиц люди объяснят вам, что зяблик совсем не трусливая и ничтожная пичуга, а, напротив, своенравная, драчливая, дикая птица, еле поддающаяся жизни в неволе и громко и весело распевающая свои весенние песни). Ванечка всегда подрагивает, поеживается, любимое его место — это сесть под вешалкой, где густо висят женские пальто, утопить в них спину и плечи или даже снять чье-либо, потешно укутаться да еще платочком повязаться и так сидеть, читать, перекидываться шутками с телефонистками, но это, разумеется, лучше в вечернюю смену, когда начальство уже ушло. Впрочем, в ту пору, о которой идет наш рассказ, начальство уходило с работы поздно.
Зяблик выбирается из-за коммутатора и первым делом встречается взглядом с Шурой. Голову ее, ее прямые светлые волосы, стриженные ниже ушей и острыми мысиками выходящие на щеки прямо к углам рта, сверху охватывает дужка наушников. Некрасивое плоское лицо Шуры бескрасочно и бескровно: бледные губы, светлые глаза, бровей будто вовсе нет. Но она притягивает к себе умным твердым недовольным выражением — прямота ее натуры выступает в этом странном лице, оно вызывающе не желает быть подкрашенным, искусственно подправленным, женственным, оно такое, какое оно есть, но еще и заявляет, что таким и будет. На Шуре обвисший свитер и меховая безрукавка, вечный ее наряд, цвета хаки юбка и обрезанные в размер ботинок или бот валенки, которые сама Шура называет коты. Ни колечек на ней, ни сережек, ни брошечек, как, например, на Зое Кармен, ничего: серое лицо, бесцветный свитер, выцветшая юбка.
Зяблик выбирается из-за коммутатора, потому что боится: вдруг явится сам Дмитрий Иваныч, увидит его с книжкой, греха не оберешься. Но когда Зяблик встречается взглядом с Шурой, то тут же оказывается на стороне Шуры, смелеет, одобрительно ей кивает, понимающе и поддерживающе. Ах эти милые мягкие молодые люди, похожие на девушек! Кажется, кто бы ни взял их за руку и куда бы ни повел, они пойдут, застенчиво потупив глазки и розовея милым овальным личиком. У Зяблика тоже миловидное лицо, светлые кудрявистые волосы, волной изгибающиеся над чистым лбом, голубые глаза, меняющие, как море, цвет свой по погоде: до темно-синего, до светло-серого. Зяблик юношески тонок, высок — вот сейчас он потянулся и достал учебником физики до низкого потолка диспетчерской. Есть в Ванечке приятность, обаяние, милота, он чист, опрятен, ему всего-то девятнадцать лет, но кажется, что еще меньше. Он начитан, он учится в Институте связи заочно на втором курсе, он даже ходил со своей Валечкой в консерваторию. «Интеллигентный монтер», — говорит старик Митрофаныч.
Шура к Ванечке относится ревниво. Ей кажется, что работа в конторе, безделье, кутанье в женское пальто и атмосфера невольного внимания многих женщин к молодому человеку — это баловство и порча. Сам Ванечка этого не понимает по молодости, и мать его, работающая здесь же, в министерстве, в столовой, довольная тем, что сын ее студент и с работой замечательно устроен, тоже понять не в состоянии, а паренек мил, но слаб. Шура даже как будто дружит с Ванечкой, но относится к нему как к ребенку и… ошибается, потому что Ванечка все-таки уже не ребенок и за его мягкостью, как и всегда бывает с мягкостью молодых милых людей, есть и своя воля, и своеволие, и неожиданные хотения, далеко-далеко уводящие милых молодых людей по извивам житейских дорог.
Взгляды Ванечки и Шуры мимолетны, Шуре некогда, как и другим телефонисткам, и Ванечка ведет глазом по диспетчерской, не зная, какой путь выбрать: то ли вовсе вон от греха, то ли скрыться в их с Пошенкиным каморке.
Диспетчерская — низкая, но довольно просторная комната, и из нее еще есть дверь, на которой написано «Начальник МТС» (то есть междугородной телефонной станции. Дмитрий Иваныч — начальник всей конторы связи, а Пошенкин — начальник МТС). Дверь и ведет в каморку. Там место аппаратуры, всю стену занимает стенд коммутаторных реле, тех самых, что отзываются на сигналы телефонисток отсюда, из диспетчерской. В каморке инструменты, на полках навалено, на двухтумбовом столе Пошенкина тоже и на полу, везде. Впрочем, Пошенкина пока нет, скрываться в каморке неохота, но и деваться некуда. Ванечка медлит.
И тут в диспетчерскую входит, хромая, Просвирняк. Потряхивает длинными волосами, заправляет рукой галстук за борт пиджака. Все оборачиваются, глядя на него как на гонца, на вестника. Просвирняк даже чуть теряется под этими взглядами. Выражение его, как обычно, заискивающее и радостное, и все понимают, что он, видимо, и не знает ничего и в гонцы с дурной вестью не годится. Он всех живо приветствует (никто не слышит) и обращается к Зяблику.
— Вань! — говорит он. — Тебя Митрофаныч зовет. — А глаза его умоляют: возьми меня тоже. — С инструментом, сказал.
— Да? Ясно! — быстро и радостно отвечает Ванечка. Вот и дело, вот и повод уйти. И он взглянул на Шуру, будто прося прощения: видишь, меня Митрофаныч срочно вызывает, но вы тут держитесь.
Ванечка идет в каморку за чемоданчиком. Просвирняк топчется без внимания, потом говорит умиленно в пространство:
— Погодка-то! Благодать!
Слова его повисают в воздухе, все заняты, и только Нинка, обернувшись, быстро, как на муху, севшую на плечо, фыркает на Просвирняка: мол, насчет погоды это ты верно, но лучше отвали, не до тебя.
Просвирняк мелко кивает, тушуется, но тут выходит собранный, уже с иным выражением — важности исполняемого дела — Ванечка, и они удаляются. Просвирняк, хоть он лет на пятнадцать старше, почтительно пропускает юношу впереди себя.
И в тот же миг раздается уже не бас, а полубас Риммы Павловны:
— Нет, его еще нет, Дмитрий Иваныч… (Тут все рты захлопываются.) Ну да… но у нас… мы же не можем… поняла… — Римма Павловна снимает с головы наушники, дышит тяжело и, ни на кого не глядя и ничего не говоря, начинает выбираться из-за своего столика, сотрясая и сдвигая его с места.
— Чего он, Римма Павловна? — спрашивает за всех Саша Капитанша.
— Чего, чего… черт! — чертыхается Римма Павловна на свой столик, двигаясь и дыша, как бегемот. Только она угнездилась, утеплилась, обмоталась по бедрам шерстяным платком, все порасстегнула на толстом теле, расшнуровала — нате вам, иди! Она в уборную-то до вечера не ходит, а тут ползти к начальству, да и было бы из-за чего, все наперед известно.
Женщины напряглись, боятся что-либо сказать: всем ведь понятно, кто виноват.
— Давайте я пойду! — говорит спокойно Шура и берется за наушники, чтобы снимать их.
— Сиди! — вроде бы грубо отвечает Римма Павловна и жестом показывает Саше Капитанше, чтобы та подключилась на ее телефоны и принимала пока заказы. — Разорался, будто убили его. — Подправляя и подтягивая на ходу свой многослойный, как капуста, туалет, Римма Павловна топает по диспетчерской, и половицы с облезшей краской и пятном солнца на них прогибаются под нею, словно сходни. — Этого еще паразита где черти носят! — Она делает жест в сторону каморки Пошенкина. — Бездельник на бездельнике и бездельником погоняет!..
2
Узкий, острый фасад здания со старинной башенкой и колоннами наверху выступает, как нос корабля, на простор широкой площади, а боковые крылья (все здание — как буква А), занимая по целому кварталу, выходят — одно в глухой переулок, перекрытый министерским гаражом, а другое на задворки старой московской улицы, изогнутой, будто самоварная труба, вечно забитой транспортом и народом, потому что она состыковывает самый уже почти центр с бывшими Хитровками, Котельниками, Таганками, Рогожками. Еще ходят здесь два трамвая: «двойка» и «27» — путь их начинается далеко, на шоссе Энтузиастов, за Измайловом.
Внутри гигантского А, во дворе, лепятся хозяйственные строения, мастерские, котельная — чего только нет! Даже общежитие охраны: здоровые молодые парни-вохровцы валяются на серых заправленных койках, чистят от безделья пистолеты, читают — некоторые учатся заочно, все на юридическом. Есть во дворе чахлый садик, задавленный тенью дома, бедный островок природы; будто в отместку за свое скорбное существование он пускает во все окна весной пух с длинного тополя, а осенью разбрасывает по двору сухие листья, и ветер долго катает их по асфальту назло министерским дворникам.
В министерстве, как на корабле, все есть и все свое, автономия, вплоть до мелких служб: дворники, повара, киномеханики, парикмахеры. Бытом огромного дома занимается АХО — административно-хозяйственный отдел. Его начальник, Бубышкин, — важная фигура, весь день носится на своей (то есть на казенной, конечно) машине, добывая всякую всячину: от клея и скрепок до земельных участков; надо учесть, что, кроме основного здания, в разных местах города и за городом существуют еще министерские филиалы, дома, гостиницы, дачи, дома отдыха и даже свое подсобное хозяйство, которое еще со времен военной голодухи производит собственные огурцы и свежую сметану.
Корабль внушителен и строг, автономия не просто существует, но поддерживается и поощряется, ибо все важно, все имеет значение, все должно подчиняться раз и навсегда заведенному порядку. Пусть, скажем, бумажка ерундовая, но коли она исходит от нас, она должна внушать трепет. Пусть будет на бланке, с подписями и печатями, даже если речь идет о разгрузке капусты для столовой. Все должно иметь вес и внушать почтение.
Стоит приблизиться — и сама махина дома заставит простого человека мысленно почесать в затылке. Черные зеркальные вывески со строгими золотыми буквами важно ударят в глаза при входе; тяжелый, на цепях карниз над подъездом чуть вдавит вам голову в плечи. В мрачноватом бюро пропусков с черными телефонами по стенам невидимая рука в военном рукаве протянет из глухого окошка долго выписываемый пропуск. А вот, например, в двенадцатом часу дня в чистый, всегда выметенный и обколотый от льда зимой переулок к другому, еще более внушительному подъезду подкатывают, как катера к крейсерскому трапу, сверкающие лаком, никелем и стеклом машины (черные немецкие «хорьхи», в каких ездило тогда самое высокое начальство, и машины охраны), и откидываются снаружи встречающим человеком дверцы — любой прохожий, заглянувший в этот миг в переулок с улицы, да и любой приникший к стеклу служащий, которому не надоедает каждый день наблюдать выезд министра, немедленно испытают почтение и поймут, что за важное есть место этот дом!
А ранним зимним вечером, когда широко и ярко горят окна всех семи этажей или когда в час окончания работы валит сразу из трех подъездов тысячный народ — те служащие, которым не надо оставаться на своих местах далеко за полночь, — в такие минуты дом выглядит особенно солидно и имеет даже свою величавую красоту.
Но люди есть люди, и как ни старайся, а вылезет, выпрется какая-нибудь ерундовина, что-нибудь мелкое и бытовое среди сверкающего порядка, вмиг нарушит весь вид.
Но и корабль есть корабль, его мелочью не возьмешь и не смутишь. Вперед! Так держать!
Чтобы поддерживать отношения с миром, не упустить ни одного сигнала извне, и чтобы не оставить втуне ни одного приказа, рожденного на каждом из семи этажей, флагман, помимо многоштатной экспедиции, ведающей входящей и исходящей документацией — она увозится и привозится мешками, — имеет еще и своих связистов. Связь — это нервы страны, любят говорить они о себе, это глаза и уши корабля и его язык сразу. Пусть они ютятся в подвале, за окнами, забранными тяжелой решеткой, пусть окна, или, вернее, только форточки, глядят в переулок, откуда синяя бензиновая гарь тяжелых лимузинов лезет в эти и без того душные помещения, — не беда. О них вообще мало кто знает. Они слышат и знают всех, на них же не обращают внимания, как мало обращает здоровый человек внимания на свои уши и голосовые связки. Связисты не в претензии, они знают свое место и делают свое дело, таков порядок.
…Выскочив из подвала, вся троица перебегает к главному министерскому подъезду — по свежему воздуху, по солнышку: старик Митрофаныч, Ваня и Просвирняк, припадающий на правую ногу. Проверять телефоны где-нибудь в отделах, где в комнате набито по десятку, а то и больше канцелярских столов, может бегать кто угодно и в одиночку, а в кабинеты министра, шести его заместителей, начальников главков отправляется уже непременно группа в два-три монтера и обязательно с кем-нибудь из конторских старших. Митрофаныч, как правило, обслуживает второй этаж, министра, и поскольку Ваня выглядит интеллигентно, любит брать Ваню с собой. Митрофанычу за пятьдесят, он кургузый, толстенький, смешной и смешливый. Он много меньше Вани ростом, голова плешивая, одет всегда бог знает в какую спецовку и штаны, и одеколонным ароматом от него разит, как от вечерней резеды. У него манера ни с того ни с сего зафыркать, залиться смехом, зажав живот короткими лапами, а потом уж, давясь и утирая слезы, рассказать какую-нибудь историйку, анекдотец — все больше насчет женщин.
Они выходили из подвала, и в дверях Митрофаныч вот так залился, захихикал, заквохтал:
— Ленка-то, Ленка давеча, ну эта-то, подавальщица из столовой!.. Ну умора, пра слово! Она уже лет пятнадцать в наркомате-то, ее только ленивый не трогал, а она, видал!..
Хорошо, что они уже выходили, Зяблик дверь полуоткрыл, а то пошел бы Митрофаныч! Про ночные кабинеты, про кожаные диваны, про душевую с той стороны подвала, про автобазу, где чистые пустые машины стоят по ночам. Митрофаныч — это еще одна его особенность — никак не может привыкнуть, что наркоматы давным-давно переименовали, и все называет по-старому: «наркомат», «нарком», «командир» вместо «офицер», «краснофлотец», «подавальщица».
На вопрос Вани, можно ли Просвирняку пойти с ними, Митрофаныч беспечно ответил: «А чего ж! Позвоню только Сухорукову».
Лицо у Митрофаныча с утра красное, лысина тоже, одеколонный дух весело отлетает от него, он добрее доброго.
Просвирняк счастлив. Он заранее засуетился, не зная, как быть теперь, что взять с собой, не идти же с пустыми руками. Ванечка сунул ему в руку моток красного провода, и Просвирняк вцепился в него, словно в спасательный круг. Бывает, до жалости неловко глядеть на Витю. И откуда он такой взялся?
Просвирняка оформили по приказу Дмитрия Иваныча на междугородку вторым монтером, единица была. Но единицу приберегал для кого-то своего Пошенкин, а тут вдруг — нате вам! — является малый лет тридцати, в шляпе, в долгополом пальто: здрасте, будем помогать, кому делать нечего! Пошенкин крайне разобиделся, а сам Просвирняк, видя, что из-за него сыр-бор разгорелся, держался виновато. Тяжело было смотреть, как он тушевался перед Пошенкиным. Но в то же время не мог скрыть радости, что попал сюда, в контору, в такой важный дом, и старался каждому улыбнуться и угодить.
Вид у него для монтера действительно был странноват: эта шляпа, галстук, длинные, не по моде тех времен волосы. С ногой у него было неладно, он ее поволакивал, хромал. Халат ему долго не выдавали, он так и мелькал: в пиджачке, в галстуке. Правда, когда приглядишься, увидишь: зеленая шляпа его видала виды, раз навсегда завязанный узел галстука пообтерся до белизны о щетинистый кадык. Лицо у Просвирняка широкое, обращает на себя внимание сильно выпирающими надбровьями и впадинами под самыми глазами, отчего глаза, глубоко запав, дают лицу грубый, почти злодейский вид, и ему никак не идет угодническое или детски-радостное выражение. Да еще при этом лицо худое, несытое, кожа обтянула кости, так и кажется: Витя наголодался, натомился где-то, ночевал по вокзалам в своей шляпе, а теперь попал в теплое, чистое место и рад.
Телефонистки хоть и побушевали поначалу вместе с Пошенкиным, поиздевались над вторым монтером, но скоро сжалились: бедный какой-то, хромой, хоть и видно, что не фронтовик, не из таких.
Ванечке и вовсе пришлось общаться с Витей больше других: знакомить его с работой, обучать. В технике Витя ничего, как выяснилось, не понимал, на ученье оказался туп, на что-то постоянно отвлекался и никак не мог запомнить, какой конец телефонной трубки называется микрофоном.
Они стали вместе ходить обедать («Богато кормють», — отмечал Витя), Ваня рассказывал про контору, кто да что, с кем и как себя держать, это Витя слушал внимательно, переспрашивал и запоминал. Он был благодарен Зяблику и так старался угодить юноше, что сам бегал, хромая, приносил от стойки компоты.
Ваня узнал немного: Просвирняк в Москву приехал недавно, живет у дальних родственников за городом, в Панках, сорок минут на электричке, — говор у Просвирняка действительно был не московский, скорее южный, на мягкое «г». Работал он прежде на странных работах: например, учителем пения в детдоме или эвакуатором в городе Феодосии. «Кем?» — переспросил Зяблик. Оказалось, эвакуатор — это кто в санатории билеты на поезда достает отдыхающим.
Зяблику нравилось, что взрослый, бывалый парень, похожий на учителя черчения из той школы, где Зяблик раньше учился, общается с ним на равных, вернее даже заискивает перед ним, мальчишкой. Неплохо: все-таки молодой — дай бог, будет в конторе товарищ, не одни женщины.
И вот потому они уже вполне дружно выходят из подвала, поднимаются по ступенькам, перебегают без шапок и пальто к подъезду, и солнце лепит сверху, и морозцем пахнет — снега нет, но все подсохло, ждет зимы.
А затем они поднимаются втроем по строгой парадной лестнице, по бордовой дорожке, начищенные медные прутья, прижимающие дорожку к ступеням, блестят им в глаза. Здесь тихо, чисто, гулко, невольно хочется понизить голос (но не Митрофанычу).
Благоухающий Митрофаныч со своим старым желтым деревянным ящиком с инструментами в руке быстро идет вперед, за ним Ваня с чемоданчиком, а Витя с мотком ненужного красного провода замешкался, задержался внизу, испугавшись и приветствуя, вернее не зная, как приветствовать, аккуратного солдатика в синей фуражке, с пистолетом на поясе. Солдат откозырял, пропуская всех троих (ему уже позвонили), а Витя засуетился, подавая свой ненужный пропуск, испугался — он уже тогда заволновался, когда Митрофаныч еще только взялся за начищенную до желтизны медную ручку тяжелой двери, а солдатская фигура еще только замаячила за тройными зеркальными, играющими на солнце стеклами.
Теперь Витя, прихрамывая, одолевал лестницу, а Зяблик остановился, поджидая его. Поднялись. Направо — длинный коридор, в глубине его сияет солнцем единственное окно, на фоне окна — согнутая фигура уборщицы в ослепительном нимбе, и слышен шум пылесоса. Налево — короткий глухой коридор с очень мягким ковром, здесь нет окон, лишь горит желтый коридорный свет, как в корабельном трюме. Митрофаныч уже топает по ковру, им сюда, Ваня кивает Просвирняку: сюда, мол. Походка у Вити делается еще суетливее, шаг мельче, и оттого, что он хромает, кажется, будто он беспрестанно кланяется на ходу: солдату, дверям, ступенькам.
Вот огромная, с высоченными окнами приемная. Потолки бесконечно высоки. Здесь монтеров встречает человек в кожаном пальто нараспашку, в сапогах и тоже в синей фуражке. Это Сухоруков из охраны, он отпер им кабинет. Зяблика и Митрофаныча Сухоруков знает, а Просвирняка видит впервые и откровенно подозрительно и недовольно оглядывает его робкую и странную фигуру с галстуком и длинными волосами. Тяжелая, еще заспанная, хотя и выбритая уже до желтого глянца физиономия Сухорукова принимает суровое выражение.
Витя вовсе теряется, приклеенно следует за Ванечкой, суетливо заправляет на место вылезающий галстук, поклоны его так и сыплются. Но Сухорукова не проймешь.
Ваня быстро проверяет и без того отлично работающие аппараты помощника министра, а голос Митрофаныча уже доносится оттуда, где святая святых. Ваня пропускает Витю вперед, и они вступают в кабинет министра.
Просвирняк здесь в первый раз, на лбу и щеках его выступают красные пятна, он, похоже, ничего толком не видит вокруг, только ищет спасительные и знакомые телефоны. Спотыкается о ковер и до белизны в костяшках пальцев сжимает моток красного провода.
Митрофаныч и Ваня, напротив, никакого волнения не чувствуют, им здесь все знакомо. Митрофаныч даже напевает между делом: «Из-за лесу, лесу темного привезли его огромного…» Кабинет министра по сравнению хотя бы с кабинетами его замов или даже с приемной, которую миновали монтеры, кажется небольшим: наверное, когда проходят заседания коллегии, здесь бывает тесновато. Но, говорят, министр не любит больших помещений, у него ив квартире так — может быть, оттого, что сам он маленького роста. Но все-таки в кабинете четыре больших окна — сейчас шторы на двух задернуты и в кабинете сразу и солнце и полутень, видно, как пляшут пылинки, передвигаясь из тьмы на свет, — и вообще места, конечно, немало. Стоит длинный полированный стол для заседаний, темный, старинный, но не на середине, а ближе к стене, к дверям, а вокруг двадцать два темных жестких полукресла.
Стол министра не примыкает к этому столу, а находится в стороне, ближе к окну, особнячком. Он тоже темного, не казенного вида и невелик и перед ним не огромные мягкие кресла, как бывает в иных кабинетах, а такие же твердые стулья с полукруглой низкой спинкой, как и у стола. И точно на таком же стуле сидит сам хозяин кабинета.
Стол министра чист, на нем лишь лампа, тоже простая, черная, изогнутая, эбонитовая (принятый всюду стереотип), да деревянный стакан с остро отточенными карандашами, да темный посредине бювар, вот и все.
Рядом на специальной подставке, у окна, под плексигласовым колпаком зеленеет модель тяжелого танка с длинной пушкой.
Хотя в кабинет, видимо, не приходила еще уборщица, ничто не говорит о том, что несколько часов назад здесь кто-то находился, работал: ни пепельниц с окурками, ни стаканов с недопитым чаем, ни брошенных в корзину бумаг — чисто, холодно, строго. Таков и сам министр — маленького роста человек всегда в одном и том же черном пальто и шляпе, с большеносым армянским лицом, строгим, но болезненным, болезненно-одиноким. Несколько шагов от машины к подъезду он проходит обычно замкнуто и строго, но чуть нервно и чуть подавленно, как будто на него плохо действует вид слишком большого подъезда, слишком больших и к тому же сразу двух корабельных громад министерских зданий: его министерства да еще соседнего. Окружающая его тайна, его государственный пост, его деятельность должны внушать трепет и, вероятно, кому-то внушают, хотя бы ближайшим помощникам министра, но простой люд и особенно женщины, которых питают собственные наблюдения, трепета не испытывают, и, например, телефонистки конторы связи относятся к министру, к его фигуре (плюс разговоры о его плохом здоровье) с жалостливым состраданием: им так и чудится, что министр сидит у себя по ночам без чая и папирос, глядит в одну точку перед собою и думает мучительные думы.
Правда, Митрофаныч, напротив, утверждал другое. В кабинете рядом с огромной картой Союза, задернутой занавеской, в стене, отделанной деревянной панелью, находилась еще незаметная маленькая дверь. Это была самая тайная дверь, и никто, как в замке Синей Бороды, не знал, что это за дверь и что за нею. Но Митрофаныч якобы знал и утверждал, что там у министра стоит раскладушка, чтобы вздремнуть в свободный часок, а также американский холодильник с водочкой и закуской на всякий случай. Но будь это хоть и правда, все равно тем более жалостливо выглядело: бедный министр, лежащий в каморке на раскладушке.
Когда вошли Витя с Зябликом, а за ними Сухоруков, Митрофаныч уже возился у еще одного небольшого — специально телефонного — столика, который находился совсем у окна, от министра по правую руку. Здесь стоял коммутатор и всего два телефона: белый и черный, оба без дисков — разве может занятой человек сам без конца крутить пальцем, набирая номера? Белый телефон — вертушка.
Коммутатор был плоский, компактный, черный — отличный симменсовский аппарат, лучше не бывает. Его устанавливал когда-то Пошенкин вместе с затюканным инженером Изей из АТС, и с тех пор чуть что — Леонид Степаныч сразу свой главный козырь: «А кто министру коммутатор наладил?»
Митрофаныч опускается на колени, открывает в деревянной стене деревянную же дверку, осматривает вмонтированные в стену розетки. Потом, подняв край тяжелого ковра, оглядывает пол: там, под паркетом, уложены провода. «Из-за лесу, лесу темного…»
Сухоруков задерживается у дверей, снимает фуражку — голова его оказывается тоже до глянца выбритой, как и лицо, и тоже костяного, желтого цвета. Просвирняк замешкался опять, замотался, словно его уличат сейчас, что пришел сюда без дела; Зяблик манит его к себе: надо же Вите в самом деле хоть чему-то учиться.
Сам Ваня пока стоя нажимает один клавиш на коммутаторе, другой — мягко загораются мелкие лампочки, прикрытые плоскими матовыми колпачками. Все лампочки горят, порядок, но Ване нужно сменить их все до единой. Это вот почему. Несколько лет назад, сразу после войны, пришел в контору некий инженер Рублев, офицер, фронтовик, вся грудь, рассказывали, в орденах. И вот этот фронтовой связист решил все в конторе изменить и переделать. Вот он-то, например, и говорил: если срок работы какого-то прибора или лампочки рассчитан на год, то лучше всего снять их и заменить новыми через одиннадцать с половиной месяцев. Не дожидаться, пока сами выйдут из строя. Тогда, мол, не будет аварий, ремонта, потери времени.
Стал Рублев так делать на практике, но контора заартачилась, заленилась, покатила на Рублева бочку: «А как экономия? Это к чему нас призывает товарищ Рублев? Списывать в утиль хорошие лампы? Разбазаривать средства? Да еще неизвестно, куда эти наши хорошие лампы потом пойдут! Может, налево?..» И хоть доказывал Рублев, что ремонт и простой стоят дороже, но его «разоблачили» и из конторы выгнали. А про его крамольные методы и вспоминать запретили. И никто не вспоминал, и по-прежнему на шнурах телефонистки работали до тех пор, пока шнуры не превращались в лохмотья и не становились совсем короткими от бесконечных обрезок. И без конца же ремонтировали реле, проводку, трубки и прочее. И лишь Митрофаныч тайно учил Зяблика, что инженер Рублев был прав. Конечно, везде всего не наменяешь, бедность кругом и всего нехватка, но там, где приборы должны в с е г д а работать как часы, там, говорил Митрофаныч, на дерьме выгадывать нечего и надо делать по-рублевски. И вообще, мол, парень этот был с головой и не сожри его Дмитрий Иваныч со своей братией, в конторе давно бы машинки сами себя чинили да еще пол мели и сидели бы здесь вместо нас две-три автоматические чучелы.
Теперь, меняя лампочки, Ваня садится, чтобы было удобнее, в полукресло министра и видит, как Просвирняк вздрагивает и озирается на Сухорукова: можно ли? Ване даже неловко за взрослого Витю: что он так боится всего?
— Ты сюда смотри, сюда! — говорит он Просвирняку. Ваня бросает лампочки в аккуратный кожаный мешочек, они еще пригодятся. Потом снова нажимает клавиш вызова, и в комнате тотчас раздается женский официальный голос:
— Междугородняя, четвертый слушает.
Это Шура.
Просвирняк опять вздрагивает, уж этого он не ожидал: что сюда так громко может вторгнуться посторонний и вольный звук. Сухоруков тоже поворачивает голову, не поворачивая корпуса, как кукла.
— Привет, Шур! — говорит Зяблик обрадованно. Он нарочно откинулся в кресле и только чуть развернулся к коммутатору, чтобы проверять, с какого расстояния лучше слышно. — Это мы тут орудуем. Как слышишь?
— А-а… — Голос Шуры сразу меняется. — А я-то удивилась: что это так рано? Вылизываете?
Митрофаныч, все еще стоя на коленях, тут же начинает квохтать, трясясь от смеха.
— Стараемся, — тут же пристраиваясь к тону Шуры, отвечает Ванечка, но вместе с тем чуть косится на Сухорукова. — А у тебя там как?
Это он проявляет участие насчет Артамонова, но Шура не успевает ответить — вступает, квохтая, Митрофаныч.
— Здоров, Сергеевна! — кричит он. — Это я! Как она, ничего? Чавой-то давно не видал тебя!
— Ничаво, — отвечает Шура в тон, — здоров, дед! Где вам видать, вы все вылизываете.
Митрофаныч совсем заходится от смеха, а Ванечка, убавляя и прибавляя громкость, спрашивает:
— А так, Шур?.. Шура, а вот так?..
Он еще продолжает выкручивать и вставлять новые лампочки в поднятую крышку коммутатора и показывает Просвирняку, чтобы тот следил, смотрел сюда, в густо забитое цветными проводами нутро аппарата, хотя ясно, что Просвирняк от волнения и страха ни бельмеса не понимает. И еще он хочет обезопасить Шуру от Сухорукова, чтобы она при нем лишнего не сморозила:
— Шур! Слышишь? Мы тут с Витей… Ну, а чем кончилось-то?
— Да ну их к черту! — говорит Шура. — Пошенкина ищут, раздуют теперь до небес… Вы бы всюду так вылизывали. — опять меняет она тон, посылая свою фразу Митрофанычу, — мы бы горя не знали!
— От дает! — восторгается Митрофаныч.
А Сухоруков хмурится, а Просвирняк втягивает голову в плечи.
— Ладно, Шур, — опять перебивает Зяблик, — дай мне на минутку Свердловск, потом Украину.
— Ну ты тоже, нашел время! — Шура сердится. — Урал забит.
— Ну на секунду!..
Аппарат работает так хорошо, что слышно дыхание Шуры, голоса Зои, Нинки, Риммы Павловны, и, пока Шура вызывает Урал, Митрофаныч квохчет, обращаясь теперь прямо к Сухорукову:
— От девка! Пальца в рот не клади! Отрежет хоть кого! Из себя тощеватая только… Да ты ее знаешь, Шуру-то, Сухоруков?..
— Ладно, ковыряйся поживей! — неожиданно грубо отвечает Сухоруков. — Некогда мне тут с вами ля-ля! Шуры, понимаешь, муры…
При этом Сухоруков бросает свою фуражку на подоконник. Бедняга Просвирняк от этого жеста, от звука стукнувшего по мрамору козырька даже бледнеет. Он так и не выпускает из рук красного провода.
— Всюду бы так-то вылизывали! — хохочет Митрофаныч. — Ну подцепит, а?
Тут снова раздается голос Шуры:
— Свердловск возьми, только быстро!
Ванечка закрывает коммутатор; Митрофаныч складывает свой чемоданчик, поднимается и отряхивает колени — будто его страшные рабочие штаны могли испачкаться о стерильный ковер. Ваня кивает ему: мол, еще минута — и все, заканчиваю.
— Свердловск? — Он чуть повышает голос. — Кто это? Ксеня? Как слышите? От министра говорю.
Пробиваясь сквозь всю страну, отдаленно, сквозь шорохи и помехи, но все-таки чисто и четко доносится нежный девичий голос, чуть медленноватый для телефонистки:
— Это не Ксения, это Марина, здравствуйте. Ксеня сменилась…
Зяблик Марину никогда не видел, но знает ее давно, и по голосу она представляется ему тоненькой, тихой девушкой. Она ему нравится по голосу, и его тон, когда он с ней, бывает, разговаривает, тут же делается особенным, Марининым, если можно так сказать, потому что, скажем, со своей девушкой Валей Зяблик говорит иначе, да и с каждой другой по-своему.
— А, Марина! — говорит он. — Здравствуй, здравствуй! — Он не замечает, как откидывается в кресле и перестает обращать внимание на окружающих. — Ты по первому каналу? А по второму тоже возьми на всякий случай… Раз, два, три…
— Очень хорошо слышу, — отвечает Марина, — и по второму тоже…
— Да-да, ясно, Марина, спасибо.
— А у нас вчера метель была, — вдруг говорит Марина, — просто небывалая, трамваи не ходят, грузовик один перевернуло…
— Да? Как это?
— Ой, а сегодня! Солнышко и все такое белое, так сверкает! — Слышно, как Марина нежно смеется, и Зяблик невольно улыбается. — А у вас? — продолжает разговор Марина.
— Нет, у нас еще… — на улыбке начинает фразу Зяблик, но тут его перебивает Шура, которой нужен канал, и он сразу видит глядящих на него, развалившегося в кресле министра, Сухорукова, Митрофаныча и Просвирняка. Причем Митрофаныч еще посмеивается, а Витя глядит удивительно похоже на Сухорукова: чуть ли не с возмущением.
— …у нас, Марина, — заканчивает Ваня, выпрямляясь, — спасибо, Марина, видишь, канал нужен…
— Хорошо, до свидания, — все так же нежно отвечает Марина, хотя понимает уже, что про метели и солнышко она начала невпопад.
— Спасибо за связь, Марина. — Зяблик в оправдание свое решил закончить процедуру проверки как полагается. — Не уходите с линии, сейчас проверим с Макеевкой — Тем самым он еще дает понять Марине, что не он виноват. — Шура, Макеевку!
— Черт, навязался еще на мою голову! — отвечает Шура, опять потешая Митрофаныча, и кричит: — Макеевка! Макеевка! Как слышите?
Она подключает Макеевку, и они разговаривают вчетвером: Марина, Ваня, Шура и телефонистка из Макеевки с сильным украинским акцентом. Слышимость отличная. Шура вдруг тоже спрашивает о погоде, и весь строгий, торжественный, с печальной тенью от шторы кабинет министра вдруг заполняет живой крик макеевской телефонистки:
— Та ну, шоб ей сказиться, ужо тий погоди! Дожжит та дожжит другу нидилю, нияк картоху с огорода не выкопаемо!
Просвирняк в полной растерянности, Сухоруков берет с подоконника фуражку и насаживает ее на голову, Митрофаныч, похохатывая, уже движется к двери, к двойному ее тамбуру. Зяблик тоже встает, закрывает чемоданчик, а женские голоса еще продолжают звучать, шуметь, звенеть, пока один щелчок ключа не обрывает их живую музыку на полуфразе.
Все в порядке, прекрасно слышно, отличный селектор у министра, можно идти.
На обратном пути испуг Просвирняка проходит; упревший от впечатлений, от волнения, даже обессиленный, он сияет влажным от пота лицом, и глаза его горят счастьем: господи, где он был! куда допущен! какие горизонты открываются в жизни!.. Вот оно, все близко, руками можно потрогать, руками!..
3
На столе Пошенкина шасси распотрошенного приемника, старые динамики, репродукторы, пахнет в каморке паяльником, жженой пластмассой и канифолью, в перевернутой крышке от стеклянной консервной банки гора окурков «Беломора»: мелкая кустарная мастерская, да и только.
Впрочем, так оно почти и есть. Леонид Степаныч слывет специалистом по радиочасти. Пусть он без образования, но опыта у него хватает. Как-нибудь, с грехом пополам, но он починит вам, может, и топорно, любую радиоштуковину, хоть нашу, хоть какую. И если кому-то в министерстве надо исправить приемник или телевизор (тогда занималась заря первых «Ленинградов» и «КВНов»), то никто, конечно, не обращается ни в какие ателье — да их и не было, — а идут на поклон к своим, местным техникам.
Таков был вообще издавна заведен порядок, не зря сохранялась министерская автономия: министерские слесари чинили по квартирам умывальники и унитазы, маляры и плотники белили потолки, циклевали паркет, стекольщики вставляли стекла, и, бывало, Митю-электрика гоняли на чью-нибудь квартиру или дачу починить выключатель или присобачить в изголовье какой-либо Марье Ивановне трофейный ночничок, купленный в комиссионке.
А что касается радио, то с этим, конечно, в контору связи. Забарахлит у какого-нибудь завотделом приемник, скажет он своей секретарше: позвоните, мол, Зиночка, в АХО Бубышкину, а то у меня дома «телефункен» не того. И Зиночка тут же позвонит Бубышкину или прямо в контору Дмитрию Иванычу: отправьте, дескать, своих хлопцев туда-то и туда-то; Дмитрий Иваныч рад стараться: чем выше просящий, тем больше нам, связистам, почета. Он тут же отдает приказ, а затем звонит Зиночке: мол, готово. А Зиночка вызывает машину своего шефа, и вот уже (не прошло и получаса) кто-либо из конторы, а чаще всего Леонид Степанович Пошенкин, глядишь, мчится в начальственной машине с чемоданчиком на коленях по городу и уже глядит с переднего сиденья на пеший люд с тем особым барственным выражением, с каким всегда глядят из автомобилей те, кто редко в автомобилях ездит.
Работы хватало и с каждым годом после воины все прибавлялось, в одиночку Пошенкин уже не справлялся и стал привлекать к этому делу то Зяблика, то бедного многодетного Изю. До конторы же, до своей главной работы, случалось, неделями не доходили руки. Да и что делать? Все сделано. С утра Леонид Степаныч прочтет (или не прочтет) сводки с периферийных отделений (где какие повреждения на линиях) и велит Зяблику передать сводки телефонисткам: «Доведите до сведения». А что доводить, когда сами же телефонистки эти сводки принимают и лучше других знают, где какие повреждения. Зяблик отнесет для порядка листочки Римме Павловне или просто бросит их в корзину, предварительно прочитав и изорвав (секретность!). Зяблик все-таки юн, романтичен, а от сводок с названиями дальних уральских, казахстанских, украинских мест — Енакиево, Днепродзержинск, Челябинск — веет заснеженными лесами, безбрежными белыми полями с вереницей черных телеграфных столбов, занесенными узкоколейками, черными домнами. Леониду Степанычу такое даже в голову не приходит. Он прочтет, значит, покрутится, покалякает еще с телефонистками, сделает кому-нибудь походя выговор — он быстрый, маленький, резкий и очень гордый, просто Наполеон, — а там уж твори что хочешь. Из-за резкости характера Пошенкин всегда с кем-нибудь в ссоре, чаще всего, как теперь из-за Просвирняка, с самим Дмитрием Иванычем, и поэтому сидеть, как другие, по кабинетам ему не приходится. От него только и слышишь: все жулики, бездельники, выскочки, подхалимы, специалиста ни одного, кроме него да Изи, во всей конторе, все недотепы, ваньки деревенские, зачем их вообще только в город пускают! Дайте тому же Дмитрию идол Иванычу схему простенького реле — разберется он? Как свинья в апельсине! Только перед начальством подхалимничать да за кресло свое держаться! А чуть что — Пошенкин! Кто министру коммутатор ставил? Кто замминистру антенну через семь балконов тянул? То-то! К черту всех! И прошу не входить!..
Пошенкин запрется в каморке и паяет, паяет, чинит, Зяблик на подхвате, а потом вдруг бросит все, выдвинет средний ящик в тумбе стола, откинется и заснет в минуту, по-наполеоновски скрестивши руки на груди. Еще дым канифоли не рассеется, а он уже спит. Устает, бедолага. А проснется — опять надо ехать, бежать, паять-чинить, и так день за днем.
Зяблик и Просвирняк сидят в каморке, Ваня на специальном станочке перематывает обмотку трансформатора для приемника, рассказывает Вите свои министерские рассказы. Витя глядит, но больше слушает. День идет к полудню, Пошенкина все нет, змея Полина уже три раза звонила, спрашивала его. Но чувствовалось: напряжение спало, работа у телефонисток идет своим чередом, близится обед и уже кого-то, слышно, снаряжают в магазин за кефиром, колбасой и булками. Телефонистки, как правило, в столовую не ходят, только, пожалуй, Нинка да Шура, но это потому, что одна дома не готовит, не обедает (да и бывает ли дома?), а другая живет за городом. Сам Артамонов, должно быть, давно позабыл утренний конфликт, тем более что Урал ему все-таки через часок дали. И при всем при том всем ясно, что так не обойдется, не положено, чтобы так обходилось, и Дмитрий Иваныч втык междугородке все же сделает.
Витю Просвирняка не оставляло давешнее возбуждение, мечты и мысли одолевали его, он жадно слушал повествование Ванечки о привычках одного замминистра, о чудачествах другого, о крутом нраве третьего, о талантах четвертого. Его интересовали главные, самые главные люди.
— Эх, образования нет! — горюет Витя. — Нету! А без образования высоко не прыгнуть!
Ванечка внимательно глядит на него, изучает: мол, как высоко ты хочешь прыгнуть?
— Учись, — говорит он Вите, — здесь работа не бей лежачего, учиться вполне можно. Ты кем хочешь?
Лицо Просвирняка живо двигается, глаза ходят туда-сюда, буря чувств его переполняет, но он лишь отмахивается:
— Кем-кем! Где уж мне, поздно!.. — И опять перекатывает, перебирает внутри свои идеи и опять сам себе отвечает: — Нет! Где там! Не допрыгнуть.
— А я закончу, диплом получу, уеду куда-нибудь, — говорит Зяблик, — не век же здесь сидеть, правда?
— Здесь? — Просвирняк не понимает: чем же здесь плохо? — Тебе диплом светит, другое дело…
Так они беседуют, обмениваются честолюбивыми мечтами, как вдруг врывается Пошенкин. Маленький, в зимнем уже рыжем полупальто на меху, с меховыми белыми отворотами, в мохнатой шапке, с набитой авоськой в одной руке, а другой прижимая к себе завернутый в газету ящик — скорее всего очередной приемник, — он проносится через диспетчерскую, как всегда стараясь, чтобы телефонистки не успели рассмотреть, что он несет, и тут же вываливает все на стол, сбрасывает полупальто, соскребает нога об ногу галоши, хватается за телефон. Ваня успевает уступить ему его место, Просвирняк, поднявшись, прилепляется спиной к стене, сразу обретя в присутствии Пошенкина виноватое, полусогнутое положение. Раздевшись, только не сняв шапку, Пошенкин вовсе делается мелким щуплым мужичишкой с маленьким личиком, с красненьким носиком. Но как садится за стол, как облокачивается, как берется за телефон! Чингисхан, да и только, в мохнатой шапке, сей миг соскочивший с коня!
Накручивая диск, он властно, быстро спрашивает Зяблика без всякого «здравствуй»:
— Ну, чего делается?.. Черт, крошки во рту с утра не было!.. (Сразу намек на столовую: не пойти ли?)
На Просвирняка даже не взглянул, Просвирняка для него не существует.
— Вроде все нормально, — отвечает Ваня.
— Мотаешь? — спрашивает его Пошенкин, кивая на сердечник трансформатора. — Мотай-мотай, завтра чтоб закончить. — Тут он дозванивается куда хотел и натужным начальственным голосом требует: — Товарища Миронера, Пошенкин говорит…
И он долго выясняет с товарищем Миронером, почему ему недоплатили — за какую-то, видимо, халтуру — девятнадцать рублей, а Ваня и Витя стоя слушают, не смея ни выйти, ни пошевелиться.
И тут дверь открывает Полина, а за нею видна фигура Риммы Павловны.
— Здрасте, Леонид Степанович, — елейно поет Полина с порога, но Пошенкин, подняв руку, дает ей знак помолчать и, еще басистее, еще сильнее насупив личико под шапкой, заявляет товарищу Миронеру, что требует немедленно выяснить, в чем дело.
— Вас к Дмитрию Иванычу, — коротко говорит, уже обидясь, Полина, когда Пошенкин кладет трубку. — Срочно.
— Какое срочно, — режет Пошенкин, — обед. Крошки во рту с утра не было.
— Вас уже три часа ищут.
— Чего? — Пошенкин грубит. — Только не надо. Я на объекте был.
Полина дергает плечиком.
— Ладно, сейчас пообедаю, приду.
— Он срочно велел, — повторяет Полина.
— Все срочно, у меня тоже срочно. — Пошенкин встает, давая понять, что вопрос исчерпан.
Полина опять ведет плечом — мол, я предупредила, вам же хуже будет — и, повернувшись, едва не толкнув Римму Павловну, удаляется.
Едва Полина отворачивается, Пошенкин опять звонит, и Римма Павловна, ступив на порог, глубоко дыша, ожидает. Ваня и Просвирняк продолжают стоять у стены. Этот сухонький гриб в шапке умеет всех держать по струнке. Римма Павловна открыла было рот, но на нее он тоже двинул ладонь: мол, закройтесь. И тут же приказывает Ване, продолжая крутить диск:
— Давай в столовую, занимай очередь…
Ваня, однако, не кидается бегом, медлит, тоже желая объяснить, что здесь случилось и зачем зовет Дмитрий Иваныч. Впрочем, он знает Пошенкина: если уж тот заартачился, отступления не будет.
Еще тянутся нелепые мгновения, пока Пошенкин крутит диск. Но вот в недрах конторы, еще неслышимый и невидимый, но ощущаемый всеми кожей, происходит некий взрыв. Волна пронизывает стены, где-то, пока далеко, хлопает первая дверь, что-то близится неотвратимое и страшное, как шаровая молния. Даже Пошенкин ощутил опасность, и палец его задерживается в какой-то миг на диске.
В каморке есть еще одна дверь в коридор, но ее обычно держат запертой на ключ и на железную задвижку, чтобы никто посторонний не дергал, не заглядывал, не мешал паять-чинить. И пол под дверью из-за тесноты скоро обрастает коробками, банками, на самой двери на вбитых гвоздях висит одежда, халаты — именно туда Пошенкин повесил, войдя, свое полупальто. Ванечка стоит сейчас ближе всех к этой двери. И он первый, слышит, как движется по коридору цунами, ревет ветер, как вихрь делает виток именно здесь, под дверью. И вот мощная рука трясет дверь за ручку с той стороны. И бьет в дверь кулаком так, что трясется каморка. И голос гудит снаружи:
— Пошенкин!
И еще чей-то голос мужской и голосок Полины. Ясно: Дмитрий Иваныч со свитой.
Римму Павловну как ветром сдувает, Ванечка кидается убирать из-под двери хлам. Просвирняк дрожит.
— Открой! Пошенкин! — гремит голос.
Ванечка кинулся убирать, но успел глянуть на своего начальника: как он? что прикажет? А Пошенкин, бросив телефон, делает Ване без суеты знак: мол, убирай, да не торопись, — и первым делом сгребает со стола разобранный приемник и сует все вниз, под стол. Ваня убирает, гремит, приговаривает: «Сейчас, сейчас». А Пошенкин без всякого для быстроты ловко пролезает под двухтумбовым столом, едва не сунувшись головой в живот Вите, — он успевает еще изобразить на лице, как ему неприятно присутствие этого Вити, но вместе с тем ладно, мол, плевать на него. И опять же на руках и гримасами показывает Ване, что ты, мол, открывай, а меня нет, я ушел, минуты две как ушел. Ваня понимает. Он уже гремит ключом в замке, задвижкой. Пошенкин еще обдергивает на себе пиджачок, приняв важный вид, и вмиг исчезает в дверях диспетчерской — там он может, не выходя в коридор, в секунду выскочить на улицу и через следующий подъезд войти в министерство снова. Мало того, он и шапку успел снять, не забылся, обнажив свою маленькую, потную, с прилипшими волосами голову. Бросил шапку на стул и исчез.
Просвирняк оторопел, Зяблик усмехнулся — он-то знает Пошенкина — и уже вполне спокойно открывает дверь. Открыл, но еще замешкался перед входящими, не дал им сразу вступить, еще что-то убирал с пола, а в дверь лезет пузом и красным, как ветчина, лицом Дмитрий Иваныч в синем костюме с жилеткой, а за ним еще начальник аккумуляторного цеха Трусов, первый подхалим, тоже толстый и кудрявый, и Полина, и маячит кто-то из монтеров, привлеченный шумом.
Дмитрий Иваныч кидает взгляд по каморке и — надо же! (тоже хорошо знает Пошенкина) — сразу дальше. Ванечку просто сносит на сторону пузом, стол сдвигает, стул с шапкой отшвыривает ногой. Тут ему на глаза попадает оторопелое лицо Вити.
— Ты — за мной! — ткнул он в него пальцем. И — дальше.
Разумеется, ворвавшись в каморку и не застав Пошенкина, Дмитрий Иваныч, будучи человеком простым, произносит еще кое-какие слова: мол, ну хорошо, Леонид Степаныч, ах вы так, Леонид Степаныч, ну погодите, Леонид Степаныч! И, покидая каморку, влетев сокрушительно в диспетчерскую, чтобы лишь пройти через нее, ни на кого не обращая внимания, не здороваясь и ничего не объясняя, он продолжает повторять все свои приветствия в адрес Пошенкина. Телефонистки аж рты раскрывают: буря!
За Дмитрием Иванычем катится толстый Трусов, а хитрая Полина, сообразив, бежит по коридору обратно, чтобы в конце перехватить Пошенкина. Но где там! Маленького Чингисханчика и след простыл!
Когда Зяблик оглядывается, в каморке уже пусто, обе двери стоят настежь, рыжая шапка и стул валяются на полу. Витя Просвирняк торопится, приволакивая ногу, через диспетчерскую вслед за Трусовым.
4
Ваня ехал в контору на трамвае, стоял в тамбуре, окна заиндевели, к ночи подморозило. Молодая кондукторша, высоко сидящая на кондукторском месте с кожаной сумкой на коленях, по-зимнему была закутана в платок и обута в валенки. Ваня наблюдал за ней: как она машинально объявляет остановки полупустому вагону, как дергает сигнальную веревку, как закрывает ударом кулака сверху двустворчатые деревянные двери, какие были тогда в старых трамваях. Он смотрел и горевал: он поссорился со своей девушкой Валей, а на носу праздник, они не договорились, как и где будут его отмечать. Ваня сердился, ему надоели Валины капризы.
Он бежал потом от остановки бегом к министерству, он уже на полчаса опаздывал (хотя ждал его один Просвирняк), и от легкого быстрого бега ему стало вроде полегче. По центру уже висели всюду плакаты, торчали развешанные дворниками флаги, мелькнула где-то горящая гирлянда лампочек. Как будет теперь с праздником? Но какой-то бес глубоко внутри радовался: ну и ладно, ну, может, и хорошо?
Каждый месяц (а перед праздниками само собой) полагалось проводить чистку и профилактический осмотр коммутатора — между прочим, тоже Рублевым был заведен порядок. Делалось это ночью, чтобы днем не мешать телефонисткам работать и чтобы они не мешали.
Просвирняк в своем длинном пальто, заложив за спину руки со шляпой, ходил по коридору, в диспетчерскую один зайти не решался.
— Чего ж ты? — суетливо бросил он на ходу Ване. — Айда, айда!
На часах было без пяти двенадцать.
В полутемной, непривычно пустой и тихой диспетчерской сидела за коммутатором одна Шура, читала книгу. Плечи ее были укутаны коричневым платком, над головой горела лампа на кронштейне, на стенде светилось всего пять-шесть лампочек. Из-за коммутатора неслось похрапыванье: там на диванчике, поджав ноги в теплых белых носках, укрывшись пальто, спала Зоя.
— Привет! — весело сказал Ваня Шуре, — С наступающим… «Три мушкетера»? — спросил он про толстую растрепанную книгу: известно было, что Шура читает только такие книги, а современные не любит.
— С наступающим! — сказал Просвирняк за спиной Вани.
Шура посмотрела на них не шевельнувшись, не изменив позы, не убрав закрывающую лицо остро подстриженную прядь, еле кивнула — на лице ее блуждало впечатление от прочитанного, и она опять погрузилась в книгу.
Ваня подмигнул Просвирняку: мол, не робей, — они прошли в каморку, разделись, закурили, и Ваня с ходу быстро стал объяснять, что нужно делать. Его настроение становилось легче и возбужденнее с каждой минутой, и подспудное чувство облегчения все усиливалось: не хочет Валя — не надо.
Начали работу. Она заключалась вот в чем: один монтер из диспетчерской посылает с коммутатора сигнал, а другой по этому сигналу (для быстроты) находит на стенде реле, снимает с него колпак-крышку и чистит контакты, попросту прокладывая между ними лист бумаги и нажимая на них. Контакты Ваня чистит сам, а Витю отрядил бегать в диспетчерскую и обратно.
Примерно через полчаса Ваня услышал — Шура что-то говорит Просвирняку, а затем послышался и голос Зои, бас ее и зевота.
— Чего там? — спросил Ваня.
— Все шутит, — сказал Витя недовольно о Шуре и даже голоса не понизил, — все, говорит, выкинуть давно пора, а не чистить… Ей бы в другом месте за такие слова…
— Не обращай, уж она у нас такая.
— Уж такая! Видно, какая…
— Тебе, что ли, что сказала?
— Мне? Нет.
Ваня работал быстро, ловко, но ему уже надоела работа, он вышел в диспетчерскую: любопытно было, что там гудит Зоя и чему смеется Шура. Зоя ходила в белых носках, потягивалась. Вокруг рта, пухлых и выпуклых со сна губ, расползлась помада. Волосы висели черными прядями вдоль лица. От платья крепко пахло перегоревшими духами. Будто дома в своей спальне, она зевала, лениво тянулась, покряхтывала. Что-то бормотала, что понимала одна Шура и чему смеялась, приговаривая со смехом:
— Да ну тя к черту!
— Зяблик! — потянула Зоя к Ване руки. — Работяга ты наш! Дня им, бедным, не хватает, гля, Шур, горят на работе!
Ваня увильнул от ее объятий, показав свои измазанные пальцы, и ответил:
— Ты тоже, гляжу, заработалась.
— Видали! — Зоя посторонилась. — Молодой еще меня учить-то!.. Кончайте тарахтеть-то, давайте чай пить. Шур, где чайник?
Чайник стоял под столиком Риммы Павловны, Зоя достала его, тут как раз вышел из каморки Просвирняк.
— Эй! — сказала ему Зоя. — Принеси-ка водички, чайку попьем, а то вы заработались у нас совсем.
Витя даже слегка испугался от такого прямого к нему и простецкого обращения; блеснув глазами, посмотрел на Ваню: мол, что это? в самом деле? и можно ли мне это? И когда Ваня кивнул, схватил чайник чуть не с восторгом и захромал, побежал в коридор, будто его за золотом послали.
— Чудной все-таки, не пойму я его, — сказала Зоя.
— И понимать нечего, — сказала Шура.
— Бросьте вы, — сказал Ваня, — нормальный человек.
— Может, его пригласим? — спросила Зоя Шуру. — Мужиков-то мало у нас.
— Еще чего! — сказала Шура.
Тут Ваню осенило: батюшки, междугородка-то тоже праздник отмечать собирается! Раньше из-за Вали он всегда отказывался — ему не хотелось, чтобы телефонистки ее видели да еще не дай бог узнали бы, какие у них отношения: в конторе всегда говорили про Ваню «дитя», «наш агнец невинный», «не надо при Зяблике», и Ване нравилось поддерживать такое мнение о себе. А по Валиному виду (Валя была толстая девушка с большими коровьими глазами) женщины живо бы все поняли, кто ему эта Валя и зачем. Сегодня же, видно, сам бог велел примкнуть к своим, тем более что ему не раз хотелось это сделать. Да еще и Витю можно приобщить, совсем хорошо.
— А вы где собираетесь? — спросил Ваня.
— Да у меня, — сказала Зоя. — С мужиков по тридцатке. А ты что? Неужели до нас снизойдешь?
Шура подняла голову, взглянула с интересом. Ваня загадочно улыбнулся.
— Вы его позовите, позовите, — сказал он про Просвирняка, — жалко же, и он, между прочим, из нашего же коллектива.
— Вот и приходи с ним, — сказала Зоя.
— И одному там делать нечего и другому, — сказала Шура, глядя на Ваню тем товарищески-строгим взглядом, каким глядела, когда они разговаривали вдвоем. — Да-да, — подтвердила она в ответ на удивленный Ванин взгляд.
— Нет-нет, это идея, я его позову! — сказала Зоя.
Шура махнула на нее рукой, но тут зазуммерил аппарат, Шура взяла ею столика трубку, сунула штеккер в гнездо, «четвертый слушает» — вышла на разговор. Зоя и Ваня стали между собой перемигиваться, и когда вбежал Просвирняк с чайником, вопрос в общем был решен, оставалось только Просвирняка спросить. Но Ваня был уверен, что Витя согласится: в Москве у него никого нет, живет за городом как приживал у родственников, куда ему деваться? И Просвирняк, когда они ему об этом сказали, действительно расплылся от счастья: такого он не ожидал.
Потом вскипел чайник, Зоя с Шурой выложили свои бутерброды с маслом и колбасой, пряники и сахар, поставили стаканы в подстаканниках и накрыли чай на столике Риммы Павловны. Зоя отошла от сна и преобразилась: причесалась, заново намазала губы, сунула ноги хоть и с растоптанные туфли, но на каблуках. Витя тоже необычайно оживился, осмелел и, когда сели пить чай, стал рассказывать смешные истории. Одна Шура глядела иронически, стягивала на груди платок, качала ногой, нога на ногу, в обрезанном своем валенке. Шура вообще не умела смеяться, ей и не шло смеяться, она издавала один насмешливый звук «хы!», и выражение у нее все равно было такое, что вот, мол, я смеюсь здесь с вами, но вообще-то мне не до смеха. Ее смех напоминал начало плача.
Зоя заливалась, качаясь на стуле и чуть не падая, басила, широко открывая рот. Ваня тоже хохотал, закрывая обеими ладонями лицо и подскакивая на табуретке. Просвирняк рассказывал, как он работал воспитателем в ремесленном училище в Днепропетровске и как ремесленники продали однажды целую партию кальсон, привезенных из прачечной, и как им на утренней линейке велели каждому снимать брюки, чтобы узнать, кто в кальсонах, а кто нет. А они нарочно спускали штаны до земли и так стояли на холоде.
Настроение у Вани сделалось прямо-таки истерически-веселым. Он еще и за Витю радовался. Да и вообще что-то было в этом: сидеть в предпраздничную ночь в маленькой компании, не спать, смеяться: лампочки мигают уютно, как на елке, чайник электрический шумит на полу, всем весело и легко друг с другом.
Но потом понемногу разговор перешел на контору, на историю с Артамоновым, с Пошенкиным, и тут сразу все было испорчено. Кто, да что, да как! Просвирняк неожиданно, явно не со своих слов, сказал, что в конторе чего не жить, тому же Леониду Степанычу, — рай! Ничего совсем делать не надо, только деньги получай, в ведомости два раза расписывайся. Шура вдруг выдала Просвирняку:
— Ну а ты-то? Ты чего сюда пришел, скажи на милость? А тебе-то нравится, не стыдно здоровому мужику тоже не делать ни черта?
Рванула Шура свою правду-матку, и совсем не по себе стало, каждому неловко и неуютно.
— Да ладно, Шур, — сказала Зоя.
— Выходит, и я бездельник? — спросил Ваня, желая защитить Витю.
Но Витя неожиданно не растерялся, а помрачнел, набычил свои надбровья, поставил твердо недопитый стакан на столик, поглядел на Шуру в упор.
— Я сюда устроиться полгода ждал, — сказал он негромко, — мне главное — в Москве прописаться. Для начала.
— Ну конечно! — Шура поглядела с торжеством. — Это и ясно! Ну-ну!
— «Ну-ну» не «ну-ну», — почти грубо ответил он, — а только вот она, — он похлопал по больной ноге, которая неловко была выставлена у него в сторону, — куда мне с ней?
— Да ладно вам! — опять сказала Зоя, тут же пожалев Витю. — Праздник не портьте!
— Сытый голодного не разумеет, — сказал Витя, — вам, москвичам, конечно, чего не жить!..
— Да ладно прибедняться! — Шура не уступала и была жестка. — На таких еще воду можно возить. Подумаешь, я сама за городом живу, полчаса на электричке.
— Ну Шур, ну ладно, ты что? — сказал с укором Зяблик.
— Да ничего, мы привыкли, — сказал Просвирняк без улыбки. — Спасибо за хлеб-соль, пошли, Вань, работать. — Он встал, чуть нарочито подтягивая больную ногу.
— Значит, по тридцатке, — сказала Зоя как о деле решенном, — а то по бутылке возьмите, да и ладно.
Просвирняк ушел вперед в каморку. Шура сидела откинувшись, еще налив себе чаю и грея стаканом руки. Ваня укоризненно стал ей делать знаки: мол, зачем ты так? Шура скривилась и отвернулась: мол, что с вами, дураками, разговаривать?
— У тебя уже все плохие, — сказал Ваня.
— А то очень хорошие.
— Ладно, иди, — сказала Ване Зоя, чувствуя, что Шуру не остановить, и Ваня пошел следом за Просвирняком.
Идиллия разрушилась, все опять принялись за работу, только теперь Зоя осталась за коммутатором, а Шура легла на диванчик, но не спала, продолжала читать. Когда Ваня заходил за чем-нибудь за коммутатор, оба делали вид, что говорить не о чем.
Но постепенно настроение к Ване вернулось прежнее, и он даже стал напевать, работая. Ночь длилась долго, вынужденное бдение наполняло голову хмельным качанием, казалось, вчерашняя ссора с Валей была давным-давно. Валя и с ней связанное засыхало на глазах, как кожура.
В пять утра, когда пошли трамваи, Ваня собрался домой, уже совсем хотелось спать. Витя оставался: ему далеко ехать, а кроме того, его, оказывается, выделили от конторы делать бумажные цветы и флажки для демонстрации: в министерстве от каждого отдела кого-то выделяли для этого. Ваня наверняка бы открутился, но Просвирняку нравилось, он готов был стараться. Он и на демонстрацию собирался, несмотря на больную ногу: никогда ведь еще не был в Москве на демонстрации.
Ваня вышел в еще темный по-ночному переулок и увидел, что асфальт припорошен первым пушистым снежком. Всюду чернели следы, раздавались голоса, в освещенный угловой подъезд дворники и вахтеры носили из грузовика с опущенным бортом охапками деревянные круглые палки: это и были палки для бумажных букетов и флажков. А с другого грузовика снимали огромные портреты членов правительства и ставили их на двух деревянных ногах у парадного. Этой операцией руководил сам Бубышкин — по переулку слышался его голос, темнела высокая его фигура в ушанке. «Завтра все-таки праздник, — подумал Ваня, — все хорошо, надо у матери тридцатку просить да ехать к Зое. И Витю с собой, пусть гуляет, не человек он, что ли?..»
5
Зоя жила далеко, на Семеновской, в маленьком деревянном домике, еще своем, но разделенном с сестрами. В ее две небольшие комнаты с прихожей и кухней вел отдельный ход со двора. Комнаты старенькие, кособокие, с низкими оконцами, уставленными геранями, но чистенькие, с крашеными полами, тесно набитые старинными вещами: комодами, стульями, огромной кроватью с пятью подушками пирамидой. Всюду по стенам коврики, салфеточки, старинные фотографии в проволочных и деревянных рамках; на комоде, покрытом вышитой кружевной дорожкой, тоже тесно от рамочек, оклеенных ракушками, от стеклянных яиц, подушечек для иголок и трофейных немецких гномиков. На низко висящей люстре звенели, переливаясь, стеклянные подвески — то и дело задевал кто-нибудь головой.
Странно, как этот старинный уют, чистота, низкие деревенские оконца не шли к бурной черномастной Зое Кармен, не зря она только и говорила: как бы сменять две свои комнаты на одну, но в центре, в современном доме, с телефоном. Как часто, привыкнув на работе к человеку и зная его, кажется, вполне, мы видим потом вдруг его мужа или жену или попадаем случайно в его дом — и открывается нечто совсем иное и человек предстает совсем в другом свете.
В первой, большой комнате, занимая ее целиком, был накрыт стол: торчали бутылки, краснел винегрет, пахло селедкой с луком, стояли на блюдечках, воздев жестяные крышки, банки с крабами и шпротами — каждый, кто входил, радостно восклицал: «Батюшки, какой стол!» В меньшей, дальней комнатке, спальне, шумели, набившись, женщины: поправляли прически, пудрились, надевали легкие туфли. Пришли почти все телефонистки, из обеих смен, кроме Риммы Павловны. Говорили, что звали Пошенкина и он вроде обещал, но не похоже, чтобы маленький Наполеончик стал встречать праздник и выпивать со своими подчиненными. Хотя гулять с начальством ему тоже не светило: ссора с Дмитрием Иванычем все углублялась.
Кроме своих, оказалась еще новая женщина, подруга Зои, тоненькая и беленькая Люся, увидев которую Зяблик, все-таки опечаленный одиночеством и образовавшейся без Вали пустотой, чуть оживился: она ему понравилась, эта Люся. Сам Ваня был очень хорош: ему шли и печаль, и светлая рубашка с галстуком, и темный пиджачок. Чистые его волосы есенинской волной украшали голову, прямо-таки летели.
Вообще-то насчет мужчин было негусто, так что приход Вани и Вити Просвирняка сильно оживил и взбудоражил женскую компанию. Кроме них, мужчины были такие: Зоин Паша (не муж, но просто Паша), весельчак и заводила; жених Саши Капитанши, долговязый капитан; муж Ольги Николаевны, самой пожилой телефонистки (ей всего сорок пять), плотный, большеголовый, в очках, — Ашотик, так она его называла. Паша был высок, здоров, занимал много места. Вокруг его продолговатой лысины клубились буйные, будто с другой головы кудри. Он уже снял пиджак, мелькал манжетами со сверкающими запонками, всех встречал, усаживал, хозяйски оглядывал стол и командовал Зоей, которая металась между столом и кухней. Оба они устроились в торце стола, когда все шумно и очень тесно уселись, и Паша первым кричал тосты, острил, обнимал Зою за плечи. Видеть этого простецкого Пашу рядом с гордячкой Зоей тоже было странновато.
Молчаливого капитана все знали давно, знали, что сло́ва от него и веселья не добиться, он как сел, так и будет сидеть и глядеть только на свою Сашуру. Но зато Сашура выступала за двоих: яркая, полная, грива соломенно-рыжая, в оранжевом, как солнце, шелковом разлетающемся платье, говорит громко, хохочет громко, бурно откидываясь от смеха на диван, размахивает голыми по локти и тоже рыжими, в веснушках руками, и рыжие золотые коронки блестят у нее во рту, а рыжие рукава летают над столом. Она пила стопку за стопкой и целовала в щеку капитана, так охватывая его за шею, что у того глаза лезли из орбит.
Ашотик в белом летнем костюме с орденскими планками на груди держался степенно, но с самого начала Ольга Николаевна стала шептать: «Ашотик, не пей, Ашотик, не пей!» — а Ашотик, не отвечая, сосредоточенно изучал бутылки, долго вчитывался в этикетки, подняв очки на лоб, исследуя сахаристость, градусы и чей разлив, и потом говорил с акцентом: «Нэт, попробуэм» — и наливал полстопочки. И пробовал, дегустировал под безнадежное: «Ашотик! Прошу! Не пей!»
Просвирняк все в том же своем пиджачке и галстуке, с немытыми волосами, уставший, как он жаловался Ване в метро, где они встретились после демонстрации, поначалу робел и угодливо улыбался на все стороны. Но та же демонстрация, видно, ошарашила его, запавшие его глаза как бы хранили, сосредоточась, впечатление увиденного праздника. Посадили Витю между веселой, нарядной, с папироской меж пальцами Нинкой и толстенькой Люсей Неваляшкой. Люся сделала завивку к вечеру, накрасила брови и губы, и ее простенькое, молодое и здоровое лицо словно бы оказалось в маске дурочки царевны. Но сама себе нравилась и чувствовала себя смело и взросло. Витя поначалу ел да помалкивал, Ваня его со своего места — он умудрился сесть возле новой Люси, хотя Нинка звала его к себе, — подбадривал, Витя в ответ кивал: мол, все нормально. Потом он выпил, зарумянился, женщины с двух сторон тормошили его, и Витя стал потешать их рассказами вполголоса, шутками, и Нинка так хохотала, что со всех сторон просили: «Чего, чего? Нам-то расскажите!»
Женщины были нарядны, возбуждены, с прическами, в платьях с подкладными, еще по военной моде, плечами, от них пахло духами и пудрой. Они давно привыкли веселиться без мужчин, так что сегодня по сравнению с иными временами мужчин оказалось даже и много, это поднимало дух. Один Паша, став за час совершенно душой общества, вызывал море восторга, легко произнося неприличные слова в своих дремучих анекдотах или делая такого рода комплименты. Все быстро пьянели, кричали наперебой, схватывались насчет конторы, поливая то Пошенкина, то Дмитрия Иваныча, то паразитку Полину. «Голосуем! — кричал Паша, стуча ножом по графину. — Кто за то, чтобы про работу больше ни-ни? Пошла она, эта работа!» Все с восторгом и криком голосовали, но через минуту снова откуда-нибудь неслось: «А Полина?.. А на АТС?.. Как им — всё, как нам…»
Странно, но Шура не шумела вместе со всеми, была строга, и красива, и значительна пуще обычного. Вместо затертой юбки, которая плоско висела на ее тощих бедрах, и безрукавки ее облегало черное узкое платье с круглым меховым воротничком под леопарда. Распущенные волосы схватывала у виска длинная перламутровая заколка, по узким губам прошлась помада. Она сидела наискосок от Вани и с иронией поглядывала на него, на его ухаживания за новенькой Люсей, которая при ближайшем рассмотрении годилась в пару Паше или Просвирняку, но никак не Зяблику. Перепадало Шуриного взгляда и самой Люсе, когда Ваня со значением с ней чокался и с небрежным лихачеством опрокидывал рюмку, — тут Люся нарочно для Шуры грозила Ване пальцем и говорила: «Не много ли вам будет, милый мальчик?» Ваня лишь усмехался гусарской усмешкой.
Вечеринка развивалась как положено. Понемногу все перемешивалось и передвигалось, Нинка первой своим заливистым голоском завела: «Ой, Самара-городок, беспокойная я…» И Витя Просвирняк тут же вдруг подхватил и начал дирижировать. Потом все вместе завели популярную в то время «Я иду не по нашей земле, просыпается хмурое утро…», но это вышло грустно, песню бросили не допев, завели другую. Потом золотая Капитанша первой вылетела танцевать, ее подхватил Паша, уже без галстука и без запонок, с засученными рукавами, они пустились в вальс на пятачке в два метра, сбивая своей общей массой всех со своего пути.
Отодвинули и разобрали стол, который был слеплен скатертью из двух столов, и все кто мог тоже пошли танцевать. Долговязый капитан пригласил Шуру, неуклюже топтался, будто нарочно задевая головой стекляшки на люстре. Но глядел только на свою Сашуру.
За столом остались Ашотик, Ольга Николаевна и Просвирняк. Ашотик продолжал говорить: «Нэт, попробуэм», но наливал теперь просто водку. Ольга Николаевна тянула свое жалобное: «Ашотик, не пей!» — а Ашотик, с очками на лбу, чокаясь с Витей, отвечал: «А я нэ пю».
Ваня был нарасхват, танцевал то с Нинкой, то с Люсей Неваляшкой, но больше всего, конечно, с новой Люсей, которая неудержимо смеялась, показывая всем, как это ей забавно, что мальчик так прилип, но сама она здесь ни при чем, пусть все видят. Но, танцуя, она так прижалась к Ване один раз и другой всем телом от колен до плеч, что Ваня попросту обалдел и все стремился в танце повторить это па.
Удалой Паша вдруг выхватил Люсю из рук Вани, закружил ее, поднял, и всем открылись ее ножки чуть не до самого зада и кружевной край белых штанишек. Тут Ваня почувствовал себя совершенно протрезвевшим, подошел к Ашотику и Вите и сказал, копируя Ашотика: «Попробуэм?» — и выпил с ними большую стопку водки.
Потом был коронный номер Зои. Расколов и пустив вразлет смоляные черные волосы ниже плеч, в красном платье, с черно-красными бусами, обвязавшись по бедрам шалью, она вышла в круг под звуки заветной испанской пластинки, изгибая нетонкий свой стан, тряся запястьями, словно на руках кастаньеты, и так вбивала каблуки в пол, что домишко дрогнул и, кажется, еще перекосился. Она страстно выкрикивала: «Хо! Хо-хо!» — а все, стоя вокруг, хлопали в такт в ладоши. Она шла все быстрей, быстрей, резко выставляя то плечо, то колено, и трещала пальцами, подняв руки над головой. Под конец она так распалилась, что вспрыгнула на табурет, отбила на нем последнюю дробь, трепеща туда-сюда поднятой юбкой, изогнулась в последний раз и под бешеные аплодисменты рухнула на подставленные руки Паши, который заметно покачнулся под тяжестью своей Кармен.
Затем, собравшись в спальне, стали играть в бутылочку, хоть и не очень взрослая это игра. Надо было крутить на полу пустую бутылку, и на кого, остановившись, укажет донышко, тот целует того, на кого укажет горлышко. Все потешались над Зябликом, видя его ревность и желание поцеловать новую Люсю, но ему никак не выпадало. Всем выпадало, как нарочно, даже Ашотику, и она, смеясь, поглядывала на Ваню, подставляла свои губы — Ашотик, обняв Люсю, поднял на лоб очки, словно опять перед ним была этикетка.
Зяблик стал подыгрывать компании — что еще оставалось делать? — и уже нарочно играл отчаяние или лез останавливать ногой бутылку. Среди смеющихся вокруг лиц Зяблик видел и лицо Шуры, разгоряченное вином и весельем, — по нему блуждала знакомая усмешка, но глаза, как и все глаза, прикованно следили за бутылкой и было в них — неужели? — ожидание и тоже желание поцелуя.
С женской стороны больше всего везло новой Люсе, а с мужской Просвирняку. Это был уже не тот Просвирняк, что в начале вечера. После того как он сам и пел, и дирижировал, и потешал народ байками, он смело гоготал, и обнимался, и целовал, например, Неваляшку просто так, без всякой бутылочки. А уж в бутылочку ему выпало перецеловать всех. Он уходил к столу пропустить полрюмки, а лишь возвращался — донышко как раз указывало на него. «О! — кричали все. — Ого-го! Опять Витя! Давай!» И Витя разошелся: обнимал крепко и целовал сильно, без шуток, так что капитан, например, когда Витя вцепился в его Сашу, даже руку протянул, чтобы остановить их. Все так и покатились со смеху. А Витя глядел королем.
И ему же выпало целовать Шуру. Та не хотела вставать с кровати, где сидела, и приняла свое неприступное выражение, но все закричали: «Нечестно! Нечестно!» — и Просвирняк, которому, видно, все одно уже было, кого целовать, в секунду сгреб Шуру в охапку, даже не поправив своих развалившихся волос. Они были одного примерно роста, по Просвирняк будто переломил Шуру в спине, сжал, схватил как клещами. Шура стала биться, упираться в Витю руками, но он не выпускал ее, и все вокруг хлопали с одобрением и кричали: «Так! Давай!» А когда выпустил, так толкнула его, что он чуть не упал. Но что сделаешь — игра.
— Дурак! — сказала Шура, чтобы скрыть злость. — Больно ведь! — Она вытирала рот и трогала губы пальцами.
Но уже опять крутилась бутылочка, народ галдел, и о Шуре забыли.
— Ты домой-то едешь? — спросила Шура уже сильно захмелевшего Ваню, беспокоясь о нем, но между ними встала Зоя: мол, куда ему, пусть тут остается. Зяблик хотел сказать Шуре, как он ее любит и уважает, бросился за нею, но Шура пропала. Исчезла и Нинка, хотя им было по пути и они договаривались вместе ехать. Как будто, чудилось Зяблику, опять пели, погасив верхний свет, пили чай — у Зяблика все плыло перед глазами. Во дворе, на морозе, стоя в снегу, он целовался, кажется, наконец всласть с новой Люсей, изо всех сил прижимая ее к себе, шаря руками, а она смеялась опять и шептала:
— С ума сошел, ты спроси Зою, сколько мне лет…
Кто уехал, кто остался, время шло к четырем. Неуемный Паша, теперь даже без рубахи, в одной майке, искал по дому заначку: сам куда-то спрятал с вечера бутылку портвейна и не мог найти. Витя спал, положив голову на стол, разметав свои махновские волосы, а прислонясь к нему, к его плечу, дремала Неваляшка, у которой за вечер ничего не осталось от кудрей и помады. Зоя возилась с бедным Зябликом, его рвало во дворе, и он плакал от стыда и беспомощности. Ашотика Ольга Николаевна увезла, они долго пробирались через маленький двор, скользя и разъезжаясь ногами по тропинкам. Зяблика умыли снегом и уложили в спальне на полу. Он не утихал, звал свою незнакомку, потом объяснял Зое про Валю: что он, мол, не виноват, он сейчас поедет к ней, найдет ее, все выяснит.
Новая Люся безмятежно спала, свернувшись калачиком, на высокой кровати поперек ее, в ногах у капитана и Капитанши, спавших в обнимку: из-под коричневого, в крупную клетку одеяла с одной стороны клубились рыжие кудри Капитанши, а с другой торчали толстые щиколотки и розово-рыжие пятки. А длинный капитан удивительно был скрыт целиком под одеялом. Лицо новенькой Люси во сне, без улыбки, открылось усталым и немолодым. Паша наконец нашел портвейн, с воплем радости разбудил Витю, и они опять выпили и стали говорить насчет того, где лучше жить: в Москве или, к примеру, в Актюбинске.
6
Полина отстукала на машинке и вывесила в коридоре приказ:
«За грубое обращение с абонентами телефонистке Латниковой А. С. объявить выговор, начальнику МТС Пошенкину Л. С. за ослабление контроля за трудовой дисциплиной поставить на вид».
Отомстил все же Дмитрий Иваныч! Такого и не ожидали. Перед праздником был приказ-поздравление, все получили премиальные, хоть и понемногу, и, казалось, случай с Артамоновым забылся. Но вот, оказывается, нет, праздники праздниками, а будни буднями.
Ваня и Шура шли из столовой по третьему этажу, только что пообедали. Шура купила кулек китайского арахиса, который продавали тогда на каждом шагу, и они давили в пальцах орехи, жевали. Зяблик галантно подставлял ладонь, чтобы Шура ссыпала ему скорлупу, и, маневрируя между курильщиками, которые сбивались вокруг стоявших по углам белых фаянсовых плевательниц, выбрасывал в них скорлупки и возвращался к Шуре, вытирая ладонь о халат. Из-за орехов не разговаривали, а мычали, перебрасывались фразами и жевали опять.
В столовую и из столовой густо шел народ, этот коридор на третьем этаже, ведущий в столовую, был самым оживленным в министерстве и, конечно, носил название Бродвей. Здесь тянулись с одной стороны частые окна (как в лоджии Рафаэля в Эрмитаже), давая много света, хоть окна и глядели во двор, но еще всегда горели высоко на потолке плафоны, а горящее среди дня электричество, которое мы призваны экономить, обязательно создает ощущение праздничной расточительности, этакого разлюли-разгула, бесконтрольности. И в самом деле, здесь курили и галдели, стоя группами возле этих самых больничных плевательниц, налитых водой, в которой мокли окурки, — взрывался даже смех, правда тут же испуганно обрываясь; здесь слонялись командированные, мотая портфелями, из которых вечно пахнет колбасой; здесь сновали — размяться, развлечься, показать себя — секретарши и молодые специалисты. Кстати, Шура в своей кацавейке и юбке, тоже молодая и высокая, между тем мало походила на этих молодых же, ее возраста женщин, которые то и дело попадались сейчас навстречу или резко их обгоняли. Это были, как правило, чистенькие, одинаково модные, накрашенные, причесанные женщины. Некоего единого же стиля была их манера здороваться друг с другом, говорить, смеяться, шутить, спешить: стержнем этого стиля была непременная оглядка на сторону в расчете на кого-то, демонстрация себя, своей новой кофточки, прически или своей стройной, красиво выставленной ноги: ну как я? как моя прическа? как я шучу? как спешу?.. Тон задавали секретарши больших начальников — эти были сдержаннее, строже, они соединялись в еще один, особый и высший клан чрезвычайно деловых, многознающих и многозначащих женщин, и их наряды, прически, моды и побрякушки отличало более высокое качество, и подавали они себя тоже соответствующим образом. Их мнение, или, точнее, один их взгляд, мог любую девицу поставить на место, возвысить или опустить, причем не в переносном, а порой и в буквальном смысле: возвысить до хорошего места и опустить до ничтожного.
Шурин наряд, Шурина пренебрежительная манера действовали на других женщин, как красная тряпка на быка, на нее оглядывались: кто такая, откуда? Те же, кто знал Шуру, старались проскочить мимо, делали вид, что не замечают, чтобы не связываться. Потому что даже ее «здрасте» звучало так: ну чего здрасте? ну здрасте, здрасте, да чего хорошего-то? Ее вообще-то, конечно, спасало, что она не на виду здесь была, а сидела себе в подвале. Но вот, видно, и до подвала дошло, до выговора в приказе.
Разговор у них и шел об этом, и Ваня старался внушить Шуре, что выговор — это чепуха, обойдется. Как всегда, находясь возле Шуры, Ваня полностью был за нее и на ее стороне и даже глядел на происходящее ее глазами. Впрочем, сам он не очень-то верил, что все так просто.
— Дурачок! — говорила и Шура. — Они меня выжить решили, непонятно, что ли? У меня ж уже был выговор, это второй. Мешает им Шура! — Она едко усмехалась и встряхивала головой, откидывая волосы назад. — Мешает, мешает! Им Просвирняк нужен.
— Дался он тебе! — тут же автоматически сказал Ваня, защищая Витю.
— А вот увидишь, увидишь, — продолжала Шура.
В самом деле, что касается Вити, то он в последнее время прямо-таки расцветал. Вечеринка у Зои особенно ему помогла: он перестал робеть, шутил с телефонистками, Неваляшка не сводила с него глаз. С Пошенкиным у него, правда, не налаживалось. Да и мудрено: после приказа, после «поставить на вид» Леонид Степаныч вовсе окрысился на весь свет и, как Ваня догадывался, плел интригу против Дмитрия Иваныча. Он приезжал рано, чтобы все видели, полупальто и шапку оставлял на вешалке в диспетчерской, тоже на виду, но с начала рабочего дня до самого обеда исчезал: то ли шустрил где-то по кабинетам, то ли просто спал, отыскав совсем укромное место. Разговаривал со всеми резко, по-наполеоновски, дверь за собою захлопывал с треском. Когда к нему входили, да еще, не дай бог, Просвирняк, шипел: «Что надо?»
Поскольку в междугородке Вите делать было по-прежнему нечего и чтобы не попасть на язык телефонисткам, и особенно Шуре, он исчезал тоже — в недрах конторы или на этажах. Обедали они все-таки с Ваней, но уже случалось, что Витя и опаздывал. «Ты где был?» — спрашивал Ваня ревниво. «Да там… это… зашел, понимаешь…» — крутил Витя, а лицо его горело возбуждением.
Уже видели его стоящим в коридоре с самим Щипковым, начальником АТС (автоматической телефонной станции для внутриминистерской связи), и даже выходящим из кабинета Дмитрия Иваныча. Где уж тут обедать с Ваней! И конечно, скажи Ваня сейчас об этих фактах Шуре, она просто бы засмеяла его: мол, я ж говорю!
Они уже подходили к большой лестнице в середине коридора, чтобы спускаться вниз. Здесь народ так и клубился — встречались и расходились, здоровались, прощались на бегу, стоя одной ногой на одной ступеньке, а другой на другой, и кто-то перевешивался через перила, и один у другого прикуривал, мешая на пути, и кто-то прицокивал на чьи-то ножки, и стоял вестибюльный гул от множества голосов. Они уже заворачивали в самый водоворот, как вдруг Шура вытянула шею, глядя поверх голов в конце коридора — не туда, откуда они пришли, от столовой, а в сторону другой лестницы («Ну! Легок на помине!»), и Ваня, потянувшись тоже, нашел среди людей фигурку Просвирняка; он спешил, хромая следом за торопливо идущим пузом вперед Трусовым.
— Наш пострел везде поспел! — радовалась Шура. — Видал? С Трусом!.. Надо же!
Толстый и кудрявый Трусов пробивал толпу, как Петр Первый на известной картине Серова, где царь идет против ветра, а вельможная свита гнется за ним, ухватившись за шляпы, — так вот и Витя жался сейчас, спешил позади дурака Трусова, будто тот и вправду царь. В самом деле, это уж было чересчур. И куда это они?
— Куда это они? — вырвалось вслух у Вани. Он приостановился, и люди стали наталкиваться на него и обходить, недовольно взглядывая.
— Да уж они найдут! — Шура увидела, что Ваня замешкался и расстроился. И тут же будто отстранила его от себя, прищурила глаза, отпуская его к ним. — А ты спроси.
— Да ладно тебе! — грубо сказал Ваня, тут же сделал шаг вперед, воссоединясь с Шурой и показывая ей это, хотя б е з Шуры он бы, конечно, остановился и спросил, куда они.
Впрочем, не успели они сойти на две-три ступеньки, как по коридору полетел крик Трусова — все головы оборачивали:
— Эй! Эй! Иван! Ваня!..
И еще через полминуты Ваня был уже выхвачен из толпы, отнят у Шуры, Трусов кричал ему, что опять в конторе ЧП, никого нет на месте, а Витя передавал Ване в руки его же, Ванин, чемоданчик, взятый Витей без спросу (вот это уже было неприятно), но якобы по приказу Трусова.
Оказалось, на совещании у Артамонова — все у того же Артамонова! — вышел из строя селектор, по которому шла связь с предприятиями Урала и Юга, а когда кинулись за помощью, в конторе не обнаружилось на месте ни одного монтера. И ни Пошенкина, ни Дмитрия Иваныча. Как узнал Ваня потом, Римма Павловна, топая в панике по конторе, нашла лишь в аккумуляторной в самом углу, у единственного окошка Трусова с Просвирняком, которые чистили на газете леща, а при приближении Риммы убрали, брякая крышкой, белый бидончик с пивом. Трусов, конечно, сказал, что его хата с краю, он в селекторах не понимает, до свидания, Римма Павловна, у нас сейчас обеденный перерыв, но Римма, напуганная Артамоновым, вовремя вспомнила про свежий приказ, пригрозила. Да и Витя, суетясь, потянул Трусова: мол, надо, что уж теперь. И направились они, собственно, в столовую искать Митрофаныча или еще кого-нибудь из монтеров.
Шура на прощание только еще прищурила глаза, бросила в рот, чтобы не сказать чего, орешки и пошла вниз но лестнице еще более насмешливая и вызывающая.
Возле кабинета Артамонова в коридоре стояло не меньше десятка мужчин, все праздно курили, в приемной тоже толклись, и в самом кабинете, где густо, как в кинозале, стояли стулья, тоже сидели, стояли, как бывает в перерыве совещания, инженеры, начальники, референты. Кто-то, конечно, копался в селекторе; половинка окна была раскрыта, и в комнату туго шел морозный воздух; за главным столом сидел совсем на вид молодой, худощавый, тонколицый человек, крутил в руке за дужку очки и разговаривал по телефону — это и был Артамонов. Говорил он негромко, строго, интеллигентно. Вдруг рассмеялся. А увидев монтеров, стал манить их к себе, не прекращая телефонного разговора, тыкать рукой с очками в селектор.
Вот это были самые любимые Ванины минуты! Пока там Трусов с фальшиво-вежливым видом пустился с Артамоновым в объяснения, пока затерялся где-то вовсе ненужный сейчас Просвирняк, пока потянулись назад в кабинет все деловые, очень занятые люди, дело которых зависело теперь и от Вани тоже, он, Ваня, ловко и быстро раскрыл чемоданчик, отстранил любителей и болельщиков и стал развинчивать, разбирать, опробовать селектор, в минуту подключась по телефону к междугородке, все быстро и легко исследуя и ища поломку.
— Ну чё там, Зяблик? — спрашивал самодовольно взявший на себя руководство операцией и потому желавший теперь отличиться Трусов.
Ваня только морщился в ответ, показывая Трусову, чтобы не лез, знал свое место.
— Зяблик? — переспросил вдруг весело Артамонов. — Есть такой в немецких сказках знаменитый рыцарь Зяблик. Не читали? — Даже Артамонов словно бы хотел подольститься к Ване. Он сказал легко несколько слов по-немецки, уже обращаясь к ближайшим участникам совещания. — Лихой был, веселый рыцарь. Поликарп фон Кирлариса.
Он снова засмеялся, и вместе с ним подобострастно засмеялся Трусов, так мотая кудрявой головой, будто он только вчера читал по-немецки про рыцаря Зяблика.
Ваня был строг, Ваня не отзывался на шутки, он один делал сейчас дело, налаживая связь, как фронтовой связист под пулями, с катушкой кабеля на спине, с автоматом в руках, зажав зубами два конца перебитого осколком провода. «Окно прикройте», — лишь попросил он коротко, и сразу несколько мужских рук потянулось выполнить его просьбу.
В селекторе просто сработался регулятор громкости — усилитель был переделан из старого приемника, — Ваня тут же узнал почерк Пошенкина: что-то закручено проволокой, что-то залеплено пластилином, там не запаяно, там недовернуто. Ерундовая поломка. Почти все опять собрались в кабинете, шел ровный гул разговора, но главное внимание уделялось Ване, хоть его и не понукали. И вот не прошло и пяти — семи минут — Ваня нажал селекторный ключ:
— Зоя, как меня слышишь?..
И уже не по телефону, а из селектора, из старой коробки, затянутой выгоревшим довоенным шелком, громко раздался густой и красивый голос Кармен:
— Слышу нормально. Кого дать?
И тут все зааплодировали. И первым Артамонов.
— Давай Свердловск, потом Макеевку, попробуем, — строго говорил Ваня, будто и не видя аплодирующих, он лишь скромно кивнул, почти не обернувшись: мол, спасибо, но почести принимать рано, я еще не закончил. Но изнутри так и распирало от гордости.
— Ай да Зяблик! — веселился Артамонов. — Вот вам и Зяблик! С меня магарыч!.. Что там, Свердловск? — Он уже нацелился на селектор. — Карабутенко? Эгей! Иван Борисович!.. Свердловск!..
Зоя соединяла Артамонова с его абонентами, в далеком Свердловске плыли и прокашливались голоса, здесь тоже оживившийся народ приготовился продолжать совещание.
— Иван Борисыч, ты? — продолжал Артамонов. — Ну, попили чайку? Мы не виноваты, извините, техника… Попили? Ну давай продолжим, мы вам еще подольем горяченького. Слышите?..
Невидимый, но судя по голосу, неторопливый и солидный Иван Борисыч отвечал невесело: «Слышу, слышу…»
И вот уже все пошло своим чередом, и в ту же секунду опять никому не нужны и не интересны стали монтеры. Отлепился от стены, суетливо заправляя на место галстук, Просвирняк — вся фигура и лицо его будто обвисли от тоскливого ожидания и ничегонеделанья. Ваня быстро складывал чемоданчик, Трусов подавал знаки: пошли. И тут Артамонов, прервав разговор по селектору, обратился к Трусову:
— Спасибо, молодцы! А вот юношу попрошу нам оставить. Как, Кирлариса? Вдруг опять что-нибудь, а? И впредь — мы обговорим это после поточнее — предлагаю обязательно на каждое такое большое совещание, которое мы ведем по селекторной связи, давать нам человека. Чтобы была гарантия.
— Лучше бы технику наладили, — сказал кто-то со стороны, — двадцатый век.
— Ну вот пока не наладят, пусть дежурят. А? — Артамонов говорил с Трусовым, а Ваню так и подмывало сказать: при чем, мол, здесь Трусов?
А Трусов, наглец, слушал и кивал с таким видом, будто именно он завтра же все это и решит. И Ване приказал:
— Да, ты оставайся, правильно требует товарищ Артамонов.
И они с Просвирняком — Витя впереди по стеночке, по стеночке, мимо густо насевшего народа — удалились, а Ваня, чуть пожав плечами, остался. Впрочем, ему нравился Артамонов и весь дух этого делового мужского собрания. Все стулья были заняты, он пристроился на низком подоконнике, от окна дуло, зато хорошо отсюда, с пятого этажа, просматривалось Зарядье, старые его проулки, закоулки, дворцы, высокие голые липы, крыши, крыши. Свинцово лежала меж набережных ноябрьская Москва-река, дымил Могэс, знакомо выгибалось Замоскворечье. Стая голубей моталась, бело сверкая, на фоне серого дыма, резво бежали по набережной игрушечные машины.
Совещание пошло быстро и энергично, Артамонов наседал, как Ваня понял, на заводы с выполнением годового плана, а заводы отвечали, что у них того нет, сего нет. Ваня некоторое время послушал, потом отвлекся, пустился в свои мечты: как он вот так же когда-нибудь, молодой и властный, как Артамонов, будет держать в руках нити всей страны, всю связь, тогда уже будут телевизоры во всю стену, видеотелефоны, техника на грани фантастики. Жалко, Валя его не видела, когда он чинил селектор. И Шура. Да, Шура… Все-таки она слишком. Ну что ей дался несчастный Просвирняк? Научится он тоже потихоньку всему. Зря, конечно, Витя вяжется с Трусовым и ему подобными, но, с другой стороны, куда ему деваться? Мы сами его отталкиваем, насмешничаем, делом не занимаем. Надо воспитывать человека. Шуре хорошо, она классный специалист, кому бы она там ни мешала, никто ее не тронет — иначе кто работать будет? Вот и режет свою правду, не боится. А Витя кто? Никто. И приходится ему подлаживаться, каждому угождать, не говорить ни «да», ни «нет»: мол, наше дело маленькое, и поумней головы есть. Шура еще только рот раскроет, а все уже замирают в опаске: что скажет? А уж что скажет или как поступит Витя-бедняга, наперед ясно. Но зато у Шуры все больше врагов, а у Вити друзей… Каких друзей? Трусовых?.. Но ничего, поживем — увидим. Надо только делу учить, делу. Что там говорит товарищ Артамонов?..
— Ваши бездельники, — четко и зло говорил, наклонясь через ручку кресла к селектору, Артамонов уже с очками на носу, — ваши бездельники не тем страшны, что бездельничают, а тем, что безделье свое стараются выдать за дело, понимаете? И путают вам всю картину!..
7
— Я им покажу! — грозил каждый день Пошенкин. — Дай только Алексей Гурьич из Гэдээра приедет! Они попляшут!
Алексей Гурьич Петров был замминистра, простецкий дядька (Ваня тут же вспомнил, как они, например, радиолу к нему ездили чинить), да вполне возможно, что и защитил бы Петров Пошенкина, — подумаешь, снять трубку и сказать тому же Бубышкину: «И что у тебя там, Бубышкин, в конторе связи? Оставь-ка этого маленького, как его?.. товарища Пошенкина… Ножонкина… да-да, Пошенкина, извини… оставьте в покое…» И все. И тут же утихли бы все бури и на другой день сидел бы себе Леонид Степаныч вместе со всеми у Дмитрия Иваныча.
А теперь? Крутится, нервничает, храбрится Наполеон, но интрига против главы конторы что-то не выходит. То Ваню пошлет на разведку — понести старые сводки: мол, в архив их сдать или нужны еще? То сам с гордым видом заскочит к Полине, бросит бумажки на стол («Отпечатайте на бланке! Срочно!»), а самого так и жжет, так и притягивает вид обитой бордовым дерматином двери Дмитрия Иваныча. А там, за дверью, еще, не дай бог, голоса, смех — это значит вся конторская элита собралась, шутки, побасенки, и, может, над ним же, Леонидом Степанычем, сейчас смеются. Или из филиалов кто приехал, украинцы или казахи, сидят, курят, заняли кожаный диван, Щипков, подрагивая ногой, верхом на валике, рассказы, анекдоты, подарки.
Дмитрий Иваныч в хорошем расположении духа сам любит порассказать, как он в молодости в Полтаве телеграфистом работал. Тогда только и слышишь: «А кавуны! Да где ж еще есть на свете такие кавуны!.. А вишня? Рубль, бывало, ведро!.. А вареники! А кавуны…»
А в конце рабочего дня, глядишь, и подымутся дружно в гости ли к кому, в шашлычную ли, и угощают, как правило, не москвичи гостей, а гости хозяев — бывает и эдакое московское хлебосольство.
И ведь Леонид Степаныч сам еще недавно сиживал на кожаном диване, хоть и спешил всегда в отличие от всех, и тоже не последним звучал его голос, и, если скидывались на бутылку, от компании не отставал. Нет, жгло, жгло наполеоновское самолюбие, не было покоя, и ничего в ум не шло, и три распотрошенных приемника уже неделю громоздились на столе. Выдвигал Пошенкин свой средний ящик, лихо бросал на него ноги, сидел, как американец, крутил зажатую в пальцах папиросу, но уж не спал, разглагольствовал, вскидывался, нервничал. Ваня видел однажды: остановил как-то Пошенкин в коридоре Щипкова — тот первый друг Дмитрию Иванычу, сам начальник, да еще высокий, вальяжный, вольный, глаза с поволокой (Митрофаныча надо послушать про похождения Щипкова!), — стоит Щипков, Пошенкина в упор не видит, папироску языком во рту перекатывает, как жвачку, и скучно ему смертельно Пошенкина слушать. (Щипков мастер выпить да гульнуть, его АТС без него хоть год будет работать, и в отличие от прочих Щипков даже не притворяется работающим: когда хочет слоняется по этажам, балагурит с секретаршами, пропадает целыми днями на казенных машинах по городу, а то и за городом. Говорят, он еще и охотник. Всегда он здоров, широк, смел, то в новом пиджаке, то в новых бурках, и пахнет от него шашлыком, водкой, свежим воздухом.)
Как слон и моська, стояли друг против друга Пошенкин со Щипковым, и жаль было глядеть на бедного Наполеонишку. Особенно когда отправился себе Щипков дальше, походя похлопав Пошенкина по плечу: мол, о’кей, Леня, времени нет, — остался Пошенкин стоять как оплеванный.
Томился Леонид Степаныч, ждал и уже не шваркал дверью, а держал ее открытой — ту, что в коридор: вдруг кто заглянет. И диспетчерскую теперь тоже насквозь не проскакивал, тая от телефонисток коробки да авоськи, — нет, останавливался, пускался в разговоры.
Пригрет был и Витя. Ваня сказал, что Просвирняк у Дмитрия Иваныча бывает (Пошенкин это и сам знал) и вроде собирается уйти от них в аккумуляторный цех или на АТС.
— Да черт с ним, кому он нужен! — закричал поначалу Пошенкин. — Пусть у них баклуши бьет!
Но, однако, когда Витя заглянул, Пошенкин задержал его; вдруг решил взяться за работу: схватился за паяльник, Ваню позвал, рукава засучил, давай, ребята! Набросился на старые телефонные аппараты, сваленные в углу, вытягивал из кучи, как курицу за лапы, и, как курицу же, принимался потрошить.
Просвирняк, ничего не понимая, сам попав как кур во щи, тем не менее старался, тоже гнулся, суетился, завесив лицо волосами, хватал невпопад то кусачки, то плоскогубцы, путая одно с другим, ожегся паяльником. Зато когда зазвонил телефон, а у Пошенкина и Вани руки оказались заняты, Просвирняк по знаку Пошенкина так проворно снял замызганную, лентой перемотанную пять раз трубку, так адъютантски-гибко подал ее, что маленький фельдмаршал чуть не запыхтел от важности и удовольствия.
Дело, впрочем, велось к простому. Когда сели перекуривать, Леонид Степаныч спросил Витю:
— Ты б хоть сказал, наконец, кем начальству-то приходишься? А то так, понимаешь, и не ведаем. — И к Ване: — А, Вань?
Леонид Степаныч вроде бы насмешничал, но вполне был мягок, и Витя прямо-таки таял от такого обращения.
— Я-то? — Он глядел ясно и преданно и готов был откреститься от Дмитрия Иваныча в секунду. — Да сказки все это! Никем! Дядька мой в Полтаве завхозом в Доме пионеров работал, а Дом пионеров рядышком с почтой был, вот они по молодости-то…
— Вон что!
— Ну конечно!
— Понятно. Кавуны.
— Кавуны, кавуны! — обрадовался Витя.
Вот она, оказывается, как отзывалась, Полтава!..
Но все-таки выходило, что не без протекции Витю устроили, дядька полтавский, значит, помог. «Помог, помог маленько», — соглашался Витя, улыбаясь счастливой улыбкой, и от полноты чувств стал рассказывать про хитрого полтавского дядьку: тот, мол, такой ловчила, до сих пор помнят, как он в войну у румына за полкабана мотоцикл выменял и в землю закопал, — ох не промах был дядька!
На что уж рассчитывал Леонид Степаныч, непонятно: что Витя сейчас же побежит к Дмитрию Иванычу, слово за него скажет? Вряд ли. И вся выгода от этого вышла опять же Вите: вот и с Пошенкиным он контакт наладил, как хорошо!
Но настал день, встрепенулся Пошенкин, расправил крылья — Петров приехал! На прием к нему, конечно, не побежишь, по телефону тоже звонить не станешь, тут как-то ловко надо, тем более что слухи, волны шли по министерству: то ли Петров с министром не поладил, то ли министр Петрову что-то сказал — никто ничего толком не знал, но что-то шелестело: Петров, Петров. Что Петров, чего Петров, но Петрова, не Тютькина склоняют — Петрова!
Ваня вспоминал, как они ехали летом к Петрову. Тот сам их захватил после работы в свою машину: мол, дочка плачет, радиола сломалась; Петров сидел впереди в просторном «ЗИСе», а Ваня с Пошенкиным сзади, боясь развалиться на располагающих к разваливанию сиденьях, торчали торчком, валясь назад при движении с места.
Тогда уже прошла мода носить, как в войну, мундиры, но Петров, генерал по званию, еще носил, и твердый ворот подпирал складки его малиновой шеи. Подобно Митрофанычу, генерал простецки, грубо и весело шутил насчет женщин.
— Уж вы-то там небось с телефонисточками своими! Знаем!..
Леонид Степаныч в таком же залихватском, на себя непохожем тоне отвечал:
— А у меня, Алексей Гурьич, своя баба имеется, зачем! У меня своя ничего!
— Своя! Свою бабу беречь надо!
Все дружно гоготали, даже шофер. Ваня смущался.
Когда поднимались в лифте, генерал подпихнул Ваню пузом — и его в покое не оставил:
— А ты чего примолк? Ишь, глазки опустил! Тоже небось немало девок перепортил, а?..
Их провели тогда в большую, всю в коврах комнату с открытой балконной дверью: они стали копаться в огромной трофейной радиоле, а через комнату на балкон и обратно все время кто-нибудь ходил: сама генеральша, высокая, с круглым мучным лицом, старая ведьма-домработница или дочка, тоже длинная и круглолицая, — ясно было, они затем ходили, чтобы монтеры чего не слямзили. Пошенкин так и кипел от этого недоверия, наполеоновская душа его оскорблена была, он швырял, ронял инструменты, не туда припаивал проводки.
Ваня думал: «дочка плачет» — девочка, а тут вертела задом лет шестнадцати тетя, крутилась перед глазами, и он представил себе, что́ генерал скажет, когда эту девку испортят, а ждать, видно, недолго осталось.
Они возились часа два, радиолу выкидывать пора было, а не чинить, о чем Пошенкин и сказал потом хозяину.
— Ну-ну, — сказал тот, — прокидаемся, чини-чини…
Дома Петров выглядел устало, сонно (или пообедал?), переоделся в пижамные штаны и старый китель без пуговиц и погон; надев очки, читал на балконе газету и задремал, вздрагивая от звуков, вылетавших из радиолы.
Потом генерал пропал в недрах большой квартиры, дочка сама принимала работу, прыгала и кружилась, вихрем поднимая юбку школьного платья, под звук фокстрота — «исполняет оркестр под управлением Эдди Рознера»!
Старая ведьма повела монтеров на кухню, где уже красовались на краю стола две налитые стопки водки (а бутылки не видно было) и лежали на тарелке цветком ровно четыре бутерброда с колбасой. Ведьма прямо-таки заглядывала им в рот, когда они выпили, бурчала недовольно. Поэтому Пошенкин взял лишь один бутерброд, нервно разорвал, разломил пополам грязными пальцами, чтобы только заесть, и, двинув бровью, приказал молча не трогать больше ничего, уходить вон. И они ушли под звуки джаза, и у лифта Пошенкин яростно плюнул на чистый кафельный пол.
Потом они еще раза два ездили туда и проклинали все на свете, потому что вертлявая дочка теперь их винила, когда радиола ломалась: что ж вы, починить как следует не можете!..
Ваня дорого бы дал, чтобы не ездить туда, и надо же! — так случилось, что не поехал. От Петрова действительно позвонили — радиола, мол, опять не работает. Пошенкин мигом собрался, «ЗИС» уже стоял в переулке, а Ваня в это время ушел в АХО получать в кладовой тряпки для протирки, бланки и нитки, — всякую мелочь, которую непременно выписывали (пусть она и копейки стоит): не самим же покупать.
Он все получил, покалякал с кладовщицей, шел не торопясь по первому цокольному этажу, кипу белых бязевых тряпок, фабричных обрезков, еще пахнущих машиной, керосином, нес узлом за спиной, остальное в левой руке в сумке из клеенки. А Пошенкин, оказывается, в это время звонил по всем телефонам, искал Ваню: срочно к Петрову, скорей, там-то мы все ему и скажем! там-то мы и выйдем в реванш!.. Но не отыскал. А Ваня шел длинным, без окон, коридором, устал и там, где коридор делает поворот и где как раз глядят на улицу два высоких красивых окна, остановился отдохнуть, сбросил узел с тряпками на подоконник. И взглянул на улицу. И увидел — батюшки! — в «ЗИС» садятся Пошенкин и Просвирняк! Вернее, один уже сел спереди, с чемоданчиком на коленях, дверцу на себя тянет, а другой, спотыкаясь, отбивая поклоны, мотая нелепо полами длинного пальто, пригнул голову в шляпе, чтобы лезть в машину. Ваня даже засмеялся про себя, глазам не веря: столь неправдоподобно было. Но нет, это они, вот прямо перед ним, чуть ниже его. И «ЗИС» Петрова. И шляпа Витина. И осанка пошенкинская. С ума сойти!
Хлопнула беззвучно — рамы в окнах двойные, стекла толстые, старинные, щели свежей рыжей замазкой зашпаклеваны, звуков не слышно, — хлопнула одна дверца, за ней вторая, Витина больная нога последней с тротуара исчезла, выстрелила машина синим дымом и пошла. Ваня прикованно глядел на красные стоп-сигналы, опираясь грудью на мешок с тряпками. Как же это?
И хотя потом Пошенкин ему все объяснил: мол, Ваня, сам виноват, не нашли, — но уже никогда не могло исчезнуть из глаз видение, как не он с Пошенкиным, а Витя Просвирняк садится в «ЗИС» замминистра и мчится чинить-паять. Пусть и не хотелось, пусть и к лучшему, что так, но все-таки как же это?
К сожалению, будто в наказание или потому, что уж полоса у Пошенкина такая шла, Петрова застать не удалось: три часа тянул Леонид Степаныч с радиолой, всю наизнанку вывернул, но хозяин допоздна не возвращался домой, и, судя по поведению домашних, что-то там действительно закипало, чувствовалось и в доме напряжение.
— Ну как ваша вчерашняя поездочка? — спросил Ваня ехидно.
Пошенкин тут же взвился, озлился, плюнул:
— Чертовы ведьмы!.. А этот тоже! Хорош! Уж не может из Гэдээра новую машину привезти!
Было ясно, что дело не выгорело. И Пошенкин опять не находил себе места.
Но зато Витя был счастлив. Как-никак ездил с Пошенкиным, помогал, а главное, вон где опять очутился, на каких высотах!
— Ну квартирка! — говорил он и закатывал глаза. — Вот квартирка! Ну и квартирка!..
Можно было ожидать, что, наладив отношения с Пошенкиным, Витя теперь прилипнет к каморке, возьмется смелее за дело, за учение. Но нет, у него уже образовались иные интересные места, куда его влекло. А что касается ученья, реле и отверток, то к этому он вовсе остыл. Между прочим, из всех приборов, с которыми Ваня его знакомил, больше всего заинтересовала Витю обыкновенная контрольная трубка. У каждого монтера есть такая трубка: трубка без телефона, со свободными контактами, чтобы можно было присоединить к аппарату, проверить слышимость или подключиться к любому номеру на стенде. Можно проверить, но можно и услышать разговор, если он идет в это время.
И раз и другой бывали случаи: Ваня заставал Просвирняка за этим делом. Ерунда, со всяким случается: подключился нечаянно и послушал немного. С полгода назад, когда еще душа в душу жили Леонид Степаныч с Дмитрием Иванычем, и не такое делали. Однажды, услышав, как Дмитрий Иваныч виртуозно песочит одного начальника филиала, Пошенкин прибежал в каморку, подключился к номеру Дмитрия Иваныча и на только что отремонтированный магнитофон, который оказался у них на столе (магнитофоны тоже еще нечасто встречались), записал всю речь Дмитрия Иваныча. Но это делалось в открытую, при свидетелях, ради шутки. Потом самого же Дмитрия Иваныча и пригласили себя послушать и ржали все дружно, все мужское население конторы, повторяя перлы начальства. Это была вещь нормальная.
Но вот когда Ваня увидел за этим делом Витю, ему это не понравилось: слишком много интереса было в Витином лице. Сидит, прижав трубку к уху плечом, на корточках, больная нога неловко выставлена и на лице веселое оживление. Один. Тайком.
— Ты что это, Виктор?
— Тихо, погоди! — Микрофон зажат ладонью.
— Да ты что, спятил? Ты это брось, не полагается!
— Тихо! — Тем не менее Витя тут же отключился, сунул трубку в карман, галстук на место заправил. — Ну сейчас Бубышкин завгару вливал!
— Ты что, с ума сошел? — Ваня смотрел на Витю во все глаза. — Ты это брось! У нас за это знаешь что! Заметят — сразу вылетишь!
— Да ну, чего ты? Я нечаянно попал, что я, не понимаю?..
— Не нечаянно, а брось!
— Да все слушают, на АТС у Щипкова, думаешь, не слушают?
— Учти.
— Да ладно. — Просвирняк вдруг убрал улыбку с лица. — Ты сам-то не треплись, лучше будет.
Вот какие ноты появились в голосе у Просвирняка. Растеряешься.
Что же касается ученья и помощи, то однажды, когда Зяблик и Витя чинили номеронабиратель, вернее Ваня чинил, а Витя смотрел, да и то смотрел лишь так, поверху, Витя на Ванино: «Смотри сюда, смотри, понял?» — отвечал тоже с неожиданной и твердой интонацией: «Да на хрен мне смотреть! Не пойму я в жисть эту механику!» И с тем швырнул отвертку и ушел. И тут опять, не первый раз в жизни, Зяблик ощутил, что ему, Зяблику, еще далеко до мира взрослых, что Просвирняк, побыв Ване товарищем совсем недолго, уходит от него в этот мир, уплывает — и не ухватишь. Конечно, им легче говорить и понимать друг друга, чего уж! Да и странно, в самом деле, чтобы такого вида человек, как Витя, в своей шляпе, бегал бы здесь на побегушках монтером, слушался Зяблика и дружил с ним, смешно. Надо приготовиться, что он уйдет, передвинется повыше. И получается, что Шура права. Но, с другой стороны, куда ему двигаться, ведь он не знает и не умеет ничего. Но не зря же он шустрит, старается, развивает бурную деятельность, это же ясно. Вот и Пошенкин ему уже не страшен.
А сам Леонид Степаныч опять сидит разглагольствует, выдвинув ящик стола и вытянув на него ножонки, курит, высоко водя рукой с папироской в воздухе: мол, я, я! я министру коммутатор, а замминистру антенну! больше никто ничего не смыслит, да тому же Дмитрию Иванычу схему реле — он как свинья в апельсине!..
Просвирняк смеется, трясет волосами, поддакивает, слушает маленького императора с таким выражением, будто тот и в самом деле всему голова. Ваня войдет, постоит и выходит: неловко.
И теперь уже не Ваню, а Просвирняка посылал Пошенкин на разведку к Дмитрию Иванычу. Глядишь, хромает Витя бегом то со сводками в руках, то еще с чем, а в кабинет к Дмитрию Иванычу входит запросто, только осклабится улыбкой в сторону Полины, а она, не отрываясь от печатания на машинке, скосит глаз и кивнет как своему, не остановясь даже для вопроса зачем и почему. А Витя, просунув сначала голову и согнувшись, заглянет — и скользь туда! Даже дверь ему пошире отворять не надо: в какую щель заглядывает, в такую и весь пройдет, как в детстве сквозь забор протискивались: если голова прошла, то и сам пройдешь.
От имени Пошенкина, с его распоряжениями стал он залетать и в диспетчерскую: «Риммочка Павловна, вот это, Риммочка Павловна, вот то… Леонид Степаныч сказал, Леонид Степаныч велел…» И вот однажды утром, заступая на дежурство, Римма Павловна вдруг принялась кричать на Люсю (все телефонистки уже были на местах, а Люся, отдежурив, уходила, покрывала голову зимним белым платком):
— Это кто ж тебе разрешил, зачем ты эти заказы трогала? Сколько вам говорить, чтоб не самовольничали!
— Чего? Чего? Где? — Люся обиженно хлопала глазами, подаваясь к Римме Павловне, которая размахивала узкими листочками. — Это мне Виктор Прокофьевич еще с вечера велел…
— Кто?
— Ну Виктор… Прокофьевич… — Люся в момент увяла под обратившимися на нее со всех сторон взглядами. — Ну этот…
Все поняли, она могла не продолжать. Римма Павловна пораженно обвела диспетчерскую взглядом, чуть руками не развела:
— Нет, вы слыхали?! Да кто он такой, твой Виктор, видали вы, Прокофьевич! Что он смыслит! Без мыла влезет везде!
— Он сказал — Леонид Степаныч велел, я думала…
— Да что ты думала! Все к черту перепутали мне!.. Виктор Прокофьевич! Слыхали? Пусть только явится, я ему скажу! В заказы еще будет лезть!.. Виктор Прокофьевич!.. Обработал дуру!
Все наконец захихикали, Люся, надув губы, отвернулась и потом, затянув наконец на шее платок, выскочила в дверь. Римма Павловна, на разные лады повторяя «Виктор Прокофьевич», еще покипела несколько минут. Шура, как ни странно, ничего не сказала, только усмехалась кривой усмешкой.
И прошло не меньше часа или того больше — все работали, забыв утренний эпизод, — как явился из коридорных своих плаваний Просвирняк. Веселый, оживленный, он словно бы спешил по важному делу, но не мог пройти мимо, чтобы не завернуть, не поздороваться, не поприветствовать всех.
— Здоровеньки булы, дивчиноньки! — смело разлетелся он с порога. — Ух, кипит работка! Дела идут, контора пишет!
Пиджак на Вите был все тот же, но рубашка уже новая и галстук, и хоть галстук опять свивался трубочкой от постоянного запихивания за борт пиджака, но выглядел еще свежо. Волосы у Вити уже не были так длинны и грязны, как прежде, а вполне нормально, лишь чуть длинновато, подстрижены в министерской парикмахерской, запах которой он и распространял вокруг. И еще на ногах поблескивали новые ботинки, толстые и крепкие, как раз для зимы.
Все как бы чуть приостановились и поглядели, ожидая, на Римму Павловну: как она сейчас его?.. Но Римме Павловне понадобилось срочно что-то писать в кипе заказов, она энергично водила ручкой, насупив брови, бормоча и пыхтя, будто и не видела Просвирняка.
— Что новенького, Риммочка Павловна? — обратился Витя уже прямо к ней.
И тут только Римма Павловна, почти краснея под взглядом телефонисток, хмуро (но не более) сказала:
— А то новенького, что зачем ты, Виктор, в заказы-то вмешиваешься? Кто Люсе-то велел?
— Что-что? — Просвирняк обеспокоился. — Заказы? Какие?.. А, вчера-то? Так это сам Дмитрий Иваныч велел. Уж вечером, Римма Павловна. Я тут задержался, вас не было, никого не было, а Дмитрий Иваныч… Между прочим, как их? Пустили? А то он спросит…
— А Люся сказала — Леонид Степаныч…
— И Леонид Степаныч в курсе, а как же! Я разве сам буду, вы что!
— Ну а зачем Дмитрий Иваныч опять в междугородку вмешивается? Прям не знаю!.. Вы только мне говорите в другой раз.
— Ну, Риммочка Павловна! О чем речь! — Просвирняк расплылся в улыбочке. — Ну разве я не знаю, кто у нас тут самый главный человек?
И тут не выдержала больше, вмешалась Шура. Повернулась на вертящемся стуле, состроила сладкую физиономию.
— Ну что вы, В и к т о р П р о к о ф ь е в и ч! Самый главный человек у нас теперь вы! Скоро, девочки, — вот попомните мои слова — мы у Виктора Прокофьевича будем спрашиваться в уборную сходить…
Просвирняк дрогнул от слов «Виктор Прокофьевич», напрягся, но тут же рассмеялся деланно:
— Шура скажет всегда! Мы простые монтеры…
— Ой, Виктор Прокофьевич! Ну зачем? Ну какой вы монтер! Вы же, как известно, простого ключа починить не можете.
Кто-то прыснул, Нинка рассмеялась заливисто.
— Ну ладно, ладно. — Это Римма Павловна примирительно забасила. — Работать давайте.
— Простого ключа починить не можете, — продолжала Шура, обращаясь теперь к подругам, — а бегать распоряжения давать — тут как тут, пожалуйста!.. Какой же монтер! — Она повернулась снова к стенду, подключая на ходу и выключая своих абонентов (как и другие), и надвинула опять наушники. — Спрашиваться, спрашиваться будем!.. Да, четвертый слушает, говорите, соединила!.. «Можно, Виктор Прокофьевич? Разрешите, Виктор Прокофьевич?..»
Просвирняк продолжал улыбаться, но уже через силу. Он затоптался на месте, нелепо суча больной ногой. Хотел что-то сказать, но уже никто на него не смотрел, перед ним были одни спины, все работали, и даже Римма Павловна, бывшая всех ближе, уткнулась в заказы. Витя покраснел, надбровья его выступили вперед, глаза запали. Он хмыкнул, хрюкнул и затопал прочь. Дверь еще не закрылась за ним, а телефонистки стали смеяться.
Шура довольно и победоносно оглядывала поле боя. Но она и не подозревала, как близка была к истине.
8
Опальное сидение замучило Пошенкина, и в конце концов нашел он себе дело. Всегда, если особенно много набиралось халтуры, Пошенкин загружал Ваню или брал его с собой. Перепадали и деньжата. Года полтора назад, когда пошла мода на коммутаторы и селекторы и Пошенкина то и дело приглашали их устанавливать, денег выходило даже и немало. Правда, работали тяжело, почти всегда ночами. В центре Москвы, в старинных узких переулках, в подворьях, в проходных дворах, в слепившихся, как торты, зданиях размещались всегда, еще с приказных, наверное, времен, учреждения: сотни, если не тысячи министерств, управлений, трестов, главков, отделов, советов, президиумов, кафедр, касс, союзов, отделений, филиалов, бухгалтерий, контор, издательств, складов, курсов. От вывесок и названий рябило в глазах. Каждый подъезд до того был залеплен вывесками всех мастей, что еле отыщешь нужную. А войдешь внутрь, под гулкие своды, на старинные лестницы, там опять вывески, указатели — поразишься: неужели столько организаций помещается в одном подъезде?.. Из всех дверей трещат машинки, входят и выходят люди, в каждом окне видны столы, столы, столы и склоненные над ними мужчины и женщины в нарукавниках, с арифмометрами, с папками, скрепками, чертежами, стаканами в подстаканниках, с электрочайниками. А еще — шкафы, шкафы, шкафы с папками. А еще — плакаты, портреты, диаграммы, стенгазеты. А теснота такая, что сами служащие еле пробираются между столами. Молоденькие курьерши в пальто внаброску выбегают на улицу, отыскивая свою машину среди скопища прилепившихся к тротуару и даже въехавших, занявших боком полтротуара из-за тесноты машин. И конечно, повсюду разрываются телефоны.
Они приходили сюда по ночам, когда это царство пустело, вымирало и вид бесконечных комнат с тесно стоящими столами, без людей, под светом уличных фонарей из голых окон был дик и фантастичен: для чего же эти здания, если никто здесь не спит по ночам?.. Их вели, вели и приводили в какой-нибудь неожиданно просторный после общей тесноты кабинет с белыми гофрированными шторами, с мягким ковром. Они волокли с собой инструменты, приборы, новый или отремонтированный, отлаженный и даже выкрашенный селектор. Накануне Пошенкин обо всем договаривался с хозяином кабинета или его хозяйственниками, и обычно бывал уже готов новенький, еще липнущий лаком телефонный столик. Ваня и Леонид Степаныч раздевались, бросая свою одежонку по мягким креслам, включали паяльник, располагались как хотели. Задача заключалась в том, чтобы отсоединить и убрать пять-шесть заполнявших стол телефонов и вместо них подключить один коммутатор. И на это уходила иногда целиком вся ночь, а то и две, если что-то не ладилось. Хорошо было идти потом по пустому городу, в черноте зимнего утра, когда о том, что настало утро, говорят только выползающие из парков пустые трамваи; в голове играет музыка бессонницы, глаза сами закрываются, горят сожженные паяльником и канифолью кончики пальцев; обещанная тридцатка, а то, глядишь, и две так и парят в голове — три, три!.. Зачет не сдан, пропущен, но Ваня заочник, простится. Зато новенький аппарат стоит на своем месте, работает, и сегодня утром его хозяин, как он ни строг и важен, будет, как мальчишка, целый день нажимать кнопки и рычажки, радоваться и забавляться игрушкой, и набегут из всех кабинетов замы и помы тоже восторгаться и завидовать. Среди дня гордо придет Пошенкин, уверенно спросит: «Ну как?» — и будет обласкан, охлопан милостливо по плечам, и некий улыбающийся человек прямо в кабинет принесет ведомость, в которой Пошенкин поставит всем на удивление свою разлетающуюся кометой наполеоновскую подпись, и человек передаст ему конвертик с деньгами. Три десятки, четыре, пять! Вдруг отвалит?.. Идет Зяблик и мечтает, сколько отдаст матери, сколько себе оставит, что купит. Тогда еще была Валя — идешь с ней в кино, хрустишь деньгой, берешь в буфете пива и шоколаду. Да, неплохие были времена.
И вдруг пожалуйста — снова нашел Пошенкин дельце. Недели за две до Нового года Леонид Степаныч позвал Ваню и сказал: есть, мол, халтура, можно заработать. «Как в том году», — сказал Пошенкин, и Ваня сразу вспомнил: тогда делали елочные гирлянды. Сначала в подарок от Дмитрия Иваныча кому-то из начальства два комплекта, потом еще двадцать два, которые Пошенкин сбывал тут же в министерстве и на стороне. И изрядно, между прочим, Ваню обжулил, врал, за какую цену продал. А лампочки и провод, кстати, Ваня выписывал на свое имя якобы для ремонта коммутатора, и красил лампочки, что было особенно трудно, тоже он.
— Ну? — сказал Пошенкин все с той же папиросой в руке и все так же праздно вытянув ноги на выдвинутый из стола ящик. — Помнишь? Давай как тогда?
— Вы Витю своего позовите, — сказал Ваня, — он же теперь у вас…
— Да ладно тебе, Витю! Тут быстро надо, времени всего ничего, а народ интересуется…
Ваню мучила не нынешняя обида на Витю, а прошлая, из-за денег, и Пошенкин, кажется, угадал это.
— Сейчас больше заработаем, они дороже теперь пойдут, понял? Ну?
Ваня еще покочевряжился немного, пока Пошенкин не сказал твердо, сколько даст с каждой гирлянды, и согласился. И к концу дня, оформив заявки, уже получал в АХО мотки провода, лампочки, паяльное олово.
На следующий вечер после работы, соблюдая осторожность, они заперлись в каморке — и понеслось! Их подпольное производство сразу вдохнуло в Пошенкина жизнь. Он ловко паял, быстро наставлял один к другому куски провода, присоединяя встык лампочки. Рукава засучены, лысина в поту, дым клубится, папироса в зубах и напевает: «Ой, Самара-городок, беспокойная я…» Ваня тут же стрижет, паяет тоже, подсчитывает вольтаж, приспосабливая к особо пышным гирляндам небольшие трансформаторы. Пришлось по всей конторе искать штепсельные вилки, на складе вдруг не оказалось.
Они увлеклись, они сидели опять чуть ли не всю ночь, а потом, потеряв бдительность, стали работать и днем. Никто не знал, чем они заняты, двери были заперты и одна и другая — открывали только по стуку или по телефонному звонку. Да и кому было ходить, отношения с конторой пока так и не наладились.
От Вити, конечно, спрятаться не удалось. Леонид Степаныч предложил и ему помогать и подзаработать. Витя радостно закивал, согласился, но как дошло до дела — не приведи бог! Зяблик успевал сделать десять лампочек, а Витя пыхтел над одной. Ему самому было неловко, и после обеда (когда они работали днем) он совсем не пришел, а вечером тоже не остался: забежал, помялся, сказал, что в кино надо, совсем забыл. Пошенкин только рукой махнул: «Ладно, нам больше достанется».
Так провкалывали они четыре дня, вошли в азарт, все кипело, в дыму и поту они делали свое такое черное и такое светлое дело: готовые гирлянды сияли по стенам, трещали коммутаторные реле, неслись песни из репродуктора, которым подпевал Пошенкин, — работа!.. Был конец дня, без десяти шесть, когда вдруг та дверь, что в коридор (Ваня сам запирал ее, он точно помнил), вдруг распахнулась настежь рывком, кто-то сказал: «Нет, открыто…» — и, они даже не успели переменить поз, в каморку, сгибаясь в дверях, вошли разом Дмитрий Иваныч, Щипков, Трусов, Митрофаныч, и еще, и еще кто-то, и по тому, как они тесно и быстро входили, было ясно: они давно выжидали под дверью.
Потом, десять раз перебирая с Леонидом Степанычем эту историю, они никак не могли понять одного: как дверь оказалась открыта? И как они в с е оказались под нею? Пусть даже делали обход, искали место для расширения АТС (как потом говорили) — но отчего вдруг ворвались? Кто открыл? Пошенкин поносил Ваню, Ваня уверял, что сам запирал.
Как бы там ни было, история кончилась плохо, особенно для Пошенкина. Еще бы, только что получить на вид, быть в ссоре с начальством — и снова так погореть! В первый момент Леонид Степаныч еще умудрился стать в позу, заявить: прошу, мол, не мешать, я выполняю срочный заказ для министра, все согласовано. Но Дмитрий Иваныч и Щипков этой туфте не поверили, им-то все ясно было с первого взгляда.
— А ну, где накладные? — шумел Дмитрий Иваныч. — А ну, кто получал материал? Ты? — И его палец уперся в Зяблика.
И пошло и пошло!
— Это, значит, я ничего не понимаю? — кричал Дмитрий Иваныч уже в недрах конторы. — Это я как свинья в апельсине? (Батюшки, ведь эти слова только при Ване и Вите говорились, больше никого не было!) Я ему покажу свинью в апельсине, калымщику! Он будет нас позорить, наш коллектив! Развинтились! Автономную какую себе республику устроили, видали! По струнке будут ходить!..
Да, пошло так пошло! Подняли накладные, ужаснулись количеству взятого со склада материала; по конторе тотчас все разнеслось и поползло дальше по этажам: «Слыхали, в нашей конторе связи? Елочные украшения, говорят, делали для всей Москвы!» Пошенкин взял бюллетень, Ваню таскали к Дмитрию Иванычу, пытали-допытывали: междугородку будто дегтем обмазали, стыд и срам. Зачем-то нужно было Дмитрию Иванычу не спустить дело на тормозах, не прикрыть, а раздувать.
— Это чтобы нас в кулак зажать, — сказала Шура, — теперь держитесь, МТС!
Рассказывали, будто Дмитрий Иваныч сам позвонил Пошенкину домой, сказал, что если тот не хочет идти под суд, пусть едет месяца на два куда-нибудь подальше, в сибирский или уральский филиал, а то и совсем уходит. Пока, мол, жив. И пока гирлянды эти не забудутся.
Речь все время шла о Пошенкине, Ваня был в стороне, вроде свидетеля или малолетка, вовлеченного в дурное дело. А ответ надо было держать вместе с Пошенкиным, он чувствовал. Хотя, не переть же тоже на рожон?..
Что-то варилось, происходило в недрах конторы: не показывался почти в диспетчерской Просвирняк, вызывали то Римму Павловну, то Капитаншу, и обе, вернувшись, не поднимали глаз, ничего не рассказывали. А Просвирняк, как оказалось, был там, у Дмитрия Иваныча, сидел на валике кожаного дивана.
Один день шел колесом, второй, что-то решалось, зрело, Пошенкину, видно, приходила крышка. На третий день Ваню вызвали в отдел кадров.
Инспектор Ниточкина Марья Сергеевна — Ваня ее хорошо знал, не раз телефоны здесь проверял, новые аппараты недавно ставили, старые меняли, — инспектор Ниточкина, еще молодая, с накрашенными губами и сверкающими сережками в ушах, попросила Ваню все рассказать, и Ваня уже в пятый, наверное, раз, потупясь, рассказывал: как делали, что, и это, мол, для своих, а еще для кого, он не знает; провода взяли столько-то, да, верно, лампочек столько-то, правильно; насчет продажи ему лично ничего не известно, денег никаких он не видел.
— А как вообще Пошенкин? — спрашивала Ниточкина, ложась грудью на стол и близко глядя на Ваню черными-пречерными глазами.
Они сидели в тесной второй комнатке отдела кадров, заставленной высокими и узкими, чуть не до потолка шкафами с наглухо закрытыми, а кое-где и запечатанными сургучом дверцами. На окне было зелено от цветов, тесно от цветочных горшков, и на столе у Ниточкиной прямо перед Ваней стоял горшочек с веселыми, растопыренными в стороны полосатыми листиками. Пока они разговаривали, на столе у Ниточкиной несколько раз звонил телефон, но трубку она не брала, а только поднимала и опускала снова. Будто оказывала уважение Ване: мол, видишь, ни с кем не хочу говорить, только тебя слушаю.
Это Ваню подкупало, и вообще Марья Сергеевна была симпатичная, улыбалась яркими губами, серьги ее сверкали, глаза блестели, и говорила она, спрашивала с участием:
— Ну как он вообще? Работы-то ведь у вас не так чтобы очень?.. А как он с вами, с коллективом?.. Вот у вас Латникова такая есть — что про нее можешь сказать?..
Ваня отвечал честно: так, мол, и так. Что знал, то и отвечал.
Но вдруг насторожился. Марья Сергеевна открыла стол, вынула простую ученическую тетрадку с желтой обложкой, ловко вырвала из ее середины двойной лист — даже не запнулась на скрепках, не порвала бумагу, — протянула и сказала:
— На, напиши.
— Что?
— Ну что рассказывал. Про Пошенкина, про всю эту историю.
— Зачем?
— Ну как, ты же рассказывал, разговор — одно, а написать — другое. На, на, пиши, чего ты боишься?
Ваня медлил, но вынужден был взять листок. Что-то тут было не так. Что-то ему не нравилось.
— Иди-ка сюда, вот, иди на мое место. — Она встала и быстро, взяв Ваню под локоть, усадила его на свой, с теплой подушечкой стул. И ручку дала. Тоже свою, теплую. — Давай-давай, быстренько. Можно с ошибками, отметку ставить не буду.
Она шутила, но Ване было не смешно, хоть он и улыбался податливо.
— Ну а что писать? — Он поглядел на Марью Сергеевну прямо: мол, что вам н а д о-т о?
— Ну как ты не понимаешь, — сказала она, — история ведь неприятная, на всех пятно. Надо отмываться. Надо выяснить, кто виноват, так? Ты виноват? Пиши. Не виноват? Докажи.
— Писать-то зачем, не понимаю, — упирался Ваня, сам не зная почему. Ему зябко стало, неуютно.
— Понимаешь, — вдруг сказала Марья Сергеевна суховато, так, что отступать уже нельзя было. — Не маленький. — И отошла к окну.
Ваня наконец увидел, что лист лежит перед ним белый, как снег, в линеечку, отливая глянцем. Что писать, как? Он в самом деле не соображал. Прошла, должно быть, минута или больше.
Марья Сергеевна напевала у окна, трогала цветы. Потом подошла к Ване со спины, будто учительница в классе над учеником, застрявшим с контрольной:
— Ну?
Он невольно сжался, оглянулся жалобно.
— Да ты что, ей-богу! Такой порядок, все пишут. — Она потеснила его в сторону, выдвинула верхний ящик своего стола (там мелькнули красная расческа, помада, круглое зеркальце и начатая пачка чая), вынула серую папку с завязками, а оттуда — пожалуйста! — кипу точно таких же, в линеечку, тетрадных листков, только измусоленных, исписанных разными почерками. Она потрясла ими у Вани перед носом:
— Видал? Пиши давай, а то скоро обед… И не говори никому. Пиши: такого-то декабря сего года… И про Латникову не забудь.
И Ваня, даже обрадовавшись подсказке, стал писать: «18 декабря сего года я был вызван своим непосредственным начальником Пошенкиным Леонидом Степановичем, который предложил мне…» — и так далее.
Потом ему не хотелось идти в контору, он слонялся по этажам, сидел у матери в столовой. А когда вернулся, не поднимал глаз и никому ничего не рассказывал.
А 28 декабря, под самый Новый год, Полина вывесила на стенку приказ:
«Тов. Пошенкина Л. С. освободить от занимаемой должности начальника МТС по собственному желанию. И. о. начальника МТС с 1 января назначить тов. Просвирняка В. П.».
Всех как обухом ударило. Одна Шура почти ликующе выкрикивала:
— А я говорила! Я что говорила? Я предупреждала!
И она смеялась своим диким, квохчущим смехом, похожим на начало плача.
Так наступал Новый год.
9
— Междугородняя, четвертый слушает!
— Два ноль шесть, возьмите Енакиево!
— Свердловск! Свердловск!
— Говорите, соединяю!
Утро, начало дня, междугородку, как всегда, разрывают на части. Знакомые города, знакомые номера, фамилии абонентов. Стучат штеккеры, крутятся диски, зуммерит коммутатор. Басит Римма Павловна, спешат телефонистки. Все как обычно и вроде ничего не переменилось. И одеколоном пахнет, и луч солнца, теперь уже февральского, заглянул в подвал и греет половицу — солнце на лето, зима на мороз.
И Ваня Зяблик так же сидит на кушеточке, учит физику, поеживается от озноба. Разве что учебник его спрятан в корку от «Справочника монтера», а на полу у ног разложен чемоданчик с инструментами — в любую минуту можно опуститься на колени за коммутатором и изобразить трудовой процесс.
Все по-прежнему, только настроение, например, у того же Вани препоганое, делать ничего не хочется, опротивели ключи, реле, трубки, все одно и то же. И появилась у него усмешечка, какой раньше не замечалось. «Все зола», — любит он теперь повторять, схватив это выражение у Нинки, которая как всегда, если не больше, налетает при встрече на Ваню и целует его при всех в губы. Скрыться Ване теперь некуда. Начальник МТС Просвирняк Виктор Прокофьевич превратил каморку в маленький кабинет. Исчезли со стола приборы, шасси приемников, грязные тряпки и паяльники, шкаф вместе со всем хламом вынесли в коридор. Стол покрыт зеленой плотной бумагой, на нем стоит эбонитовая изогнутая лампа, стакан с отточенными карандашами, чернеет цифрами перекидной календарь. Телефон. Папка для сводок. В каморке чисто, даже уютно, перед столом появилось низковатое, коричневой кожи, явно трофейного происхождения облезлое кресло. А на стене плакат «Мир, труд, май!», пониже — зеркало, в которое обязательно глядится Виктор Прокофьевич, когда входит в каморку и когда выходит.
Ване при всей его любви к аккуратности прибранный вид каморки неприятен. И находиться в ней тяжело. Будто здесь убили кого-то и потом все чисто вымыли. А ведь поначалу Витя ничего не трогал, упаси бог! Он вообще делал вид, что страшно удивлен своим назначением, сам над ним посмеивался, пожимал плечами. В каморку входил бочком, на стул Пошенкина не садился. Распоряжений никаких не давал: «Что вы, Риммочка Павловна! Вы сами все лучше меня знаете!» Но вот зашел однажды Дмитрий Иваныч, оглядел междугородку, справился, как дела, и потом, после его визита, Витя, словно извиняясь, сообщил: «Начальство велело марафет навести, генеральную уборку. Давай, Вань, займемся…» Леонид Степаныч все обещает прийти забрать вещички, но что-то не идет.
Потом появился первый Витин приказ — насчет дисциплины: запрет отлучаться в рабочее время, спать, вязать, читать и так далее. И он опять пожимал плечами, разводил руками: «Начальство требует». Но, однако, сам с утра до вечера находился теперь на месте. Раз — и вошел, раз — вышел, опять вошел. И уже не посидишь, не полежишь на кушеточке, не помчишься вдруг за булочками и колбасой или в галантерею на углу, неудобно. «Давайте не будем, девочки, начальство и так нами недовольно…» Начальство, начальство! Чего только не делается от имени начальства!..
С прибавкой зарплаты Витя купил новый серый костюм, хоть и недорогой, но импортный — пиджак в талию, широкие брюки, — а вместо своей вокзальной шляпы белую заячью шапку. Чуть округлевшее и розовое с холода лицо его глядит из-под шапки с энергией и скрытым восторгом. Он вроде бы меньше хромает, меньше отбивает поклоны. Нельзя сказать, что у него вид всего достигшего человека, нет, он движется, он целеустремлен, и с одного взгляда ясно, что у него все впереди.
И телефонистки и Ваня слышат, когда он входит и выходит, — смолкает смех, обрывается разговор. Ваня напрягается, он ждет, что Витя должен и с ним что-то сделать, сказать, тоже давно назрело.
Между прочим, вскоре после назначения Просвирняка ушла из конторы Люся Неваляшка. То была счастливая, оживленная, то вдруг погасла, похудела, заболела. То она провожала Витю сияющими взглядами, краснела, хотя сам Витя никак не выделял ее среди других (на людях, во всяком случае). А то вдруг плакала, глядела тупо и испуганно. Поговаривали, что она делала аборт. Шура с Зоей ездили к ней домой навещать, но даже им Неваляшка ни в чем не призналась. А когда выписалась, подала заявление об уходе и перевелась на телеграф. На ее место взяли ученицей толстенькую девчонку Наташку после восьмого класса, эта старается изо всех сил, как сядет, так может и просидеть весь день на месте вроде Риммы Павловны. Но с веселой Неваляшкой ее не сравнить.
Ване слышно, как опять схватилась с кем-то Шура.
— Что я, нарочно, что ли? — кричит она. — Два канала сегодня на повреждении, вам понятно?.. Сами не морочьте!.. Ну и вы не грубите!
У Шуры тоже нервишки сдают в последнее время: все ей не так, каждая мелочь выводит из себя. Чуть тронь — она тут же бросается в бой, стреляя сразу из всех пушек.
— Шура! Шура! — останавливает ее Римма Павловна.
— Да пошли они все к черту! Нате! Сами с ними говорите!
Шура так перебрасывает штеккер из гнезда в гнездо, что коммутатор содрогается. Слышно, как в разговор с абонентом вступает Римма Павловна. И вдруг резко понижает голос — открылась дверь, видимо появился Просвирняк.
Эх, тут разве чего выучишь!..
В самом деле пришел Витя. Он заглядывает за коммутатор, качает головой, глядя в учебник, потом кивает: зайди, мол, ко мне. Вид у Вити сегодня строгий, озабоченный, под мышкой папка с бумагами. Ваня выбирается из-за коммутатора, проходит мимо Шуры, ждет от нее взгляда или слова. Но Шура погружена в работу, со злостью переключает номера.
Просвирняк начинает сразу, еще только усаживаясь за стол, поглядев в зеркало, спиной к Ване:
— Слушай, я ведь тебе говорил, что ты нарываешься-то? Мне же не жалко, читай себе, но если кто зайдет? Чего ты здесь-то не сидишь? Вот кресло… (Врет! Ему не нравится, когда Ваня здесь сидит. Да и Ваня не может теперь здесь — как ему объяснишь?) Да и порядок нарушаешь, понимаешь? Бабы же наши суки, сами же приходят ко мне и жалуются: одним можно, а другим нельзя! (Врет! Никто из них сроду такого не скажет!) Разлагающе действуешь, понимаешь?..
Ваня стоит и слушает, потупившись. На Просвирняка глаза не поднимаются. Вот лампа, вот календарь. Вот пальцы Вити барабанят по столу. «А, все зола!» — думает Ваня и говорит:
— Ты сам приказал: дежурному монтеру не отлучаться никуда.
— Правильно. Ну и что?
— А что мне делать-то?
— Здрасте! Найди себе работу. Мало дел?.. Не в читальне же! Мне же шею-то мылят, не тебе…
Он все хочет доказать, что он ни при чем — начальство!
— Да что они, не видели, что я читаю? Я всегда здесь…
— Не знаю! — рубит Просвирняк. — Не знаю, что всегда, а сейчас… — Он морщится, делает вид, что еще вспомнил нечто неприятное. — И вот что, я все забываю… Ты бы меня при всех-то… не называл… ну… понимаешь?..
Ваня сразу понял: это он не хочет, чтобы его по имени и на «ты». Ну Витя! Вон чего захотел! Быстро! А потом захочешь, чтобы тех, кто тебя на «ты», кто тебя поначалу видел, вовсе не осталось рядом, — так, что ли? Таких, как Наташка новенькая, подберешь? Чтобы вполне легко произносили «Виктор Прокофьевич», других слов не знали?
— Ну понимаешь? — говорит Витя и смотрит прямо, на секунду подняв глаза.
Ваня видит этот требовательный, без сомнений взгляд: Витя вроде бы просит, не так ли? Но это не просьба, это приказ: на «ты» его больше не называть. Ваня пожимает плечами, держится независимо: мол, пожалуйста, если тебе надо. Но и сам знает, что так отныне и будет. Ему зябко.
Тут звонит телефон. Витя берет трубку — кстати, аппарат здесь теперь самый новенький, модерн, — и лицо его изображает сначала изумление, потом недоверие, потом радость. Но вот он хмурится, делает Ване знак, чтобы вышел, да побыстрее. Ваня вразвалочку поворачивается, не торопится — зола! И успевает услышать:
— Все-таки получил свое! Правильно! Так тебе, Артамоша!..
Ваня почему-то уверен, что Просвирняк говорит со Щипковым, с которым он теперь сдружился, — не с Трусовым (через этого он уже переступил), не с Дмитрием Иванычем (которого они со Щипковым, кажется, тоже стали подкапывать), а именно со Щипковым. И тот сообщает Вите им обоим понятную и приятную новость про Артамонова. Артамоша — не иначе как он. Им приятную, а для Артамонова, надо думать, плохую. Ай да Витя! Уже и судьба таких людей, как Артамонов, занимает его.
Больше услышать ничего не удается. Ваня выходит в диспетчерскую и стоит некоторое время среди комнаты, ежась и думая: что делать, куда податься? Делать нечего и отлучаться не смей. Нет, это не пойдет. Зола. Пора рвать когти из нашей милой конторы. Так и учиться не дадут с новыми-то порядками.
Надо бы рассказать Шуре, потешить ее: мол, Витя требует теперь его на «вы» называть. Но у Шуры такое злое лицо — подступаться неохота.
Ваня садится под вешалку на нижнюю доску, на любимое свое место. Но теперь он сидит так, будто присел ботинок зашнуровать, и даже распускает шнурок, выставив ногу. За вешалкой висит беленький репродуктор. Ваня включает радио погромче, чтобы ему одному было слышно, и удачно попадает: на детскую передачу. Вот так и сидеть здесь теперь со шнурком, пока не прогонят. Глупо, да что поделаешь?
Но сидит он недолго. Не проходит и пяти минут, как из каморки вылетает Просвирняк. Галстук за борт пиджака заправляет, поклоны бьет, волнуется. И сразу к Шуре:
— Что же ты делаешь опять, а?.. Римма Павловна, вы в курсе? Почему Орлову не дали?.. Нет, хватит!
Все замирают на мгновенье, ничего не понимают: кто это? на кого это? Шура разгибается и садится прямо на своем табурете удивленная. А Просвирняк — надо же! — почти перед ее носом трясет пальцем, бледный от собственной смелости, и повторяет:
— Да, хватит! Понимаешь, хватит!..
Шуре стыдно, краска выступает на ее щеки: дожила, Просвирняк кричит на нее. Ваня Зяблик тоже холодеет от неожиданности и не верит, что может такое быть: он и за Витю переживает, как тот отважился, и за Шуру, за ее почти позор. Он стоит у Вити за спиной, успев выключить радио.
— Минуточку, — вдруг говорит Шура насмешливо и нараспев: молодец, она, кажется, сумела собраться. — Полегче, полегче на поворотах!
Но и Просвирняк закусил удила: взяв первое препятствие, дальше пошел смелее.
— Хватит, говорю! И шуточек тоже! Бросать пора шуточки! Вы что, не знаете, кто такой Орлов? (Это ко всем обращение.) А на тебя если еще хоть одна жалоба!.. Если еще…
— Минуточку! — повторяет Шура. — Кто Орлов-то, мы знаем! — Она тоже разворачивается ко всем. — А вот кто ты такой, а? — Шура пытается засмеяться своим неестественным смехом, но и у нее не получается и другие не смеются. — Посмотрите на него, каков!..
— Хватит! — с новой, без крика силой повторяет Просвирняк, наступая на Шуру. Надбровья его багровеют, рука так и скребет по галстуку. Кажется, он сейчас затопает или даже даст Шуре по башке. Нет, сдерживается. — А ну!.. А ну зайди… Зайдите ко мне!
Шура смеется: хы, хы, гм!..
— Я говорю: зайдите!
— Куда, Виктор Прокофьевич? Извините, у меня каналы!
На ее стенде за это время действительно замигало пять-шесть новых огоньков-вызовов, и Шура, поправив наушники, нажимает ключ:
— Да-да, на линии, извините, беру!.. Два четырнадцать, возьмите сорок восьмой! «Днепросталь»! Соединяю!..
Она пожимает плечами, издеваясь: мол, рада бы, Виктор Прокофьевич, да дел много. Но Витя взбеленился:
— Я сказал!.. Я вам!.. Так?.. Ну вот!.. Я отстраняю вас от работы! — выпаливает он, может быть, неожиданно и для себя самого. — Да!.. Отстраняю!.. Римма Павловна! Я отстраняю ее от работы!..
Римма Павловна, тоже в наушниках, ужав голову в толстые плечи, изо всех сил пишет, ничего не видит, ничего не слышит.
И тут Шура делает брезгливый жест рукой, будто отбрасывая от себя Витю: мол, ступай, дурак, надоел.
Кажется, Вите провалиться бы на месте, но нет, он вдруг изо всех сил бьет кулачищем по столику возле Шуры и ревет, уже не на шутку пугая всех:
— Отстраняю!
Ошеломление. Пауза. Шура испуганно отклоняется.
Просвирняк, сжав рот, крутанувшись на месте, выходит вон, еще ударив из всей силы и дверью, — он идет не в каморку, а наружу, не иначе как к Дмитрию Иванычу. Круто. Не к добру.
Все начинают лихорадочно работать. Стараются не глядеть на Шуру. После такого удара они чувствуют себя не телефонистками, не служащими конторы связи, а просто женщинами, беззащитными и хрупкими. А Зяблик превращается в тонкого мальчика, студентика с девичьим личиком. Всем стыдно друг друга, боязно.
Шура сидит потрясенная, волосы ее висят вдоль щек как неживые. Ухмылка плавает на ее губах, но обмануть никого не может: Шура тоже из героини местного значения превращается в бледную, некрасивую, нелепую женщину, которая, может быть, никому здесь и не нужна. Она снимает наушники и, опершись локтем о столик, зажимает лоб над глазами рукой.
Зяблик делает шажок к ней, шаг участия; Зоя Кармен, ее соседка по коммутатору, тоже протягивает руку, дотрагивается до Шуры: мол, плюнь. Шура не реагирует.
И в это время Римма Павловна, пыхтя в своих наушниках, басит:
— Так, еще новость. Слышите? Артамонова сняли.
Все понимают, что творится сейчас там, в глубине конторы, в кабинете Дмитрия Иваныча. Обстановка накалена, всего можно ждать. Да и Шуру знают тоже: сейчас и она способна на все. Теперь телефонистки оборачиваются к Римме Павловне: неужели? вот так новость! Месяца два говорили, что снимают Петрова, а Артамонова прочат на его место, а тут нате вам, все наоборот. Даже не верится.
— Артамонова? — говорит за всех Зяблик. Вон, значит, о чем шла речь у Вити со Щипковым! Чему же они радовались? Неужели Петров для них лучше? С той встречи на совещании Артамонов стал для Вани чем-то вроде идеала. — Шура, ты слышишь? Артамонова.
Ваня еще желает и отвлечь Шуру этой новостью, вывести ее из ее состояния. И Шура понимающе усмехается, будто ей тоже что-то открылось насчет Артамонова, которого она не жалует.
В этот момент дверь открывается, в нее всовывается недовольная рожа Полины, ее перекрашенные, торчком в разные стороны редкие волосы.
— Латникова! — Голосом, не терпящим возражений: — К Дмитри Иванычу! Срочно!
И скрывается. Мол, это не обсуждается.
Все вновь глядят на Шуру (а работа между тем идет: наконечники стучат, и голоса разливаются, и вспыхивают и гаснут лампочки): что она? может, не ходить бы лучше?
Но Шура распрямляется, растет на своем табурете, разводит в стороны плечи.
— Ну ладно! — говорит она. — Так — так так!
Она сошвыривает с ног коты и нашаривает ногами туфли. Спрыгивает с табурета и твердо становится на каблуки. Вертит ногой, поправляя не вошедшую на место пятку.
— Ладно! Сейчас я им покажу!
Она еще снимает кацавейку и обивает ладонью, поплевав, юбку.
— Я им все скажу! — Она кивает Зое, чтобы та взяла ее каналы на себя. — Надоели они со своим бл…!
Она встряхивает головой, поправляя распавшиеся волосы, и перекалывает заколку над ухом. Она собирается как в разведку, как солдат в бой или водолаз под воду, и все глядят на нее как на уходящего бойца.
— Брось, Шур, не заводись, — говорит вслух Зоя.
Но Шурино лицо, делаясь все озареннее и свободнее, отвечает: нет! хватит!
Другие гомонят тоже: «Шура, брось!.. Александра!.. Не выдумывай!..»
Но Шура крутит головой и улыбается почти с радостью: нет, милые мои, нет! И ясно, что ее уже не остановить.
10
Они встретились с Шурой случайно летом, у Курского вокзала. Был конец рабочего дня, начало седьмого, народ валом валил из метро, из автобусов, летняя толпа наполняла пригородные перроны — где тут кого увидишь! — а они вдруг встретились носом к носу, Шура в сереньком льняном платье, в авоське батон, а Зяблик в тенниске: сама рубашка голубая, а воротник и рукавчики белые. Под мышкой книжка, Тургенев.
— Ваня!..
— Шура!..
Загорелый и тоненький Зяблик глядел юно и весело, а Шура, когда прошло первое оживление встречи, показалась Ване усталой, лицо серое. За те несколько месяцев, что они не виделись, она, прямо сказать, не похорошела.
— Я в метро теперь работаю на связи, в подземке, чего ты хочешь, — объяснила она Зяблику, когда он справился насчет здоровья. — И в отпуске год не была. Да я никогда не беру, вспомни, я ж и без того вроде на даче… Слушай, поедем ко мне, хочешь? У нас сейчас клубника. Есть некому. Поехали, я тебя клубникой накормлю.
Ваня прикинул: вечер был свободный, а у Шуры он никогда, между прочим, не бывал и не представлял себе, как она живет. Он видел: ей на самом деле охота, чтобы он поехал. Видно, скучновато живет. Да и интересно: вспомнить, разузнать обо всех, где кто. А если судить по-старому, то и почетно: сама Шура в гости зовет.
— А, поехали!..
Чудно́ немного ни с того ни с сего к ней ехать. Но ведь в юности только так и бывает: «Айда?» — «Айда!»
И они поехали.
Электричка была битком, сесть негде, в проходах тоже плотно стояли. Все багажные из металлических прутьев полки забиты, крюки у окон увешаны толстобокими сумками. Душно, еще солнце печет, вагон мотает. Их с Шурой разнесло между толпой, между ними оказались три человека, не поговорить. Они только поглядывали друг на друга, улыбались, уже вспоминая одно и то же. Какой-то толстячок в рубашке-сеточке, с чемоданчиком пер через вагон, всех расталкивая, протискивался — там пролезал, где, кажется, и нельзя. Тут Шура не выдержала, крикнула Ване:
— Как Просвирняк!
Ваня закивал в ответ, засмеялся. Пассажиры оглядели их, связав вместе, и опять отвернулись, трясясь в такт ходко бегущему поезду.
Потом они шли по дачному поселку, еще вблизи от железной дороги, но уже дачной длинной улицей, аллеей, под старыми тополями. Неужели Шура ходит здесь изо дня в день всю свою жизнь? Да, так она говорила.
За тополями вдоль аллеи стояли красивые дачи за разномастными заборами, но Шура вела Ваню все дальше и дальше. Потом дачи кончились, начался небольшой поселок. Тут расположились барачного типа двухэтажные дома, очень старые, густо заселенные, но не безобразные и грязные, какими бывают обычно такие дома, а, наоборот, симпатичные: за долгие годы они обросли палисадниками, огородиками, деревьями. Пристроенные терраски заплело диким виноградом и вьюном. За домами тянулись клубничные грядки, действительно красные от ягод, зеленели огороды. За огородами стоял чистый березовый лес.
Шурина квартира, две комнатки и терраса, находилась на втором этаже, туда надо было подниматься по деревянной крутой лестнице. Она громко скрипела, на нее падало солнце, и чистые ступени желто светились. В комнатках тоже сияла чистота, стояла металлическая кровать с блестящими шарами и голубыми бантами. На старом буфете блестел самовар, на выцветших обоях висели выцветшие фотографические портреты в деревянных рамочках. Вот уж непохоже на Шуру. Шура живет!
Появились старички, Шурины дед и бабка (оказывается, она с ними всю жизнь прожила, без родителей), тоже чистенькие и приятные, белоголовые, совсем старые. На Шуру глядели с обожанием, на Ваню с лаской. Опять же совсем непохожие на Шуру люди.
Здесь террасу тоже заплело вьюном так густо, что открывалось лишь одно окно; Ваня сел на подоконник, глядел на недалекий красивый лес. Шура переоделась, торопясь засветло накормить Ваню клубникой прямо с грядки. А еще раньше пообедать. Переоделась она в кофточку в рукавами и в старую, знакомую Ване защитную юбку.
От этой юбки и пошли они опять вспоминать контору — уже говорили о ней, пока шли от станции, и, собирая клубнику, тоже говорили. Вокруг в бараках на неогороженном пространстве дворов, на грядках, на огородах набиралось все больше после работы людей, дети гомонили со всех сторон, в сараюшки хозяйки загоняли кур и гусей, с детьми бегали собаки, выгибались на карнизах кошки — все кипело и жило кругом. Народ с интересом поглядывал на незнакомого Ваню, здоровался с Шурой, и Ваня заметил, что Шура понемногу словно бы утихает и лицо ее разглаживается от усталости.
Шура хоть и ушла давно, а конторские новости знала. А Зяблик совсем не знал: мать его перевелась из министерской столовой в другую, заходить туда стало не к кому. Сам он уволился еще в марте. Шура рассказывала, что в конторе почти все по-старому, только Зоя перевелась на другую работу да Капитанша вышла наконец замуж за своего капитана и уехала с ним на Дальний Восток. Просвирняк так и укрепился на междугородке, даже в месткоме теперь, а Пошенкин исчез. Дмитрий Иваныч еще на месте, но упорно говорят, что его скоро сменит Щипков.
— Да ну их! — Шура махнула в конце концов рукой. — Противно.
Они прошли березовым лесом до самого шоссе и по нему уже почти в темноте возвращались обратно. Ваня хотел сразу идти на станцию, но Шура не отпускала его, и Зяблик, как всегда, поддался чужому уговору.
Пришлось ему оставаться ночевать. Спал он на террасе на жестком топчане, который, как Ваня понял, был Шуриной постелью. Он заснул быстро, потом проснулся — то ли от шорохов природы, то ли от непривычной деревенской тишины. И подумал: зачем Шура его зазвала, почему? Неужели так и живет с этими божьими одуванчиками и больше нет у нее никого? Ваня прислушивался, ему казалось — кто-то ходит. Но нет, все спали, только на первом этаже заорал было грудной ребенок, которому тут же заткнули рот соской. Ваня невольно вспоминал опять контору, Митрофаныча, весь их важный дом, похожий на корабль. Шура не ужилась там, а Просвирняк ужился. Вот черт, он забыл спросить, а что же с Артамоновым. Что с ним-то сталось? Не забыть бы утром. А с другой стороны, какое Ване дело до Артамонова, до всего этого? Он работал теперь в одном большом научном институте, тоже на АТС, и уже закидывал удочки, чтобы остаться потом, после института, там инженером. Бог с ним, с прошлым, с прозвищем Зяблик, даже с Шурой. Все это минуло, не вернется. Зола.
С тем Зяблик и уснул.
А утром поднялись рано — и Ване и Шуре надо было на работу. Раннее солнце уже пылало, ветра не было, густые плети вьюна лежали плотно, и утренним лучам никак было не пробиться сквозь них.
Шура вышла легкая и свежая, во вчерашнем платье, но, видимо, выстиранном и выглаженном. Она весело подгоняла Ваню, приносила ему пахнущее воздухом полотенце. Опять появились и тихо двигались ласковые белые старики с добрыми утренними улыбками. В рабочем доме тоже все вставали, ходили, делали зарядку, гремело радио, а вдали уже неслись, шумели электрички.
Опять сидели за столом, пили, уже торопясь, чай, и не из самовара, а из чайника. Пчелы одна за другой влетали с деловым жужжаньем в солнечное окно и садились на край чашки со свежим клубничным вареньем. Они изо всех сил трудились, снуя лапками, хоботками, крылышками, тычась в варенье, и на глазах набухали, ухватив даровой взяток. Потом поднимались тяжело, как чересчур нагруженные самолеты, и неспешно вылетали назад в окно. Никто их не гнал, не боялся, не бегал с полотенцем, махая на все стороны. Старик еще взял ложку и помазал края побольше, чтобы пчелам было легче пить, чтобы не лезли в гущину и не топли. Лицо у деда и для пчел было ласковое.
Зяблик побаивался пчел, но держался, как все. Разок только вдруг поперхнулся, когда пчела задела его прямо по носу, и все трое с одинаковыми лицами, Шура и старики, глядели на него: что с ним? Готовы были тут же помочь.
Потом вдали сказали по радио точное время. Ваня с Шурой подхватились, побежали на станцию, уехали, распрощались на той же «Курской»: «Заходи, звони!» — и больше не встретились никогда.
Первый, второй
(С утра до ночи)
Был шестой час утра. Карельников уже поднялся и, включив свет, стоял в трусах в коридоре перед трельяжем, брился. Электробритва зудела на весь дом по пустым комнатам.
Позавчерашний день все не шел из головы. Вчера уже была куча дел, и сегодня предстояло дай бог, тем более что Купцов слег все-таки, загрипповал. Карельников один остался — да, дел невпроворот, но из памяти никак не уходило то, позавчерашнее: бюро и как они вышли из обкома, как обедали потом вдвоем, летели в «аннушке». Главное, что между ними, кажется, пробежала черная кошка. Вышло, будто он подвел первого. Смешно, конечно, но получилось именно так: Карельников подложил Купцову свинью. Кое-кто так и скажет. Да и сам Купцов разве не дал ему понять? Когда вышли из обкома, остановились на обкомовских ступеньках, Купцов повернул к Карельникову красное лицо и сказал зло: «Ну, понял?»
А за обедом?.. Обед попросили в номер. Купцов решил выпить, чтобы разогреться, разогнать простуду или, может, просто разрядиться, а пить в ресторане, на людях, не хотел, и они обедали вдвоем в номере. И тут, наверное, надо бы иначе себя повести, подобрее. Купцов брезгливо, почти с отвращением, как лекарство, выпил целый стакан — с краями налитый, водка по стенкам текла и капала, да, наверное, тоже надо бы выпить и сказать что-то утешительное, а Карельников покуривал и молчал. Но он не чувствовал себя виноватым.
А выходило, что виноват, если б не он, не было бы и записки в обком, ожидания, и, в конце концов, этого бюро, и сначала насмешливого, а потом уничтожающего разгона им обоим. Им обоим, но, главным образом, конечно, Купцову, поскольку Купцов первый секретарь райкома, старый и опытный, а Карельников второй, и, как говорится, без году неделя второй.
В стылом и тряском самолете за час полета они уже ни словом не обмолвились. Купцов, совсем больной, с температурой, с красным и набрякшим, постаревшим лицом, поеживался, запахивался в пальто и не глядел на Карельникова.
Электробритва раздражала, он слышал ее звук, и в затылке отдавался моторчик — первый признак утомления и скверного настроения. Надо сбросить с себя эту тяжесть. Дел полно. Но в голову помимо воли лезло одно и то же: как он все-таки не сдержался и вспомнил Купцову, что они, собственно, когда готовили записку, и не рассчитывали, что их встретят с распростертыми, знали, на что шли. Шуточки ли — предложили менять основу экономики всего района, на областной баланс замахнулись. Но все-таки, что греха таить, надеялись: поддержат, поймут, в пример даже, может, поставят. А что сказал им Козаченко? «Работать надо, а не прожекты сочинять. Работать не умеете, вот и придумываете, легоньких путей все ищите! Реформаторы!»
Слава богу, побрился! Можно дернуть штепсель и бросить наконец нагревшуюся жужжалку. Бритву получше не могут придумать, бухтит, как трактор. Еще этот пустой неприбранный дом, сиротские без Нади и Витюшки комнаты, ворох грязного белья в ванной, остатки остывшей на сковороде яичницы — одно к одному… А как Козаченко бросил под конец их записку, каким жестом брезгливым. А она год писалась, по ночам, сколько людей труд свой вложили и, главное, надежду.
Ну, ничего, время покажет. Не ударяться только в амбицию, не поддаться обиде и этакому настроению, как сейчас. Речь идет не о самолюбии первого или второго — о деле, о районе, о том, что так дальше жить нельзя. Обойдется. Перемелется — мука будет.
Он стал под холодный душ, растерся, побрызгал лицо одеколоном из пульверизатора, надел чистую теплую ковбойку, приободрился. Под душем, хлопая себя по крепкому телу, растирая руки и ноги, покрякивая под ледяной водой, он всегда вспоминал о своем возрасте, о том, что только-только перевалило за тридцать, все еще впереди. В хорошем настроении, когда Надя дома, он еще и пел в ванной. Уже две недели, как Надя отвезла Витюшку в Новгород к бабке, а сама сдает в Ленинграде сессию. Сегодня экзамен, позвонит, должно быть, к ночи.
Уже торопясь, стоя, он выпил на кухне чая, подумал, что надо бы выкроить время, прибрать, перемыть, а то домой идти неохота. Он любил хозяйственно походить по дому с молотком и гвоздями, замазывать окна на зиму, колоть дрова; когда Витюшка родился, стирали с Надей в четыре руки пеленки, сам обеды варил, полы мыл. Но теперь и забыл уже, когда это делал, — времени нет и кто-то другой приходит замазывать окна, чинить краны, а дрова привозят колотыми.
За окном светлело, хотя день, похоже, опять собирался пасмурный и с дождем. Проклятая еще погода, двадцать первое мая, а все не отсеялись.
Пора было ехать. Он сбросил тапочки, надел тяжелые сапоги, кепку и куртку, вышел на крыльцо. Вспомнил и поманил за собой кота, чтобы тот не оставался в доме. Кот лениво вышел, и Карельников сказал ему: «Пошатайся опять где-нибудь, к вечеру вернусь». Крыльцо мокро блестело от ночного дождя, на пустом дворе стояли лужи, зато «газик», что ждал его у крыльца, омыло после вчерашней грязи.
За забором, на той стороне улицы, дом Купцова — такой же, как у Карельникова и у другого городского начальства — у директора Стекольного, у председателя райисполкома, у начальника милиции, — такой же типовой чистенький финский домик с тремя окнами по фасаду. Знакомые желтые занавески на окнах были задернуты. Неужели Купцов надолго свалился? Не ко времени. Надо будет зайти проведать, теперь, наверное, успокоился немного, оттаял.
Он сошел с крыльца, открыл дверцу, достал из-под сиденья тряпку, наскоро протер ветровое стекло. Вымел чуть-чуть из-под ног вчерашнюю непросохшую грязь. Открыл ворота, выехал задом. «Газик» завелся сразу, будто только и ждал, когда к нему прикоснутся.
Карельников вышел, чтобы затворить ворота, и увидел, как показалось ему, что в доме Купцова поднялась и опустилась занавеска в крайнем окне. Может быть, постучаться, зайти? Не спит, может? Рано вообще-то всегда встает, Карельникова научил в пять вставать. Ну, ладно.
Он проехал медленно своей улицей, где выстроились рядком эти самые финские домики, и выехал на Волейбольную. Тут стояли катки и грейдер, горками был насыпан щебень. Карельникову пришлось съехать со свежего асфальта на обочину. Он отметил, что со вчерашнего дня дорожники нисколько не продвинулись (опять дождь проклятый) и что сейчас пока ни одного рабочего на дороге нет, а ведь обещали к первому июня Волейбольную сдать.
Проехал до моста, миновал мост, заводские пруды, рынок. Еще не решил, куда поедет сначала: в «Первое мая», к старику Нижегородову, или в Кувалдино, к Ляху. Отметил мимоходом, что ворота на рынке уже раскрыты, но стоят всего две машины, людей мало, пусто. Не до рынка сейчас. На дверях новенького стеклянного магазина «Спутник» (одежда, галантерея, парфюмерия) висела дощечка — «ремонт». Осенью только открыли торжественно, нахвалиться не могли — тоже и у нас модерн, не лыком шиты! — и вот за зиму магазин скособочился, два больших стекла лопнули, пластик на полу вздыбился, начинай все сначала.
После областного города Михайловск, как всегда, казался большой деревней, да он и был, в сущности, селом Михайловским, с шестьдесят первого только переименовали. И вот с тех пор бывшее Михайловское из кожи вон лезет, чтобы походить на настоящий город, строится и асфальтируется, но все равно реконструкция захватывает пока только самый центр, «пятачок», да район Стекольного, а остальной Михайловск все остается деревянным и одноэтажным. Сюда бы еще троечку таких заводов, как Стекольный, или большую стройку, или хотя бы железную дорогу не в восьмидесяти километрах, как сейчас, а поближе, тогда бы пошло дело. Или… Да, или то, что было написано в их «прожекте»: интенсивный животноводческий район потребовал бы холодильников, мясных и молочных заводов, возродилось бы кожевенное производство, можно было бы построить обувную фабрику… Ну ладно, ладно, а пока вон тетка выгоняет из калитки корову, а вон другая, а вон и два пастуха волокут свои кнуты по асфальту.
Карельников доехал до развилки, где стоял новенький, выкрашенный серебряной краской столб не столб, обелиск не обелиск с вертикальной по нему надписью «Город Михайловск». Тут же были слова «Добро пожаловать!» и типовой синий орудовский щит с румяным милиционером и стандартным изречением, что Михайловск приветствует дисциплинированных водителей. Карельникову припомнилась ГДР, магдебургские голубые шоссе с указателями и надписями, его шоферская солдатская служба — давно дело было, совсем мальчишкой был Витя Карельников.
Как-то сам собой «газик» повернул налево. Ну что ж, к Нижегородову так к Нижегородову. Интересно, знает ли уж старик, с чем они вернулись? Что-то он скажет? Ничего ему, черту хитрому, не делается. Пока он в председателях, секретарей-то в районе не меньше десятка поменялось, уж он-то всякое повидал.
Каждый раз, выезжая на первомайскую дорогу, Карельников любовался видом, который открывался за развилкой. Михайловск лежал в долине между невысокими горами — это все исконно лесные места, с пестрыми и скудными почвами, с глиной и камнем, но необычайно красивые, просторные: извилистая, тихая и мелкая Сога в черемуховых зарослях, просторные чистые луга с отдельными по ним старыми ветлами, отлогие склоны холмов, как бы самой природой приготовленные под пастбища, а выше — леса: сосняк, береза, дубки, светлые и чистые леса. Каждый дол скрывал в себе деревеньку — совсем близко подъедешь, и то не увидишь, пока не выдаст ее старая колокольня. Остались еще тут деревянные церкви и каменные, но все заброшенные.
Ровные и обширные поля в Михайловском районе по пальцам перечесть, поэтому стали запахивать луга. Вот, например, сразу слева от дороги луга были, а теперь?.. На просторном длинном поле, заняв его на две трети, поднялась молодая зелень — это взошло то, что успели до мая посеять. А остальной участок лежал черным и пустым, и на самом краю его увязла в грязи сеялка без трактора — значит, до сих пор еще сеяли или, в лучшем случае, только-только закончили. Как зарядили с тридцатого апреля дожди, так по сей день колхозы никак из грязи не вылезут. Вот тебе и луга.
Дорога едва приметно поднималась вверх и вверх, белела среди зелени и черноты полей. Карельникову надо ехать до самого леса, подняться в гору, там по нагорью километров восемнадцать, все лесом, а затем снова спуститься вниз, а там уже — и само Пеплово, и усадьба Первомайская.
Впереди сошла с дороги, посторонясь от машины, высокая старуха в тулупе и сапогах, с авоськой, в которой успел Карельников разглядеть хлеба буханку. Мелькнуло испуганное длинное старушечье лицо. «Это куда ж она?» — подумал Карельников. До ближайшей деревни километров восемь. «Не иначе как из Прудов». Он было проехал, но потом затормозил. Откинул правую дверцу, высунулся, обернув голову назад. Старуха стояла в нерешительности и испуге.
— Далеко ли тебе, бабка?
— Как? — голос у старухи высокий, она кричала почти.
— Куда идешь-то? — закричал тоже Карельников.
— А в Пруды, милай, в Пруды, тамошняя я.
Все не выходя на дорогу, старуха заторопилась, заковыляла по грязной обочине к машине, ссутулилась, будто сделалась меньше ростом.
— Ну садись, подброшу тебя, — Карельников перегнулся через сиденье и открыл заднюю дверцу.
— Да это что ж, это спасибо, милай, только отплатить-то мне нечем тебе. — Старуха говорила все так же громко, должно быть, глуховата была.
— Садись, садись, ладно.
Старуха стала сбивать с сапог грязь, неумело, неловко полезла в машину, благодарно и испуганно бормоча. Карельников опять перегнулся и захлопнул за ней дверцу.
— Из Прудов, значит?
— Оттуда, оттуда, милай, из Прудов мы.
— Чья ж ты?
— А Василёва, милай, Василёва Анна. Мужика-то нету у меня, на войне убитай, а дочка старшая, Анютка, тоже в доярках, может, знаешь, в Первомайском дояркой. Она-то по мужу Анфисова…
— А, Анфисова, знаю, — Он в самом деле слышал такую фамилию, Анфисова. Но не может быть, чтобы в Прудах жила доярка, а в Первомайском работала, больно далеко от Прудов до ферм, что до первой, что до второй. Пруды — это совсем затерянная деревенька, богом забытая, в семь дворов всего. — Что ж она, с тобой живет, дочка-то? — Карельников глядел на дорогу и спрашивал, не оборачиваясь, громким тоже, высоким голосом. Старуха разбирала, не переспрашивала.
— Строюца, строюца. В Пеплово ушли. Куда ж в Прудах-то!
— Строятся? Это во сколько ж им дом-то встанет?
— А во сколько! Новый-то в одиннадцать старых обломится, да хотим вот старый перевозить.
— Старый?
— А то куда ж его? Не бросать, чай, а покупщиков на Пруды-то не найдешь. Худое место, вовсе, милай, худое. Пруды-то не годятся никуды.
— Худое, говоришь?
— Куда-а! И не дееца им ничего, Прудам-то, разбомбил бы их уж господь! Старухи мы одни остались да ребятишки. Большие города, слышу, пощиплют там войной али еще как, да обратно отстроюця, а нам сто лет все одно. Никудышнее место!
— Так ведь ты небось всю жизнь там прожила, или не жалко?
— Нет, я не отсюдова, меня мужик привел, мы сами-то серебряковския…
Карельников усмехнулся: Серебряково было в соседнем районе, всего километрах в сорока пяти отсюда. Старуха осмелела заметно, так же громко, почти на крике, стала рассказывать, как привез ее мужик в Пруды, как жить стали.
— А ведь у вас в Прудах свой колхоз был, — вспомнил и перебил Карельников и усмехнулся опять: колхоз на семь дворов.
— Был, был, как же! Опосля войны еще был, да что проку-то!
— А скажи мне, пожалуйста, по скольку ваши мужики прежде хлеба тут брали?
— Брали? А помногу, милай, никогда не брали, но по шестьдесят бывало…
— Ну уж, по шестьдесят! — Карельников не поверил, хотя и эта цифра невелика была. Но если учесть, что в прошлом, например, году едва собрали то, что посеяли, и если учесть, что в лучших Михайловских хозяйствах цифра в семь центнеров написана на всех лозунгах и плакатах как предел взятых колхозами обязательств, то десять почти центнеров, конечно, немало.
— Это на каких же, мать, полях они брали?
— А на каких! На энтих же, на наших, вон они пойдут, за рощей-то…
— За рощей?
— А то где ж! Да ты что, милай, дивуешься-то? Бывало, всюю осень и весну навоз возим да золу, под семенное-то непременно мужики золу клали…
— Золу, смотри ты!
— А как же! Навоз, он сорняк гонит, где ж тут!
— Интересно… Но я ж эту землю знаю, камень ведь один голый, теперь-то еле по три-четыре центнера…
— Теперь-то так, обтощала земля…
Впереди длинно желтела лужа. Карельников сбросил скорость и медленно въехал в нее, отвлекшись на минуту от разговора. Потом вспомнил и снова перебил старуху:
— Золу, говоришь?
— Ее, милай, ее. Всю зиму, бывало, собираешь…
— Химия, значит, была, минеральное удобрение?
— Как?
Карельников не ответил. Ему не верилось, что прудовские мужики собирали такие урожаи именно на тех, зарощинских, хорошо ему знакомых землях. Но старуха не могла ошибаться. Что ж, выходит, может, прав Козаченко: работать не умеем?
Нет, это все не так просто, не надо забывать, сколько и каких лет лежит между теми урожаями и нынешними. Да и не везде, наверное, и не всегда удавалось мужикам брать столько хлеба.
— А на других землях как? — спросил он старуху.
— Так по-всякому, какой год! Уж насиживались и без хлебушка, слава тебе, господи! Так-то насиживались, что в иную весну могилок свеженьких на погосте больше, чем народу по домам…
Вот-вот, вот то-то и оно, а шестьдесят-то пудов, может, раз-другой только и взяли, почему и в память запало. Не зря михайловские помещики зерновым хозяйством почти не занимались, предпочитали лучше кусок чернозема где-нибудь на юге купить — тут же, в своей губернии, поюжнее только. Весь парадокс-то в том, что в Сосново-Кузьминском, например, районе земля как земля — там и по двадцать два и по двадцать пять центнеров получают, а тут — пшик. А область одна, и планы одни, и цены одни, и требования одинаковые. Уж так ясно, ребенку ясно, что нельзя с одной меркой подходить, — нет, все не разберемся никак. И мы в своих требованиях правы, мы, Алексей Егорыч, и бояться нам нечего.
Опять вернулся Карельников к Купцову, вспомнил, как летели в самолете, какой больной и несчастный вид был у первого, — почему-то именно тот обидный час молчания не шел из памяти.
Карельников еще поговорил со старухой: о других ее детях, о погоде, о строительстве дома. Старуха никак не хотела помириться со своими полуразвалившимися Прудами: у других и электричество, и радио, и шоссе рядом или станция, а от Прудов все далеко, ничего в Прудах нет, хорошо, ребятишек стали в интернат на зиму забирать, а то и учиться негде: за десять километров не находишься.
— А скажи-ка мне, мать, что председатель-то ваш, он как? Вот хоть с домом, помогать-то обещал?
— Он-то? Иван Никитыч, что ль?
— Да какой Иван Никитыч, у вас Нижегородов теперь, вы ведь первомайские теперь, что ты, ей-богу!
— Ну да, — сказала старуха неуверенно, — первомайские. Иван Никитыч — это… ну да… — и опять подняла голос: — А ему чего! Мы ему чужие, он к нам и не кажется сроду, на кой мы ему!
— Да ну брось, брось, сам я с ним к вам заезжал, что уж зря говорить…
— У Пруды?
— Ну в Пруды, конечно, куда ж еще…
— Ну, может, и так, вам оно виднее. — Старуха сникла и подумала, должно быть, кто ж это такой везет ее. — У нас и с коноплями все мимо ездиют, и на таких машинках вроде проскакивают, и так…
Разговор увял, да и Карельникову все труднее было следить за дорогой, потому что въехали в березняк, — мокро, набито сразу три колеи, не угадаешь, какой лучше держаться. Надо бы уважить бабку и сделать крюк километра полтора к распроклятым ее Прудам, но там совсем дрянная дорога, возвращаться же назад — долго. На повороте Карельников притормозил. Да и старуха уже заволновалась, глядела в оконце и вот-вот хотела спросить, куда это везут ее. Карельников помог открыть дверцу, она выбралась, опять громко и от души благодарила его.
Они распрощались, и Карельников тронул машину. Дело не в крюке было, он понял, просто не хотелось лишний раз бередить себя видом Прудов; старых и еще крепких, как он помнил, но сиротливых и неухоженных домов, куцей улочки, полурастасканного развалюхи-амбара. «Пруды не годятся никуды». Точно сказано.
Дорога петляла среди редких молодых берез, трава между ними стояла свежая, мокро-зеленая, с первыми цветами — сюда, видно, пастухи еще не заводили коров, хотя рядом, слева, вот-вот откроется калда — летний лагерь. Несмотря на холод и дождь, природа брала свое, лес и поля оделись в зелень, и было то состояние в природе, та готовность к лету, что, кажется, пробрызни на полдня солнце, и все оживет, высохнет, заиграет, будет май как май. Карельников подумал, заезжать или не заезжать на калду? На утреннюю дойку, конечно, опоздал, в четыре должны подоить и выгнать стадо, сейчас небось и нет никого.
Однако, подъезжая, он еще издали увидел медленно, разбросанно бредущих от лагеря коров — каждая, опустив голову, жадно хватала первую попавшуюся траву. Возле свежей, желтеющей, как масло, изгороди видна была группа доярок; пастух в длинном плаще изгилялся там что-то, махая шапкой; женщины смеялись. На деревянном помосте бело, алюминиево сияли бидоны… «Ну паразиты, ну работнички, полседьмого уже, а они…» Карельников прибавил скорость и целиной, по траве и кочкам, погнал машину к лагерю. Мимо коров, мимо рыжего бака для комбикорма и бурды, мимо полевого вагончика с красным вылинявшим флажком — жилища доярок и скотников.
Его заметили издали, успели перегруппироваться, одна из женщин побежала в лощинку, пастух торопливо отделился, надел шапку, ударил кнутом, и ближайшая к нему корова дернулась и прыжками побежала вперед.
Вот совсем рядом увидел Карельников напряженные лица доярок, сбросил скорость, остановился. Машина проюзила с метр по жидкой грязи, доярки отпрянули.
— Секретарь, секретарь, — услышал он шепоток, и почудилось в этом шепотке облегчение. Видно, не самый для них страшный зверь секретарь.
— Ну здравствуйте, красавицы!
— Здравствуйте!.. День добрый!.. Вам также! — небойко ответили голоса.
Перед Карельниковым в грязи и на мостках стояли женщины в сапогах, ватниках, платках, только две из шести молодые, и молодых Карельников помнил — беленькую простоватую Настю, повыше ростом, и невысокую, строгую, с красивым смуглым лицом Марфу Кострову. Знал он и Лизу Савельеву, одну из лучших доярок. Лизе лет сорок, всю жизнь прожила она без мужа, и ее чистое, застенчивое лицо осталось девическим, всегда она смущалась и розовела, как девушка, и издалека можно угадать ее по быстрой и тоже как бы застенчивой походке. Стояла тут же маленького росточка, знакомая на лицо Карельникову старушка доярка, из тех бойких старушек, что не помнят своего возраста и вечно держатся с молодыми бабами и даже бывают заводилами среди них.
— Ну и что же это, как же это называется? — Карельников обвел взглядом всех, но обратился к Марфе, поскольку она была за старшую. — Эй! — тут же крикнул он пастуху и поманил его рукой. — Погоди-ка!.. Как его? — обратился он к женщинам.
— Горелов Пашка, — ответила хмуро Марфа.
Пастух еще ударил кнутом, гикнул на коров и нехотя повернулся назад.
— Ну так что же это делается? — опять спросил Карельников.
Доярки понимали, в чем их винят, тут ничего объяснять не нужно было, но по лицам их Карельников видел, что виноватыми за то, что стадо уходит из лагеря так поздно, они себя не считают. И действительно, старушка бойко ответила:
— Так ведь дождь даве лил, товарищ секретарь. Куда ж их?
— Отдои-ка скоро! — сказала с вызовом беленькая Настя, обращаясь не к Карельникову, а к подругам. — У меня вон девятнадцать их!
— В три-то часа и выйти не дал! — сказала еще одна доярка о дожде.
— Машину бы лучше вовремя подавали! Все одно ее до сих пор нет! Вон оно, молоко-то! — Это Марфа вступила и показала вниз, в лощинку, где в родниковой воде, в широком деревянном лотке, стояли утопленные на две трети бидоны.
Услышав про машину, Карельников выругался про себя, но виду не подал (пришлось бы признать виноватым кого-то другого) и поэтому, не отвечая Марфе, продолжал наступать.
— Навесы-то у вас зачем? — сказал он. — Что ж, под навесом, что ли, нельзя в дождь доить?
— Так и доили, что ж, когда поутихло-то…
— Их, чай, девятнадцать, — опять сказала Настя.
Пастух подошел и остановился в двух шагах. Карельников глянул мельком — парень напускно хмурился, зимняя шапка натиснута на лоб — и продолжал слушать женщин.
Говорить стали одна за другой и сразу, как водится, о всех бедах своих, хотя речь шла только о нынешнем утре, — но уж это, как обычно, стоит увидеть начальство, и посыплются все жалобы от Адама: и что из грязи не вылезают, и что плохо ездит лавка продуктовая, и что телята поносят, и что коровы селедки плохо едят (бочки с селедкой стояли тут же, в стороне, под брезентом, и от них шел соленый, гниловатый дух), — говорили все сразу, одна подхватывала начатое другой, и уже выходило, что не Карельников делал им выговор, а они ему.
Слушая и коротко отговариваясь, Карельников вступил на мостки, где на кольях сушились перевернутые бидоны, стал отгибать и нюхать резиновые круглые прокладки на крышках бидонов. Женщины примолкли и следили за ним.
— Что ж плохо моете, или кипятку нет? Кипятку тоже, что ли, сварить не можете? — Он опять обратился к Марфе.
— Да моем, как не моем! — сказала Марфа.
— А это вот что? Понюхай! Это вот чей? — Он повернул бидон и увидел криво написанные черной краской инициалы: «Ев. М.». Из-под прокладки тянуло кислым.
— Михайловой Дуськи это! — ответила за Марфу старушка. — Говорили ей, окаянной, тыщу раз говорили!
— Болеет она, — сказала Марфа.
— Ну вот, — Карельников как бы отвечал на все их жалобы, — сама себя раба бьет, что нечисто жнет. Не так, что ли? Что не от вас зависит, это мы с другими разберемся, но свое-то что ж спустя рукава делаете? Вот ты, — он обратился к пастуху, который стоял с таким видом, точно скучал, — для самодеятельности другое бы время нашел. (По всем лицам прошла улыбка.) Когда теперь назад погонишь? Не накормишь ведь, ненакормленными вернешь?
Пастух плечами пожал, усмехнулся — мол, такого не бывало еще — и не ответил.
— Не мне вас учить, сами все знаете, — сказал Карельников мягче при общем молчании, — неужели пособранней нельзя быть? Ведь говорили много, толковали, вон лето-то какое…
Он понимал, что говорит, может быть, ненужные, известные слова, и ему вовсе не хотелось ругать женщин или держаться с ними официально, но он знал, что они поймут, чего он хочет от них. На каждом шагу видишь, что люди не умеют, не любят или ленятся работать. Уж кажется, сами лучше кого другого понимают, — так нет, обязательно что-то будет не так. Конечно, деревня не завод, всего не учтешь, не распределишь от смены до смены, не спланируешь — вон дождь ливанул в четыре, и весь распорядок к черту. Но все равно. Крышку вот эту несчастную неужели вымыть нельзя?..
— Мешок комбикорму увезли у нас давеча, — вдруг сказала Марфа. Она вовсе нахмурилась и не глядела на Карельникова.
— Как это?
— Да вон они там стояли, — она показала на дорогу, — как их нам привезли, мы и занести не успели. А они ехали, сразу в кузов к себе, и поминай как звали…
— Да кто же?
— Не знаю я его. Я, говорит, бригадир, у меня согласовано. Мешок в кузов, и айда! Из кувалдинских вроде…
— Да ты что, Марфа, как же это так?
— Да вот как есть…
Черт, этого не хватало! Из кожи лезешь, все делаешь, чтобы на молоке хоть что-то взять. Лагерь построили, комбикорм этот выбивали с таким трудом, и вот на тебе.
Карельников стал расспрашивать, какой из себя был человек, что за машина, куда поехала. Вот чем заниматься приходится, товарищ секретарь райкома, сказал он себе. Впору вскочить в машину и броситься в погоню, найти мешок. Черт знает что!..
Он прошел по доскам, положенным в грязь, к лагерю, Марфа провожала его. Пожилая женщина в распахнутом ватнике огребала с настила лопатой навоз и грязь. Измученная, с раздутыми боками корова лежала тут же, часто, отрывисто дышала. Глаза глядели — совершенно человеческие, как у больной женщины.
— Нынче отелится, — сказала Марфа, и они стали говорить, сколько еще коров должно отелиться и сколько яловых, и что искусственное осеменение не дает все-таки нужного эффекта и хорошо бы хоть одного быка держать в стаде. Женщина остановилась и слушала, опершись на лопату. А Карельников еще и еще раз прикованно обернулся на страдающие коровьи глаза.
— Но как же это с комбикормом-то? — вспомнил он опять, и Марфа нахмурилась и глаза опустила.
— Ну ладно, — сказал он тут же, — разыщу я тебе его, — и пошел назад, к машине.
Но не уехал сразу, заглянул еще в вагончик. Тут тесно стояли топчаны, высокие от настеленных матрацев и одеял, — доярки спят по двое, по трое, — стены густо залепили плакаты: насчет коров и хранения денег в сберкассе, донорские и пионерские. Топилась железная печурка, варилась картошка в чугунке. Бойкая старушка хлопотала уже у печки, спустив с головы платок. Как-то нехорошо стало от тесноты, убогой временности этого жилья. Свет едва проникал в два мелких оконца.
— Вот ругать-то нас все! — говорила старушка. — А что бы другую такую халабуду поставить! Мужики-то тоже тута спят, у порогу вон их кладем — так дует. Хочешь молочка-то?
— Да выпью, — сказал Карельников. — А вы бы с собой их клали, мужиков-то.
Доярки толпились за ним в дверях, на его шутку загомонили разом. Старуха налила из бидончика и поднесла в литровой кружке молока, коричневой ладошкой обтерла донышко.
— Куда мне, — сказал Карельников, — лопну.
— Пей, пей, молодой, что тебе сделается!
— Подобрей будешь! — задорно кто-то выкрикнул.
Карельников обернулся:
— А то злой я вам? Так, другую, говоришь? — обратился он опять к старушке.
Женщины смеялись, говорили что-то, но старушка ответила всех громче:
— Ну, а что ж, не люди, что ль? Всюю лету ведь жить, товарищ секретарь Карельников! У иных там и свет есть, и радива проведенная, а мы рыжие, что ль?
И эта про радио, подумал Карельников, но слушал с улыбкой, ему нравилось, что бабке тоже хочется радио.
— А попросили бы у председателя своего, пусть транзистор вам купит.
— Чего?
— Приемник такой, — объяснила Марфа за Карельникова. — Что Васька Пирогов зимой купил, по улице идешь, а он в запазухе зудит… Да нешто он купит? Держи карман шире!
Карельников пил холодное вкусное молоко, не мог оторваться, перевел дух и сказал:
— Ну почему. Нижегородов это любит.
— Он кому все, кому ничего, — сказала сзади беленькая Настя.
— Ну разве на ферме у вас плохо? — Нижегородов славился своими двумя образцовыми фермами, где было чисто, лежали журналы и книги в просторном красном уголке и была устроена душевая для доярок. — Карельников вспомнил сейчас как раз об этом.
— На ферме-то конечно, а тут-то?
Надо было бы пообещать им второй вагончик и приемник тоже, но обещать было рискованно: не раньше чем через месяц-полтора, когда пойдут вверх надои, можно будет говорить о премиях, так что лучше потом сюрприз сделать, если удастся, а не обещать. На сердце отлегло немного, он сам рад был, что разговор с доярками под конец смягчился: ведь, если по чести говорить, этих женщин, которые работают тут, среди леса, не зная ни дня, ни ночи, в грязи и навозе, на руках надо носить, золотом осыпать, а мы их еще жучим, выговариваем, то не так, это не так. И все-таки. Поблагодарив за молоко, выйдя к машине, он сказал:
— Ну, обратно поеду, загляну опять. Погляжу, как тут у вас будет… И мешок, Марфа, я тебе разыщу.
— Заезжайте, — сказала Марфа. — Мы тут всякому гостю рады.
Другие женщины — все как бы вышли провожать его — тоже благодарили и говорили, что милости, мол, просим. Лиза Савельева позже всех вступила, ее «заезжайте» уже в тишине прошепталось, и щеки ее зардели. Карельников улыбнулся и поехал.
Не больше чем через две минуты нагнал он стадо, открыл дверцу и погрозил пальцем пастуху. Тот успел пожать плечами: мол, о чем разговор, все в лучшем виде будет.
Карельников ехал дальше, и, странно, ему вроде легче стало после встречи с доярками.
Минут через сорок он уже подъезжал к правлению Первомайского колхоза. На последних километрах нанесло вдруг тучу, хлынул дождь, стучал по брезенту, «дворник» болтался по стеклу среди водяных струй. Карельников въехал под белую высокую арку с названием колхоза, голо стоящую на дороге, увидел голубую «Волгу» Нижегородова у крыльца, блестящую от дождя. Подрулил поближе к входу, чтобы сразу выскочить из машины под навес.
Старый, длинный, на высоком фундаменте дом стоял одиноко среди поля. Пеплово, большое село, с пятиглавой старой церковью — в ней с незапамятных времен хранилось зерно, — лежало слева. Тут, вокруг правления, по планам Нижегородова, должно вырасти новое село — из каменных двухэтажных домов, с отоплением и канализацией, но построили только один такой дом — под ясли колхозные, а другого строительства не велось — Карельников подозревал, что о планах новостройки Сергей Степаныч говорил только так, для важности, а этот одинокий дом поставил больше для отвода глаз: вот, мол, уже начали.
Такого хитрюгу, как Нижегородов, поискать. Колхоз его самый большой и богатый в районе, объединяет шестнадцать деревень, и земли его протянулись, по районной карте, едва ли не на семьдесят километров. По территория колхоза проходит железная дорога и есть станция — Горбуновка, одна на весь Михайловский район. Колхоз разбросан сильно, и горы тут тебе, и лес, и два озера, и до некоторых участков «Первого мая» никогда в жизни не добиралось никакое начальство — один Сергей Степаныч да двое его «сатрапов», как называет Купцов первомайских бригадиров — Винограденко и Райхеля, знают дорогу на дальние поля и фермы, на пасеки и покосы, — именно поэтому Нижегородову удавалось всегда сохранять скот, когда все сдавали скот, сеять травы, когда все запахивали травы, не везти в закупку семена, когда все везли в закупку. Колхоз числится животноводческо-зерновым, но даже Карельников не мог бы сказать, какой уклон в «Первом мае» основной. Купцов, как и прежние, впрочем, первые секретари, не терпел нижегородовского самовластия. Купцов не ездил, наверное, уже с год в Пеплово и, надо сказать, не одобрял карельниковской симпатии к первомайскому председателю. «Нижегородовщиной пахнет, нижегородовщиной», — не раз обрывал он Карельникова.
Теперь Карельников перебежал под дождем на крыльцо, прошел коридором к кабинету председателя, и, странно, никто его не встретил. В просторной секретарской комнате, где стояла на столе большая машинка «Рейнметалл», тоже пусто. Карельников вспомнил, что вчера не мог дозвониться до Нижегородова, — где-то, подмытые дождем, упали столбы. Он открыл дверь в кабинет и вошел. Черная печка-голландка, черный диван, низкий потолок, длинный стол для заседаний под темно-зеленым сукном, поставленный, как водится, торцом к председательскому, тоже старому, темному, большому столу на круглых, резных, какие бывают у рояля, ножках, — все это придавало кабинету старинный и мрачноватый колорит — вовсе, впрочем, не соответствующий характеру хозяина. Может быть, еще потому казалось мрачно, что оконные стекла снаружи обливал дождь и печка топилась.
Нижегородов в накинутом на плечи кожаном пальто сидел на диване и, далеко отставив от себя руку с газетой, читал передовицу «Правды». Кучка других газет лежала рядом. Странно было увидеть Сергея Степаныча в домашней позе, за чтением, в очках и, главное, в одиночестве.
И вдруг Карельников вспомнил и понял, что сегодня воскресенье!
Вот почему так мало ему встречалось машин и людей на всем пути. Да ну конечно же, позавчера — пятница, вчера суббота — вот черт, совсем ты, секретарь, зарапортовался.
— Батюшки мои! — сказал растерянно Нижегородов. — Кого я вижу!
Ноги его не доставали до пола, и он поелозил по дивану, чтобы встать, и поднялся нелегко, придерживая пальто за полу и снимая торопливо очки.
— Это как же ты? Когда ж приехал? Ну, сюрприз, сюрприз! А я без связи сижу!.. Ну, прошу, прошу… Не промок?.. Раздевайся, Виктор Михалыч, раздевайся…
Надо же, воскресенье сегодня, продолжал думать Карельников, — потому и доярки задержались с дойкой, что, может, поспали сегодня лишних полчаса. А он наскочил на них, эх! И теперь Карельникову показалось, что он тоже не вовремя приехал, что Нижегородов ждет кого-то или отдыхает. Начать сразу разговор о делах, о севе, о бюро обкома или, допустим, о тех же Прудах — даже неловко. Он снял кепку, а раздеваться не стал, чтобы показать, что ненадолго. Хотя как раз хотелось посидеть тут, помолчать, поговорить, не торопиться никуда.
Нижегородов, низенький, широкий, в крепких чистых сапогах, суетился по кабинету, подергивал плечом, поправляя спадающее пальто, говорил о погоде, о дорогах, о повалившихся столбах, но Карельникову все слышалось в его тоне оправдание за что-то. Он взял с дивана газету и посмотрел число — газета была вчерашняя, субботняя, уже читанная.
— Я так просто завернул, — сказал он Нижегородову, — если у тебя дела какие, Сергей Степаныч, ты на меня внимания не обращай.
— Ну вот, — сказал Нижегородов, — да ты что, Виктор Михайлыч!.. Я тут это… гость так один… вроде обещался… по случаю выходного, значит… Да сам-то ты завтракал? Рано небось выехал?..
Карельников вспомнил опять, как он выезжал и как вроде поднялась занавеска у первого, и стало неловко: Купцов непременно подумал: куда, мол, его в выходной-то несет?
— Не отпущу не покушавши, не отпущу! — сказал Нижегородов, поскольку Карельников молчал, и сразу облегчение почувствовалось в разговоре, и Нижегородов уже хозяином сел за стол, глядел ласково и свободно.
— Ну что похмуриваешься, Виктор Михалыч, чего там? Не того, видать? Косицын вчера проехал тут у меня, Виктор, говорит, Михайлыч, туча тучей, даже не принял.
— Что это я не принял? Был он у меня, — ответил Карельников и вспомнил председателя Косицына, как он сидел вчера в кабинете и глядел жалостно, пока Карельников долго разговаривал по телефону.
— Не приглянулся, значит, план-то?
Карельников крутил на пальцах свою кепку и не отвечал.
— Н-да, не приглянулся, значит, — опять сказал Нижегородов и тоже примолк. Оба понимали, что обком ругать друг перед другом нельзя, не полагается, и оба думали уже не о том, что произошло, а о том, что дальше будет. Потому что, готовя записку в обком, строили исподволь работу как бы по этой записке или, во всяком случае, что-то оттягивали и откладывали до принятия решения. И теперь надо поворачивать на старое или опять тянуть до лучших времен.
— А Алексей Егорыч-то как? — осторожно спросил Нижегородов и этим вопросом показал, что действительно думал о том же, о чем и Карельников.
— Слег он, загрипповал, — сказал Карельников, и надо было понимать, что пока неизвестно, но надежд на хорошее мало.
— Да-а, — сказал председатель и умолк.
Чтобы разрядить тяжесть разговора, Карельников после молчания спросил:
— Ну ладно, у тебя-то как? Что успели в эти дни?
Нижегородов стал говорить, что, где и сколько еще посеяли, и все это была мелочь, оставалось много. Он доставал из скоросшивателя отпечатанные на машинке сводки, протягивал через стол, Карельников наскоро их просматривал. Заговорили потом о надоях — надои тоже росли медленно. Это в «Первом мая» так, а что ж у других председателей!..
Нижегородов не оправдывался и не старался приукрасить картину, и Карельников держал себя не как инспектор и ничего не выговаривал Нижегородову, и весь скрытый смысл этого, уже конкретного, разговора, сводился к тому, что, мол, могло бы быть иначе, если бы там прислушались и пошли навстречу. Но не учить же, в самом деле, Нижегородова, где у него сухо и можно сеять!
Нет худа без добра: эта весна перепутала и нарушила все планы, и сейчас, к концу мая, никто уже не требовал победных сводок и рапортов о севе, никто никого не подгонял, и по всем телефонам не кричали обычного: «Ну сколько сегодня, сколько?» — а спрашивали осторожно: «Ну, как там у вас, а?» В колхозах и совхозах сами измучились, трактористы и севцы с прицепщиками ночевали возле агрегатов, подсказки им не нужно было: если за ночь поле подсыхало хоть чуть-чуть, если не шел дождь на рассвете, то сами пускали машины, не дожидаясь и агронома, и хоть три-четыре гона делали, сеяли. Что тут будешь выговаривать старику председателю? Будто у него у самого душа не болит.
Под окном внезапно затрещали мотоциклы, один, потом второй.
— Бригадиры мои, — сказал Нижегородов, хотя Карельников и сам догадался. — Так как насчет поесть-то, Виктор Михайлыч? Не откажи…
— А ты кого это ждешь-то?
— Да так это, — Нижегородов потер непробритый подбородок, и он заскрипел под рукой, — так тут, одно дельце. — Нижегородов не боялся сказать Карельникову правду. — Командир один, понимаешь, майор. У нас тут стройбат на дорогу-то пригнали, на ремонт, ну вот… Попросить хочу кой-чего… Взвод там дадут на денек — им это что, а я с навесами буду под картошку. У меня нынче картошки-то вон сколько сеется…
— Ну-ну, — сказал Карельников, но слегка похмурился: не за спасибо небось стройбат будет стараться. Однако про себя решил, что поесть в такой компании не зазорно.
В это время уже вошли оба знаменитых первомайских бригадира, Винограденко и Райхель, гремя мокрыми сапогами и сами мокрые, из-под дождя. Они поняли, кто приехал: «газик» райкомовский всем знаком, и поэтому вид у обоих был строгий и деловой, словно они не насчет завтрака хлопотали, а исполняли важные хозяйственные дела.
Высокий Винограденко, одетый в серый длинный милицейский плащ (с него текло) и суконную фуражку, походил на орудовского инспектора, не хватало сумки через плечо. Его крупное, здоровое лицо — розово и выбрито, и вся фигура отдает деревянной могучей статью и опрятностью, а может, только кажется такою рядом с неуклюжей фигурой Райхеля. На Райхеле замасленный и залатанный ватник, в котором его можно увидеть во всякое время года, и обвисшая кепка, одного, должно быть, возраста с ватником. Он не то чтобы толст, но коренаст, толстоплеч, толстощек, и двухдневная щетина и грязь на лице, то ли дорожная, то ли от мотоцикла, придают ему совсем затрапезный вид; к тому же взгляд, словно оттаивая в тепле, принимал свое обычное, опечаленное и виноватое выражение. Сапоги у Винограденко чистые, а у Райхеля такие заскорузлые, обитые и грязные (еще старая, сухая грязь проступала на голенищах сквозь свежую), словно их сроду не касалась щетка. Да должно, и не касалась: такие сапоги обмывают в лужах, оскребывают щепочкой, трут пучком травы или смоченной в солярке тряпкой. Их сутками не снимают с ног, и они обретают тяжелую и косолапую конфигурацию ноги; высыхают чаще всего на ноге же, а попав на просушку на печку, так, бывает, заколянеют, так выворотятся, превратятся в такие сухари, что полчаса будешь биться с каждым, пока натянешь с проклятьями на ноги. Сопревшие и разбитые, такие сапоги выходят из строя сразу и навсегда.
В районе к Райхелю давно привыкли, но на всякого свежего человека он производит странное впечатление: зачем, мол, здесь этот пожилой еврей? Удивился в свое время и Карельников, а потом узнал, что Райхель коренной михайловский житель, пепловский, всю жизнь крестьянствует, учился мало и говорит с ярким пепловским «аканьем»: «быват», «знат», «делат». Вообще Райхель человек на редкость добродушный, спокойный, ласковый и неудачливый, обремененный большой семьей. Чудо ассимиляции!
Оба «сатрапа» словно бы олицетворяли нижегородскую политику и стиль работы: где надо взять лаской, увертливостью, видимым простодушием, далеко глядящей хитростью, там действовал Райхель. Где нужна сила, нажим, не уговор, а приказ, там показывал себя Винограденко. Трудно объяснить, отчего бы, например, самостоятельному а твердому Винограденко ходить перед Нижегородовым в таком беспрекословии, летать за ним, словно охраннику, на мотоцикле, когда тот мчит впереди в своей «Волге». Купцов всегда говорил, что тут нечисто, что у этих, мол, троих круговая порука, рука руку моет. Но Карельников хорошо знал, что у всех троих все есть, что им надо. И сверх того, что есть, — на это они не зарятся. Он верил, что здесь другой, чистый интерес, хозяйственный и народный, и обижало, когда Купцов так говорил: три эти мужика держали колхоз богатым, подымали его и подымали вверх год от года, и глядеть на них с подозрением, думать, что они ради себя стараются, было бессовестно. У них учиться надо. И жать с них сверх меры тоже нельзя, за двенадцать худых хозяйств никакой Нижегородов все равно не расплатится — эдак ему можно только ноги перебить. «Ну да, — кричал Купцов в минуты таких споров, — Нижегородов у нас пускай наливается, как клоп, а другие без порток ходят, так, что ли? Может, вам в партийной-то школе не преподавали, зачем мы кулака-то раскулачивали? Или, может, мы всю жизнь не об социалистическом сельском хозяйстве стараемся, а об чем другом?» Карельникова злость брала при таких разговорах, но он сдерживался, понимал потом, что Купцов тоже в чем-то прав, и говорил только с трудно дающимся спокойствием, что, мол, надо же искать в ы г о д н ы е способы ведения социалистического хозяйства. «Ну ладно, — тоже сбавлял тон Купцов, — ты это не мне, ты это в другом месте скажи». Но как они ни побаивались, составляя свою записку, составили ее все-таки вместе и подписали вместе. И вместе надеялись… Ну, пусть, что опять об этом.
Между тем Винограденко и Райхель больше междометиями и мимикой, чем словами, дали понять Нижегородову, что у них все готово и какие, мол, будут дальше распоряжения. Чтобы прояснить дело, Нижегородов сказал:
— Вот Виктор Михайловича тоже приглашайте к завтраку, он у нас холостой нынче, некормленый…
Винограденко и Райхель обмякли на глазах, Райхель расплылся измазанной физиономией, Винограденко деревянно осклабился, показав большие зубы.
— Милости просим! Всегда рады! Очень даже хорошо! — сказали они вместе.
Еще через несколько минут под окном появилась новая машина, тоже зеленый военный «газик», чистенький, как на параде, с белыми ободками на дисках. В кабинет вошел, сбрасывая движением плеч на ходу зеленый дождевик, невысокий молодой капитан («Почему же майор?» — подумал Карельников) со светлыми усиками, в очках в тонкой золотой оправе. Вдобавок к его пуговицам, погонам, очкам на пальце еще блестело обручальное кольцо. От платка, которым капитан красивым жестом промокнул дождевые капли на лице, или от самого выбритого, молодого лица запахло по комнате «Шипром». Нижегородов поспешно и не без подобострастия заспешил навстречу, все прихватывая за полу, чтобы не свалилось, свое кожаное пальто, взял из рук капитана его плотный плащ, передал Винограденко. Райхель подобрал живот, каблуки его сапог сдвинулись сами собою, взгляд сделался по-солдатски бодр, и на лице изобразилась солдатская же готовность. Винограденко с плащом через руку тоже приобрел гренадерскую, бравую осанку.
— Привет труженикам полей! — сказал капитан, усмехнувшись. Он левой рукой, двумя пальцами, снял очки и, не относя их от лица, лишь чуть отодвинув от глаз и при-щурясь, проверил стекла на свет, нет ли на них тоже капли или соринки. Увидев, что первые его слова приняты с должной радостью и юмором, он снова пошутил: — Ну как, овес-то нынче почем?
И снова все искательно поулыбались, только Винограденко взглянул ошеломленно: какой, мол, овес?
Перед тем как капитану войти, Карельников, чтобы не смущать ни военного, ни Нижегородова, сообразил сказать Сергею Степановичу, чтобы тот его секретарем райкома не представлял, — в сапогах и затертой куртке Карельников вполне мог сойти за здешнего бригадира или шофера. И теперь Нижегородов, проверяя эту просьбу, взглянул вопросительно: говорить или нет? Карельников незаметно мотнул головой: не надо, мол.
Но для капитана они, кажется, все были на одно лицо, кроме знакомого ему Нижегородова. Он, не всматриваясь, пожал всем подряд руки: бригадирам и Карельникову.
— Немного закусим перед дорогой, а? — искательно говорил Нижегородов. — А то мы не позавтракавши нынче. А там и поедем. А то хозяйство-то у меня разбросанное, далеко все, а дороги, сами знаете!..
— Ох уж эти дороги! — сказал капитан. — Лучше не напоминайте! А долго вам завтракать?
Он вскинул руку, сдвинул рукав, и обнажились из-под обшлага тоже золотые, крупные и плоские часы — должно быть, «Вымпел».
— Да что ж нам-то, что ж нам-то? — засуетился Нижегородов. — А вы-то, товарищ майор? С нами-то? Не обижайте…
Винограденко и Райхель издали тоже некие недоуменные и протестующие звуки.
— Ну что ж, — сказал капитан, — сегодня выходной как-никак, а? Куда торопиться?..
В этом же доме, в правлении, только с отдельным, позади, ходом были у Нижегородова оборудованы две комнатки для гостей, для приезжих. Стояли чистенькие, заправленные, как в общежитии, коечки, табуретки, большой стол, бак с кипяченой водой, висели занавески. В той комнатке, где стол, находился еще и старый буфет с застекленными наверху дверцами. Было голо, необжито, но чисто. И протоплено. Сюда и привел Нижегородов капитана.
Завтрак выглядел так: на чистое дерево стола была брошена куча зеленого лука, лежали, раскатившись, десятка два яиц, огромными ломтями, не иначе как рукой Винограденко, нарезан черный хлеб, а посредине на газете возвышалась гора полусиних, плохо выщипанных куриных ног, крыльев, грудок, разорванных руками тушек. В эту кучу ушло не меньше десяти кур или петухов, но, видно, сварили их давно, они успели остыть. Капитан странно засмеялся, поглядев на этот стол, чем привел «сатрапов», а за ними и Нижегородова, в смущение. Они переглянулись, а затем Нижегородов крикнул:
— Эх, тетери! Вилочки-то, тарелочки где! Вот официанты у меня, что ты скажешь! Да вы садитесь, садитесь, вот сюда, на кроватку можете, тут помягче…
Райхель и Винограденко исчезли и тут же появились с тарелками и вилками. Капитан, продолжая улыбаться, снял свою твердую, имеющую новенький и чистый вид, как и остальная его одежда, фуражку — по комнате снова запахло «Шипром» — и сел на табурет во главе стола. За ним расселись остальные.
Карельников прятал глаза, чтобы не рассмеяться, ничего не говорил, чтобы не выдать себя, и, поддавшись общей игре и забывшись, как бы сам чувствовал себя солдатом, батарейным шофером Витькой Карельниковым, для которого и сержант-то большой чин, а уж о комбате и говорить нечего.
Вот все сели. Винограденко снял плащ, а Райхель остался в ватнике. Он только слегка ополоснул лицо, поводил пятерней по круглой лысине с несколькими прилипшими к ней жидкими прядями черных волос, причесался. Винограденко же достал пластмассовый футлярчик, из него — расческу, вправленную в серебро, причесал седой густой бобрик, дунул на расческу, протянув ее перед губами, и так же аккуратно спрятал в футлярчик. Бригадиры сели ближе к двери, не осадисто, не надолго, а как садится на уголке стола хозяйка, которой поминутно надо вставать за чем-либо. Возникла пауза.
— Гм! — сказал Нижегородов, прикрыв рот ладошкой, и чуть повел взглядом на бригадиров. И опять волшебный вихрь унес их, и в следующую минуту на столе появились ополоснутые, еще мокрые граненые стаканы и три темно-зеленые поллитровки, странно мелкие и короткие в лапах Винограденко.
— Ну что вы! — сказал капитан. — С утра!
— Ну-ну, ну что уж! — сказал Нижегородов. — Что уж тут, товарищ майор! Пища вся сухая, горло дерет. Как, Михалыч, а? Надо ведь, а?
— Да видно, надо, — сказал Карельников. Ему самому захотелось выпить и вообще сидеть здесь, ничего больше не делать, провести воскресенье, как люди. Он не утерпел и уже поколол о стол яйцо и одним движением большого пальца спустил с него шелуху. Ждал, когда нальют.
— Ну вот, — обрадовался Нижегородов, — чего уж там, товарищ майор, мы помаленьку. А там уж на пасеку заедем, меду напьемся. Ох, медок у Гаврилы!..
— Но это же самый что ни на есть сучок, — сказал капитан, — сивуха… тю-тю-тю, мне хватит! — Он придержал за руку Винограденко. — Я ведь вообще-то пью только сухие вина. Но тут их днем с огнем не найдешь…
Все умолкли, следя за тем, как Винограденко разливает водку, и слушая ее музыкальное, от высокой до низкой, полной ноты, разговорчивое бульканье. Когда водку разлили, Нижегородов как бы очнулся и воскликнул:
— Что? Чего это мы днем с огнем не найдем? Сухое? Это которое кисля… кисленькое? — Он распрямился и победно посмотрел на Райхеля. — Михаил Осипыч, скажи!
Райхель повел грустным, почти прощальным взглядом по столу, поднял на капитана, который должен был почувствовать себя в этот миг обыкновенным мальчишкой, печальные, жалостью и к капитану налитые глаза, спросил тихо:
— Шампанское подойдет?
Капитан не поверил.
— Шампанское? Шутите! Откуда здесь вино, рожденное землей и солнцем советского юга?
У всех сделался такой вид, что, мол, чего с ним разговаривать.
— Сколько вы даете минут, — спросил Нижегородов, — чтобы здесь появилось?.. Сколько?.. Так, раз, два, три… пять бутылок шампанского. Сколько даете?
— Ну что вы! — сказал капитан и посмотрел на золотые часы. — Ну зачем это, ей-богу?..
— Сколько?
— Пятнадцать минут. До десяти ноль-ноль.
— Все! — Нижегородов пристукнул по столу, и Райхель, поднявшись, надел кепку.
— Может, выпьем все-таки сначала? — предложил Карельников, жалея Райхеля.
— Да, только быстро! — сказал Нижегородов. Он переводил стрелки на своих часах.
Все выпили. Капитан, Райхель и Карельников по полстакану, Винограденко — чуть пригубив и Нижегородов — тоже. Сергей Степаныч любил угощать, но сам пил мало, а если можно было, вовсе не пил.
— Поспорили? — Нижегородов едва не потирал руки от этакой удачи. — Поспорили, значит, майор, а?
— Поспорили. — Капитан совершенно не обращал внимания на то, что председатель упорно величает его «майором». — Только посмотрим, что он привезет. Вы, наверное, шампанское с чем-нибудь путаете?
За домом возник и стал удаляться треск мотоцикла.
— Ну что уж мы, шампанского не знаем? Нет, ты вот лучше скажи, что будет, ежели он привезет сейчас, а?..
Капитан пожал плечами: дескать, поглядим. Но Нижегородов продолжал наседать и спорить. Он отвлекся только на секунду: увидев, с каким трудом вгрызается Карельников в птичью ногу, наклонился и шепнул (Карельников сидел рядом с ним на кровати):
— Не обижайся уж, Виктор Михайлович, петухи старые, выбракованные…
Карельников чуть не подавился. Все у этого хитрого черта в дело идет. Туману напустил, пыль в глаза, завтрак, шампанское, а сам свежего куренка даже такому гостю не зарежет, жалеет.
Без двух минут десять Райхель вошел в комнату, прижимая к груди растопырившиеся из рук серебряными головками бутылки шампанского. Правда, их оказалось не пять, а три. Райхель сказал, больше не было, но Карельников понял, что Райхель сэкономил.
— Ну, это гениально! — сказал капитан и встал, чтобы принять из рук Райхеля бутылку. — Где это вы, а? Где, расскажите? На станции, да?
— Где было, там нету, — печально сказал Райхель.
— Надо будет, еще достанем! — тут же сказал Нижегородов. — Пей на здоровье, товарищ майор! Но ты понял теперь, да?..
— Ну, вообще-то, конечно, — поправился Райхель. Он сел на свое место. Карельников, подмигнув, налил ему водки.
— Или, может, шампанское будешь, Михаил Осипыч?
— Мы не привыкши, — сказал Райхель. — Мы в городе Бухаресте им лошадок поили.
— С вашего разрешения? — галантно и оживленно сказал капитан. Он ловко распаковал бутылку: прижал, потом отпустил пробку, она выстрелила, но вино не разлилось — видно, и вправду был мастак по таким делам. И наливать он стал вино в стакан по стенке, оно играло, но не пенилось, а когда запенилось под конец, то капитан осадил пену, опустив в нее лезвие ножа. Как ни странно, все отнеслись с уважением к его манипуляциям, и сам Нижегородов решил выпить с капитаном шампанского.
— Ну, будь! — они чокнулись. — С тебя, значит, причитается!
— Договоримся! — сказал капитан, глядя сквозь стакан на свет. — Ну, за крутой подъем сельскохозяйственного производства, а?
— Ура! — сказал Нижегородов.
Часа через полтора все громко, шумно вышли на крыльцо, обогнули дом, остановились возле машин. Выманила погода: дождь кончился, вдруг проглянуло солнце; черные и зеленые поля, лужи на дороге, крыши — все весело, мокро сверкало, дышалось легко. Капитан был румян, доволен, но не пьян. Ему все нравилось, хотя он сохранял снисходительный вид, и готов был ехать дальше, и пировать, развлекаться. А старик почти обо всем договорился с капитаном, и ему хотелось привезти его на место, где должны поработать стройбатовцы. Договор же состоял в том, что за навесы стройбатовцев будут кормить и отпустят им потом по даровой цене меду.
Винограденко, совсем трезвый и прямой, стоял наготове перед мотоциклом, чтобы в любую минуту ехать. Райхель же размяк, уже несколько раз вспоминал, что у него, мол, ребятишки дома, и Карельников сказал Нижегородову: «Отпусти ты его».
Но Нижегородов не привык один ездить по хозяйству, он по пути интересовался всем сразу, и у него под рукой должен был находиться и бригадир по полеводству — Винограденко, и — по животноводству — Райхель.
Карельников не знал, что теперь делать, он отвлекся с этим капитаном, забылся, все нужные и ненужные мысли отошли вдруг, он в самом деле устроил себе на три часа выходной. Но хватит, пора и честь знать.
Он давно не пил и теперь чувствовал себя приятно легким. Кроме того, он незаметно сжевал с пяток яиц и одолел не меньше двух петухов. Впору повернуть домой, завалиться до утра и выспаться в кои-то веки. Но не хотелось расставаться с Нижегородовым, и к тому же он звонил вчера в Кувалдино, предупреждал, что приедет.
Пока он размышлял, Нижегородов уже распорядился, и стройбатовский шофер, все это время проспавший в машине в ожидании капитана, был отправлен доедать петухов и спать на койке для гостей. Капитана же и разомлевшего Райхеля Нижегородов усаживал в свою машину.
— Задумка есть, капитан! — кричал Нижегородов. — Сейчас такое тебе покажу, нигде не увидишь! У Нижегородова все есть! Сейчас к Бурцеву двинем! Ты скажешь тогда!.. Виктор Михайлыч, а ты что? Садись тоже, брось своего «козла», погуляй! Бурцева ему покажу, пусть знает! Виктор Михайлыч!..
— Да нет, Сергей Степаныч, спасибо, дела еще есть. В Кувалдино надо проехать…
— Так, милый ты человек, через Замурзаевку с нами и проедешь! Там, ве́рхом-то, лучше, посуше будет, а крюку-то километров десять всего и есть! Бурцев коня тебе нового своего изобразит. Поехали!
Нижегородов звал так хорошо, что и в самом деле захотелось с ним ехать. Правда, через Замурзаевку — там и проскочить верхом, правильно он говорит. А то до Кувалдина еще раза три где-нибудь станешь, мимо людей не проедешь, а тут до Замурзаевки голо все. Опять же чудака этого поглядеть лишний раз, Бурцева.
— Ну ладно, что ли, Виктор Михайлыч? — упрашивал Нижегородов. Все старику нынче удавалось, теперь и Карельникова не хотелось от себя отпускать. — Ну ладно, что ль?
— Ну ладно, — сказал Карельников, — езжайте, я следом.
— Ну вот и замечательно!
Как ни увлечен был Нижегородов гостями, однако, отойдя в последний момент от машины, поманил к себе Винограденко, который занес уже ногу через мотоцикл, и сказал:
— На выдринское завернем, может, сеют. Смотри, растелешилось небушко-то.
— К вечеру обратно нагонит, — ответил бригадир, — а все ж завернем, Иван Яклича проведаем.
— Вот, — совсем деловито и трезво сказал Нижегородов, — вот то-то и оно…
Мотоцикл быстро и резко ушел вперед, за ним, пробрызнув грязью из-под колес, поехала «Волга», а следом — Карельников.
И первая мысль, которая пришла ему в голову, когда он остался один, была о том, что если Купцов узнает об этом завтраке — а он узнает, потому что в районе все и про всех рано или поздно узнается, — то ревниво покривит лицо и выговорит, что пить и панибратничать с подчиненными — самое последнее дело. И ему не объяснишь, что Карельников никак не числит Нижегородова и его бригадиров подчиненными себе людьми и что замыкаться от людей и важничать — куда хуже.
Вспомнив Купцова, он снова представил себе домик с занавесками и свой пустой дом, из которого он даже кота выманил утром, и подумал: не опоздать бы домой к ночи, когда Надя будет звонить. Хоть и некогда скучать, а надоело без Нади и Витюшки — он, может, потому и про воскресенье забыл, и по дорогам шастает, потому что пусто и неуютно в доме. То ли дело у Инны Ивановны! Как ни учится Надя, как ни старается, уж и мебель купили, и занавески тоже, коврики, а до Инны Ивановны далеко.
Инна Ивановна — это жена Купцова, добрая женщина. Если бы не она, то вообще неизвестно, как бы сложились отношения у Карельникова с Купцовым. Карельников вспомнил тот вечер, примерно с год назад, когда он, сильно поддавшись влиянию Ляха, просто-таки влюбившись в Ляха и носясь с ним, как курица с яйцом, привез Ляха к Купцову, познакомить их.
У Инны Ивановны чистота в доме, словно в хорошей больнице. Так заведено, что, когда приходишь к ним, надо обувь снимать. Везде ковры, ни пылинки. Дают мягкие тапочки, как в музее. Алексею Егорычу самому бывает неловко, что его гостей заставляют сапоги и ботинки разувать, и он, обычно загодя, как бы шутя, старается предупредить об этом, а то не дай бог, если на ногах портянки или носки не в порядке. Лях, собираясь к первому и зная от Карельникова об этом домашнем правиле Купцовых, надел яркие новенькие носки. И костюм надел, и галстук повязал. Правда, он потом говорил, что потому, может, так разозлился, что все время по-дурацки себя чувствовал при галстуке и босиком.
Когда они пришли, Алексей Егорыч с женой смотрели телевизор — московскую программу. И между прочим, телевизор не выключили, а только убрали звук, и во время разговора, пока разговор не дошел до последнего накала, Алексей Егорыч нет-нет, а прикованно оборачивался к экрану.
Как говорили (да это и заметно), Купцов без памяти любит свою жену: она у него вторая и трудно ему досталась, — любит свой чистый дом и в домашней обстановке делается куда мягче и добрее, чем на людях.
Положение тогда было хуже некуда: район получил очередной втык за кукурузу, хлеба почти не сдали, мясопоставки не выполнили. Начались перебои с продуктами, за хлебом стояли в очередях с пяти утра, как в войну. Однажды на дороге Карельников остановил свой «газик» возле севшего в грязь автобуса. Это был рейсовый автобус из облцентра. Он был битком набит бабами. Они материли шофера и вытаскивали в грязь мешки. У всех одинаковые мешки, по пуду примерно. Карельников увидел и сразу сообразил: пшено из города везут. Ему бы дать газ и уехать от греха подальше, но он захотел помочь шоферу, вступил в разговор. Кто-то из женщин его узнал. И тут началось! Как они кричали! Что они кричали! Как они еще не избили его! А избили бы, тоже были бы правы. А он стоял в грязи, слушал и ничего не смел сказать. Что скажешь, когда колхозницы в деревню из города пшено везут?..
Они работали много тогда: заседали, заседали, обивали пороги в области. Настроение было самое мрачное. На облактиве сообщили, что принято решение закупать хлеб за границей.
Купцов тоже был не в себе. Но, переступая порог дома, он умел отключаться, хоть на два-три часа. Смотрел телевизор. Или Инна Ивановна читала ему вслух.
Неуемный Лях составил тогда письмо в ЦК с копиями в «Правду» и в обком. Там было много дельного, но резко сказано. Карельников посчитал, что колхозный агроном, член партии, безусловно, вправе обращаться в самые высокие инстанции со своими предложениями. Тем более что не один, наверное, Лях такой умный и такой смелый: пусть накапливаются, где надо, мнения рядовых работников.
Более того, у самого Карельникова тогда-то и явилась мысль предложить обкому в виде эксперимента составить хотя бы почвенную карту Михайловского района и по-новому решить вопрос с животноводством. Он понимал, что трудно осуществить, почти невозможно, но то ли Лях его заразил своей горячностью и верой, то ли у самого накипело, но Карельников решил рискнуть. Надо было только, разумеется, посоветоваться с Купцовым и, дай-то бог, заручиться его поддержкой.
И вот они приехали тогда для первого разговора.
Инна Ивановна, гладко причесанная, с милым, застенчивым лицом, не то чтобы полная, но плотная, крепкая, в аккуратном домашнем фартучке, накрыла на стол. Угощение было самое скромное: дешевая с толстыми кусками жира колбаса, бычки в томате, картошка, помидоры своей засолки. В графинчике — неразведенный спирт. Разговор шел сначала о том, о сем. Алексей Егорыч поглядывал на телевизор и сел так, чтобы легче поворачиваться к нему. Молодой, длинный, городского вида, рыжий, как огонь, Лях сразу, видимо, произвел хорошее впечатление на Инну Ивановну.
— Вы уж не обращайте внимания на меня, — говорила она с милой улыбкой, — я ничего этого не умею, — она кивала на стол, — вон Виктор Михайлович знает. Теперь все как-то по-новому, вы, молодые, лучше знаете. А я и не бываю нигде…
— Да ну, будет вам, Инна Ивановна, — возражал Карельников.
Лях смело ходил по комнате, шлепал тапочками, все рассматривал: цветную пленку, прикрывающую экран телевизора, узор висевшего на стене ковра и несколько акварельных картинок на другой стене. На них было сплошь море — с парусом, чайками, с силуэтом крейсера.
— Это все сын рисует, он у нас в Севастополе, в училище, — Инна Ивановна поглядела на мужа и вздохнула.
Карельников знал, что младшему Купцову не нравится служба, что он хочет уйти в университет, но отец уперся, настаивает, чтобы сын стал офицером: военная специальность в руках, обеспеченность, основательность, строгость — можно не бояться, что лоботрясом вырастет. А Инна Ивановна держала сторону сына, жалела его и мучилась отцовской непримиримостью.
— Ничего картинки, симпатичные, — сказал Лях, — а что-то книжек я у вас не вижу?
— Да вот все не перенесем после ремонта из сарая, — ответила Инна Ивановна, — стеллаж все хочет Алексей Егорыч, а руки не доходят…
Купцов, не отводя взгляда от телевизора, сказал:
— Сколько говорю, ты бы хоть Ленина мне перенесла, поставила.
Купцов сидел в кресле, добрый, размякший, в пижаме поверх белой рубашки с галстуком, очень спокойный, — и не поверишь, что еще утром, днем у него было угрюмое, отчаянное выражение, что шло долгое бюро, на которое из-за распутицы половина народа опоздала, а три человека вовсе не приехали. К Ляху обращался он грубовато-милостиво, несколько раз подчеркнул, что Лях, мол, молодой совсем.
— Из молодых, да ранний, — смело, со смехом отвечал Лях.
Он был местный, кувалдинский, восемнадцати лет стал работать учителем, потом уехал в Москву, в Тимирязевскую академию. Проучился почти четыре года, вернулся без диплома и с партийным выговором: поссорился с профессорами. Злой, как тысяча чертей. Книг навез два чемодана, да еще багажом потом пришел ящик. Хоть диплома не получил, но в Кувалдине взяли его агрономом, и к моменту этого разговора с Купцовым Лях работал уже третий год. Прославился сразу тем, что не хотел кукурузу сеять, а когда заставили все-таки, посеял вполовину меньше того, что велели. И состоялся тогда у них с Карельниковым памятный разговор (Карельников только еще приехал в Михайловск).
— Что ж, — говорил Лях, сидя один на один с Карельниковым в кабинете и вызывая у Карельникова чуть ли не ярость своим развязным городским видом, манерой прямо говорить о том, о чем никто в открытую не говорит, и, главное, открытой насмешкой и неприязнью к нему, Карельникову, секретарю райкома. — Что ж, — говорил он, — завтра вас заставят медведей в Выдринском лесу разводить, вы и будете разводить?
— Да, будем! — со злостью отвечал Карельников.
— Вон что! — Лях посмеивался, но узкое лицо его, усыпанное рыжими веснушками, подрагивало от злости. — Если будете, то нам и говорить тогда нечего.
— А не будем, — сказал в запале Карельников, перегибаясь через свой стол и почти ложась на него грудью, чтобы приблизить лицо к Ляху, — а не будем, то нас уберут, а вместо нас других поставят, которые будут. Ясно?
— Ясно, — Лях продолжал усмехаться, — своя рубашка ближе к телу. А кто поставит-то?
— А тот поставит, кто интересы государства соблюдает, а не интересы одного колхозишка!
— Колхозишка! — Лях встал со стула, огляделся, проверяя, одни ли они в кабинете, и, тоже наклонясь к Карельникову поближе и глядя прямо в глаза, сказал: — Пошел бы ты тогда к такой-то матери, понял?..
С той поры прошло много времени, с Ляхом друзьями стали, по ночам то у него в Кувалдине, то дома у Карельникова все дела и мысли обсудили, самое главное выяснили: не хочется и Карельникову «медведей разводить». Вспоминали не раз и тот, первый, разговор, смеялись. «Я тебя из партии собирался выгонять, в тюрьму мог бы запичужить», — говорил Карельников. «Я и ждал, — смеялся Лях, — приехал от тебя, чемодан стал складывать, да одумался: ни черта он мне не сделает, не те времена». — «Те не те, сделал бы». — «А шут с тобой, — отвечал Лях, — я не боюсь. Это что — стоять за правду, ты за правду посиди, как говорится…»
Он и в самом деле не боялся ничего, рубил сплеча, и Карельников не раз учил его быть потише, поосмотрительнее. Но без толку. Теперь, у Купцова, тихий домашний разговор быстро перешел тоже в перепалку и сдвинулся на политику, на положение дел в районе и вообще в стране. Удивительное дело. Карельников давно заметил такую штуку: где бы и какие люди ни собрались — в чайной ли, в поезде, в гостинице, в гостях ли друг у друга, — о чем бы ни завели сначала разговор — о выпивке, о бабах, о ребятишках, — все равно в конце концов перейдут на спор и крик насчет того, что ж это у нас делается да когда же это будет порядок. Врачи толкуют о своем, инженеры о своем, учителя, рабочие, журналисты, даже военные, кого ни возьми, — каждый расскажет какую-нибудь нелепицу, и у каждого душа болит, каждый видит и понимает беспорядок, видит, как сделать лучше. Видит, а сделать может мало, и оттого тот, кто посильнее, кипит злостью, а кто послабее, вовсе машет рукой: «Да ну его все к черту, бесполезно, плетью обуха не перешибешь!» Как будто какой-то бог надо всем витает, право слово, и всех по рукам связывает — витает, и все тут, хоть тресни!..
Как ни старалась Инна Ивановна смягчить разговор, перевести в шутку, как ни останавливала то Ляха, то мужа, но они перешли на крик, а потом и на оскорбления. Выслушав поначалу Ляха, Алексей Егорыч прямо сказал:
— Это все глупости! Это значит, крути назад, так, что ли?
— Ну, если ошиблись, то ошибку лучше исправлять, а не углублять.
— Да почему это ошиблись? Кто сказал?
— Зачем же ждать, пока кто-то скажет, так, что ли, не видно?
— Кому видно-то? — В этом месте разговора Алексей Егорыч еще не упускал из внимания телевизор и чувствовал себя правым.
— Да хоть мне! — говорил Лях.
— Ну, это… — Купцов смеялся. — Это… извини, конечно, агроном, но это еще не велика колокольня-то… Повыше есть.
— А не очень ли высоко-то будет? От земли-то? — спрашивал Лях. Он тоже пока держался спокойно, усмехался, его привычка спорить помогала ему.
Карельников не вмешивался, не поддакивал ни тому, ни другому, но Купцов, видно, понял, что Карельников оставляет его одного против Ляха, и не обращался к Карельникову. Инна Ивановна, как почувствовал Карельников, тоже осталась на стороне Ляха. В каком-то месте она даже сказала: «Вот и я Алексею Егорычу говорю…»
Разговор длился долго, стали кричать.
— Медведей прикажут разводить, — вспомнил Лях, — тоже станете?
— И станем! — кричал Купцов. — Станем, если надо! А вы иждивенцы, вас работать надо заставить, как мы работали! Рассуждать много научились, а работать — дядя! Молодые! Смена растет, надежда! Да на такую смену глаза не глядят! Работать надо, ра-бо-тать, а не языком трепать! И без ваших планов работы хватит, успевай только!
— Да зачем же волоком тащить, пуп надрывать? Вот это-то нам зачем дадено? — Лях стучал себя кулаком в лоб.
— Во-от! — со злорадством отвечал Купцов. — Вам бы только ручек не замарать! Смене-то нашей! — Он победно обводил всех взглядом, но Карельников смотрел в пол, а Инна Ивановна не смотрела на мужа тоже.
— Думаете, только вы болеете за страну, за свой народ, а нам наплевать, да? — Лях уже понимал, что Купцова не убедить, и ему стало все равно, он тоже перешел на крик. — А не кажется вам, что вы уже больше за себя болеете, за свой престиж?..
Потом пошли вообще невообразимые слова, и кончилось дело почти скандалом.
— Мальчишка! Всякий сопляк, понимаешь!.. — кричал Купцов в комнате, когда Лях уже яростно натягивал ботинки в прихожей. — Мы жизнь прожили!..
Инна Ивановна его увещевала.
Лях, открыв дверь (Карельников решил остаться, чтобы успокоить немного Купцова: он чувствовал себя виноватым перед ним), закричал напоследок через коридор:
— Вы бы лучше Ленина достали да почитали!
— Мальчишка! — крикнул в последний раз Купцов, уже сдерживаясь, уже оценивая то, что произошло, и то, что сам кричал в запале и как вел себя.
Словом, все вышло так, что хуже не придумаешь. Карельников еще посидел молча, глядел, как наливает Инна Ивановна мужу лекарство, — по комнате запахло валокордином.
— Деятели, понимаешь… Стиляги, понимаешь. — Купцов должен был еще выпустить, выговорить последние слова, Инна Ивановна показала Карельникову глазами, чтобы он больше не спорил.
Карельников посидел, помолчал и незаметно ушел. Ушел, думая, что ему больше не работать с Купцовым: уж очень он расписал ему накануне Ляха.
Но на другое утро, когда встретились в райкоме, Купцов не вспомнил вчерашнего, только вид у него был угрюм и обращение официальное. Потом постепенно, за делами, скандал с Ляхом забылся. Только однажды при случае Алексей Егорыч сказал:
— Неужели своих дел у нас каждый день мало? Что ты еще-то себе на шею вешаешь?.. И в людях надо разбираться получше: не заметишь, как под монастырь подведут.
Карельников долго не напоминал о Ляхе, но потом, месяцев через пять, дела стали поворачиваться так, что все заговорили о том, о чем толковал раньше Лях. А теперь вот, спустя год, все настолько изменилось, что они с Купцовым решились посылать в обком записку. А ведь в записку попала не одна мысль непутевого кувалдинского агронома.
И именно к нему ехал теперь Карельников, чтобы рассказать о постигшей записку судьбе.
Он мог спокойно предаться своим мыслям, потому что впереди, метрах в двухстах, ровно шла «Волга» Нижегородова. Карельникову оставалось лишь машинально повторять ее ход, снижать или прибавлять скорость, вслед за ней объезжать лужи, держаться в ее колее. Дорога поднималась все выше, слева густел лес — это был тот самый Выдринский лес, о котором любил упомянуть Лях и который почти как свой, колхозный, пользовал Нижегородов, имевший, разумеется, «своих людей» в лесничестве. Справа отлого вниз уходили поля, весело зеленевшие молодой светлой озимью. А ниже опять луга, луга, а за ними снова лес. Солнышко продолжало светить, просторно было и светло, и Карельников подумал: «Красивая земля…». Ему стало совсем тепло, он давно ехал без куртки, а теперь снял и кепку. Он снова вспомнил дом с занавесками и нынешнее утро, как он собирался и выехал, — показалось, это было давно, вчера или позавчера, а прошло всего полдня.
Они проехали примерно полпути до Замурзаевки, и Карельников, отвлекшись, стал думать про Замурзаевку и про то, как и во сколько приедет он в Кувалдино. Но тут (дорога забирала влево, к лесу, и поля справа ровнялись, делались просторнее) он увидел, что «Волга» впереди приблизилась, стоит, и там, возле нее, и мотоцикл Винограденко, и еще грузовик, лошадь, а издали, из-за загиба поля, напрямик к этому месту движется трактор с сеялкой.
Через полминуты и Карельников подъехал сюда. Он глянул на свое раскрасневшееся лицо в машинное зеркало, надел кепку и вышел, оправляя рубаху под ремень солдатским, спереди назад, жестом.
Нижегородов, его бригадиры, капитан (Карельников как-то позабыл о нем, пока ехал) уже вышли и стояли группой с другими людьми, колхозниками, среди которых Карельников узнал знакомого старика Ивана Яковлевича. Собственно, не такой он и старик, лет шестидесяти, но носит бороду, усы короткие, побитые сединой. Сам сухощав, невысок, но крепок, молчалив и имеет привычку, держа руку возле рта, мелким, обезьяньим жестом, щепотью потрагивать, пощипывать бороду подо ртом и усы. Думает, молчит и пощипывает.
— Сею-д, — отвечал он теперь Нижегородову, — два-д гона-д прошел пока-д, а там-д хрен-д его-д знат…
На старике были доверху извоженные в грязи сапоги, такой же, как сапоги, грязный и мокрый ватник и зимняя шапка. Прищурясь от солнца и потрагивая бороду и усы, он глядел на медленно приближающийся трактор.
«Сеет, черт эдакий», — Карельникову весело стало от вида работающих людей, от крепкого, напряженного звука трактора и особого запаха «посевной земли» — запаха плотного, полного, густого, извнутреннего — так и кажется, что земля дышит и обдает тебя, как изо рта, живым и теплым дыханием. Самые это лучшие дни — сев и жатва.
Карельников поздоровался со всеми за руку: с парнем-шофером, с бабой-возницей, которая стояла возле телеги, нагруженной мешками с зерном, с Иваном Яковлевичем.
— Сеете, значит? — тоже спросил он старика.
— Сею-д, — отвечал Иван Яковлевич, — маленько-д хоть взять, а то беда-д…
Трактор приближался, все умолкли и ждали его. В стороне разговаривали капитан с Райхелем, видно подружившиеся за дорогу. Райхель сказал громко:
— Да это что! Это уж известно! Народ больно шерудированный стал, все превзошли!..
Нижегородов поманил Карельникова, чтобы тот наклонил к нему ухо.
— Слышь-ка, Виктор Михайлыч, майор рассказывает… в Америке-то…
— Ну?
— Вот сидит, значит, на взгорочке человек в шляпе, в кресле, значит, складном. А рядом — вездеход, под рукой, значит. А над ним зонтик, от жары чтоб. И еще у этого человека на груди бинокль, на машине рация, и он сидит и из холодильника пиво достает и хлещет…
— Ну? — Карельников усмехался.
— Ну вот. Кто такой, думаешь? Сидит себе и в бинокль осматривается?
— Ну и кто же?
— Не угадаешь? А пастух это ихний, вот кто!
— Ну и что?
— Арригинально!
— Да ну тебя, Сергей Степаныч!
— Чего? Врет, думаешь?
— Может, и не врет. Ну, а что тебе-то?
— Да ничего, конечно, но арригинально! В бинокль и пиво жрет…
Трактор был совсем близко. Тракторист, высунувшись из кабины, кричал назад прицепщику и севцам. А еще через минуту, не дойдя до края поля, стал разворачивать трактор сеялками к дороге. Возница потянула вожжи, Иван Яковлевич, а за ним вся группа перешли к месту разворота трактора. На ходу Карельников еще сказал Нижегородову:
— Возьми да и ты своим пастухам по биноклю купи, пусть глядят.
Когда трактор остановился, севцы и прицепщик спрыгнули со своих мест, поспешили к подводе с мешками. На левой сеялке севцом стояла молоденькая девчонка в распахнутом ватнике и резиновых сапогах. Карельников ее узнал, это была Любаша Мошкова, солистка районного самодеятельного хора. Хорошенькое ее личико густо покрыла пыль, ватник тоже был в красноватой — от протравы — пыли. Она подбежала к подводе, вместе с другими стала вытягивать тяжелый мешок с зерном. Карельников подошел помочь.
— Здравствуй, Любаш! — сказал он.
— Здрасте, Виктор Михайлыч, здрасте! — Лицо разгоряченное, глаза веселые. — Да что вы, спасибо, мы сами!
— Ладно, ладно. Ты чего тут?
Любаша работала у Нижегородова в детских яслях; в поле или на ферме Карельников никогда ее не встречал.
— А я люблю! — сказала Любаша. — Я на сев всегда прошусь, весело!
— А не тяжело?
— Да ну!
Карельников взбросил на плечи тяжелый мешок, пошел, глубоко, увязая в сырой, жирной земле. Любаша бежала рядом, и они вместе ссыпали красное, сухо зазвеневшее зерно в бункер красной, еще свежей после ремонта сеялки.
— Спела бы, что ли! — весело сказал Карельников.
— А я там пою! — в тон ему ответила Любаша и кивнула в поле. — Сегодня как пошли в первый гон, так я запела. Володька смеялся вон!
Она показала глазами на второго севца — низенького, крепкого парня, который тоже принес мешок на свою сеялку и поглядывал оттуда на них.
— Мы нынче всю ночь ждали, — говорила Любаша. — Иван Яклич говорил: утром начнем. А утром опять дождик. Вот только и начали.
Сеялки загрузили быстро. Карельникову досталось отнести только два мешка. Нижегородов поговорил с трактористом, и тракторист снова пошел к машине и занял свое место в кабине. Невыключенный, ровно стучавший мотор взревел, и весь агрегат — трактор и три сеялки — двинулся и сразу ходко пошел вперед. Любаша помахала рукой и засмеялась.
— Хоть бы до вечеру-д походил, — сказал рядом с Карельниковым Иван Яковлевич. Он ощипывал бородку и глядел не на трактор, а вверх, на восток, где опять по голубому небу натягивалась белая марля.
— Ну ладно, — сказал Нижегородов, — айдате, а то соскучил у нас майор. Соскучил, товарищ майор?
— Нет, ничего, — скачал капитан, — интересно. На полях страны, как говорится.
— Это что! — Нижегородов опять засуетился. — Сейчас не то увидишь! Сейчас мы тебе Бурцева представим… Ну ладно, Иван Яклич, так ты ночь-то сей, если что.
— Знамо-д, — сказал старик.
Все распрощались, сели по машинам. Только Карельников постоял еще, глядя на удаляющийся трактор.
Винограденко возвращался, чтобы объехать другие поля, посмотреть, как там дела, и распорядиться насчет семян. Грузовик пошел следом за ним.
Райхель с капитаном и Нижегородов опять сели в «Волгу». Тут, на краю поля, остались Иван Яковлевич да баба-возница, которая прилегла на землю, на пустых мешках, как только отъехало начальство.
Карельников наклонился очистить сухой веточкой сапоги и близко перед глазами увидел гладкий, перевернутый лемехом, не попавший под борону пласт земли — в прожилках белых корешков, старой травы. Землю вокруг осыпало светлое красноватое зерно, и пахла она опять сырым сильным запахом — духом весны, сева, работы. И Карельников сказал себе: «Нет, ничего. Ничего, ничего…»
Минут через двадцать, догнав «Волгу», которая легко, на хорошей скорости, шла по подсохшей дороге через сосняк, Карельников вслед за нею въехал в Замурзаевку. Лесная эта деревня, несмотря на название, была маленькая и аккуратная, с чистыми домами, половина крыта железом. Промчались по пустой почти улице, пугая кур и маленьких ребятишек, выползших на солнышко, — дом Бурцева находился на том краю, немного на отшибе.
Дом был старый, но с переделанной, непривычно для этих мест приподнятой шатровой крышей — там, на широком чердаке, Бурцев оборудовал себе комнату для работы. Еще отличался дом пышно вырезанными кружевными наличниками, выкрашенными в голубое, и знаменитыми водосточными трубами, о которых далеко шла молва. Когда Карельников подъехал, Нижегородов, приобняв капитана за талию, уже показывал ему эти трубы.
Бурцев, самоучка-скульптор, в некотором роде достопримечательность Михайловского района, сделал водосточные трубы в виде русалок: от деревянных, по полметра примерно, баб с зелеными волосами и коричневыми круглыми, как яблоки, грудями шли трубы и внизу заканчивались зелеными рыбьими хвостами. Поднятыми руками русалки поддерживали карниз и смотрели на прохожих круглыми глазами. Говорили, что ни одна старуха не пройдет мимо, чтобы не плюнуть в сторону деревянных баб.
В следующую минуту Карельников увидел и самого Бурцева. В желтой майке и надетом поверх пиджаке, в солдатских выцветших штанах, он выскочил на крыльцо, а следом за ним его домашние: дети, тетушки, сестра или племянница с младенцем на руках — человек восемь или десять. Лицо у Бурцева круглое, щекастое, оживленное, маленькие глазки так и сияют — он всегда рад гостям. Происходил он из чувашей. Несмотря на полноту, двигался быстро, живо, суетливо. Лет пять или шесть назад, когда над Бурцевым только смеялись, когда он жил впроголодь с многочисленным семейством в развалившемся доме, какой-то путешествующий столичный корреспондент явился в Замурзаевку и написал о Бурцеве в газете. Затем к Бурцеву приехали из областного управления культуры и взяли у него в областной музей деревянного коня с всадником — Карельников своими глазами видел этого коня в музее. Толстый богатырский конь с длинной гривой вылетал, как из волны, из куска дерева, слившийся с ним всадник в буденовском шлеме держал пику наперевес. Карельников мало понимал в таких вещах, но конь ему понравился. Да и многим он нравился, так что Бурцев с тех пор по сей день делал небольшие копии своего коня, и их можно было встретить у областного и местного начальства. Был такой конь и у Карельникова. Правда, Бурцев иногда вместо буденовца изображал на коне монгола, или пугачевца, или русского богатыря, и тогда скульптура соответственно называлась «Добрыня Никитич» или «Салават Юлаев». Но конь оставался неизменным. И еще то было интересно, что каждый конь и каждый всадник чем-то смахивали на самого Бурцева. Впрочем, и в других бурцевских работах можно было заметить это сходство.
С тех пор Бурцев прославился. Нижегородов взял его под свою опеку, всем хвастал, что у него в колхозе свой; скульптор, ни в чем Бурцеву не отказывал. И Бурцев расцвел.
Теперь Нижегородов решил поразить Бурцевым «майора».
— Ну, Ваня, — кричал он громко, — покажь-ка! Покажь, чего у нас есть!
Бурцев, сияя круглым хитрым лицом, радостно пожал всем руки, глазки его не столько глядели на капитана, сколько на Карельникова, и суетился он больше возле Карельникова, и Карельников тотчас вспомнил: кто-то говорил, что Бурцев обещал — и аванс взял — сделать для пионерлагеря пионерку со знаменем и пионера-трубача, но до сих пор заказа не выполнил. И Карельников похмурился, готовясь напомнить об этом в удобную минуту.
Вошли в дом, чтобы все осмотреть и оценить. Дети, тетушки, собаки по знаку Бурцева остались во дворе, но потом все время кто-нибудь из них прорывался в комнаты и на чердак и молча присутствовал, дышал за спиной. Капитан протирал золотые очки и посмеивался, как человек, которому пообещали чудо, но который в чудо не верит. Нижегородов ступал впереди, обгоняя самого хозяина, и часто прерывал его, объясняя, чем замечательна та или иная вещь.
В первой обширной горнице рассматривали живописные картины Бурцева и расписанные им деревянные подносы, висевшие по стенам, — сказочные букеты самых ярких цветов — какие именно тут изображены цветы, Карельников, например, не мог бы сказать, пожалуй, Бурцев их сам выдумал. Какая такая в них красота, Карельников тоже понять не мог. Но капитан заинтересовался, оживился и стал быстро говорить с Бурцевым, часто упоминая слово «примитивизм». Чего-то, видно, капитан понимал, как в шампанском, и Бурцев оживился тоже и потом, объясняя и показывая, обращался уже больше к капитану.
Поднялись наверх — здесь на полу, на длинном столе, на полках, стояло с десяток начатых, небольших и покрупнее, бурцевских изделий, валялись куски дерева, разных размеров стамески и деревянные молотки. Внимание всех привлек выкрашенный в серебристую краску большой бюст старухи с печально опущенным лицом. Она совершенно походила на Бурцева, и все по очереди, поглядев на портрет, переводили взгляд на автора, чтобы удостовериться в сходстве. Оказалось, это портрет умершей бабушки. Бурцев начал было объяснять — так же оживленно, как про подносы, но Нижегородов перебил:
— Да это что! Ты покажи-ка, покажи-ка секрет!
Бурцев засмущался, но Нижегородов сам оборотился к кому-то из домочадцев, сгрудившихся в дверях, и тут же был принесен ковш воды.
Секрет в том заключался, что воду выливали в дырочку на макушке и из-под опущенных век бабушки медленно выплывали на серебряные щеки слезы.
Все примолкли и загрустили на минуту, один капитан несколько опешил и не знал, что сказать. Карельников, поскольку сам понимал мало и потому уже приноровился слушать капитана и как бы его глазами глядеть и оценивать, тоже подождал высказать мнение, хотя «секрет» его поразил, — надо же такое придумать!
— Странно, странно, — сказал капитан, — вот уж никогда не думал!
Карельников понял, о чем капитан говорит, и ему самому пришло в голову, что это действительно странно: сидит в лесу, в какой-то Замурзаевке, человек, семейный, в летах, никому не ведомый, и занимается, как помешанный, вот эдакими штуками. Что это? Почему? Зачем?.. В самом деле странно.
Между тем Нижегородов громко и горячо объяснял, что бюст, выставленный на воле, все время будет наполняться дождевой водой и вечно плакать.
Спустились. В сарае глядели на нового огромного коня — та же грива, вздутые ноздри, еще только намеченный, но незаконченный всадник, в котором, однако, можно было угадать — по бурке и папахе — Чапаева. Затем вышли на просторный задний двор, тут уж снова объявились все молчаливые и внимательные домочадцы, и на этом дворе увидели большую, во весь рост, тоже выкрашенную в серебряную краску скульптуру — человека в шляпе, в длинном пальто, с тростью в одной руке и с яблоком в другой. Карельников уже знал, что это Мичурин, хотя похоже было больше на писателя Чехова и опять-таки на самого Бурцева. Второй, точно такой же Мичурин длинно лежал на земле рядом с первым, а чуть поодаль, по грудь закопанный в землю, торчал третий Мичурин, только без шляпы. Этот совсем был вылитый Бурцев.
Опять-таки, на взгляд Карельникова, Мичурин был неплох, вполне можно поставить в Михайловске на берегу пруда, на новой набережной или в парке Стекольного завода. Но капитан вдруг засмеялся, сказал что-то Бурцеву, и тот стал смеяться тоже и говорить: «Это старое, старое…» И Карельников понял, что все эти Мичурины никуда не годятся и странное их кладбище так и останется здесь навсегда, на бурцевских задворках. И Карельникову немного неловко стало за себя, что ему Мичурин нравился.
Бурцев опять позвал всех в дом, и по суете среди домашних стало ясно, что там готовится угощение. Райхель направился к машине. Карельников поглядел на часы и решил ехать, не задерживаясь. Он даже не пошел в дом.
Его уговаривали, Нижегородов кричал всех громче. У Бурцева сделался виноватый вид, но Карельников сказал, что ему пора. Да и в самом деле, когда он теперь доберется до Кувалдина и когда домой? Он опять вспомнил, что Надя должна звонить, что Лях ждет его весь день, вспомнил про Пруды, о которых так и не поговорил с Нижегородовым, и про мешок комбикорма, увезенный у Марфы.
— Пора мне, пора, — сказал он твердо, — спасибо за компанию.
Он распрощался со всеми во дворе, сел в машину, и все стояли, не уходили, провожая его. Капитан впервые поглядел на Карельникова с интересом, спрашивал у Нижегородова, но Нижегородов сделал неопределенный жест, не желая, видимо, и под конец объяснять капитану, что за человек пробыл с ними полдня. Карельников махнул всем и поехал.
Его задело, он продолжал думать о том, почему капитан понимает и может поговорить насчет Бурцева и вообще искусства, а он, Карельников, в этом деле ни бе ни ме. Читать надо, учиться, быть в курсе. Надо, надо, обязательно надо. Но когда? До того ли, если газеты с утра прочесть некогда, читаешь уже в постели, на ночь глядя? А книг, журналов, кино всяких — миллион, разве успеешь? И главное, быстро все делается, быстро все меняется — месяца три не походишь в кино, потом пойдешь, а там тебе уже такое завернут, что диву даешься, откуда что взялось, такого и не показывали сроду.
Он ехал опять краем леса, дорога шла вниз и вниз, и справа, за лесной мелочью, промелькивала низина, куда надо съехать, а там открывалось издали и Кувалдино, разбросанное, ярмарочное когда-то село с широкой площадью И тоже, как в Пеплово, церковью посередине. На колокольне среди голых прутьев, оставшихся от купола, росла береза.
К дому Ляха Карельников подъехал, когда снова стал мелко брызгать дождь. Длинная кривая улица была пуста, во дворе, куда Карельников вошел, толкнув калитку в высоких глухих воротах, тоже никого. Шелестел под дождем маленький густой сад, дом с пристроенной, на дачный манер, стеклянной верандой и высоким крыльцом стоял в глубине и тоже выглядел пустым. Карельников уже поднялся на крыльцо, и только тогда отворилась дверь и стала на пороге Тамара, жена Ляха, в спортивных обтягивающих штанах и такой же кофте с белой полоской по горлу. На лице очки, в руках книга.
— Виктор! Наконец-то! — сказала она. — Целый день ждали! Проходи, проходи!
Карельников вошел, разделся. Сенцы, веранда, комнаты — все в доме Ляха маленькое, тесное, трижды перегороженное, и, едва переступив порог, чувствуешь себя будто в городской квартире, а не в деревенском доме. Еще оттого похоже, что всюду взгляд натыкался на книги, картинки, портреты и фотографии, на коврики, безделушки, «думочки», полочки, опять на книги. Дом достался Ляху от отца, тоже агронома, давно умершего, но все сохранялось, как при отце, даже венские стулья с плетеными сиденьями, о которых Лях говорил, что такие же стулья стоят у Толстого в Ясной Поляне. Тамара больше всего на свете любила лежать и читать, и в любом уголке дома можно было найти удобное старое кресло, с лампочкой над ним, или кушетку, или диван с брошенным на него теплым платком, и, куда ни сядешь, где ни пристроишься, делается сразу уютно, спокойно и тепло.
Оказалось, Ляха нет: не дождавшись, он уехал с бригадиром по полям, обещал скоро вернуться. Тамара провела Карельникова в тесную узкую комнатку с окном в сад — кабинет мужа. Здесь тоже было набито книг, на письменном столе горой лежали бумаги и книги.
— Ты, наверное, есть хочешь? — спросила Тамара. — Могу обедом накормить. Или подождем?
— Подождем, — сказал Карельников. Он взял со стола первую попавшуюся книгу и сел на низкий диван.
— Ну, посиди тогда, — сказала Тамара, — развлекать тебя не надо?
— Переживем.
Она кивнула и ушла. Странная жена у Ляха, интеллигентка. Он привез ее из Москвы, она закончила университет и теперь учительствует в кувалдинской десятилетке. Лях рассказывал: они поклялись всю жизнь жить в деревне. Но Москву не забывают: и ездят туда часто, и переписываются, и тьму денег тратят на книги да на журналы. Все знают, ничего не упускают, читать могут день и ночь. И это все больше она, чем он. Чудаковатая малость. Но ничего.
Книга, которую держал в руках Карельников, была старая, захватанная, распухшая от закладок и мелких записок, вложенных между страницами, а сами страницы сплошь исчерканы красным и синим карандашом. Это были письма «Из деревни» Энгельгардта — одна из любимых книг Ляха. Карельников стал листать и читать на выбор подчеркнутое.
«…Положим, что я, например, оставил бы всю землю моего имения в диком, некультивированном состоянии и завел бы такую систему хозяйства: со всей земли собирал бы траву, которая родится сама собою, без всякой культуры, скармливал бы эту траву скоту и весь навоз складывал бы на одну десятину при усадьбе и вел на этой десятине интенсивное хозяйство, разводил бы, например, спаржу, шампиньоны, ананасы. Это было бы очень интенсивное хозяйство, оно могло бы быть очень выгодно для меня, но что толку было бы в этой интенсивной системе хозяйства, какой интерес могла бы она представлять и стоило ли бы работать над этим…»
«…Конечно, если вы станете разводить турнепсы в Смоленской губернии, или садить кукурузу, конский зуб для силосования, или разводить живокость, или что там еще есть нового — росичка, кажется? — то мужик перенимать у вас не станет. Мужик сер, да не черт его ум съел…»
«…Перестали ходить в Москву на заработки, з а н я л и с ь з е м л е й, и дворы стали богатеть…»
«…И с чего такая мечта, что у нас будто бы такой избыток хлеба, что нужно только улучшить пути сообщения, чтобы конкурировать с американцами?
Американец продает избыток, а мы продаем необходимый насущный хлеб. Американец-земледелец сам ест отличный пшеничный хлеб, жирную ветчину и баранину, пьет чай, заедает обед сладким яблочным пирогом или пампушником с патокой. Наш же мужик-земледелец ест самый плохой ржаной хлеб с костером, сивцом, пушниной, хлебает пустые щи, считает роскошью гречневую кашу с конопляным маслом, об яблочных пирогах и понятия не имеет… У нашего мужика-земледельца не хватает пшеничного хлеба на соску ребенку, пожует баба ржаную корку, что сама ест, положит в тряпку — соси… Ведь если нам жить, как американцы, так не то чтобы возить хлеб за границу, а производить его вдвое больше теперешнего, так и только впору самим было бы. Толкуют о путях сообщения, а сути не видят. Американский мужик и работать умеет, и научен всему, образован. Он интеллигентный человек, учился в школе, понимает около хозяйства, около машин. Пришел с работы — газеты читает, свободен — в клуб идет. Ему все вольно. А наш мужик только работать и умеет, но ни об чем никакого понятия, ни знаний, ни образования у него нет. Образованный же, интеллигентный человек только разговоры говорить может, а работать не умеет, не может, да если бы и захотел, позволит ли начальство…»
Карельников приостановился, усмехнулся и, чувствуя волнение от прочитанного, перелистал несколько страниц, чтобы заглянуть в конце статьи на дату. Там стояло: «17 декабря 1880 года».
Он поднялся, подошел к окну, сунув книгу под мышку, закурил. За окном было зелено, по близким к стеклу листьям сбегал каплями дождь. Он снова открыл книгу и перечитал еще раз последнюю страницу. И опять поглядел на дату. «Н-да, интересно…» А вот новое, особенно жирное отчеркиванье красным карандашом и восклицательные знаки на полях:
«…Счастлив тот, кто спокойно ест свой хлеб, зная, что он заработал его собственным трудом. Может ли быть человек спокоен, счастлив, если у него является сознание, что он ест не свой хлеб?.. Не оттого ли так мечется наш интеллигент, не оттого ли такое недовольство повсюду?.. И чего метаться? Идите на землю, к мужику! Мужику нужен земледелец-агроном, нужен земледелец-врач на место земледельца-знахаря, земледелец-учитель, земледелец-акушер. Мужику нужен интеллигент-земледелец, самолично работающий землю. России нужны деревни из интеллигентных людей…»
Вот он весь Лях в этом, тут же подумал Карельников. Это его отчеркивания, его восклицания, его программа. Сколько раз Карельников слышал от него подобные слова. И сам он изо всех сил выполняет их… Но где же сам он?
Карельников поискал глазами, куда стряхнуть с папиросы пепел, и вышел, чтобы спросить у Тамары пепельницу. Хотелось поделиться прочитанным. Тамара сидела на веранде в кресле, поджав под себя ноги, подняла лицо от книги.
— Черт знает, где его носит! — сказала она.
— Да ничего, — сказал Карельников. — Я, пожалуй, поеду, поздно. Может, по дороге встречу. Он куда подался-то?
— Кажется, в Щекутьево, о Щекутьеве у них был разговор. Но может, я покормлю тебя? Надя-то дома? Как они там?
Карельников рассказал про Надю, что он именно торопится к вечеру домой, чтобы поговорить с ней. Он понял, что если Ляха сейчас нет, то он не скоро и будет, можно прождать долго. Да и было такое ощущение, словно он уже поговорил с Ляхом.
Тамара не задерживала его, не уговаривала — церемонность не в ее привычках: хочешь — сиди, хочешь — уходи. Она и сама может встать от стола с гостями, как было однажды, и уйти лежать в гамаке в саду: дескать, надоело с вами сидеть и слушать все одно и то же. От этой суховатости становилось немного не по себе. К тому же Карельников наедине с нею не знал, о чем говорить: чувствовал, что сам ей тоже неинтересен. Вот и сейчас понял, что ничего не скажет про Энгельгардта. Он отказался от обеда и решил ехать.
— Скажи, значит, что был, что дня через три будем актив собирать, пусть готовится. Если, конечно, погоды не будет. Да и вообще приезжайте.
— Куда ж сейчас! Экзамены, — сказала Тамара.
Они поговорили об экзаменах, о делах в кувалдинской школе (Карельников считал, что через год-другой Тамару надо сделать директором или завучем), и она проводила его, выйдя опять с книгой на порог.
Дождь продолжал сыпать. И то ли от дождя, то ли оттого, что не повидал Ляха, то ли от прочитанного, то ли от равнодушия Тамары к нему, Карельникову сделалось одиноко и скучно. Или не хотелось возвращаться в пустой, неприбранный дом? Или хмель вышел? Ну ладно.
Он поехал по Кувалдину медленно, еще надеясь встретить Ляха, но село было пусто.
Нижняя дорога от Кувалдина лежала разбитая тракторами и машинами, грязная, в колдобинах, «газик» сразу стал тонуть, вилять, вязнуть, то и дело приходилось включать передний мост, и уже через несколько минут езды Карельникову стало жарко, и все мысли вылетели от единоборства с дорогой. Так ехал он минут сорок, и ни одна живая душа не встретилась, кроме двух девочек-подростков с велосипедами — велосипеды вели по обочине. Дождь не переставал, и делалось нехорошо от мысли, насколько он опять задержит сев.
В маленькой деревне Мордвинке, на краю, уже на выезде, Карельников увидел возле одной избы трактор. Избы здесь стояли просторно, неогороженно, без единого дерева или куста (и без того лес рядом). Неплохо было бы заправиться на всякий случай, бензина оставалось мало. Может, у тракториста найдется? И Карельников подрулил к трактору.
Изба оказалась большая, старая, с полукрытым позади двором, с галереей, но уже само крыльцо скособочилось и дрожало под ногами, и все стояло распахнуто, неприбранно, навалено, будто Мамай прошел. Едва ступил Карельников на галерею, как вокруг заскрипело тоже, задрожало, под ноги выкатились два кутенка, заскулили, а в закутке, в темноте, затокали, заволновались собравшиеся ко сну куры.
Карельников толкнул дверь и вступил в горницу.
— Можно, нет? Здравствуйте!
— Здорово, коль не шутишь! Вот и гостя бог послал!
В нос ударило густым, спертым, заколыхалось пламя керосиновой лампы на столе, забелели обратившиеся к двери лица. От стола поднялся, покачнувшись и засмеявшись на свое качанье, маленького роста мужик в выпущенной из штанов рубахе, босой. Лицо молодое, но голова лысая. Сбоку, прислонясь прямой спиной к стене, сидел второй человек, видно гость, в шинели внаброску. В глубине горницы на кровати полулежала женщина и вокруг нее возились двое белоголовых ребятишек лет по пяти.
— Да ты заходи, заходи, чего там! — говорил хозяин. — Давай погрейся!
Карельников стал объяснять насчет бензина и поймал на себе напряженный, опасный взгляд человека в шинели — бледного, саркастического, словно он хотел уличить в чем: знаем, мол, за каким таким бензином пожаловал.
— Это сделаем! — ответил хозяин Карельникову. — Отольем! У Володи все есть! Да ты садись! — Он уже наливал из бидона в большую молочную кружку розовую брагу. — Откудова сам-то?
— Из Михайловска.
— Из Михайловска? Ха! — едко сказал тот, что в шинели, и Карельникову показалось, что он или сумасшедший, или пьян вдребезги. Еще он разглядел, что у человека нет правой руки — пустой рукав приколот к рубахе.
— Да ладно, брось! — сказал хозяин однорукому. — А ты на него не гляди, черт с ним, надоел!
Карельников снял кепку, сел. На столе — картошка, лук, пустая банка из-под консервов в томате. Хозяйка поднялась и подошла к столу поухаживать. Была она большого роста, молодая, неуклюжая, щеки румяные.
— Я на минуту, — сказал Карельников, — спасибо, не надо ничего. А то темнеет, дорога вон какая.
— Да брось, ночуй! — сказал хозяин. — У Володи места, что ль, не хватит! Брось! Свой брат, шофер!
— Ха! Шофер! — опять сказал однорукий, сверля Карельникова взглядом.
— А ты сам-то кто будешь? — спросил Карельников чуть строго.
Хозяин Володя налил уже всем и тянулся чокнуться.
— Я-то? — однорукий засмеялся, как артист. — А тебе-то зачем, кто я есть?
— Да мне не надо, — сказал Карельников и чокнулся с Володей, давая понять, что не хочет говорить с одноруким.
— Кто буду! Ха-ха! — продолжал однорукий.
— Да ладно вам, Николай Иваныч! — сказала хозяйка густым голосом. — Не можете без скандалу-то?
— Сулейка-а-а Хану-у-ум! — вдруг запел Володя. — Аб тибе-е адной я мичта-а-аю!..
Ребятишки слезли с кровати и стояли теперь в двух шагах от Карельникова, разглядывая его. Можно бы посидеть, поговорить, но однорукий мешал. Да и Володя был уже хорош.
— Ну, ладно, давай зальемся, пока не стемнело совсем, — сказал Карельников и поднялся.
— Зальется он! — сказала хозяйка. — Пущай сидит! — Она пошла к двери. — Давеча приехал, слышу, трактор бухтит, а он не идет. Вышла, а он с трактору-то свалился и лежит в грязи. Доехать доехал, а в дом силов нету войти!
— Что ж, и разговаривать с нами не хотят! — закричал однорукий, но не поднялся и не бросился, как уже ожидал Карельников, а еще прямее прижался к стене и сильнее побледнел. Глаза у него сделались совсем безумные.
Карельников, не отвечая, вышел за хозяйкой. Она, идя впереди, объясняла на ходу:
— А энтот идол, хоть и убогий, а спасенья уж нет. Дружок-то, Николай Иваныч. Когда-то механиком был, а теперь, когда руку-то отрезали, кладовщиком…
— А что с рукой-то?
— Поранился, рану заразил, все и дела. Да он сроду этакий, по тюрьмам уж отсидел, теперя боится, обратно заберут, всех пугается.
Рассказывая, хозяйка достала, разбросав хлам на галерее, канистру. Карельников перехватил ее в свои руки, пошел к машине. Почти совсем стемнело, и дождь продолжал идти, он наливал бак наугад. Хозяйка не уходила, рассказывала с крыльца про мужа и Николая Ивановича.
— А все погода! — сказала она. — Мой-то уж работать горазд день и ночь, сутками не приходит, а теперя что ж? И не посудишь! Пьют да пьют, все одно сеять нельзя.
— Да это уж так, — сказал Карельников, думая о Николае Ивановиче. — А семья-то у него есть?
— У него-то? — хозяйка сообразила, о ком речь. — А как же! Старшая в Михайловском в продавщицах работает, да малых двое. Он мужик-то старый…
Карельников подумал и представил опять, что сказал бы Купцов, увидев Карельникова с Володей-трактористом и этим странным Николаем Иванычем, или как бы он сам, Алексей Егорыч, держал себя с этими людьми. На него бы никакой Николай Иваныч голоса не решился поднять, осекся бы.
Карельников закрыл бак, отнес канистру, в которой еще плескался бензин, к крыльцу, отдал хозяйке рубль.
— Ну, спасибо вам, поеду! — Его подмывало вернуться и послушать еще, что наговорит в запале Николай Иваныч, и потолковать с Володей, но он подумал, что наперед знает, что можно от них услышать. Не стоит. Да и давали себя чувствовать усталость и голод, а ехать еще далеко. Надоело все и захотелось приехать скорей домой, лечь и заснуть.
— А то вправду ночуйте, — сказала хозяйка, — у нас есть где. Они-то хороши уж, угомонятся скоро…
— Спасибо, доеду.
На галерее бухнула, отворилась дверь, заскрипело, упало и послышалось: «Сулейка Ханум», а потом детский голос: «Мамка, мам!»
Хозяйка выругалась и пошла назад. Карельников подождал, думая, что Володя выйдет, но он пел и шумел уже по двору. Карельников сел в машину, зажег фары (в их свете стало видно, как сыплет дождь), посигналил два раза на прощанье и поехал. Но еще долго ему казалось, что он сидит в этой избе, с бледным Николай Иванычем, Володей и хозяйкой с ребятишками.
Дорога опять пошла грязная, трудная, и так почти до самого Пеплова, мимо которого снова надо было проехать. Можно бы завернуть к Нижегородову, но уже не хотелось. Да и навряд ли они вернулись, если Сергей Степаныч повез капитана на пасеку.
Не останавливаясь, Карельников проехал Пеплово, дорога стала забирать вверх. Дождь не переставал, тьма загустела, и не узнать было мест, по которым ехал он утром. Ни о чем не думалось, мелькало в памяти перевиденное за день, то одно, то другое, и он еще не знал, как все это собрать в одно. Чего он промотался весь день, выходной свой, чего выездил? Ничего особенно не сделал, никаких вопросов не решил. Но все-таки вроде не зря ездил, успокоился, устал, отвлекся. Ничего, Алексей Егорыч, ничего, все правильно, главное, чтобы не зря есть свой хлеб, как пишет тот помещик Энгельгардт.
Как всегда, когда едешь ночью один по лесной дороге, было ощущение одиночества и желание, чтобы попался кто-то навстречу или обогнал. Но только выступали в длинном свете фар и уходили назад березы, кусты, дорога. В чистом доме Купцова ходят теперь в тапочках, наверное, читают вслух, глядят телевизор, пьют чай. И что это у Карельникова все не по-людски, по-студенчески, необжито, неустроено, и нет такого порядка и основательности? И главное, в самом нет основательности, солидности и нет покоя.
Обгоняя нынешние впечатления, приходила мысль о завтрашнем дне, о тысяче завтрашних дел, тем более что Купцов не придет, и это будут дела, касающиеся не только сева, но всей жизни Михайловского района. И среди всех дел надо не забыть про мешок комбикорма, который утащили с калды у Марфы. Он представил себя завтра в своем кабинете, где он должен быть выспавшимся, собранным, бодрым, без той расстроенности, которая преследовала его сегодня с утра. Ничего, все войдет в колею.
До нижней дороги, до шоссе, ведущего к Михайловску, оставалось километра два, когда в моторе вдруг зачихало, стукнуло два раза и он мертво, в один миг заглох. Этого не хватало!
Карельников раз, другой и третий попытался завести мотор, но без толку — похоже, что-то с бензоподачей. Пришлось вылезать под дождь, в грязь — он поднял капот и запустил руки в горячий мотор. Сзади, по спине, по куртке, стучал дождь.
Он провозился минут двадцать, вымок, обозлился, не раз помянул своего Толика-шофера — уж очень глупо ночевать на дороге, в получасе езды до дома. И как назло, есть захотелось — просто подвело. Но куда денешься?
Так и пришлось бы ему здесь ночевать, если бы еще минут через пятнадцать позади на дороге не засветили фары, не показалась машина. Карельников стоял и ждал под дождем, и тяжелый грузовик, слепя его, подошел почти вплотную. Он был нагружен дровами, и Карельников подумал, что не иначе как мужики Выдринский лес пограбили ради воскресного дня.
Обе дверцы отворились, из грузовика выпрыгнули и окружили Карельникова трое мужиков в ватниках и кепках, загомонили, заговорили весело, не обращая внимания на дождь, — один высокий, с длинным лицом, молодой; второй, шофер, — коренастый, лет сорока; третий — круглолицый, щекастый, лихой, особенно веселый, балагур. Когда полезли с шофером в мотор и длинный наклонился тоже, Карельников почувствовал: несет водочкой.
— Да че там ковыряться! — шутил третий. — На трос его, и все дела! Тебе до Михайловска, что ль? Давай, а то в чайную не успеем!
— Лесом-то где разжились? — спросил Карельников длиннолицего.
Шофер по тону понял, о чем речь, поднял от мотора глаза, ответил за товарища:
— Это не думай, это у нас в порядке, бумага есть и все, что надо.
— Да я ничего, — сказал Карельников, хотя в другом положении, может быть, и посмотрел, какая такая есть у них бумага.
— А ты, видать, начальник, а? — веселился круглолицый. — Начальник, а? Начальник, а загораешь. Давно загораешь-то?
Карельников не ответил.
В моторе поковырялись минуты три, и он ожил, прочихался, все заулыбались, а весельчак стал кричать, что с Карельникова причитается.
— Чего там причитается, — ответил Карельников, — тут жрать охота, спасу нет.
Шофер вытер ветошью руки, принес из кабины полбуханки хлеба, завернутую в газету, и луковицу. Карельников отломил ломоть, сел в кабину, откусил кусок.
— Вы вперед езжайте, — сказал шофер на «вы», — мы сзади пострахуем, в случае чего.
Так они и поехали: Карельников впереди, грузовик сзади; так выехали и на шоссе, и хотя Карельников мог прибавить скорость и уйти вперед, но не уходил — ему весело было, что они едут следом, что он не один на дороге. Он съел на ходу хлеб, луковицу, заморил червяка, и ему даже пришло в голову: не зазвать ли мужиков к себе — дома есть немного водки, — пускай посидят, поболтают. Но нет, не стоит, конечно, да и не пойдут они.
Возле Михайловска они посигналили ему светом, он остановился.
— Ну как? — закричал шофер, выйдя на ступеньку. — Тянет?
— Спасибо, порядок!
— Ну, бывай. Мы через город не поедем, в объезд тут двинем!
— Ладно! — Карельников усмехнулся: не все, видать, у них выправлено с бумагой.
Балагур открыл дверцу со своей стороны и тоже кричал и махал рукой, но за ревом мотора Карельников не услышал. Грузовик пошел в сторону, и Карельников подождал, провожая его глазами. Потом поехал сам, прямо. Здесь уже было веселее, светили фонари, окна в домах, попадались автобусы и машины. Еще не закрылись магазины, и Карельников решил заехать в продовольственный возле Стекольного, взять чего-нибудь к ужину. К Купцову он решил все-таки не заходить, хотя был лишь десятый час и зайти можно было бы.
Приехав к дому, он увидел, что у Купцовых действительно еще горит огонь в окнах и опять вроде поднялась занавеска на окне, когда он отворял ворота и загонял машину во двор. Но нет, идти не хотелось. Можно позвонить, узнать, как и что, сказать, что устал. Он ведь и в самом деле устал.
Когда он открыл дверь, явился кот, Карельников обрадовался, стал разговаривать с ним, и кот ходил следом, пока Карельников переодевался, умывался, жарил яичницу. Так они вдвоем и поужинали на кухне.
Потом он включил приемник, поймал музыку, звонил из телефонную станцию, спросил, не вызывал ли его Ленинград, потом пометил у себя в блокноте насчет Прудов, мешка комбикорма и других дел. Взял ворох нечитанных газет, папку с бумагами, лег и стал читать. Купцову уже поздно было звонить, и он решил отложить звонок до завтра.
Читалось плохо, лез в голову прошедший день — то Нижегородов, то Винограденко, Любаша на сеялке, капитан, бледный Николай Иваныч, плачущая бабушка Бурцева, Тамара. Он отложил газеты и стал — в который уже раз! — читать записку, которую они возили в обком. Завтра, если бы записку утвердили, можно бы начать работать совсем по-другому, по-новому, но… Ничего, время покажет…
Карельников погасил свет, думал, что сразу уснет, — а то Надя и среди ночи может позвонить, не дождется, — но не спал еще долго, слушал, как шумит дождь, а перед глазами стояла грязная дорога, высвеченная фарами, и уходили назад березы. Долгий этот день все не кончался и, казалось, не кончится никогда.
1966
ПОДЛИННО ФАНТАСТИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ
Лифт
1. Я вошел в лифт, нажал кнопку и перевел дух. Сейчас, сейчас. Сейчас сброшу с себя все, стану под душ, выпью ледяной воды. Была половина четвертого, в четыре у меня обед с моим издателем, я успевал. С десяти утра я болтался по чужому заграничному городу, и теперь руку мне оттягивал пластиковый пакет с покупками, а на плече висела сумка, тоже изрядно тяжелая.
Лифт не закрывался, и я нетерпеливо нажал кнопку во второй раз.
Именно нажал, хотя к этим кнопкам достаточно было поднести палец, и в глубине начинала мерцать цифра вашего этажа. Мой номер — «14» — исправно, электронно сигналил.
Я хотел выйти и просто-напросто перейти в другой лифт, но я устал, я торопился. И потом лифт был явно в порядке: свет горел, кондишн обвевал прохладой мою голову, огонек мерцал, — в чем дело?
Правда, несколько странно, что я оказался один, — никто не вошел сюда до меня и не влетел сейчас следом, как водится в больших отелях, где хоть сто лифтов поставь, все равно не хватит. Обычно в такое время лифт набивался битком за считанные секунды. Но в конце концов это даже лучше: можно быстрее уехать, никого не ждать.
Прошу прощения, но я стремился не только в душ, но и в туалет.
Я нажал кнопку в третий раз.
Замечательная кнопка, серо-стальная, под цвет панели, из которой она едва выступает. Сенсорная система. Вот еще кнопки, вот черная, вот красная. Надписи по-шведски.
Я нажал черную и затем чуть подпрыгнул на месте, по старинке, чтобы сотрясти лифт и пустить его в ход.
И тут же мне стало неловко. Т а к и м образом обращаться с т а к и м лифтом! У меня под ногами не произошло даже колебания.
Я сконфузился. Мой поступок зарядил атмосферу лифта неким снисходительным ко мне отношением.
Я в п е р в ы е присмотрелся к лифту: это была безукоризненно исполненная, скругленная, как купель, стальная кабина. Никакой лишней детали. Стальной молдинг без единого винта держит собою светящийся потолок, второй охватывает по периметру тефлиновый пол. Такая же штука — поручень — обрамляет стену-зеркало. Всё. Фирма шлет вам привет от лучших дизайнеров мира.
В зеркале сквозь открытую дверь отражалась часть холла и я сам, потный, с прилипшими ко лбу волосами, с поклажей, в белом, но теперь несвежем, пропотевшем пиджаке.
Мне еще сильнее захотелось немедленно очутиться у себя в номере.
В левой руке я уже держал наготове ключ — вместе с панамкой, которую только что снял с головы и которой на ходу обмахивался.
Ключ был тяжелый, вернее, прикреплен к тяжелому стальному бруску, тоже безукоризненной формы, — овал и сталь господствовали в отделке отеля — фирма шлет вам привет из XXI века!
Лифт между тем стоял.
Не может быть, чтобы ему не хватило моего веса, — я прекрасно помню, что как-то поднимался в нем один. Я решил нажать кнопки «13» и «15» и выглянуть: что происходит? где лифт-бои?
Кнопки тут же преданно, как собаки, замигали, а наруже никого не оказалось. Обычно в холле снуют, сидят в креслах, разворачивая полотнища газет, дымят сигарами, а сейчас никого. Вроде вот-вот кто-то прошел, еще воздух колеблется, но — пусто.
Левее чернела дверь с надписью «БАР», она вела в преисподнюю ночного клуба, а рядом стояла настежь дверь в парикмахерскую, и там, в перспективе, на фоне сияющего окна, по-домашнему, по-старинному склонялась над своим столиком маникюрша с гладкой прической, собранной на затылке в узел. Ее силуэт был словно вырезан из черной бумаги.
Фасады домов на той стороне улицы ярко освещало солнце, сплошь закрытые окна сияли: рамы в этих домах с кондиционерами никогда не открывались. Я только что пришел оттуда, видел эти самые дома не более трех минут назад, но вдруг мне померещилось, что прошло уже некое бесконечное время, все изменилось, и сейчас, сию минуту там что-то происходит или вот-вот произойдет… Откуда это ощущение? И кому грозит опасность: мне, стоящему в лифте, или этому миру, который сейчас скроют от меня стальные двери?.. А может быть, я поэтому и не вышел?..
Ну хорошо, лирика лирикой, но надо же ехать! И я стукнул по панели и сказал лифту, что я о нем думаю, несмотря на всю его элегантность. В конце концов, никогда не знаешь, отчего вдруг берут и заводятся эти машины. Довольно, что я обратил на тебя внимание, у в и д е л твои молдинги-шмолдинги, которых никто никогда не замечает, — поехали!.. И я опять сотряс его, будто стеганул кнутом.
«Ну хорошо», — сказал лифт.
Ей-богу, я услышал фразу совершенно ясно, хотя она и не была произнесена чьим-то голосом или каким-либо механизмом. «Ну хорошо».
Стальные двери выступили из своих гнезд и начали м е д л е н н о сходиться. Даю голову на отрез, они двинулись не с бойкостью автомата, а с тягучестью живого существа, этакого удава, сползающего по стволу дерева. Лифт закрыл двери многозначительно, как гад, почти с усмешкой. Надо было не стоять дураком, выскочить в ту же секунду! Но где там, я торжествовал свою мелкую победу над ним, — я же заставил его пойти!
Так началась эта игра. Игра. С большой буквы.
2. В самом деле, почему я не выскочил? Ну, сообрази, сообрази, говорило мне все вокруг: это безлюдье, этот странно-прощальный вид города, это «ну хорошо», которое ты услышал так же ясно, как если бы кто-то окликнул тебя по имени. Причем это было сказано д о того, как двинулись двери, мне еще давался шанс. Как мы не верим себе, не слушаемся природного, подсознательного сигнала. Да, конечно, наш разум, наша мораль, здравый смысл стыдятся следовать инстинкту, все верно. Но иногда приходится об этом пожалеть.
Ведь пока я ждал, а лифт н е х о т е л идти, я это ч у в с т в о в а л? Почему не послушался? Не проанализировал? Почему тупо, п р и в ы ч н о нажимал, настаивал, пыхтел, вскипятил чайник злости? Самонадеянность, нетерпение. Суемся в воду, не зная броду.
Вот теперь играй с ним, играй. А мочевой пузырь лопнет. А душ примет Пушкин. А переоденется к обеду тоже он.
Ну ладно, ладно, в конце концов, уже все, сейчас, осталась минута. Лифт взлетает на четырнадцать этажей за одиннадцать секунд, я как-то проверял. Сейчас я выйду на своей площадке.
Я говорил это себе, я смотрел на часы, но я у ж е з н а л, что этого не будет. И часы, между прочим, стояли.
Да, пожалуй, к этому моменту мое подсознание, вступившее в Игру раньше, уже учуяло инфернальное. И оно меня не обмануло. Здравый смысл обманул, и ирония тоже. А оно нет.
То есть я, разумеется, стоял у самой двери, приготовившись к выходу, глядя на черное табло наверху, где тоже электронно и розово дрожала, как болотная кикимора, единица, и ожидал, что там сейчас помелькает и выскочит «14», — я стоял, то есть, как совершенно нормальный идиот, думая, что двери, как и положено, сей миг раскроются. Хотя уже можно было догадаться, что этот лифт банального хода не сделает.
Я ждал, а он просто никуда не пошел.
Двери закрыл, а не пошел. Скотина.
Причем это ведь закон, не так ли: если двери закрылись, а лифт не идет, они тут же откроются снова? И в глубине души я на это рассчитывал. Но только — шиш! С маслом!
Я прислушивался, я надеялся. Он ведь ходит бесшумно, комфортно. Ч е м ч е р т н е ш у т и т! Нет, он просто издевался надо мной. И моя поза — приготовившегося к выходу человека — в этой ситуации выглядела сверхглупо. Это было очко в его пользу, больше ничего.
Хотя… хотя это не было так просто. Я говорю, я у ж е з н а л, я уже чувствовал, и пусть еще бессознательно, но уже вступил в Игру тоже. Поэтому моя поза могла быть и выжидательной, мимикрической, я уже ощущал потребность в мимикрии. Самая древняя защитная фигура: вести себя как ни в чем не бывало, не показать противнику, что ты учуял его присутствие. Ты спокоен, ты ничего не знаешь, щиплешь травку.
Лифт, однако, стоял. Лифт стоял, и двери не открывались.
Отчего с самого начала я ощущал это как-то особенно? Ну, забарахлил лифт, ну, застрял, глупость, с кем не бывает. Ну, опоздаю, не переоденусь. Потом рассказываешь о таких вещах со смехом. Отчего же я с первой минуты был уверен, что встретился с чем-то необыкновенным? С чем?
Собственно, еще не было причин для паники, я не нажал даже красной аварийной кнопки, я видел в овальной нише над панелью телефонную трубку, я вообще, видимо, находился в этом лифте не более двух минут, но… Нервы, нервы, нервишки.
Я посмотрел в зеркало. Респектабельный, деловой, безусловно уверенный в себе, благополучный мужчина на глазах сгорбился, напрягся, глаза ходят туда-сюда. Нехорошо. Смешно. Бросьте ваши вещички на пол, расслабьтесь, закурите сигаретку. Подсчитайте, как вы и собирались это сделать, сколько вы истратили на покупки, сколько у вас осталось. И так далее. Для начала нажмите красную кнопочку. Теперь первую, вторую. Тридцатую. Все подряд. Пусть все мерцают. Им веселей вместе мерцать, и нам веселей. Валяйте! Горите своим розовым пламенем! Никакой Игры нет, одна игра воображения и какое-нибудь замкнувшееся реле. Эгей, люди! Есть там кто-нибудь?..
Мой приободрившийся двойник в зеркале мерно бил в дверь кулаком, махал опять панамкой, даже вроде присвистнул, расхаживая по лифту. Это выглядело неплохо, но фальшиво.
Хорошо. Игры нет. А если есть? Если есть, то я ее уже проигрываю. Откуда это сознание, что я не просто застрял в лифте, а подвергаюсь некоему осмысленному насилию, эксперименту? Откуда эти лихорадочная (если не паническая) работа мысли, напряжение? Почему я так стремительно мобилизую свою способность к сопротивлению, свою г о т о в н о с т ь ко всему? Зачем же беспечность, если нужна бдительность? И отчего я уж так не верю в Игру? Вижу, понимаю, а не верю? Какая еще одна замечательная человеческая способность: видеть и не верить своим глазам! Или видеть, но верить, что этого не может быть!.. Почему он стоит? Ведь он исправен, это ясно. А эпоха взбунтовавшихся роботов у нас, слава богу, еще не наступила.
Но с другой стороны, что делать? Ведь это смешно, засучить рукава и сражаться с лифтом врукопашную. Дурацкое, дурацкое положение. Одно из самых дурацких на свете — застрять в лифте!
3. Что там ни говори, но явно что-то случилось. Труднее всего было представить, что вот здесь, рядом, за этой дверью, з а э т о в р е м я ничего не произошло, все выглядит по-старому и маникюрша, может быть, так же наклоняет голову над столиком. Невероятно!
Ни на один мой сигнал о помощи никто не только не пришел, но и не отозвался. Хотя я, разумеется, нажал на все, на что можно было нажать, и стучал, и кричал, как это ни было конфузно.
Однако больше всего меня поразил телефон. Это была моя самая главная надежда, но, как иногда случается с самыми главными надеждами, она-то и нанесла особенно чувствительный удар.
Короче говоря, я беру эту совершеннейшей формы трубку — она тоже серо-стальная, тяжеловатая, женственно-изогнутая, от нее отлетает мимолетный аромат духов — должно быть, какая-то дама брала ее из любопытства или нетерпеливо хотела звонить прямо из лифта, — я ее вынимаю из столь же элегантного гнезда в панели, и за трубкой вытягивается гибкий металлический (может быть, и противопожарный) шнур — вытягивается насколько надо, как за пылесосом, — словом, я почти испытываю наслаждение, взяв эту трубку в руку. Я откашливаюсь. Я готовлюсь услышать голос, который должен соответствовать этим формам, приглушенный и мягкий, и я собираюсь отвечать ему, рисовать свое положение шутливо и с достоинством.
Словом, я делаю длинный разбег, и — хлопаюсь мордой об стол: я прикладываю трубку к уху и не слышу н и ч е г о.
Это было уже не одно очко, а два сразу. Тут можно было поверить во что угодно: меня лишали контакта, связи. Хорошенькая Игра! Без связи не может действовать даже армия.
Я сначала не поверил, не сообразил. Опять п р и в ы ч н о е представление о том, как должно быть: снимешь трубку, и тут же тебе воркуют: к вашим услугам, чего изволите?.. Но чего бы я ни ожидал, я бы никогда не предположил услышать т а к о е. Именно услышать, потому что слушать, то есть делать это долго, было бы невозможно.
Сейчас я постараюсь объяснить. Н и ч е г о — н и-ч е-г о. Непонятно? Это не значит, что я ничего не услышал или что аппарат не работал. Аппарат работал. Как и сам лифт. Все у них было в порядке. Жизнь аппарата, его поле прослушивались отчетливо. И провод не был оборван или замкнут. Напротив, линия уходила куда-то так далеко — в вакуум, в космос, в жидкий гелий, черт его знает куда, — но так далеко (или так близко!), где не было н и ч е г о. Звонить по этому телефону было все равно что позвонить в могилу.
И конечно, этот мрак и трубка тотчас наводили на разные мысли — опять насчет того, а что там, за дверью? Не чересчур ли, не слишком ли сверкнули напоследок эти закупоренные окна на той стороне?
Как ни обдала меня трубка холодом, однако же, опять по стереотипу, я ее потряс, подул, опять послушал. Лифт, кажется, даже хмыкнул.
Подлец, подлец, он унижал меня как хотел, я был у него как на ладони, он наверняка быстрее меня самого просчитывал все варианты возможных ходов. Да и что я мог? В конце концов я вынужден был делать все, что полагается делать человеку в застрявшем лифте.
Причем в этой стальной коробке разве разгуляешься? Я жал на кнопки, я подпрыгивал, я обшаривал ладонями в поисках щели или отверстия стены и пол. Хоть какой-нибудь аварийный замок, секрет, люк! Фирма отвечает за вашу безопасность, можете не беспокоиться.
Все это было глупо, унизительно, бессмысленно. Представляю, с какой пренебрежительной ухмылкой наблюдал лифт за мной. Обезьяна берет в руки палку, чтобы достать банан, эка невидаль!
Я силился вспомнить азбуку Морзе и стучал в дверь ногой: точка, тире, точка, тире! Ни отзвука! Я бил стальной болванкой от ключа в несгораемый, в непроницаемый пол и только отбил руку. «Ну-ну, — говорил лифт, когда я с разбегу хватал плечом в стену, — ну, дальше что?»
Может быть, я и хитрил, прикрывая банальными действиями анализ банальной ситуации, потому что я понимал: п р о с т о ларчик не откроется. Условие Игры таково: ни расковырять, ни развинтить, ни найти запасной выход в этой шутке не удастся. Но тогда что? Чего от меня хотят? Задача-то все равно в том, чтобы выйти. Значит, я должен что-то придумать?..
А может быть, надо сидеть тихо и ждать? Я ничего не знаю. Что, если это не западня, а защита? Разве такого не может быть? В конце концов, свет горит, воздух идет, я в безопасности. То, что т а м, во внешнем мире, что-то случилось, — в этом я почти убежден. Так, может быть, мне и не нужно туда рваться?..
Нет, это уже была отвратительная мысль, и лучше я буду ковырять ключом кнопки и гудеть в несуществующую щель между почти оплавленными дверями. Все же хоть какое-то дело!
Телепатическое напряжение между мной и лифтом вдруг ослабло: ему как будто стало неинтересно со мной играть. Немудрено. Он ждал моего хода, а я его не делал. Я тыкался, как щенок, все по тем же углам. Вернее, по тем же точкам, поскольку углов здесь не было. Черт, как мне хотелось лишить его самодовольства, выбить хоть одно очко!
Мои карманы, сумка, пакет — все было вывернуто по два раза. Ничего подходящего, ничего острого, металлического: ни перочинного ножа, ни булавки! Детские игрушки, косметика для жены, пластмассовая ручка в кармане пиджака. Зажигалка. Если соединить зажигалку и духи? Но ведь кругом сталь. Если что и может здесь гореть, то только я сам. Но кто знает, как будут развиваться события: может, и это придется приберечь, как ход в Игре.
Недурно я теперь выглядел в зеркале: без пиджака, без галстука, с засученными рукавами. Я даже снял ботинки, обследуя, нет ли в них гвоздя. Но ботинки были легкие, даже без шнурков. Придумать, придумать, только бы что-то придумать!
Я смотрел на часы — черт, они не шли, но и время стояло! Слушаешь — тикают, смотришь — не идут! Я снял их с руки и пытался просунуть замок стального браслета между тефлоновым покрытием пола и краем молдинга, который прижимал это покрытие к полу, как плинтус. Зачем? Не схожу ли я с ума? Тоже мне, ковыряльщик, граф Монте-Кристо!
И вот тут настал момент, когда в дело вмешалась природа. Терпение, как говорится, лопнуло. Да простит меня читатель, но все сверхъестественное вмиг отступило перед самым естественным. Но как, как?
Разумеется, мне не жаль лифта, будь он проклят, я могу начать хоть с потолка, но из него же, паразита, и не утечет ничего никуда! Да и что это будет, когда он рано или поздно, но откроется? Что увидит перед собой какой-нибудь мальчик-механик в толпе любопытных? Из них кто-то всегда будет потом встречать тебя в вестибюле, весело кивать: а, это вы, который застрял в лифте и там это самое! Но как быть, как? Я не в силах больше терпеть! И я никогда ничего не придумаю, пока не помочусь.
Но вот — эврика! Пластиковый пакет.
Я вновь в секунду вытряхнул из него покупки. Я прыгал в носках с ноги на ногу и рассматривал пакет на свет: нет ли в нем дырок? Я его растягивал и пытался надуть. Пакет, голубчик, был что надо, хороший, крепкий, славный пакет. И я, хоть и не было никого, интеллигентно приладился с этим пакетом в углу, стараясь не видеть себя в зеркале. Стальная, бездушная коробка унижала меня, как хотела!
Нет-нет, я еще нажал напоследок на все кнопки, снова пнул дверь, я даже схватил (уже в который раз) телефонную трубку, — я ведь все равно опять и опять надеялся на нее. Все сверкало, все сияло, ни в чем не было души! Где эти старые деревянные кабинки и стеклянные двери на бронзовых начищенных дверных петлях, в стеклах которых проплывают этажи? Где обитые бархатом экипажи подъема, пуфики с золотыми шляпками гвоздей? Где почетные лифтеры в фуражках, которые успевают почистить вас щеточкой по плечам и обрызгать из пульверизатора, пока вы поднимаетесь всего-навсего в какой-нибудь четвертый этаж!
Хорошо, что говорить о высоком. Тут пора говорить о низости. Да, потому что это была самая настоящая низость. Не успел я еще, как я уже сказал, приладиться с этим пакетом, который, между прочим, тоже приспособлен для того, чтобы в него что-то клали, а не лили, — как лифт, скотина, пошел. Да, взял и пошел. Вздрогнул и полетел. Ну, разве не низость?
Мало того, он пошел и заржал. Клянусь, я слышал. А чего ему было не ржать? И я бы заржал, если бы увидел себя со стороны. В носках. Без галстука. Вот это было очко!
Но между прочим, я тоже не мог остановиться, даже с испугу. Поэтому спасибо, что он пошел, а не открылся. Я с ужасом глядел на табло над дверью, откуда смылась единица и вместо нее завертелся розовый кабалистический клубок: девятки, семерки, одиннадцать… Я не успевал дивиться, как там уже неслось «21», «33», «77» и, вообще, черт знает что.
Господи, как все относительно: теперь я был счастлив, что мы не остановились на четырнадцатом! Правда, в следующий миг я уже почти кричал про себя лифту: «Куда? Что это?.. Куда?»
Итак, я держал теперь в руке пакет, который не мог поставить на пол, и летел неизвестно куда. Я не знал, засчитать себе хоть пол-очка или нет?
4. Есть разница: стоять на остановке, ожидая автобуса, или мчаться в этом автобусе с бешеной скоростью? Есть, разумеется. Но опять-таки относительная: представьте только, что ваш автобус мчится-то мчится, но не останавливается. Через полчаса вы так же начнете мучиться от движения, как мучились от ожидания.
Человек, как известно, скорости не ощущает — только ускорение (торможение). Именно в скоростном лифте мы способны на секунду или доли секунды испытать момент невесомости, — я думаю, каждый помнит это замирание сердца, когда лифт словно проваливается у вас под ногами, взмывая вверх или падая вниз.
Часы мои не шли — хотя в какой-то миг мне показалось, что секундная стрелка чуть сдвинулась, — впрочем, я не запомнил точно, где она была до этого, — часы не шли, но что время идет, я чувствовал слишком хорошо. По-моему, я даже обрастал уже щетиной — во всяком случае, для обеда с издателем мне теперь пришлось бы заново побриться.
Кстати, обед! Господин Кущинский, должно быть, уже давно спал, так и не разгадав причины моего хамского исчезновения. Этот обед был теперь от меня так далек, как Наполеон или Екатерина Великая.
Я жал на кнопку «стоп» — долго, не отпуская пальца — я безусловно делал е м у больно, нажимая на полном ходу на все его тормоза, — нет, он не реагировал.
Итак, время шло, лифт летел, и, если я хоть что-то понимаю в физике, за тот срок, что мы находились в движении, он должен был проскочить уже все сорок этажей, пробить крышу и уйти в стратосферу.
Да здравствуют герои космоса! Внимание! Внимание! Впервые в истории простой гражданин, без специальной подготовки, запущен на околоземную орбиту в космическом модуле «Лифт-1»!
В самом деле, уж это-то было невероятно. Пусть бесшумно, пусть тайно, пусть управляемый силами, мне неведомыми, но лифт летел н е о с т а н а в л и в а я с ь. Иначе я бы тут же ощутил момент снижения скорости. Но если не останавливаясь, то куда? Как это может быть?
Все цифры на кнопках теперь погасли, осталось гореть одно «14»; на табло продолжал мелькать клубок розовых ведьминых волосков; стена кабины, если приложить к ней ухо или ладонь, чуть вибрировала, как это бывает с очень хорошей машиной на очень большой скорости. Казалось, снаружи должен свистеть ветер, если только скорость уже не ушла на сверхзвуковую.
Нет, этого не могло быть, не может быть, это движение вверх продолжается с л и ш к о м долго. Но тем не менее это было так.
Мне почудилось сквозь ладонь, что стена кабины стала заметно холоднее, и воздух из кондишна тоже. Я посмотрел на свой легкий пиджак, валявшийся на полу, и на ботинки. Я уже представлял себе, как стены обрастают инеем, как медленно покрывается узорами мороза зеркало. И я ясно видел, как стальная пуля, никем не замеченная, уходит вверх над городом, пробивает облака. А вот она уже над облаками, их снежные горы остаются внизу. «…Высота десять тысяч метров, температура за бортом шестьдесят два градуса ниже нуля, спасибо за внимание».
Я ходил по кабине со своим пакетом, как Диоген с фонарем, и прислушивался, и принюхивался… минутку! А что, если я не заметил, не зафиксировал, и мы мчимся не вверх, а вниз? О боже! Куда вниз?.. Опять же, судя по времени, лифт должен был бы уйти на глубину самых глубоких шахт. Добро пожаловать к нам в Девон! Милости просим в Силур! Как вы себя чувствуете после прохождения мантии?..
Теперь мне почудилось, что я задыхаюсь, что загустел и смерк свет, что кабина продирается через некий мел, нагретый до тысячи градусов, и испытывает невероятное давление. Потемно и на глазах гибнет зеркало, потому что стекло и амальгама не выдерживают мощного внешнего излучения. Какого? Может быть, ядерного?
Но страха у меня, между прочим, не было. За лифт я не боялся, что его сплющит в папиросную бумажку или разорвет к черту в пепел и пыль. Он не мог быть подвластен никаким материальным силам. А меня он тоже не отдаст. Я его кролик, его муха — он паук.
Мне даже показалось, что лифту сейчас не до меня, он выполняет некий сложный маневр, и ему, может быть, тоже приходится нелегко. Не стоит его сейчас трогать.
Вот до чего доехали — до почти сыновних, родственных чувств!
Ну хорошо, но что же все-таки делать мне? Допустим, его несет нелегкая в космос или в недра земли, завтра мы выскочим на поверхность Филиппин, у мыса Доброй Надежды, но мне-то что? Сидеть сложа руки? А может, сейчас самый подходящий момент — нанести удар, не дать ему уйти?
Опять я рыскал, ковырял, слушал трубку, черт ее подери! При этом заметьте, я не выпускал из рук пакета, который плескался на ходу и брызгал, как лещ.
Но разумеется, все было напрасно.
Между тем время делало свое дело. Что ж, какое бы сверхнеобычайное явление мы ни взяли, от вспышки юной любви до вспышки сверхновой звезды, но если это явление длится долго, в права, как известно, вступает быт. Необычайное постепенно становится обыденностью. Если герой не погиб, он превращается в пенсионера.
Я вдруг устал. «Поди ты знаешь куда!» — сказал я лифту. Пусть он, как тайная летающая тарелка, лишь принявшая форму лифта, волочет меня на Альфу Лебедя, в столицы межзвездных цивилизаций (или к богу в рай, или к черту на рога), но я, слабый человек, буду сидеть на полу, охватив колени руками, мотая перед собой проклятым мешком с собственной мочой, и буду мечтать не о Лебеде, а о пирожке с капустой и о бутылке холодного пива.
И тут на память мне почему-то пришел Робинзон Крузо. Старый милый Робинзон. Посторонитесь, великие и безвестные узники всех одиночек на свете, бывшие императоры и будущие президенты, коварные душегубы и безвинные железные маски! Вот кто нам поможет, наш старый литературный герой. Он все выдержал; трудясь, он победил природу и, более того, одиночество. Начав с малого, — вот, что главное! — он добился всего. Уж он бы придумал, что сделать с этим лифтом (или хотя бы с этим пакетом).
Но с другой стороны, что ж Робинзон. У него было море, небо, остров! Помню, я всегда завидовал этому бесконечному перечню барахла, которое он таскал с корабля. Как только ему чего-то недоставало, он тут же сооружал плот и опять отправлялся за каждой мелочишкой, как в лавку. Ему пороху, если не ошибаюсь, хватило на двадцать пять лет! Он курил, он потягивал джин у камина, болтая со своими попугаями, Робинзон! Да мне бы сейчас такой остров, я бы сам на него никого не пустил!.. Нет, господа, жесткое излучение требует жесткой защиты. Милое детство человечества позади. Теперь у нас пора пытливого отрочества, когда найденную в поле мину ковыряют гвоздем, когда птенчику все сильнее сжимают горло, спрашивая его сердечно: «А вот так сможешь дышать? А вот так? А так?..»
Ну, а что же делать? Не летать, потому что самолеты разбиваются? Не ездить в лифте, потому что можно застрять? Смешно. Человек все равно находит выход там, где выхода, казалось бы, нет. В крайнем случае, если не находит один, находит другой. (Не выход другой, а человек.)
Я расслабился, замечтался, а лифт вдруг стал. Как вкопанный. Я замер. На табло проступила, как глаза филина, цифра «6». «Ну!» — рявкнул лифт на себя самого. Я бросился. Вперед. На четвереньках. Вибрация сотрясла машину. Ага, гад!.. Вперед! Ключ! Щелочку! Чуть-чуть! Я вылечу, как джинн, в щелочку толщиной с монетку. Откройся! Только зацепиться! Я чувствовал, как лифт что-то мучительно преодолевает. Ах, чтоб ты сдох! Чем тебя, что тебе!.. Дать бы!..
И тут он пискнул, дернулся, и мы опять понеслись — вверх, вниз, опять вверх!.. Ага, и тебе бывает несладко! Ну, ничего, я еще добавлю, я тебе добавлю, мне терять нечего!
Удивительно, я его проклинал, но сердце дрогнуло жалостью, когда ему было худо. Вот уж правда, до чего доездились! Но тем не менее я решил засучить рукава. По-настоящему.
5. Оказалось, сделать еще можно многое. Главное, отойти от п р и в ы ч н ы х представлений. Что можно, чего нельзя, что нужно, чего не нужно. Если необходимо лишить движения некую систему, то, может быть, достаточно выключить что-нибудь одно? Ведь все связано, надо только знать, какую прервать цепочку. Но если не знаешь — иди экспериментальным путем, пробуй. Ежели дать, например, по таблу? Стальной болванкой от ключа! Она хорошо в кулаке помещается. Раз! И нету табла! Только мелкое стекло рассыпалось! И никто там больше не крутится, голову не морочит. Очко? По-моему, очко.
Или, например, распаковать все покупки, что выйдет? А выйдет маленькая кучка покупок и вот такой ворох бумаги! Коробки, ленточки, ваточки — обдуривают нас с этой упаковкой. Но зато какой горючий материал. Причем костер годится не только для обогрева: если разложить его под панелью, то она хоть малость, а раскалится, а мы ее, раскаленную, болванкой! Раз! Раз! Очко? Очко!..
Огонь взвился до потолка, кондишн развеивал дым, как демона, — тяга на славу, — хлопья бумажной сажи, как воронье, — пляши! бей! еще! Последними вспыхивают проклятые кнопки, бей их!
А оно что смотрит, зеркало? Что ты смотришь? Смеешься? Отображаешь наш дичающий облик? А знаешь, зеркало, зачем ты нам вообще, а? Не роскошь ли?.. Было время — да, раздумий и ожиданий, — и мы, скучая, с применением женской косметики, давя крем из тюбиков, рисовали на зеркале помадой разные слова и рожи. Мы развлекались и беседовали за неимением других собеседников. От нечего делать мы даже навели красной помадой усы и брови. А на голой груди — крест. А на плечах, тушью, — татуировку: вот орел, вот русалка.
Да, все это было. Но давно. Эпохи изменились. Теперь нам не хочется видеть себя с красными усами, в копоти, в прожженной рубахе, с безумной, как у Гитлера, прядью на лбу. Не нужно! Кроме того, зеркало, я давно подозреваю, что ты — ты-то и есть главный глаз. Наблюдатель, экран, з е р к а л о м и к р о с к о п а! Что? Не так ли? Не запишите ли мне еще очко за догадливость, господин лифт? А вашему зеркалу — в глаз! А вашему — на!.. Зазвенело, посыпалось!.. А что у нас за зеркалом? Опять сталь? А мы сталью по стали! Сталью по стали!.. Кровь?.. Ничего! Без крови настоящего дела не сделаешь!.. Всё вали! Всё! Ни кусочка! Бей…
Я набирал очки, но проклятая Кащеева смерть никак не попадала мне в руки. Лифт продолжал лететь, как ступа ведьмы, и я бился внутри, будто горошина в детском попугае.
Все смешалось: запах гари, мочи, духов, пота, осколки толстого зеркала в помаде и крови, рваный пиджак и раздавленные детские солдатики. Валялись связанные вместе ремень от сумки и галстук, — с их помощью я подтягивался и бил его пластмассовое брюхо, пока не добрался до белых газовых трубок светильника, — теперь этот ремень и галстук наводили меня на другие мысли.
Всё! Я сделал всё, что мог. Но я его не остановил.
Тяжко дыша, я съежился в углу, во мраке, на груде осколков и мокрых вонючих вещей, ощущая движение как ужас беспредельного и непостижимого. Но мои мысли, как всегда бывает с мыслями, бежали еще дальше, рисуя мне мучения голода, жажды и удушья. «Вы слышали, какая дикая смерть! Он застрял в лифте! Трое суток вытащить не могли, автогеном разрезали!» — «Да что вы говорите, какой ужас!» — «Кошмар! Все разнес, выхода искал! Задохнулся!» — «Бедняга, какая дикая смерть», — «Ужас!»
В полном мраке, напротив меня, по-прежнему мерцала лишь цифра «14» — почему-то она так и не разбилась. Ее мерцания не хватало, чтобы осветить даже ладонь. И это был весь свет, который у меня остался.
Кондишн больше не работал, воздух густел, и, стоя во весь рост, я уже задыхался. Теперь ни в коем случае нельзя делать лишних движений, надо сидеть или лежать, экономить кислород, как в погибающей подводной лодке.
После своей дикой битвы я, конечно, захотел пить, потом есть, но я старался — пока — даже не думать об этом.
И все-таки все это было ничто по сравнению с моим настроением. Я проиграл. Он разделал меня в пух и прах. Зачем я бесчинствовал? Ему плевать на разбитые зеркала и датчики. С самого начала было ясно: не этого он от меня ждет, не этого. Мои ходы были банальны и бездарны, лучше бы я не играл вообще.
Какой, между прочим, стыд! Меня вытащат отсюда в этаком виде? Растерзанного, в испражнениях, в грязи? Одно дело, если бы посреди лифта, в сверкающей сталью коробке лежал бы благородный мужчина в белом, с застывшим выражением достоинства и одухотворенности на лице (в таком виде и на Альфе Лебедя выгрузиться не совестно), и другое, когда люди увидят скорчившегося орангутанга в рваных носках, обезображенного гримасой удушья.
Нет, лифт, ты откроешься! Или вот этим осколком зеркала, длинным, как кинжал, я порежу себе вены, проткну сердце и тебе потом никогда не отмыться от моей крови!..
Как оскорбительно бессилие! Он продолжает делать все, что хочет, а я — все, чего не хочу! Это невыносимо. И единственное право, которое остается мне, — это покончить все самому, — уж это в моей власти!..
«Дурак, — сказал лифт, — дурак».
Я подождал, когда он выдержит паузу. Я чувствовал: он хочет мне ответить.
«Дурак, — сказал лифт, — чего ты испугался?»
Я не понял. О чем он?
«Если бы ты в самом начале не испугался…» — сказал лифт и усмехнулся.
Он усмехнулся, и я в ту же секунду увидел: пустой вестибюль, пустой лифт, в котором я стою перед зеркалом. А в зеркале сквозь дверь сияет город, и пепел маникюрши еще сохраняет форму маникюрши.
«Если бы ты в самом начале не испугался…»
Господи, неужели это был т а к о й страх, до т а к о й степени? Слезы навернулись на глаза от жалости к себе, от ужаса своего ничтожества. Как же так? Когда это все с нами случилось?
«Выходи», — сказал лифт.
Ужас. Я понял: сейчас он остановится и откроет дверь. Вон горит как ни в чем не бывало «14». Сейчас. На площадке стоят люди. Там, у них, уже мягко прозвонил гонг, и зажглась стрелка, указывающая, что лифт идет вверх. Вот впереди пожилая американка с собачкой на руках. Немка с девочками-близнецами в красных платьицах, лет по шести. Японец. Два молодых негра, один с кудрявой бородкой. Китаянка, индус, русские, шведы, высокая полька — приличные, нормальные люди, они п р и в ы ч н о ждут лифта, а тут… Что сейчас будет? Растворится дверь, и, как в гангстерском фильме, по ним почти ударит из дверей очередь автомата. Все разбито, в крови, без света, и из хаоса вырывается голый по пояс безумец, в рваных и окровавленных носках, с вонючим, хоть и пустым пакетом, намертво зажатым в руке.
Боже, лучше бы там действительно никого не осталось! Но опять я з н а ю: они там! Я вижу их. Они живы.
Закусив кулак, согнувшись, сколько мог, и спрятав лицо, дрожа и плача, я приготовился, как только откроется дверь, броситься вперед. Не дать им опомниться, бежать изо всех сил, чтоб не разглядели! Где ключ? Ключ! Еще этого не хватало! Где мой ключ? Мамочка! Я умру!..
6. Лифт стал, и двери раскрылись. Я вышел, глядя на часы. В лифт тут же стали с двух сторон входить люди, обтекая меня: американка с собачкой, мама с девочками в красных платьицах, негры, китаянка. Все оборачивались, входя, ко мне лицом, нажимая свои кнопки, посматривая вверх, на табло. И потом — недоуменно на меня: отчего я не ухожу, стою на дороге, не забыл ли я чего-нибудь? Или спутал этаж? Может, я хочу е щ е ехать? Лифт шел вниз.
Последней вбежала высокая полька, чуть задев меня на ходу и одарив за это милой улыбкой. Я смотрел на часы. Полька тоже не поняла, чего я, собственно, стою, чего я хочу? Мои вещи были при мне, пакет в руке, сумка на плече, я обмахивался панамкой. Было видно, что я спешу, — конечно, у меня обед, издатель, душ. Что-нибудь случилось?.. А то лифт сейчас закроется.
Я смотрел на часы. Что это было? С моим лифтом? Со мной? Мне хотелось предупредить этих милых людей, которые ни о чем не подозревают: может, им взять другой лифт?
Я беспокоился, но ведь поневоле забеспокоишься: вместо обычных одиннадцати секунд лифт шел до моего этажа целых восемнадцать! Это же не шутки!..
Канистра
У него вечно что-то плескалось сзади в багажнике. Когда его спрашивали, что это, мол, у тебя там плещется, он отвечал весело:
— Море. У меня там море в канистре.
Люди улыбались, шутка нравилась, особенно зимой. Услышишь такое, и на секунду мелькнет в памяти: жаркий берег, синева, удар прибоя.
Бруно был человек в своем роде замечательный, сама доброта. Мать его, цыганка, дала ему веселый и вольный нрав, отец, русский, — широту и бескорыстие, а назван он был в честь Джордано Бруно, ни много ни мало, — так захотел отец, написавший о Джордано Бруно книгу и посвятивший изучению его всю свою жизнь. Каких только причудливых сочетаний не бывает на свете — и хвала природе, если они имеют знак плюса, а не минуса.
Бруно был смуглый, высокий, с красивыми темными глазами, и, конечно, все принимали его за итальянца. И конечно, родители позаботились выучить его итальянскому языку, музыке, мечтали сделать из него дипломата. Но Бруно нашел свой путь: он начал писать о музыке, сделался музыкальным критиком, погрузился в театр, телевидение, кино. Писал он умно и тонко, всегда доброжелательно, и за ним охотились: «Бруно, напиши», «Пусть Бруно напишет». Чем известнее он становился, тем больше женщин его любило и тем больше друзей окружало. И он отвечал им со всей щедростью своей души. Он входил в дела друзей и друзей друзей, утешал чужих жен, устраивал дела чужих детей. Надо было послушать новую мелодию — Бруно, посмотреть репетицию — Бруно, пообедать с иностранцами — Бруно, помирить любовников — Бруно, проводить уезжающих — Бруно. Его профессия позволяла ему нигде не служить, легко передвигаться, ехать куда захочется — люди этим пользовались, зная, что Бруно не откажет, не пожалуется потом, что его замучили, придет всегда с улыбкой и обязательно выйдет из машины, чтобы отворить перед вами дверцу.
Гастроли, конкурсы, фестивали, заграничные поездки — все это понемногу отходило как бы на второй план, настолько Бруно погружался в личные и бытовые дела своих ближайших и новоиспеченных друзей. Что поделаешь: он умел и мог быть полезен — разве это мало? И разве это не дает удовлетворения?..
Но разумеется, на себя не оставалось ни сил, ни времени. Он все меньше выступал как критик и все больше как миротворец и «духовник». Один талант — любовь к искусству — как бы подменялся другим — истовым человеколюбием.
Иногда лето пролетало, а кроме двух-трех пикников с шашлыками у кого-нибудь из друзей на даче и вспомнить было нечего. И Бруно с чувством вины глядел на свою машину, «Волгу-фургон», которую покупали давным-давно именно с целью путешествовать, ездить на ней в Прибалтику и на юг — еще отец был жив и здоров — и на которой ни разу не съездили даже по грибы, в подмосковный лес.
Правда, при его образе жизни машина частенько служила ему и кабинетом, и спальней, и чего только не валялось в ее просторном багажнике, начиная с пишущей машинки и кончая женскими туфлями. Там среди прочих вещей покоилась, кстати, и канистра, о которой пойдет у нас речь.
Между прочим, канистра тоже, по сути, была не нужна при таком образе жизни — в городе всюду бензоколонки, и Бруно не помнил, чтобы хоть раз пользовался ею за последние два года. Одно время, когда машина находилась в ремонте, канистра даже оказалась на балконе и еще месяца три простояла там забытая, хотя хозяин уже давно мотался, как обычно, по городу из конца в конец.
Канистра была самая обыкновенная, железная, зеленого цвета, и один бок ее стал ржаветь. Как-то, роясь в багажнике, Бруно поднял канистру, увидел, что тот бок, на котором она лежит, порыжел от ржавчины, подумал: хоть бы открыть канистру и понюхать, что там, — но, как всегда, он спешил, и канистра опять надолго легла на свое место. Он только перевернул ее, не более.
Однако что-то застряло в уме с того раза по поводу канистры: некое опасение, моментально распределившееся в перспективе. Ожидание опасности? Пожалуй. А вдруг проржавеет совсем, потечет однажды, лопнет в самый неподходящий момент, например во время аварии? Не успеют тебя, потерявшего сознание, вытащить, как все полыхнет да ахнет. Мало ли что. Ведь странно, в самом деле, два года возить с собой канистру бензина и чтобы ничего из этого в конце концов не в ы т е к л о.
Человек тонкой организации, Бруно, всякий раз садясь в машину, стал теперь вспоминать о канистре, мысленно посылать ей привет. У него появились о т н о ш е н и я с канистрой, как это бывает с вещами, которые подолгу незаметно, но постоянно сопровождают нас в жизни: ключи, часы, кольцо, любимый ремень.
Поскольку канистра перешла именно в такой разряд (или была переведена насильно, из лести), то и отношения с ней понемногу установились добрые, хотя в душе-то, по-честному, трудно было испытывать симпатию к железной коробке, начиненной как-никак горючей смесью. Шутка насчет моря смягчала атмосферу, но это на людях; когда же Бруно, находясь в машине один, трогал ее с места и слышал сзади знакомый всплеск, уже почти ритуальный, он с большой натяжкой посылал канистре мысленный привет насчет моря.
Но время шло, привычка брала свое, человек, как известно, ко всему привыкает. Время шло, и всплеск бензина, продукта жирного, плотного, мягко льющегося, на самом деле все более походил на легкий и отрывистый всплеск воды. «У меня там море, в канистре», — весело говорил Бруно, и все верили.
Долго ли, коротко, но в конце концов он настал, День канистры. Когда-то же должно это было случиться. Стоял прекрасный месяц июнь, лето набирало силу. Бруно каждый день говорил себе, что завтра же отправится за город, купаться, в Серебряный бор хотя бы, на дачу, но в городе то гремел конкурс Чайковского, то начинался французский кинофестиваль, то надо было навещать мать одной знакомой в больнице, а другую знакомую — у нее дома, то встречать приятелей из Ленинграда, то выяснять среди ночи отношения с любимой женщиной: она требовала одного — внимания и ревновала к одному — к вниманию, которое он уделял другим.
Дело было тридцатого июня, рано утром — за окном начинался солнечный, обещавший быть жарким день. Бруно проснулся в доме своей подруги, на ее низкой тахте, проснулся от птичьего крика за окном, задернутым просвечивающей шторой. Телефон был выключен, но Бруно знал, что он звонит. Осторожно подняв рукой весь аппарат вместе с трубкой — вот так бы и выбросить его в окно, — Бруно выскользнул из-под простыни и отправился в ванную, волоча за собой длинный шнур. Чутье его не обмануло: в трубку изо всех сил кричала Наташа, жена Размика Геликяна, замечательного композитора и друга Бруно, она звонила из Рузы:
— Ляля, Ляля, Бруно у тебя?..
— Это я, — полузадушенно отвечал Бруно, не смея повысить голос. — Я, я. Что случилось?..
— Ему плохо, Бруно! Я боюсь, ему плохо! Он зовет тебя! Больше никого не хочет видеть! Бруно!..
Размик Геликян был молодой, уже очень известный композитор, автор многих песен и двух рок-опер, созданных по совету же Бруно. Они были большими друзьями. Но на Размика «находило»: в припадке сомнений и отвращения к своим собственным песням он сходил с ума, жег ноты на костре, смертельно ссорился с поэтами — авторами текстов, запивал и пропадал, выныривая через неделю, а то и больше в самых неожиданных местах: в Махачкале, в Мурманске, в Малаховке. А то и в больнице.
— Что случилось? — сипел Бруно в трубку. — Я сам себя плохо чувствую.
Но Наташа кричала одно: ему плохо, скорее — и рыдала. Бруно пытался уловить: как она сама? Кажется, надо ехать. Вспоминался случай, когда Размик попал в больницу.
Но как ехать? После того, что было ночью? После всех обещаний, что он больше не будет «дураком, над которым уже все смеются»?.. Но, может, она не услышит? Может, он смотается туда да обратно за два-три часа? Ведь еще рано. Она наверняка проспит до десяти…
Опустим подробности. Как Бруно решился, как спешил, как, уже садясь в машину, поднял вверх глаза и увидел, что о н а стоит, завернувшись в простыню, на балконе, на десятом этаже, в очках, потому что у нее — минус четыре… Бруно мчался по Минскому шоссе к Рузу, в поселок композиторов, и вдруг впервые за столь долгое время вспомнил, что еще с вечера хотел заправить машину: датчик бензина подрагивал у нуля. Это было даже интересно: впереди сто километров да сто километров обратно.
У мотеля, куда Бруно свернул прежде всего, стоял длинный хвост, даже нечего было думать здесь задерживаться. Он махнул рукой: «Волгу» нетрудно заправить где угодно. «А потом, у меня есть канистра», — подумал он и послал мысленно канистре привет через плечо. Когда-нибудь надо же ее открыть. И у него появилось предчувствие, что это случится сегодня.
Он повеселел, прибавил газу, включил музыку, легко обошел пять-шесть «Жигулей», по-субботнему набитых женщинами и ребятишками, и сказал себе: отдыхай!.. Он на какое-то время забыл даже о той, которая осталась ни балконе, и о Размике, к которому он спешил. Эйфория скорости, дороги, свободы радостно возбуждала его и умилял вид свежего леса, колеблемого ветром, зеленых полей, кучевых облаков на горизонте, простора вокруг. Ведь он так давно этого не видел, не дышал свежим воздухом. Жаль было лишь бабочек и мотыльков, которых расквашивало о себя ветровое стекло.
В Голицыне он даже не затормозил у бензозаправки (там снова змеилась очередь), беспечно пронесся мимо. Теперь он уже почти твердо знал, что коснется канистры. И ему все больше нравилось мчаться одному, слушать Вивальди. Как ни быстро он ехал, а врывались в окно то щебет птиц, то кукареканье петуха в далеко отстоящей от магистрали деревеньке. И так хотелось свернуть, соскочить с конвейера шоссе, оказаться на глухом проселке, выйти, упасть в траву и глядеть на облака, заложив за голову руки. Море плескалось в канистре, и хотелось отдыха и блаженства.
А собственно, почему не остановиться на миг? Ты никогда не вспомнишь, как мчался по дороге — ты делал это тысячу раз, — а остановку запомнишь, шаг в сторону запомнишь, как лежишь в траве, глядя в небо, — запомнишь. И неправда, что это хорошо лишь в юности, это хорошо всегда. Только надо уметь найти эту минуту, уметь остановиться.
Один проселок ушел направо, другой — Бруно проскочил их, не беда, значит, это еще не то место, которое ему уготовано, не та единственная полянка, которая ждет его, которую он, право же, заслужил за целые годы отдачи себя другим, забвения себя, своей работы, итальянского, который он почти забыл, книги, которую так и не написал. А какая должна была быть книга! Маленькая, краткая, точная, содержащая всего-навсего несколько с в о и х мыслей: о Шекспире, о Рафаэле, о Бетховене, о Прокофьеве. Где это все?..
Мелькнул черный значок на обочине — пересечение с проселочной дорогой, и Бруно стал тормозить — сюда!.. Обочина стояла довольно высоко над землей, криво по склону уходили вниз березки, среди них параболой втекала в лес песчаная дорога — в низкий подлесок, светло-зеленый от солнечного света.
Бруно заколдованно стал съезжать по дороге, будто сказочный клубок катился перед ним, и минуты через три остановил свой тяжелый и горячий, как танк, синий фургон в месте зеленом, словно аквариум. Он выключил мотор, открыл дверцу и замер, пораженный тишиной, полной птичьего перещелка и стрекота, свежестью и близостью этих стволов, трав — они полезли с любопытством в машину через подножку, — одуванчиков, колокольчиков. Бабочки-невесты плясали в воздухе свои брачные танцы, птицы свистали на все лады, осины плескали аплодисментами. Крупная сойка снялась с березы и снова села на нее повыше, переменив ветку, любопытно поворачивая голову на вновь прибывшего. Чуткий Бруно тут же представил себе, как бы он смотрел на мир, если бы был птицей: ведь глаза должны оказаться у нас на висках или даже там, где уши. Какое было бы неожиданное поле обзора: вперед и назад сразу.
Бруно заставил себя не думать ни о Размике, ни о бензине, ни о книге, ни о всех тех делах, перечень которых, как всегда, торчит у него на листочке за козырьком в машине. Все. Ни о чем. Пусть будет так, как будет. И мысль придет та, какая захочет. Все прекрасно. Снять рубашку, лечь на солнце в траву. Как маленькому, подуть на одуванчик и радостно глядеть, как ветерок несет в сторону крошечный парашютный десант. Вот муравей бежит по гигантской травине до самого острия. Добежал, повертелся, все обнюхал, ощупал антеннками, понял, что поживиться нечем, побежал назад. Как хорошо, как прекрасно!..
Но едва Бруно смежил глаза, уставшие от яркого света, как перед ним понеслись машины, замерцали миражи — словно разлита свежая вода впереди на шоссе, — а затем явилось и лицо Ляли в очках, а в ушах забился крик Наташи: «Бруно! Бруно!..»
Что мы за люди! Бруно взглянул на часы, прошло не больше 15 минут — неужели? а показалось — так долго! — а он уже глядит вокруг, ища новых впечатлений. Кажется, за эти 15 минут он уже вполне насладился природой. Что поделаешь, если его дела в с е р а в н о не оставляли его. И эта милая полянка, похоже, уже н а с к у ч и л а ему. Он не привык ничего не делать, это противоестественно. Хотя бы собирать грибы, ягоды. Или играть на природе в мячик. Или купаться.
Словом, еще через пять минут Бруно готов был снова тронуться в путь.
Но понять это состояние, убедиться, что, по сути, эти травки и полянки нужны ему не более чем на 15 минут, что он не знает ни этих трав, ни птиц, ни осинок, а занят своей вечной суетой, — понять это было как-то грустно. «Вот так так, — говорил себе Бруно, — вот так так…»
Но и об этом между прочим думать не хотелось — словно ты сам себя уличил в чем-то, разоблачил. Зачем?.. Между прочим, он спешит на зов друга, что ж тут плохого? Природа природой, а люди людьми. Кроме того, он предпочел бы море, если уж на то пошло.
Мысль о море повлекла за собой мысль о канистре, о бензине, о том, что надо заправиться, — вот он и оправдает тем самым свою остановку.
К нему вернулись ночные разговоры: что они обязательно уедут через две недели в Крым, что Бруно все бросит, в том числе и машину, и пламенно-синий Коктебель примет их в лоно своих бухточек, под сень тамарисков и безумного света луны по ночам.
Бруно вышел с полянки к машине, резко воняющей среди трав своими горячими механизмами, поднял дверь багажника, разгреб хлам, достал канистру — ну, голубушка, вот и пробил ваш час, как тут наше море?..
Бруно поставил канистру на дорогу, на горячий песок обочины. Потом подвинул ее на гравий, чтобы лучше был упор, и взялся за железную скобу пробки — скоба, кстати, тоже запузырилась ржавчиной. Он отвернул лицо, справедливо опасаясь, что пары бензина могут вырваться, как джинн из бутылки. Канистра была тяжелая, полная, двадцатилитровая. Бруно отвернул лицо и увидел, что на него глядят со стороны двое мальчиков — они только что вышли от дороги, из-за ельника, с самодельными кривыми удочками, в трусиках, один повыше, другой пониже. Глаза их спрашивали: что тут? Бензин, что ли, кончился?..
И кто потянул Бруно за язык, кто заставил его подмигнуть мальчишкам и сказать:
— Никак. Заело. У меня тут море, в канистре.
Все-таки, значит, настроение у него было хорошее, легкое, если он так шутил. Мальчишки, правда, никак не отреагировали на шутку, а младший обернулся, будто ожидая за собою кого-то еще, кто шел сзади.
Пробка между тем в самом деле не откидывалась. Бруно тянул, она не поддавалась. Даже неловко перед мальчишками. А ну! Он рванул с силой. И тут ощутил нечто — видимо, оттого, что стоял наклонясь, — что случалось с ним и раньше: моментальную, внезапную тошноту, стремительное головокружение, страх и почти потерю сознания: спазм сосуда в голове. Фу, черт, как некстати — главное, не упасть, не упасть, сейчас пройдет.
Пробка же все-таки отскочила с металлическим звоном, и канистра — оттого что Бруно все-таки подсознательно боялся ее, а теперь еще нетвердо попытался на нее опереться — вдруг будто нарочно вырвалась, как-то крутанулась, булькая и брызгая в стороны — Бруно выпустил ее из рук, — и шлепнулась набок, пустив из себя толстую прозрачную струю на каменистую дорогу.
Схватить и поднять канистру Бруно не мог, его медленно клонило на сторону, он делал судорожные вдохи и чувствовал, как страшный холодный пот охватывает тело. Если бы не стыд перед мальчишками, он бы упал на колени, на четвереньки, да, собственно, и падал уже, упал, о, черт! И близко перед собой он увидел бьющую из канистры струю и еще как-то ухитрился увидеть оторопело глядящих мальчишек. И вдруг отчетливо, неведомо почему, по каким признакам, но отчетливо сообразил, что из канистры вытекает н е б е н з и н. Не было ни запаха бензина, ни густоты его, ни маслянисто-черного оттенка впитываемой раскаленным гравием жидкости.
Уже стоя на коленях, Бруно сделал еще попытку поднять канистру, но она не шелохнулась, точно приросла к дороге своим ржавым боком. И извергалась.
Он понимал, что он в сознании, что, более того, спазм проходит, оставляя лишь слабость, сердцебиение и мокрое от пота тело — мокрое до такой степени, что даже штанины прилипают к ногам, — он в сознании, но будто и не в сознании: настолько необычно происходящее. Впору было макнуть в струю палец и понюхать: что это? Хотя он догадывался, ч т о́ это, и лишь боялся признаться, произнести, назвать своим именем. Нельзя же было признаться, что из его р ж а в о й канистры в шестидесяти километрах от Москвы, в лесу, хлещет на проселочную дорогу м о р е.
Из канистры лилось, не ослабевая, как из пожарного крана, только с меньшим напором, и жидкость была чиста, прозрачна, свежа, удивительно прохладна для этого дня, для канистры, которая все утро грелась в душной машине. От нее веяло прохладой.
Бруно хотел взглянуть на мальчишек, но еще не мог, боялся, что поворот головы или глазного яблока вызовет новый приступ тошноты. Но он чувствовал: они по-прежнему стоят, замерев на месте, и смотрят. Еще бы! То, что они видят, противоестественно: уже с л и ш к о м много ее, т а к о г о количества е е не может вместиться в двадцатилитровой канистре. А о н а все течет и течет. По дороге, по обочине, огибая Бруно справа, уже стекая и в канавку, заросшую травой, как щетка, и пропитывая дорогу впереди, стремясь к середине плоского ее полотна и дальше, к той обочине и той канаве. И за канавой, тоже низкой, лежит лужок, и о н а его может заполнить. О н а или о н о?..
Задавать вопросы было бесполезно, надо было принимать явление, как оно есть, без к а к (э т о) м о ж е т б ы т ь…
Сам он еще продолжал стоять на коленях, закрыв глаза, вслушиваясь в себя, борясь с дурнотой, но ему казалось, что он уже встает, смеется, шутит и мальчишки бегут к нему, подымая босыми ногами тучи веселых брызг.
Это же удивительно — вокруг продолжают петь птицы, висеть низко березовые плакучие ветки, летать стрекозы, а по канавам блестит, набирается маленькое море. И уже можно пошлепать по нему ладонями, ногами ударить и плеснуть в лицо товарищу свежей, соленой на вкус в о д о ю. Это чудо, ребята! Вперед! Не верите? Я же вам сказал: море, и вот оно, море, пожалуйста! Я сам знал, что это так, я догадывался. Если два года верить и называть что-то тем именем, каким ты хочешь, то и бензин станет морем. Смотрите, я тоже бегу с вами в своих вытертых джинсах, в рубашке с погончиками, шлепая светлыми туфлями по воде. Я смеюсь, я легкий и стройный, смуглый и веселый, как мальчишка. Я скольжу и с маху шлепаюсь в воду, все хохочут. «Дяденька! Дяденька!» Тихо, не кричать, все в порядке, я сейчас…
Бруно казалось, что он бежит назад, к машине, мокрый, по мокрой, все ровнее покрываемой морем траве, по дороге, уже скрытой водой с удивительно заигравшими на дне камешками сухого прежде гравия. Вот и канистра, которую уже тоже скрыло море, она тоже на неглубоком — руку протянуть — дне и тоже обрела умытый свеже-зеленый вид. И Бруно будто бы достает ее из воды, уже пустую, и говорит: «Ну, канистра, ты даешь!..» Но он знает, что теперь всегда, когда захочет, может вынуть ее, положить набок, и она нальет целое море где захочешь. И можно будет мчаться по нему на машине, как на катере, набив машину мальчишками, вздымая белые буруны.
Но между прочим, как ехать? Надо идти теперь на дорогу, голосовать, просить у шоферов 76-й бензин. А дойду я? Донесу? Что ж так плохо? Канистру поднять не могу, а ведь она льется, и сам я стою коленями в луже. Мальчишек попросить?..
Бруно все-таки открыл глаза и увидел: за этими двумя мальчишками явился, подходит третий, постарше, лет двенадцати, в белой шапочке с козырьком, тоже с удочкой. Тоже с удочкой, но еще, сопляк, с сигаретой во рту. Бруно увидел даже не сигарету, а табачный синий дымок. И его словно дернуло, он закричал: назад, назад! (Ему так казалось, но он не кричал, а лишь перестал склоняться все ниже и ниже рядом со своей канистрой.) Назад!
Небеса смотрели сверху на Бруно, своего любимца, не понимая, что с ним и зачем он свернул со своей дороги в этот лес?..
Старший мальчишка, важный и взрослый оттого, что он идет и покуривает, как большой, дойдя до приятелей, увидел на дороге машину с раскрытой, торчащей вверх дверью багажника, человека на коленях, склонившегося вниз головой, канистру. Он спросил с презрением:
— Пьяный, что ли?
Приятели не отвечали.
И вдруг человек распрямился, сделал страшное лицо, закричал одними губами: назад! брось!.. Мальчишка понял, что обращаются к нему, бросить велят сигарету. Все было понятно. Как ни храбрись, а взрослый есть взрослый, все удовольствие испорчено. Но он все-таки спрятал сначала сигарету за спину, выждал. Но когда увидел, что человек через силу хочет подняться на ноги и продолжает остервенело глядеть и кричать страшным лицом, бросил сигарету в сторону, в канаву, и отбежал.
И полыхнул лес синим коктебельским огнем.
Викинг
Я вез Мишку из детского сада — с Красноармейской до Преображенки, через весь город, ехал мимо «Динамо», по Масловке, мимо Марьиной Рощи и Рижского, там по эстакаде — день был жаркий, час пик, гарь бензина, — я не заметил, как ребенок уснул, смотрю: затих — он был пристегнут на переднем сиденье наискось черным ремнем (хоть и против правил, но я всегда его так вожу), пятилетний малыш с детсадовскими синяками под глазами, — наша машина уже была ему домом и успокоением после непрерывного возбуждения и напряжения сада, — мы этого не замечаем, не обращаем внимания, дети и дети, а у этих четырех-пятилетних людей непрерывная и сложная, как у частиц в броуновском движении, с бесконечными притяжениями и отталкиваниями жизнь. Он всегда входит в сад скрепя сердце, преувеличенно бодро, с вызовом и прицелом всегда на одного мальчишку, своего друга и врага Колодкина, высокого, с выпученными глазами, — тот ожидает Мишку со сладострастным оскалом, чтобы тотчас вцепиться и начать с ним крик, возню и драку, — он постоянно одерживает над ним победу и ждет его, как злодей жертву. Я видел, они начинают весело, смеясь, показывая окружающим невинность своей возни, но уже через минуту впадают в ненависть, причиняют друг другу боль, кусаются, плачут, и их невозможно оторвать друг от друга.
Почему я не схвачу и не унесу своего ребенка уже от одной этой муки отсюда навсегда?
«Ничего, — говорим мы, — не надо вмешиваться, дети, сами разберутся».
Нелегки тоже отношения с девочками, с воспитательницами; Мишка держится, держится, но, бывает, разражается ужасной истерикой, не идет в сад ни в какую, и тут-то все и выясняется: как он боится и ненавидит Колодкина, любит одну воспитательницу, молодую девушку, и не любит другую, старуху, хочет сидеть за столом с одной девочкой, а над ним смеются и сажают с другой, с которой он как раз не хочет. Словом, жизнь. Думать мне об этом больно, но и изменить я ничего не могу.
Ребенок уснул, я поехал еще медленнее, вызывая раздражение окружающих водителей. Я снял на ходу с запотевшей головы шапочку. Хилая детская фигурка склонилась набок. Так дальше ехать нельзя было: или будить, или останавливаться. Как раз начались Сокольники, и я подумал: заеду в парк, пусть ребенок поспит на свежем воздухе.
Я свернул на дорогу вдоль паркового забора, нашел въезд на аллею, поехал по асфальту, намеренно не заметив «кирпич», воспрещающий движение, потом по гравию, и вот уже машину закачало по живой неровной земле, и я оказался на краю живописной полянки: заросли ореха, несколько улетающих в небо сосен, кривая пышная береза, а впереди широкий просвет и вид на пруд, горка. Я тут же вспомнил это место: зимой мы приезжали сюда кататься на санках — удивительно, как все было голо, бело, парк просматривался насквозь, а теперь он густо скрыт зеленью. Мишка панически боялся сесть на санки, лететь с крутизны, я злился, стыдясь окружающих, — что за мальчишка, тоже мне, трус, смотри, как другие дети, — но он убегал, капризничал, трясся, а я, вместо того чтобы потихоньку увести его отсюда и не насиловать, схватил со злостью, сам плюхнулся на детские санки, улюлюкая и вселяя удаль в ребенка, который стонал от ужаса, вцепясь в меня, как жук.
Зимой здесь было красиво, а теперь и подавно. Жаркий день сразу отступил, зеленые тени окружили нас, казалось, от пруда, даже на таком расстоянии, веет прохладой. Ветерок трогал листья, дятел выбивал дробь по сосне, зудели мухи, порхали капустницы.
Я выключил мотор, раскрыл на стороны дверцы, — машина стояла чуть боком, накренясь направо, и спящий ребенок оказался ближе к траве, к земле, ее свежему дуновению. Я чуть сместил назад спинку кресла, снял с сына сандалии с затоптанными задниками — он еще не умел застегивать ремешки — и белые грязные носки. Никакой реакции. Он спал глубоко, с легкими нервными подрагиваниями лица, с мокрой от пота головой и испариной над губою. Ноги, ступни, ногти были у него точь-в-точь, как у его матери, на удивление. Мать его была далеко от нас. Собственно, у нас ее уже не было. У меня. Ладно, пусть спит.
Я отошел шагов на десять, сел на пенек. Мирный и милый вид открывался передо мною: зеленый пруд, освещенные солнцем стволы берез по ту его сторону, на зеленом косогоре. Я захотел закурить и удержался.
Я сам понимал, как, должно быть, симпатична со стороны эта картинка: белая машина среди травы, спящий ребенок, молодой отец поодаль на пеньке, охраняющий покой своего сына, покусывающий травинку. Неплохо. Вот так и посидим, передохнем.
Прошло минут десять. Внизу, у пруда, пестрели, гуляя, людские фигурки, а здесь, наверху, не являлось ни души. Я сбросил туфли, тоже снял носки, — отдадим земле статическое электричество, — земля приятно холодила и щекотала ступни, а мне было неловко перед землей и природой за городскую белизну своих ног.
Не знаю отчего, то ли от необычности ситуации, то ли из-за освещения уходящего дня, или от присутствия спящего, — вспомните, несколько странное бывает состояние, когда мы стережем чей-то сон, — но я ощутил, как обострилось мое внимание и восприятие, как я тревожен: точно что-то сгущалось вокруг или приближалось к нам, и я чувствовал: надо быть настороже, несмотря на покой.
Виденье странного корабля, ладьи, древнего, деревянного, с веслами, но с высокой на нем не то трубой, не то башней вдруг примерещилось мне: где я это видел? или читал недавно?
Может, я задремал? Нет. Чувство опасности еще усилилось, но вместе с тем я был спокоен — точно опасность близилась, но и защита была начеку. Я поглядел в сторону машины: ничего, все тихо, мальчик спит.
И все-таки. Прошло еще минуты две, и — точно стрела пролетела и вонзилась упреждающе в ствол сосны надо мною — на поляне оказались — явясь почти бесшумно из орешника — две огромные овчарки, темная и светлая. Быстрые, деловые, с висящими из пастей языками, с породисто закрученными хвостами — я и привстать не успел, — они заученно распределились: одна к машине, другая ко мне — с плавной побежкой, с привычным, нюхающим тырком и фырком. Сердце у меня чуть опустилось, но за себя мне страшно не было. Только бы не залаяли, подумал я, не испугали Мишку, а мне, видно, лучше всего замереть на месте. Я лишь повернулся к орешнику, ожидая оттуда хозяина собак, и в самом деле, там уже пробирался через сучья, бросая на ходу команды собакам, человек: милицейский околыш, синяя рубашка, погоны, форменный галстук. А, вон что.
Между тем собаки — одна, что потемнее и постарше, покрупнее, уже легла наглухо между мною и машиной, намеренно на меня не глядя: мол, вас здесь уже как бы и нет, а другая продолжала обежку вокруг машины, нюхая и моментально обследуя каждый ее сантиметр. В тот миг, когда она ткнулась головой в кабину, обнюхивая ребенка, я сделал внутреннее движение вперед, только внутренне, и тут же увидел поднятые на меня вполвека глаза первой собаки; она лишь взглянула, но я понял: не надо. «Она же его напугает», — сообщил я ей свою тревогу — в оправдание, но и с долей законного требования. «Ничего, — отвечал ее вид, — спокойно, у нас служба такая».
Собака в самом деле была не постарше, а просто стара, грудь ее ходила ходуном от небыстрого бега, несвежий язык висел до земли, но былая мощь и осанка, полная сознающего себя достоинства, заметно отличали ее от другой, молодой и легкой собаки.
На поляну выступил невысокий и плотный, грудь колесом, совсем молодой милиционер с поводками в руке. Он решительно шел ко мне, круглое румяное лицо блестело от пота, живые глаза ходили туда-сюда. Я сидел, не меняя позы, босиком. Вот-вот он должен был раскрыть рот, чтобы начать свое внушение (я вспомнил «кирпич» при въезде в аллею), но я упредил его — приложил палец к губам. (И успел увидеть, как собака следит за моей рукой, по мере того как я поднимаю ее ко рту.)
Вторая, молодая собака уже подбегала к хозяину — как бы с докладом: что́ здесь и как.
Почти дойдя до меня, милиционер уже мог увидеть ребенка в машине и увидел: глаза его были живы, любопытны, а лицо доброжелательно, но тем не менее он завел хмуро и заученно:
— Что ж вы машину в неположенном месте?..
— Тише. Видите, ребенок на ходу заснул, и я…
— Но сюда въезд…
— Да, знаю, извините, но просто жалко стало мальчишку.
— Сейчас, сейчас, — сказал милиционер молодой собаке, которая заметно волновалась. Она уже успела подбежать к старой, что-то ей сообщить, и возвратиться к хозяину. И я видел, что старая как бы нехотя поднялась и обернулась к машине. Что-то там было. И молодая уже опять была возле старой.
— Нет, вы отъезжайте, не полагается, — говорил между тем милиционер, а я искательно улыбался и нашаривал рукою носки и ботинки.
— Ну, товарищ сержант! Проснется мальчишка, и я тут же…
— Нельзя, нельзя, Я вообще оштрафовать вас должен.
— Ну пожалуйста. А то бы поговорили пока.
Он взглянул вопросительно: мол, о чем?
Я кивнул на собак:
— Мать и дочь?
Лучшего хода я не мог придумать — милиционер расцвел.
— Отец и дочь, — сказал он гордо. — Викинг и Цара.
— Как? — переспросил я.
— Викинг и Цара… Викинг! Сидеть!
Мы оба смотрели на собак, а собаки, услышав свои имена, обернулись на нас. Викинг рядом со своей молодой светлой дочерью казался особенно стар. Костистая, уже усыхающая огромная голова с выпирающими затылочными буграми, костистый тоже хребет под старой обвисшей кожей, усушенные старостью кости. Даже высунутые и ходящие ходуном языки — у собак, как известно, нет потовых желез и эту роль выполняет язык — были один розово-молодой, сочный, а другой бурый, пробитый продольной морщиной. И все-таки старая рядом с молодой выглядела и вела себя с таким достоинством, что именно к себе приковывала внимание. Для молодой довольно было и одного взгляда на нее, чтобы оценить ее прелесть, старая же видом своим говорила все, что хотела, и понять эту мимику не составляло труда.
Команда «Викинг! Сидеть!» не была исполнена: Викинг повернул к нам голову (мне хочется сказать «лицо») и показал, что ему н а д о к машине. Он остался стоять, а дочь его села, заполошно дыша, часто двигая белой грудью, без всякого выражения сомнения в приказе, с видом выполненного долга.
— Сейчас, минутку, — сказал мне милиционер, переводя мне взглядом требование Викинга идти к машине. Я это уже и сам понимал и натягивал носки и обувался с тревогой. Легким кивком хозяин разрешил Викингу идти, не садиться, и через мгновение Викинг был у машины; сунул нос сразу к переднему колесу, к подножке, лизнул, фыркнул, недовольно покрутил головой. Потом влез прямо к Мишке (разбудит, черт, напугает!) и замер, глядя на ребенка.
— Что-то там есть, — сказал милиционер, и мы оба быстро подошли к машине. Молодая побежала тоже. Викинг вынул голову из кабины и посмотрел на колесо. Чуть наклонясь, мы увидели: все колесо, и крыло, и подножка, утонувшие в траве, густо осыпаны рыжими мечущимися муравьями — не иначе, я стоял на муравейнике.
Вот так собаки!..
— Ну? — сказал мне милиционер победоносно. — Видали?
Собаки сидели, делая вид, что они тут ни при чем.
— Ну, молодцы! — сказал я им, закрывая дверцу. — Ну, собаки! Спасибо!..
Так мы познакомились с Викингом.
Милиционера-собаковода звали Сергеем, собаки были его страстью. Хотя он работал не в угрозыске, а в обычном районном отделении, его собак хорошо знали в городе и, случалось, присылали за ними с Петровки. На счету Викинга было сорок два раскрытых преступления, в него и стреляли, его и травили, но Викинг прошел через все, как и положено носителю такого имени. С тех пор как Сергея с собаками перевели в Сокольники, даже хулиганы поутихли в парке. Однажды вдвоем с Викингом Сергей задержал компанию парней в двенадцать человек.
Боюсь, если бы мы посидели еще полчаса, число подвигов и приключений Викинга и Цары возросло бы непомерно. Впрочем, Сергей говорил, что его самого больше занимает не расследование преступлений, а кинология, наука о собаках вообще и желание заразить собаководством как можно больше мальчишек и девчонок, — он собирается создать в парке такой кружок или клуб.
Вот! Идея! До чего просто решается проблема. Надо завести Мишке овчарку! Он перестанет бояться всего на свете, успокоится, у него будет верный друг и защитник, что еще надо для парня. Идея, идея. Я вспомнил себя в детстве: как мне хотелось собаку, как я завидовал тем, кто гордо и быстро шел, гуляя, по улице со своим псом.
Теперь мы уже говорили с Сергеем наперебой, дело было почти решено, милиционер сиял, как дьявол, купивший еще одну христианскую душу, а я уже как бы держал в руках щенка от первого же помета породистой Цары. И Мишка рос у меня храбрецом и крепышом, и исчезла вечная проблема, с кем его оставить.
Мы говорили, время шло, собаки отдыхали — вернее, Викинг покойно лежал, величественно, не поворачивая головы ни на мелькание птиц, ни на бабочек, не слушая, я думаю, и нашего разговора, — эти рассказы ему наверняка надоели. Цара же по молодости то садилась, то ныряла в кусты, то выныривала и то и дело оказывалась возле машины, фыркая там.
И вот, взглянув на нее в очередной раз, я едва не подпрыгнул: овчарка заглядывала в окно, а оттуда, из-за стекла, вытаращившись в ужасе, глядело безмолвное лицо Мишки.
— Цара! Назад! — закричал я сам, не дожидаясь Сергея, но было, конечно, поздно, ребенок испугался. Он так цепко держал меня потом за шею, ни за что не желая сходить с моих рук, что шея заболела. Он даже не плакал, а только подергивался и икал. Еще бы: проснуться среди леса, машина пустая, да еще собачья огромная морда! И чем больше я говорил всякую чепуху вроде «какие хорошие собачки», «а вот дядя тебе щеночка» и прочее и чем крепче прижимал его к себе, тем больше он мне не верил — я чувствовал. Опять-таки мы недооцениваем детей: он наверняка испытал страх мысли, что я мог оставить его в лесу одного, что я т о ж е могу исчезнуть из его жизни. Как мне было перед ним оправдаться?..
— Да что ты, брат, бояка какой! — говорил «дядя-милиционер». — Нет, мы тебя воспитаем. Да, Викинг? Воспитаем?..
Мы все втроем обратились к Викингу — он продолжал невозмутимо лежать на месте, глядя с мрачноватой усталостью, как старый воин на новобранцев. Но в ответ на вопрос Сергея, ей-богу, прикрыл глаза и чуть качнул головой. Я бы не поверил, если бы ручонки сына не впились в этот миг в мою шею еще сильнее.
Наконец мы поехали, Сергей и собаки провожали нас, Мишка оглядывался, тянул тонкую шею, пока опушка не скрылась из глаз, а я бойко рассказывал, как Цара спасла его от муравьев, как Викинг раскрыл сто сорок преступлений и задержал сто двадцать преступников, как мы возьмем щенка и у нас тоже будет свой Викинг, верный и бесстрашный друг.
— Не надо, — сказал Мишка.
— Почему это не надо? — сказал я. — Надо.
— Он страшный.
— Викинг страшный? Да ты что!
— Страшный, — сказал Мишка.
Мы ехали теперь быстро, машин поубавилось, дом наш уже был недалек. Обычно в этом районе Мишка уже все узнавал, а возле дома подпрыгивал от радости, но сегодня пережитое потрясение не отпускало его, а я, вместо того чтобы оставить ребенка в покое или отвлечь чем-то другим, продолжал настаивать на охватившей меня идее.
— А ты знаешь, кто такие были викинги? Древние воины, самые сильные и храбрые, они не боялись никого и ничего, я вот тебе расскажу потом…
— Не надо.
Я покосился: ребенок глядел на меня своими беспомощными глазами, пепел ужаса еще не остыл в их глубине, губенка его начинала подпрыгивать, и слезы были недалеко. «Господи! — подумал я с тоской. — Что же делать? Какие тут к черту викинги!» Но сам нахмурился строго и сказал: «Ну-ну, хватит! Что это глаза все время на мокром месте! Хватит!..»
И Мишка удержался, не заплакал.
…Вечер, еще по-летнему светло, и закат не остыл, дверь открыта на балкон, и со двора, с улицы летят голоса, звуки музыки, шум транспорта, в «башне», что стоит напротив нашей «башни», загораются окна — почти все они по-летнему раскрыты, и вся жизнь на виду. Когда Мишка приходит из детского сада домой, разрешается заснуть попозже, сказки порассказывать, с папой полежать: он в своей детской кровати, вымытый, беленький, веселый, с зеленым свежим яблоком, а я принес свою подушку и тоже лежу рядом с ним — на спине, не помещаясь, ноги мои стоят на полу. С упрямством, которое охватывает родителей в их редкие припадки педагогической страсти, я «провожу идею» Викинга, викингизма. Ну а что делать? Если нельзя научить храбрости — либо человек от природы смел, либо нет, — то нужно учить мужеству. Мужеству научить можно.
Я рассказываю сыну про викингов. Про далекую северную страну, где скалы растут из моря, как трава из земли, где белые дюны шуршат от морского ветра, а ветер пахнет вяленой рыбой и мокрым парусом. В этой стране чистых рек и крепких людей жили когда-то отважные воины. У них были деревянные корабли с высокими башнями, откуда воины осыпали врагов камнями и стрелами. В разных землях называли этих людей по-разному: варягами, норманнами или викингами, и победить их не мог никто.
У соседей гремел телевизор, во дворе нетрезвый голос орал «Арлекино», самосвал, самогрохоча, тормозил у светофора, а у нас берсекер Железная Нога выл, как медведь, бросаясь в битву, кусал свой щит, наводя на противника страх, а юный оруженосец Уф прикрывал его со спины своим щитом, чтобы мечи и секиры воинов Глума Косматого из долин Лошадиного Черепа не обрушились на воина сзади. Сотня кораблей флотилии викинг-ворда (адмирала) Торстейна Рыжего с Песчаных Островов шла непроходимыми проливами, мелями, и воины оказывались там, где их никто не ждал. Вперед, отважные! Высшая честь тому, кто пал в битве с оружием в руках, — душа его тотчас отлетает в Валгаллу вкушать вечное блаженство. И горе и позор человеку, который отступит в бою. Вперед, отважные, и нам покорятся Оркады и Фландрия, король Франции Карл Толстый будет платить нам дань, мы пронесемся на своих судах по Рейну и Маасу, Шельде и Гароне, и весь материк, который потом назовут Европой, три века будет дрожать перед нами, кланяясь нашим стрелам. Вперед, морские волки, властители брани, властители стали, испытатели секиры и вершители сшибки мечей. Прежний мальчик Уф, высокий и стройный, как тополь, возвращается домой из похода, и зовут его теперь Уф Прекрасноволосый, потому что золотые кудри вьются у него по плечам из-под сверкающего шлема.
— Папа, смотри! — прошептал сын.
Я приподнялся. В комнате еще смерклось, и в дверном проеме из прихожей, заняв его целиком, явилась широкая фигура в блеснувшей на голове низенькой стальной короне. Подуло ветром и запахло морем. Металлически зашуршала кольчуга, заскрипела оплечная кожа, сверкнули камни в перстнях, и тяжелый меч в кожаных ножнах шлепнул по ноге. У воина была собачья голова.
— Никого там нет, спи, всё.
— Викинг!
— Не выдумывай.
— Тише!
Мы оба видели эту фигуру, безусловно, но что же это могло быть? Игра воображения? До такой степени?.. Я закрыл глаза и снова открыл. Мумифицированный лик силился раскрыть веки. У меня не было ничего под рукой, кроме огрызка яблока на полу, который я невольно нашарил. Слипшийся в щель рот производил некое движение, тоже силясь раскрыться. Собачьи уши торчали поверх короны, зубчики которой древний кузнец выковал в форме пикового туза. Я видел это все так же отчетливо, как раму двери, как фотографию н а ш е й мамы с маленьким, двухлетним Мишкой на руках на стене.
Я покосился на сына. Он глядел во все глаза, он притиснулся ко мне изо всех сил и почти не дышал. Ну и успокоил я мальчика.
— Закрой глаза, — сказал я ему тихо, — спи, — и сам заслонил его лицо ладонью.
Когда я посмотрел на дверь снова, Викинга уже не было.
— Он ушел, — сказал я тихо, — не бойся, спи.
— Посмотри в коридоре, — сказал Мишка.
Я поднялся, выступил, скрепясь, за дверь, — никого, конечно, не было. Я вернулся, наклонился поцеловать Мишку — он тихо плакал.
— Ты что, — сказал я, — ты что, мальчик?
Он не отвечал, только всхлипывал судорожно и отворачивался от меня к стене. Я понял, что слова бесполезны. Я укрыл его получше, и странно — он, видно, не в силах был больше бороться со сном и скоро заснул.
«Что же делать? — думал я. — Что же делать?» — и долго еще сидел на детской кровати. А потом вышел на балкон, и сквозь мои унылые мысли, мое разогнавшееся воображение то и дело проносило видения свирепых лиц и русоголовых полонянок с малыми детьми, гонимых к чужим кораблям по склону холма, где горит позади разграбленное морскими разбойниками поселение.
…Милиционер Сережа оказался человеком неуемной энергии. Прощаясь, мы обменялись с ним телефонами: я работал тогда в редакции и обещал помочь ему напечатать информацию насчет клуба юных собаководов. И уже на другой же день или через день Сергей звонил и тут же и привез статейку — приехал на милицейском «газике». Словом, знакомство продолжилось. Он приезжал иной раз и с собаками и выпускал их из «газика» побегать по нашему двору. То есть бегала, конечно, Цара, а Викинг или лежал спокойно или прохаживался, стягивая вокруг себя любопытных, ребятню и взрослых с детьми на руках. Все сразу догадывались, что это не простые собаки, и даже наши старухи собаконенавистницы помалкивали и лишь осеняли себя крестным знамением, глядя на сурового Викинга.
И вот однажды на этом самом дворе у нас случился еще один «викинговый» случай. Мы вышли с Мишкой погулять — он в своей белой шапочке, с автомобильчиком в руке и коробочками-песочницами, — и вдруг — редкость — увидели, что детские качели пусты. Я потащил Мишку туда. А надо сказать, что качели — тоже были нашим больным местом. Малые малыши, девчонки, карапузы лезли в очередь на эти качели, отважно и упоенно раскачивались — иные лихачи, стоя, мотали себя из-под одного угла и девяносто градусов до другого, — и лишь одни улыбки счастья и визг удовольствия неслись с этих красных железных качелей с деревяшками-сиденьями. Все дети как дети. Но Мишка… он боялся этих качелей панически. Ну ни в какую — нет, и все. Боится. Боится, плачет — так же как с теми санками зимой. Н е м о ж е т. Не может, вот в чем все дело. А я х о ч у, чтобы мог, чтобы смел. И волоку его за руку, уговариваю, упрашиваю: ну, попробуем, дескать, ну, смотри, нет никого, никто не увидит, если тебе не понравится, давай.
Кто-то мне объяснял из врачей или просто из опытных людей, что не следует, не нужно насиловать ребенка (бросать в воду, чтобы научить плавать, — не самый лучший способ научить плавать), что нужно подождать, быть терпеливым: подрастет, сам побежит на эти качели. Но ведь всех нас вечно жжет нетерпение, мы хотим сделать по-своему — скорее, скорее, и нам кажется, если маленький человек умеет говорить, как мы, ходить, бегать, думать, и даже читать и писать, то он и все остальное может, как мы.
Мне удалось подвести Мишку к качелям, мы договорились, что он сядет на них сам, что я ему только чуточку помогу, а раскачивать не буду. «Посиди, и все, посиди только, ну, не бойся», — умолял я его.
И он подошел, и скамеечка деревянная, вот она была, перед глазами, и я изготовился, держал руки у его подмышек, чтобы подхватить и усадить. Но в ту минуту, когда он дотронулся до красной железной палки, качели качнулись, поехали, и Мишка тут же в панике отстранился. Уже потом, вспоминая до мелочей этот миг, я сам ощутил, каким, должно быть, опасным может показаться момент качания, зыбким и нарушающим моментально нашу вестибулярную систему, — будто не качели качнулись, а ты сам, земля ушла из-под ног. Но это потом. А в ту минуту, когда Мишка кинулся от качелей, я прямо-таки взбесился: терпение лопнуло, в слепом гневе я схватил его, стал силой усаживать, давить, а он закричал, заплакал, растопырил ноги, как Иванушка, которого баба-яга упихивает в печь. Тапочек слетел с ноги, шапочка, посыпались пластмассовые формочки-песочницы, — стыдная, дикая сцена. И я потом с силой дал ему шлепка — он заплакал уже от боли, — почти отшвырнул от себя. Я удерживал бешенство, озираясь вокруг и на окна дома: вот небось люди скажут, хорош папаша.
Мишка побежал от меня по асфальтовой дорожке, плача навзрыд, — одна нога в белом носочке. И тут из кустов, что росли вдоль этой дорожки под самой стеной дома, выпрыгнул тяжелым прыжком Викинг. Выпрыгнул и перегородил ребенку дорогу. Рот у собаки был открыт, язык висел до земли. У меня у самого душа похолодела, а Мишка оказался с ним почти носом к носу. Я в этот момент поднимал с земли белую шапочку с козырьком, я в один миг сообразил, какой испуг охватит сейчас мальчишку, — он был таким маленьким на этой длинной дороге, рядом с собакой, в одном тапочке, — черт, что ж я могу сделать сейчас, уже поздно.
И никогда мне не забыть глаз моего сына, когда он обернулся и кинулся назад. Он не искал защиты, он н е н а д е я л с я на меня» — я и Викинг были одно и хотели от него одного и того же (чего он не мог, но д о л ж е н был сделать). Он мигом побежал обратно, он бежал вслепую и не видел моих раскрытых для него рук — он миновал эти руки и… стал карабкаться на качели. Я врос в землю. Он оглянулся на меня, чтобы я помог, и это был рабский, загнанный панический взгляд, — он лез, он усаживался, он был согласен.
Викинг сел на том месте, где он выпрыгнул, заняв дорогу, величественная его голова словно была осенена победной стальной короной, я стоял с белой детской шапочкой в руке, радостный милиционер Сережа выходил из-за угла со светлой Царой на поводке. Мишка мостился изо всех сил попкой на деревянную дощечку, как другие дети, никак не мог сесть, судорога дергала его личико, но он старался улыбнуться мне, виновато улыбнуться, — он чувствовал еще и виноватым себя перед нами… собаками.
Человек с бенгальским огнем
Он вошел с этим огнем, сыпавшимся на стороны, прямо в вагон, крутя им и вертя, и за огнем не разглядеть было его самого: что еще за игрунчик? Народ сидел в одежде и шапках, отдувался, заняв с бегу ненумерованные места, боясь, что не хватит. Распихали сумки, обсиживали нахолодавшие кресла самолетного вида, с высокими спинками — соседа не видать, ожидали скорого отправления. Каждый со своими мыслями. А тут прямо перед лицом — с игрушками, с огнями. И Новый год давно прошел, и Старый новый минул, и детишек вроде нету, а он забавляется. Не иначе — пьяный. А этого только и не хватало: набегавшись по делам да магазинам, усевшись в дневной скорый поезд, чтобы передохнуть да к ночи быть дома, вязаться теперь в дороге с пьянью — хуже нет. И народ сурово сидел в шапках, не реагировал.
Впрочем, огонь тут же и сгас, пшикнул — и все, и открылся с черной обгорелой палочкой в руке тощий, в лыжной шапке, и такой же шарф длинно с шеи висел — синий с красным, навьюченный (рюкзак, мешок, сумка на молниях), куртка синяя на молниях — вроде туриста, только лет под сорок, и сияет, как копеечный пряник, по-старинному говоря.
— Привет народу! — помахал он рукой (а в руке приемник), заглядывая в ближайшие лица, но и высматривая себе тоже свободное место на задах, вроде трезвый, спасибо. Но народ все равно не реагировал, сидел в шапках, в платках, возя варежками по запотевшим стеклам, куда, как в картинные рамы, вставлена была серая, промозглая зима, грязный перрон.
Один девический писк раздался машинально:
— Здрасс… — но тут же сам себя оборвал: мол, чего это я?
Девушка у окошка сидела, тоже была в шапке, уши опущены.
Человек приветливо сиял лицом, волокся по проходу, стукаясь поклажей о кресла, приговаривал разные прощения-извинения, но народ как сидел в шапках, так и сидел, без лиц и глаз, уже осудя тощего: во-первых, за пугание и баловство с огнями, во-вторых, за лыжную шапочку на седоватой уже небось башке, в-третьих, за «привет народу!» — это-то еще зачем ни с того ни с сего, «народу!» — мы тебе кто: кумовья, сваты-браты? Этих вольностей мы не любим, ведите себя в общественном месте как положено. А то если каждый начнет жечь чего захочет, здоровкаться как хочет, — может, еще за ручки подержимся? — это что будет? Нет, в таком стиле нам не надо.
Человек волокся к хвосту, оказалось, там еще мест десять свободных (вот те на!), и народ только вкось вслед оглядывал его поклажу.
Так и поехали: народ в шапках сидел, глядя прямо вперед, а этот сзади, за спинами остался, шебаршил, раскинулся с пожитками сразу на три места, музыка раз-другой взорвалась, слышался разговор и уже смешок женский. Ну да ладно, хоть не на глазах.
Покачался, поперестукался колесами на выездных стрелках и перепутьях поезд, прополз мимо белокирпичных окраинных массивов, под городскими еще мостами и по мостам, а там помчал, кинулся в белые поля, от которых и в окошках побелело, в голые снежные леса, под простор ватинного зимнего неба — ходко пошел, понесся, хорошо! И отлегло маленько: во-первых, вовремя, по расписанию, отъехали; во-вторых, зря давились, всем места хватило; в-третьих, лихо погнал, значит, в срок доедем, без приключений. Так что отлегло. Потеплело. Хоть и сидели еще так же, в шапках, мысли свои не кончались: все ли взято? не забыто ль то-то? сколько того-то? Кое-кто лишь маленько рассупонился, девушка в шапке с опущенными ушами вытянулась к полке, книжку из сумки выкопала, уткнулась читать. И тут же первый колбасный душок прошел: тетка в трех платках на голове, один из-под другого, в одну горсть полбатона белого ужала, в другую — довесок колбасный граммов на двести, — и только хвать-хвать стальными зубами, а сама вперед глядит, никого не видит.
Тут, конечно, сразу пошло шевеление, жизнь, кто-то еще свою колбасу размотал, блеснула фольга творожных сырков, зашуршало, забелело, «дайте вашего ножичка, пожалста», — шапка склоняется к шапке, яблочко похрустывает, кефирная белая бутылка встает торчком, запрокидываясь над спинкой, как подзорная труба, глядящая в небо, и отмякает народ, отмякает, голоса различимы средь железного биения поезда, и проводник по имени Иван Михалыч, похрамывая, является на дух яств, заглядывая в каждые колени: у кого чего разложено, и потягивает, как хомячок, ноздрями, будто у него аллергия на еду. И молодой моряк в черной форменной шапке, в нашивках, первым поднимается среди кресел — в тамбур покурить.
Он идет назад, и потому первым видит, как раскинулся тот, что с огнем, на три места: сам в одном, а вещи еще в двух, и уже без шапочки, с коротко стриженной и впрямь серой от седины головой, и тоже уже с бутербродиком у рта, а другой просовывает между передними креслами двум соседкам молодого еще вида — одна в белом шерстяном платке, а другая в заячьей белой мохнатой шапке. И чего-то им стрекочет, веселит, а они тоже развеселились, и одна — губки подкрашены, ноготки-маникюр — красными этими ноготками банан облупливает, а другая в бумажный стаканчик «пепси» наливает, и очень ей смешно, как коричневая пена вылезает из стаканчика.
А еще в этом же ряду, но через проход сидит молодая толстуха с красными щеками, пошевелиться не может: до того своими сумками да авоськами себя заложила. Голова наглухо серым платком замотана, а поверх платка тоже шапка, как у боярышни, — да только, видать, шапку с мужика, что ли, своего сняла, с мастерового: присаленная какая-то шапка, с проплешиной, да и маловата. Может, с сына? Пожалуй, лет двенадцати вполне у нее парнишка может быть. Но не больше. Вообще, приглядеться — красивая толстуха, бровь тонкая, нос точеный, сама кровь с молоком, но взгляд! Не то что не подходи, а лучше и не гляди! Но и то: во-первых, устала, во-вторых, уж всех больше, кажется, в вагон вволокла, до стыда, и толкалась, лезла, спешила — тьфу, пропади оно все пропадом! — а в-третьих, — «пепси» их возьми! — что ж он им бананы скармливает, где они только эти бананы берут, ребятам бы привезти, самый лучший гостинец. И косит она злым, лошадиного выреза глазом на новую вспышку их елочного огня и придурошные «ах» да «ой».
Сверкает поставленный прямо в проход кассетник «Сони», подлетает к потолку женский смех. Но мнение сейчас у вагона мирное: ладно, мол, там, назади, маленько можно, пусть. А даже любопытство разбирает: свеситься в проход да глянуть, чего там у нас за клуб такой открылся с музыкой и, кажется, опять сверканием индийского огня?..
Девушка с опущенными ушами поднимается из кресел: вроде ей хочется просто так поразмяться или выйти подышать. И она останавливается вопросительно перед «магом», а хозяин говорит: «О мадемуазель, момент!» — и галантно его подхватывает. И ушанка, потупив глазки, позволяет себе маленькую улыбку.
В вагоне не теплело, но немного уже надышали. Иван Михалыч, похрамывая, проходил с гаечным ключом, пошмыгивал и бормотал: «Краны́ энто позавинтють…» — из чего можно было заключить, что тепла не жди. Но скоростной поезд летел, стучал, веселя своим ходом, стекла мокли, начиналась за ним ранняя зимняя синь. Неслись хвойные лапы с подушками, подушицами и даже целыми перинами на́снежи, и телеграфные столбы стояли строем в белых стрелецких шапках на макушках, а другие перины обнимали приземистую крышу, откуда вился старинный дымок из трубы, как на детском рисунке. И даже мелькнула где-то под насыпью «лошадка, везущая хворосту воз».
Народ отходил от своих мыслей, накрученных городом, и, как бывает в полпути, еще не озаботился мыслями домашними: как приеду, да как встретят, да чего там без меня? И малый этот промежуток годился для любопытства и передыха.
А в «клубе» шло одно за другим: карточные фокусы; музыка: гав, лав, гоу, лоу, оу!; стихи из маленькой книжечки; закусочка. Что хочешь. Возвращавшейся из тамбура ушанке и морячку было предложено: ей — послушать из книжечки стихи, а ему — пива «сенатор» и кусок разделанной на пластиковом пакете копченой скумбрии, отливающей на срезе синим перламутром, словно нефть на воде.
Опять было обращено внимание и на красивую молодуху с мучительным ее и упрямым терпением сидеть теперь так, как сидит, до конца, и хоть подступиться уже можно было, но завлечь — никак: ни индийскими огнями, ни русскими завлекательными словами, — нет, она сидела прямо и гордо в своем платке по щекам и торчащей шапке и отворачивалась к окну, сама чуть не плача от злости на всех и на себя: что бы засмеяться, вздохнуть грудью и расслабить сердце. Но нет, уперлась. Одно и бросила в конце концов про «Соню»:
— Уж прикрыли бы свою волынку, надоела!
Что касается ушанки, то она остановилась послушать из вежливости один стишок, но тут же дальше пошла: во-первых, не поняла; во-вторых, от слова «уста» начала краснеть, в-третьих, тощий, хоть, видно, и добрый дядька, но оказался староват, голова седая, а в-четвертых, морячок, наоборот, был млад-младешенек, с лицом пушистым и румяным, как у ребенка, которого ведут из детсада, над пухлым ртом темнели первые усики, и весь он был чист, ладен, понятен, в нарядных нашивках. И пива не стал пить, и скумбрию не взял, а только говорил баском: «Спасибо большое».
Соседки, что спереди, в платке и зайчике, хоть и смеялись дружно, хоть и известны уже были по именам (Люда и Мила), и куда ехали, и откуда, но отвинтили тоже шеи, оглядываясь, и устали передавать в щель между креслами туда и оттуда тузов и валетов, заграничный журнал с картинками артисток и артистов с голыми пузами, и бумажки с вопросами, из которых узнается ваш характер. Развлекательный человек, уж не зная, чем позабавить, снимал с пальца кольцо, и они, склонясь головами, разбирали буквы внутри кольца. Там было написано красивой вязью: «Не жди». Вот до чего распахнулся тощий. И они поглядывали на него, сконфузясь, и спросила Люда с сочувствием:
— Это кто ж вам так написал?
А он засмеялся и, навинчивая назад кольцо на палец, ответил, что это он сам себе написал. А этого они не поняли, переглянулись.
А он еще достал псалтырь — вот даже что у него оказалось! — и стал вычитывать оттуда разные слова о жизни и смерти, но тут уж они совсем устали, и, пока Люда в платке вежливо слушала, выставив ухо в щель, Мила в зайчике задремала. И пушистая шапка наползла ей на самый нос. А там и розовое ушко Люды отклонилось и пропало за тьмою кресла, как солнце за горой.
Но это уже попозже было, когда быстро темнело, замелькали среди дальней природы первые огоньки, и проносящиеся станции озарялись ранним электричеством; народ, сидя в шапках, дремал, мотаясь головами и неумело раскидываясь хоть и в располагающих к лежанию, но все же каких-то не наших креслах.
А человека с бенгальским огнем угомон не брал. Иван Михалыч проходил с топором, приговаривая: «Сейчас энтот крант у меня!» И тощий, конечно, остановил его. Иван Михалыч, часто пошмыгивая носом, выцедил стакан «сенатора», рыбкой зажевал, но тут же топором указал: это, мол, прибрать, не положено, и вещички лучше бы под креслице или на полочку. А огонь зажигать вообще боже упаси, а то сразу придут кому надо и «оформють».
И пришлось с вещичками сократиться.
И «волынку» сунуть в сумку.
Совсем хотел пересесть к молодухе, но она, хоть и поуспокоилась, как только он в ее сторону глянул, глазом сверкнула: не подходи! И улыбочка тощего сгасла, скисла, и сам он будто ужался, еще потощел. Молодуха, отворотясь, видела в черном теперь зеркале окна его отражение, которое точно дрожало и таяло.
Молодуха и не заметила, как заснула тоже, — только спинки коснулась головой, и все. Платок и шапка так же туго держали ее щеки, румяный рот раскрылся трубочкой, блестела по крыльям иконописного носа испарина, брови и во сне сердились, и глубокое дыхание, облегчая усталое тело, поднимало закованную в сто одежек грудь.
А потом она проснулась с испугом, хвать тут же руками по сумкам — все здесь, будьте вы неладны, — глянула через проход. А там нет никого. Пусто. Как так?.. И поезд летит и летит среди ночи, и не останавливался, и все на местах — вон шерстяной платок как белел, так и белеет, и заячья шапка как спала, так и спит. Ушанка с морячком идут опять по проходу к тамбуру, морячок даму перед собой пропускает. Все на местах, а этого тощего нет. И ничего нет — ни вещей его, ни «волынки», ни обгорелой палочки от елочного огня.
И ясно без всякого: он не сошел, не выпрыгнул, ничего такого с ним не случилось, и в другой вагон не перешел — вот хоть голову на отсек! — а просто растаял, пропал — мол, кому ты нужен?!
И чего-то вроде защемило, и чего-то не стало в вагоне, и жаль. Был — не надобно, нету — и пусто.
Морячок с ушанкой тоже поглядели удивленными глазами, поозирались, даже подняли головы к потолку: нет ли там люка какого? И молодуху спросили взглядом: мол, где же? Но она свои глаза отвела: не хватало еще — под расспросы. И в окошко опять отвернулась. А там тьма летела, одна тьма, безо всякого огонька.
Алина
Я проснулся и сразу подумал: а волосы? волосы какие?.. Было три часа ночи, голова работала, как автомат, я ясно видел: Алина, стоя ко мне спиной, в кухне, у столика, рядом с газовой плитой (или с электрической?), трет на терке морковку.
Стоп, сказал я, стоп, и заставил себя приглядеться. Лямочки фартука крестом сходились на ее узкой спине, шея клонилась чуть влево, и талия кривилась, потому что Алина на одну ногу опиралась, а другую ослабила. На ногах у нее были разношенные домашние сабо, желтые махровые носки, а брюки черные, вельветовые. Кажется, она тихо напевала про себя. (Не кажется, а точно, и я даже знаю что: вот это — та, та-ри-ра, та, та-та и так далее.)
Ее синий пуловер, тоненький, который она любит носить дома, надевая его на голое тело, не был заправлен в брюки, а облегал ее бедра. Пуловер был темно-синего, густого тона, а лямки фартука светло-синие, почти васильковые. Терка, на которой Алина терла морковь, — четырехгранник, как башня, пластмассовая, с разнокалиберными дырками на каждой из сторон, — стояла в глубокой тарелке, чтобы не скользить. И между прочим, цвет у терки тоже был морковный, оранжевый. Алина поднимала терку и смотрела, напевая, насколько увеличилась в тарелке мягкая горка моркови.
Так, так, дальше, — привычно гнал я себя, проверяя все подряд: плечи, шею, глаза, улыбку (подспудно я не забывал про волосы). Ее милые, ласковые глаза, карие и не карие, ореховые, как я их называл, глядели весело. Кожа ее, слишком нежная, бледно-голубоватая, всегда смущала меня, — откуда взялась эта аристократическая, почти вырожденческая кожа? Но это была ее кожа, она ей шла, это уж точно. Ее бедра светились ночью, как мрамор, а лоб и виски по утрам — как теперь — отдавали светом горной вершины, не белой белизной льда.
Так, так, — повторял я себе с наслаждением, щелкая среди своей бессонницы, как компьютер (бесшумно, как компьютер, неподвижно, как компьютер, и бушуя тем не менее, как компьютер), все так, но волосы?.. И я тут же увидел кое-какие наброски: темные волосы на руках и ногах, на этой белой коже, и аккуратные колечки в подмышках, и темные легкие усики над самыми уголками губ.
Но это были именно наброски, попытки, — мне не терпелось проверить пока то, что было безусловно, что я уже имел… Алина! Я знал про нее все. Где она родилась, кто был у нее дед с материнской стороны и кто с отцовской, какою она была в три года и в семь, когда пошла в школу. Я привычно мчался в Тушино, входил в знакомый дом, легко и, как всегда, с волнением вбегал на третий этаж… Стоп! Ну почему Тушино? Неужели так уж обязательно это Тушино?.. Да потому что она должна жить далеко, недоступно для чужих глаз, там нас никто не знает. Я люблю этот простой дом, обыкновенный подъезд: как входишь — внизу синие почтовые ящики, и среди них цифра 11, как родная. Я вхожу, квартирка маленькая, но каждая мелочь здесь… Минутку! Ну, а не пресно это все-таки, не пресновато? Тушино? Почему не Беляево, не Люблино — тоже далеко! Или, пожалуйста, Юго-Запад, Вернадского или Вавилова, где иностранцы живут? Кстати, может, она вообще… датчанка? или француженка? Или турчанка? Отчего у нее кожа такая?.. Да потому, что у нее дедушка был грузин, князь, ты забыл? — в Грузии все дедушки князья, при чем тут иностранка?..
Я отметил эту идею, но у меня на глазах крошечная квартирка Алины в Тушине расширялась, раздвигалась, и вот уже на белой стене большой гостиной висело старинное английское ружье и гравюра Московского Кремля XVI века, а на низком мягком диване полулежала некая гостья, поигрывая туфелькой на ноге и попивая банановый джюс. Алина в платье с голой спиной сидела рядом и улыбалась роскошными тефлоновыми зубами, вставленными прошлым летом в Англии по сто фунтов за зуб!..
Нет, нет! К черту!.. Тем более что в этой атмосфере Алина тотчас обрела совсем несвойственный ей жесткий облик самостоятельной женщины, этакой дамы за рулем, которая ни в ком не нуждается, все умеет сама. Не надо, рыбка. Мы славно жили в нашем Тушине, в этой квартирке, о которой не знала ни одна душа в городе. Всем моим друзьям, тому же Федьке, известно только одно: Тушино. Даже имя твое я им редко говорю. «Ну, как там в Тушине?» — спрашивают они. Так что лучше нам оставаться самими собой. Будь, пожалуйста, такой же мягкой, как всегда, женственной, спокойной. Что нам иностранцы, в твоих жилах течет княжеская кровь. Посмотрите, какая изящная у нас походка. А ресницы, глаза, кожа, шея, эти лермонтовские усики! Боже, а как она умеет ждать! Она ждет меня неделями, безропотно, без единой слезинки, как ждут моряка, она целует меня тихо и благодарно, когда я врываюсь, вру, бормочу оправдания. «Ты же знаешь», — говорит она. То есть она ничего не говорит, она вообще никогда не говорит на эти темы, кто прав, кто виноват, — мол, ты это ты, мой любимый, и если ты так поступаешь, значит, так нужно.
Удивительная женщина, самой ей не нужно ничего никогда. Я могу забыть, не купить ей цветы — она же не забывает ни о чем, и передо мной, когда я ухожу, всегда лежит то, что мне нужно: зажигалка, носки, симпатичный брелок, если я накануне потерял свой.
Хорошо, хорошо, — говорю я себе сейчас, ночью, понимая, что уже часа четыре, что оттого, что не сплю я, сейчас проснется рядом или уже проснулась моя жена. Хорошо, хватит, говорю я себе, а сам помню про волосы.
Не зажигая света, я протягиваю руку за часами. Странно, не четыре, а только четверть четвертого. Конечно, реальный мир неподвижен, черен и мертв, его время и мое время сейчас не совпадают, ничего удивительного. Моя любимая женщина тоже проснулась сейчас. А может быть, она вообще не спала — я вижу, она сидит, поджав под себя ноги, в уголке дивана, настольная лампа освещает ее укутанные вязаным платком колени и раскрытую книгу на коленях. Спи, радость моя, до завтра!..
Нет, вот еще что: что я скажу на работе толстому Федору? Где мы были, что делали? В кино ходили? Телевизор смотрели? Или никуда не ходили?.. Вот лодка закачалась на Измайловском пруду… Нет, это примитивно, кто поверит!.. Кажется, я уже устал, а ведь еще волосы… Какие у тебя волосы, Алина?.. Стоп! Стоп, я знаю, что мы вчера делали: мы поехали на велосипедах вдоль канала. «На каких еще велосипедах? — спрашивает Федор. — У тебя сроду велосипеда не было!» — «Что ты знаешь, дядя! На обыкновенных велосипедах, на новеньких складных велосипедах, видал такие? Один желтый, другой красный, Алина их сама купила, еще зимой, у себя в Тушине, в «Спорттоварах». — «Где это в Тушине «Спорттовары»?» — «Да что ты прицепился! Говорю, по каналу ездили. Мы всегда с ней в хорошую погоду на велосипедах… Там, за шлюзами, одно местечко есть, полянка… мы уже на закате туда приехали — красотища! Легли в траву, руки за голову, самолеты небо чертят, стрижи снуют, кузнечики с ума сходят, а Алина поет потихоньку старую грузинскую песню. Честное слово! Потом месяц вышел, в канале отражался: молодой, белый, прозрачный, как ломтик дыни…»
Я почти засыпал, но еще думал про волосы. Хотя я устал и боялся, что волосы не выйдут. Черт, как же так!.. Хотя… ну конечно! Ведь раньше у нее была коса. Потом она ее обрезала. Потом опять у нее были длинные волосы. А теперь — господи, что я за дурак! — теперь же у нее короткая стрижка, такой шлем из волос, челка, как у Мирей Матье. Точно, как у Мирей! И цвет такой, темноватый, но не совсем черный. Правда, мне не нравится. Да, точно, мне не нравится, я говорил: Алина, извини, но, по-моему, это не твой стиль. Она ничего не ответила, но я уверен: я приду в следующий раз, и прическа будет другая. Конечно, ей это не идет, это не ее волосы, я устал…
Тут я заснул и спал, как убитый. А утром в автобусе, вернее, на автобусной остановке, увидел женщину… словом, это была Алина.
Я в одну секунду, издали, узнал ее узкую спину, желтый плащ, туго схваченный поясом, походку. Сумка знакомо висела на сгибе локтя, хотя именно эту сумку я видел впервые. Меня обняло жаром, когда я понял, что угадал ее прическу: темные волосы облегали ее голову, как шлем, и из-под челки взглянули на меня ореховые глаза. Я мелко дрожал внутри и твердил одно: алина-алина-алина-алина, — будто мигалка вращалась. Я узнавал ее шаг, ее щиколотку, ее малиновые туфли на тонком каблуке, с тонкой перепонкой… Уже в автобусе, стоя за нею, я выдохнул наконец: А-ли-на!.. Сердце мое замерло и не билось, как у йога.
Она обернулась так просто, как оборачивается человек на звук своего имени. Так просто, как я и ожидал. На остановке ее выражение и глаза из-под челки показались мне непроницаемо чужими, я бы сказал, что это было ее уличное лицо. Теперь же я видел знакомый мягкий взгляд, милый, открытый. С какой жадностью, с каким счастьем глядел я на этот лик, который раскрывался передо мной, как цветок в замедленной киносъемке. Как будто это было лицо родной, но выросшей сестры или одноклассницы, с которой не виделся десять лет. Боже, эти добрые губы, и пушок над ними, и рисунок бровей, и ресницы!.. Кофейная, в белый горошек косынка охватывала ее шею, воротничок плаща стоял, как всегда, у Алины, виски светились благородной голубизной, а глаза глядели на меня со знакомой радостью.
Ах, черт, это была она, моя Алина, моя Галатея, которую я сам придумал по ночам, по частям, которой я хвастался перед друзьями и о которой даже намекал слегка жене — вот до чего она была хороша! — да, я это делал, чтобы они не подумали, что у меня нет никого, ведь у каждого была своя Алина, а у меня не было. И вот она стояла передо мной, моя мечта, моя женщина, совершенная, какою может быть только твое собственное нерукотворное создание. Я готов был расплакаться, стать перед нею на колени, на глазах у всех, на этот автобусный, грязный пол. Алина! Ты ли это?
Я видел: она все поняла, глаза ее тоже полны любви, и лишь отблеск боли, невозможности, непереносимой дальше тоски плещется в глубине, и чудится — предупреждение? предостережение? Почему? Я чего-то не знаю? Почему, Алина?.. Я беру ее руку в свои. Знакомая теплая, живая, теплая и холодная, такая знакомая рука. Я не хотел бы отпустить ее больше никогда…
И тут… тут я замираю. И бросаю эту руку. Боль в глазах Алины из намека превращается в крик, и я слышу дальний и страшный хохот. Я будто в лоб ударен прикладом: рука без ногтей. Совсем. Как и не было. Понимаете? Пальцы, кольца, руки — все есть, а ногтей нет. Пусто. Разве не жуть? Я бросил ее руку, как трус, в страхе и панике.
Идиот, я совершенно забыл про ногти! «Волосы, волосы!», а про ногти — забыл…
Воронка
Все случилось вдруг. Юнус стоял в ванне, после душа, смотрел, как уходит в дырку вода, завиваясь воронкой, — кто из нас не видит этого каждый день? — смотрел, смотрел, движение шло все быстрее, вода уже всхлюпывала, вихрь крутило, чернота бездны обнажалась, и тут Юнус, словно озарясь молнией, в с е п о н я л. Казалось, глаза полезли из орбит и живот стал втягиваться от ужаса прозрения: догадка о необыкновенном и невероятном постигла его, открылось нечто беспредельное — мысль, мысль, идея, такая ясная, но дотоле никому не ведомая (неужели никому и никогда?), сверкнула в одну секунду, поразив в самом деле, как молния, и… «настал давно желанный миг, — как сказано у Пушкина, — и тайну страшную природы я светлой мыслию постиг». Неужели постиг? Жутко было даже повторить э т о про себя, проверить, продлить — можно было лишь замереть, зажмуриться, зафиксировать. Неужели?..
Вот так, должно быть, стукнуло яблоком Ньютона — не зря жива легенда о с л у ч а й н о м открытии — кстати! — закона всемирного тяготения.
Юнус еще стоял здесь, голый, толстый и мокрый, в своей ванной, в своей квартире, и лысина его еще самодовольно и розово отсвечивала в туманном от пара зеркале, но вместе с тем все прежнее, вся жизнь его, скромного преподавателя Андрея Юнуса, и само это имя, и ванная, и квартира, жена, мама, папа, детство — все на свете, все вместе, скручиваясь в водяную спираль, всасывалось, подобно какому-нибудь коту из мультфильма, черной дыркой трубы, чтобы теперь, ясно же, исчезнуть навсегда. Исчезнуть, освободив существо, бывшее Андреем Юнусом, лишь для одной мысли, одной идеи, одного дела. Юнус! Юнус! Куда ты, Юнус?..
В самом деле, забылось число, день, месяц, а потом и количество лет, промелькнувших несчитанными, но то утро словно бы не кончалось, и он так и стоял голым в белой ванне, не сводя взгляда с уходящей с хлюпом воды, с веселого смерча, навечно приковавшего к себе его внимание.
Он ли это преподавал мирно в Энергетическом (и жена его преподавала), он ли хлопотал и потом получил новенькую квартиру недалеко от института, в Лефортове, и каждое утро спешил на работу пешком, для моциона, с портфелем и в галстуке, пахнущий заграничным одеколоном, запах которого отлетал от его упитанных щек, и улыбался бегущим навстречу московским студенткам?..
Да, все это булькнуло и исчезло в один миг в черной дыре, давным-давно. Он теперь умыться-то забывал, оброс светлой, кудрявой, какой-то младенческой бородой, еще располнел и округлел, как пупс, потому что ел пищу самую простую и дешевую: макароны и картошку. Жена оставила его и забрала сына — вернее, они остались жить в той квартире, — Юнус этого словно бы и не заметил, семья стала ему не нужна. Кроме того, ему казалось, что у них все по-старому, он их любил — то есть такого слова нельзя употребить, он не мог теперь никого любить, но он просто считал, что тут все нормально, связь его с семьей не нарушена, тем более что он ведь и д л я н и х с т а р а л с я.
Словом, нормальный прежде и вполне средний человек Андрей Юнус превратился в маньяка, в одержимого, которого постигла мания великого открытия. В один день, в один миг.
Судьба русского открывателя-самоучки хорошо известна. Даже самый счастливый вариант выглядит так: самоучка живет в провинции, морит голодом жену и детей, ездит, на потеху обывателя, на велосипеде, строит у себя в сарае дирижабли, и только потом оказывается, что это Циолковский.
В наш же век гигантских НИИ, КБ, лабораторий, опытных заводов, когда один ум засекречен хорошо, а два засекречены еще лучше (позволим себе такой каламбур), когда неизвестно, кто, и когда, и где совершил очередное великое открытие (хотя они совершаются пачками каждое десятилетие), — в наш век что делать самоучке? Но он есть, он жив. Он сам летает теперь на самолете в столицу пробивать свое открытие, кормят его жена и дети, общественность всячески поддерживает, хотя изобретает он в своем гараже какой-нибудь велосипед с квадратными колесами. Тем не менее судьбе его все равно не позавидуешь.
Впрочем, теперь мы стали ценить, слава богу, не только самый результат, не только конечный, так сказать, продукт деятельности, но и процесс, увлеченность, расцвет личности, озарившейся вдруг творчеством. Пусть их себе, не жалко. «Лишь бы не пил», — как говорила одна женщина, глядя на своего мужа, играющего на полу в детскую железную дорогу.
Даже если человек забавляется, как дитя, даже если изобретает велосипед, бог с ним, это е г о велосипед, е г о догадка и творение, никакой выгоды для себя или вреда для других, как правило, от этого нет, а сам он чаще всего испытывает одни неудобства и неприятности. То есть это только на наш трезвый взгляд неудобства и неприятности, а сам-то он испытывает один вдохновенный восторг, и никакие лавры и суммы вознаграждения не могут с этим восторгом сравниться.
Вот и Юнуса, смешного, толстенького человека, питала энергия счастья и веры в свое открытие: он стучал алюминиевой ложкой по алюминиевой миске с макаронами, а лицо и лоб его сияли вдохновенным светом. И если, как утверждают философы, высшая цель человеческой жизни в познании, то этот маленький смешной человек был убежден, что п о з н а л, вобрал в себя в с ю т а й н у, всю с ф е р у и более того… но не будем забегать вперед.
Любопытно, что к моменту моей с Юнусом случайной встречи я сам, напротив, находился на крайней точке разочарования и сомнений в своей деятельности, во всей своей жизни. Я еще писал и издавал книжицы — о великих людях, между прочим — еще носился с замыслами, которые п о ч е м у-т о считал необходимым осуществить, но соображение о том, что человечество вполне могло бы обойтись без моих трудов, что жизнь прошла зря, а теперь уж виден и ее исход, — это трезвое соображение уже отравило меня. Зачем я жил и что делать дальше, я не знал. А ведь как был горяч, как самоуверен, как строг к другим! Теперь же терял веру в свое дело — что может быть трагичнее для фанатика?..
Приволок меня к Юнусу один приятель-журналист — Ваня Стеклов: «Слушай, старичок, не откажись, пожалуйста, провести одну невинную процедуру, оздоровительную, между прочим, и выложить за нее пятерку. Надо помочь одному чудиле». Было лето, середина дня, мы без особого дела сидели и курили в редакции; смуглого и шустрого Ваню с цыганской чернотой кудрей и глаз так и тянуло куда-нибудь на волю, он был на своей машине и обещал, что вся процедура изымания из меня пятерки не займет и часа. «Не пожалеешь, — обещал Ваня, — таких типов мало осталось». Я сомневался, типы эти давно стали литературным штампом, но сказал «ладно», и мы поехали. Мы двигались но Садовому, где нельзя было дышать от гари выхлопных газов и где раскаленные грузовики гремели и чадили, как танки. Потом мы петляли кривыми и зелеными переулками где-то за Курским и оказались на задворках вокзальных запасных путей. Бросили машину у проломанного бетонного забора, сквозь железнодорожный бурьян и ржавое набросанное железо, в виду пыльных зеленых составов пробрались к неожиданной здесь новенькой «башне» этажей в восемь, где на вывеске значилось нечто вроде «НИИЖЕЛДОРБЫТПРОЕКТ», и нырнули с заднего хода в подвал. На бетонном полу поблескивали лужицы, на одинаковых дверях зеленели таблички с названиями отделов — наш отдел, или лаборатория, занимался чем-то вроде исследования зря выходящего пара из вагонных кипятильников. Я посмеивался, филантроп Ваня был тверд и ввел меня наконец к нашему Ньютону.
С жару и солнца мы вошли в полумрак и прохладу, в просторном полуподвале с низким потолком было на удивление чисто, прибрано, бросалась в глаза белая спираль в углу величиной с железную бочку, почти в человеческий рост, а под подвальным окном тянулся вдоль стены рабочий стол, верстак с тисками и инструментами, розетками, мойкой с четырьмя над нею кранами, и от двух кранов шли насаженные на них белые шланги — к той штуке, что в углу.
Я не успел оглядеться, а к нам уже выкатился кругленький бородач с сияющими, как яблочки, щеками, с розовой лысиной, со счастливым выражением глуповатого, как мне показалось, или, точнее, блаженного лица. Я ожидал увидеть мрачного дистрофика, обозленного на весь белый свет и погибающего без моих пяти рублей, а нас суетливо-восторженно принимал счастливчик, так и лоснящийся довольством.
Меня счастливцы уже с давних пор раздражали.
Мы познакомились, мы выпили холодной воды, надо было для приличия перемолвиться, присесть хоть на минуту: за что пятерку-то давать? Я посмотрел на часы и отмерил полчаса вперед — этого нам должно было хватить: мне как-то с первого взгляда все стало понятно. Ваня полуприсел на верстачок, не жалея свои джинсы, одной ногой упирался в пол, покручивал ключами от машины: мол, давай, давай, Юнус, действуй, а то нам некогда.
Но одержимый есть одержимый, и пророк есть пророк. Ему только дай слушателей. Уже через две минуты перед нами, незнакомыми людьми, он готов был выложить в с е, все свои тайны. Какие страсти бушевали в этой обросшей жирком, почти женски свисающей груди, прикрытой выношенной и потной розовой рубахой со старомодными, огромной величины концами воротничков, какие бури бушевали под этой лысиной с золотистыми кудрями вокруг, какой радостью горели голубые яркие глазки! Стеклов посмеивался, наблюдая за мной: мол, я это уже слышал, а вот как ты? Я же слушал плохо, потому что рвался тут же возражать, высмеивать, оппонировать. Хотя Юнуса невозможно было сбить или поколебать, от него тоже все отскакивало.
Как бы то ни было, но скоро некрашеный бетонный потолок исчез, жаркий день смерк, темный небосвод накренился над нами, и мы унеслись в пространства, доступные лишь воображению.
Мой рассказ не для ученых умов, и если мои объяснения попадутся на глаза специалисту, пусть он будет снисходителен. Тем более что я пересказываю как умею чужие идеи.
Что же открыл румяный Юнус, что п о н я л?
Он начал, как мы уже знаем, с водяной воронки.
Отчего, между прочим, вода, вытекая из любой емкости вниз, всегда завивается в одну сторону? (В одну сторону в одном полушарии и в другую в другом?) Это азбука: крутится земля, вращаются планеты, звезды и галактики, движется, «разбегается» Вселенная. Нет материи без движения, нет движения без материи. Вселенная живет, вращается, и даже в планетарии детям, моделируя Вселенную, показывают эдакий гигантский кулек звезд, в о р о н к у звездного вещества.
Итак, размахивал толстыми ручками, обросшими золотым волосом, Юнус, знак Вселенной — волчок, треугольник; Вселенная, завихряясь в воронку, на пике конуса должна достигать таких плотностей и скоростей, что в с я сжимается в точку. А затем — неизбежный взрыв, выброс вещества, разлет. Как полагает современная наука, так случилось двадцать миллионов лет назад, и с тех пор Вселенная и разлетается цветным веером и будет разлетаться до тех, видимо, пор, пока стремление природы к энтропии не погасит скорости, не приведет к некоему парению, а затем к новому притягиванию частиц друг к другу, их скоплению, уплотнению, новому увеличению массы, медленному ее движению, ускорению, свиву в спираль и… все сначала.
Таким образом, выходит, что воронка вроде не одна, а две, как в песочных часах, и, как в песочных часах, материя так и переливается туда-сюда, почему никуда и не исчезает. А может, и не две воронки, а три, четыре, сто… И если не исчезает материя, то не должно исчезать н и ч е г о. Ничего, ничто и никогда.
Я перебивал, я спорил, я говорил, что воронка есть ф о р м а, а то, что вечно и бесконечно (если оно так), не может иметь формы. Я задавал вопросы насчет самого вращения, которое, как известно, есть такой вид движения, в котором одна точка или ось должна быть неподвижна. Я еще произносил какие-то скептические умности и шутки — Стеклов дарил мне двадцать копеек за наиболее удачные, — но Юнус не слушал, шуток не понимал, махал на нас толстыми немытыми ладошками и шумел, что все это в конце концов его не интересует, все это только предисловие, берег, от которого он оттолкнулся.
«Ну-ну», — снисходительно говорил я, положив ногу на ногу таким образом, что летний мокасин правой лежал и повиливал на колене левой, а сам я тоже полулежал на стуле под самым подвальным окошком, заросшим с той стороны железнодорожным лопухом, и пускал наружу дым уже не первой сигареты.
До тех пор пока Юнус не сказал «ничто и никогда», мне было неинтересно — картина мира в виде воронки отдавала чем-то уже известным, банальным, — но на этом месте тревога или предчувствие дальнейшего затронули меня, я захотел вслушаться.
Оказывается, картина макромира нужна была Юнусу лишь для того, чтобы связать ее с микромиром, буквально с живой жизнью Земли; с жизнью биологической. Мол, как мы-то попали в воронку, кто мы-то, зачем? И опять же, если вечно и бесконечно одно, отчего смертно и конечно другое?..
Начавши с в о д я н о й воронки, Юнус и обратился в конце концов к воде, о с н о в е ж и з н и. Вода, как известно, одно из самых сложных, изучаемых и далеко не познанных веществ на свете. Третья формула воды — H/O/H. Тоже похоже, как видите, на воронку. И одна молекула соответствует (по Юнусу) одному герцу. Это, мол, ритм Вселенной. И в этом же ритме бьется человеческое сердце. (Нобелевская премия ожидает того, кто объяснит, о т ч е г о бьется сердце!) А оно бьется, утверждал Юнус, расширяя мелкие свои, сияющей голубизны глазки, именно в ритме Вселенной и в р и т м е воды, если вам угодно принять такую формулировку.
Тут я опять перебивал, язвил: как вы так запросто связываете тайны воды с тайнами мироздания, звездообращения — с кровообращением? Лед и пламень? А не пробовали увязать бузину в огороде с киевским дядькой?..
Я язвил, Стеклов похохатывал, все нетерпеливее крутя ключи на брелке, а Юнус все больше волновался, убежал в закуток, огороженный в углу фибролитом, как раз возле белой спиральной бочки, — там видны были полка книг и край застеленной низкой раскладушки — и вернулся с тетрадью, из которой стал сыпать цитатами.
Я тем временем уже прохаживался вдоль верстака, разглядывая гору разоблачительных нелепых детских железок: плоские консервные банки, исковерканные вазочки из-под мороженого, спаянные по трое, электроплитку, залитую желтой пластмассой, которую растапливали в сковороде, как яичницу. Бросалось в глаза обилие треугольников: из дерева, железа, керамики. Я взял один, похоже, он был отлит из столярного клея, только без запаха. В середине зияла круглая дырка. Такими же треугольниками была унизана белая труба спирали в углу. К чему ж он вел, наш бедный кустарь, что строил из баночек из-под мороженого? Не иначе как антигравитатор, чтоб без ракет преодолевать земное притяжение. И спираль в углу в один прекрасный день должна была, если влезть в нее, наверняка поднять изобретателя ввысь.
Пока Юнус читал свои цитаты насчет пространства и в р е м е н и, я наткнулся еще на обыкновенный рукосушитель, наверняка оторванный в каком-нибудь вокзальном туалете, и не мог не рассмеяться: ну уж это-то зачем?..
Юнус тут же отбросил тетрадь, подбежал, включил рукосушитель, и с его помощью была тут же устроена буря в стакане воды, буквально, — только вместо стакана взята была литровая банка. В минуту вода свилась в воронку, внутри мелькал маленький красный шарик вроде поплавка, и мы, трое мужчин, стояли как дураки и смотрели. Я хотел что-то сказать, Юнус поднял дрожащий толстенький палец и остановил меня: мол, тихо, сейчас!..
Центробежная сила увлекла шарик на дно, он должен был бы вылететь оттуда снова вверх, но вдруг остановился, замер и… стал медленно подниматься по центру, в пустоте вихря, словно его вытягивали на веревочке. Это был какой-то маленький фокус — он подтверждал, кстати, мои догадки насчет антигравитатора.
— Антигравитатор? — сказал я прозорливо, кивая на шарик.
Голубые глаза Юнуса быстро сверкнули в мою сторону. Красный шарик будто зарядил эти глаза новой энергией, промыл и протер. На меня глядел не суетливый и оправдывающийся человек, как до этих пор, не очень умный и не очень интересный, а победитель, с иронией взирающий на проигравшего противника.
— Это — мы, — сказал он, протянув свой грязный, заскорузлый от металлических работ палец к шарику и улыбнулся. — Мы — разумные существа.
Шарик стоял в воздухе среди вихря воды вопреки всем законам. Юнус счастливо глядел на него. Рукосушитель (я вообще ненавижу эти приборы, такие же гадкие, на мой взгляд, как и само слово «рукосушитель» — это вместо полотенца-то!) натужно выл, не выключаясь, как это обычно с ними бывает, когда ваши руки еще не обсохли. Я несколько растерялся. Я «вынул» себя на секунду из ситуации, из происходящего, взглянул на все со стороны и устыдился: где я? что я тут делаю? рядом с этим сумасшедшим? Зачем у меня такой тон, такой апломб? Точно я, взрослый человек, пришел в детский сад и всерьез убеждаю детей, что их игрушки не настоящие, что их город из песка, а паровоз — простая деревяшка. Пусть он с ума сошел, но я-то не сошел, что ж я мешаю его детскому взгляду видеть в горе песка настоящий город, а в деревяшке паровоз?..
— Это — Вселенная, — повторил Юнус со счастливым выражением, имея в виду под Вселенной бурлящую в банке воду. — А это мы, это разум…
Надо было понимать, что разум возникал из вихрей материи как центральная и растущая субстанция. Ну-ну. Я кивнул. Но со Стекловым мы перемигнулись. Я хотел еще раз съязвить, что не затем родился разум, чтобы поверить в этакое свое происхождение или местоположение, но удержался.
Я не знаю, что именно на меня подействовало, звук ли рукосушителя, фокус с шариком, счастье Юнуса, блаженно глядящего на вихрь в банке, или приближение к м ы с л и, которая стала брезжить из всего увиденного и услышанного, но мне вдруг стало грустно, я снова подумал о себе, таком уверенном и респектабельном на вид, таком умном и ироничном, но с таким смятением и ядом в душе, Юнус в о л н о в а л с я, а я нет. Лысина его увлажнилась мелким потом, щечки горели, светлые кудри бороды тоже повлажнели, он что-то знал. Он знал и верил, а я нет. Он не сомневался, а я только этим и был занят.
— Мы не должны исчезать, — сказал Юнус, поглядев по очереди на меня и на Ваню, — мы тоже вечны и бесконечны…
Вот что! Вот к чему все шло. Ну, спасибо!
Юнус с проповедническим жаром стал доказывать, что цель разума — победить смерть, что смерти, собственно, и нет, что тайна перехода живого в неживое и обратно просто еще нам неведома, что в капле воды могут быть закодированы и затем регенерированы миллионы жизней и так далее, и так далее, и так далее.
Я демонстративно посмотрел на часы и Ваня тоже.
Я все это знал и без Юнуса, я все понял, мне это было неинтересно. Я никогда не мог поверить древним китайским и индийским учениям о переселении душ (о, бхаванакра — колесо бытия, бесконечность рождений!); я бы никогда не смог вызывать духов, я, слава богу, был материалистом до мозга костей («слава богу!»). И хотя я всегда писал о великих людях, о б е с с м е р т н ы х, но их б е с с м е р т и е было обеспечено не мистикой, но делом, в к л а д о м и п а м я т ь ю о них благодарных потомков. И хотя сами великие люди в своей борьбе с забвением и смертью часто впадали в мистицизм, но меня никто ни в чем подобном никогда не убедил. Мне, может быть, и худо было от моего атеизма, но увлечь меня эсхатологическими или иными подобными идеями было невозможно. Юнус не открыл мне Америки, его воронка была не более чем воронкой мыльной воды, вытекающей из ванны. Скучно, господа!..
Юнус выключил отвратительную машинку (не хочу даже еще раз произносить ее название), воронка тут же исчезла, вода опала и выровнялась, и красный шарик нормально заколыхался на ее поверхности. Юнус взглянул с сожалением — должно быть, он готов был крутить эту штуку до утра — и продолжал говорить, и схватил опять свою общую тетрадь, пухлую от частого употребления ее в дело, исписанную крупным почерком то карандашом, то разного цвета чернилами, с отчеркиваниями на полях и красными восклицательными знаками. На этот раз цитировалось что-то из Канта, из «Трансцендентальной аналитики» или «Трансцендентальной диалектики» — о боже, спаси нас и помилуй! — мы со Стекловым уже только кривились, и я делал ему большие глаза: мол, спасибо тебе, Ваня. Из всего Канта у меня в голове застряло только одно: тезис о том, что всякая сложная субстанция состоит из простых частей, и антитезис, что ни одна сложная вещь не состоит из простых частей — о чем я тут же и поспешил сообщить присутствующим.
Юнус посмотрел на меня с вежливым недоумением, а Стеклов, уже описывая своими ключами в воздухе видимый круг, наконец сказал:
— Ну, вы, старички, совсем в философию ударились, а дела еще не сделали. Юнус! Давай! А то мы спешим.
— Да-да-да, — Юнус тут же погас, засуетился, как прежде, отер лоб сгибом локтя, оставив на рубашке влажный след, и поспешил в угол, к белой своей спирали. Ваня кивал мне идти туда же. И подгонял вертящимися ключами. Я потрогал в заднем кармане брюк плоский бумажник, где ожидала Юнуса его пятерка. Ваня мигнул мне цыганским глазом: мол, потом, потом, не сразу.
Юнус уже проверял белые шланги, протянутые от кранов к двум концам спирали, и поправлял стоящую внутри табуретку. Нетрудно было догадаться, что мне предстоит туда влезть и там сидеть. Не проще ли так отдать деньги и уйти?
— Это пока только модель, — суетился и объяснял Юнус, — я построю со временем настоящую гидраль…
— Это называется гидраль? — я потрогал уже знакомый мне треугольничек, насаженный круглым отверстием на трубу.
— Пять минут в этой штуке, — опередил Юнуса Стеклов, опять подмигивая мне, — и твой биоритм уравновешивается с ритмом Вселенной. Так, Юнус? Наступает полный кайф, вечная гармония.
— Это из столярного клея, что ли? — я щелкнул пальцем по треугольничку и чуть сдвинул его.
— Нет, это жидкие кристаллы, — Юнус тут же поправил треугольничек. — Они заряжены… да, ритмом… но вы… вот сюда, вы сможете чуть нагнуться?.. — Юнус приглашал меня в самом деле влезть внутрь спирали, которая имела довольно широкие просветы, — всего в ней было витков десять на человеческий рост, не больше.
Я согнулся и полез, продолжая спрашивать:
— А в трубке?..
— Кристаллы заряжают воду, — объяснял Юнус, помогая мне усесться.
— Магнитная, что ли, вода? — я чувствовал себя полным дураком внутри этой штуки, на табурете, выкрашенном почему-то суриком. Я опасался за свои светлые брюки. Я посмеивался над собой — что еще остается умнику в дурацкой ситуации?..
— Нет, нет, это не магнитная, это совсем другое, — Юнус, кажется, уже вновь вдохновился, «завелся» возле своей гидрали. Но вот он почти просунул голову ко мне, приблизил свое лицо к моему и — и это опять было лицо умного и что-то знающего человека, победителя — спросил вдруг: — Какое ваше самое главное желание?
— Кружка холодного пива, — сказал я, хотя понимал, что э т о м у у м н о м у Юнусу так отвечать не стоит.
— Бочкового! — простонал Ваня.
Юнус даже бровью не повел — эти самоучки, я заметил, вообще бывают начисто лишены чувства юмора, — он продолжал глядеть на меня, как врач на пациента, а на Ваню махнул ручкой, чтобы тот удалился в сторону.
— Хотели бы вы вернуться? — спросил Юнус так же серьезно. — Остаться? — Он выждал, пока я разыграл недоумение. — Когда-нибудь? После смерти? Остаться? Вернуться?..
И тут что-то случилось. Я непроизвольно кивнул. И покраснел.
Юнус убрал от меня свою голову и пошел к кранам, пускать воду. А я — я з а в о л н о в а л с я. Больше — я смешался, растерялся. «Вернуться», «остаться». «Мое главное желание». Что это значит? Я п о н и м а л, что это значит, но делал вид, что не понимаю. Ну, ответь, ответь, отвечай!.. С е б е-т о ответь! Разве не главное твое желание — вот он, наводящий вопрос, заданный тебе, — о с т а т ь с я, в е р н у т ь с я? Хоть как-то, хоть когда-то, хоть может быть… Черт, я не собираюсь помирать, между прочим, не рановато ли спрашиваете?.. Куда ты пошел, толстяк? Что ты собираешься делать?.. Неужели это и есть мое подсознательное главное желание, самая тайная мечта?.. Ах, люди! Кто же обрек нас на этот грустный путь, в конце которого стоит скелет с косой?.. Ужас забвения — это самый великий ужас, потому что забвение обессмысливает все, что было… Почему он спросил? Откуда эти странные вопросы?..
— Я хочу соединить вас с космосом. — сказал Юнус издалека, — я запишу ваш код, он понадобится, чтобы вернуть вас обратно.
Стеклов подмигивал мне черным бесовским глазом. Мне следовало сострить, как-то разрядиться, у с п о к о и т ь с я, но я молчал, я попался, я поддался, я з а х о т е л, чтобы желание мое исполнилось… Бедные мы, бедные! В детстве мы вырезаем свое имя на парте, фараоны строят себе гробницы, Александр Македонский завоевывает мир, и Герострат сжигает храм, чтобы его не забыли… Он соединяет меня с космосом, он хочет привести меня в гармонию с миром! Пусть он приведет меня в гармонию со мной самим. Какая мелкая тщета — сидеть в этой спиральной бочке, надеясь (надеясь!), что авось что-то и выйдет!..
Физиономия Вани навела меня вдруг на мысль о каком-то лихом розыгрыше (морду ему набью, если так!), и мне пришло в голову, что если меня сейчас сфотографировать — хорош я буду! Спасибо, еще не заставили снять штаны!
— Дотроньтесь, пожалуйста, до треугольничка, который прямо перед вами! — командовал Юнус, уже от самой мойки, и мне сразу представились спаянные вазочки из-под мороженого, словно три женские груди, соединенные столь странным образом.
Я послушно протянул палец и коснулся вершины треугольника, которая глядела вниз. Она оказалась острой, как игла, которой колят палец, когда берут кровь, — я инстинктивно отдернул руку, и на кончике пальца действительно выступила капелька крови.
— Этим же пальцем сверху! — скомандовал Юнус, а я покорился: я понял, он хочет, чтобы я к а п л е й крови коснулся треугольника. И я это сделал.
Между тем Юнус пустил воду, и она уже журчала, бежала внутри спирали по ее белой трубке, и что все это значило, никто не ведал. Я чувствовал себя суеверным дикарем, мне хотелось побыстрее вылезти из спирали и посмеяться над самим собой, но я сидел послушно и ждал. Фауст д у ш у продал дьяволу за то, чтобы в е р н у т ь с я, а мы решили обойтись пятеркой. Ох, вряд ли выйдет!
Вода журчала, я сидел как идиот на красной табуретке, Ваня вертел ключами (а ведь и он, змей, сидел здесь за пятерку!), а Юнус держал руку на вентиле и скоро завернул его.
Господи, как мне было стыдно! Вылезать, усмехаться, опять острить над собой! Я больше не мог поглядеть Юнусу в лицо, в глаза — что-то случилось, он меня к у п и л, поймал, как теперь справиться с собою? Я посасывал ранку на пальце и называл Юнуса Мефистофелем. Я не знал, как достать из кармана и отдать п я т е р к у — за что пятерку? За то, что я испытал? За свою взмокшую спину? За мысль, которая, я знаю, теперь останется со мной навсегда? За голубые глаза Юнуса, горящие верой в то, что в с е х надо оставить, в с е х вернуть.
— Ты мало посидел, старичок, мало, — болтал Иван. — Скажи, Юнус?..
— А сам ты сколько сидел?
— Я? Я больше! Со мной-то все в порядке будет! Я — в воронке!..
Фу! Как меня покоробило! «Я — в воронке!» Как расхоже, видал ты! Запросто. Ну, правильно, не теряет юмора. А я вдруг потерял.
Я озирался на спираль, на треугольник, который один среди всех глядел острием вниз, перевернуто, — на нем запеклась капля моей крови, — фу, как это все глупо! Глупо, глупо, глупо! И, может, просто от глупости я так взволнован, потен, красен, ушиблен? О б н а д е ж е н. Ну, фокусник! Завлекатель ротозеев!
Среди смеха, мотания по помещению, рассматривания шлангов и прочего — тут еще сторож в старом железнодорожном кителе заглянул в дверь и покачал головой: пора, мол, — я кое-как вынул и сунул на верстак д е с я т к у. И мы ушли. Мы ушли, ушли, наконец, ушли.
Мы ехали опять по Садовому, над которым стояло красное закатное солнце. Иван болтал, трещал, смеялся, кося на меня веселым черным глазом, и я тоже подыгрывал, иронизировал. Мы придумывали, как бы притащить к Юнусу нашего редактора, который всех заставлял собирать материалы о всевозможных экстрасенсах, чародеях и телепатах, и сам первый с жадностью набрасывался на эти материалы, а потом уже добавлял в них разоблачительного яду и печатал.
Иван оставил потом машину возле редакции, и мы отправились выпить пива в маленькую пивнушку у Чистых прудов, где остановка трамвая. Вышли с кружками на улицу и стояли, пили, глядя на людей, машины, бульвар, отходя от всей этой в о р о н к и, в которой только что побывали. И чем больше глаза мои вбирали в себя привычный мир, зелень и пыль, звон и голоса, рябь воды, балконы, выставленный из окна машины голый локоть водителя и его черные очки, капустную палатку, номерные знаки на боках красных трамваев, женские ноги, женские лица, мужчин, дующих на пивную пену, которая мокрыми комьями падает на асфальт, мокро пятная его, — чем больше глядел я вокруг, жадно отмечая каждую мелочь, тем больше мысль не о себе одном, но обо в с е м и обо в с е х охватывала меня. Ничего не стоило пронзить воображением в р е м я, весь насквозь колодец прошлого, и увидеть заодно в с е, что было когда-то на этом самом месте, на Покровке: других людей, давно исчезнувших, и все, что сопутствовало им: лошадей, деревянные мостовые, лавки и дома не выше двух этажей, церкви и палисадники, босоногих мальчишек в рубахах, без порток, красных девиц в сарафанах с гнутым коромыслом на плече, бородатых молодцев, которые так же, как мы, пили, быть может, на этом углу — не пиво, так сбитень или медовуху. И так же вытряхивали кружку, тем же жестом, от последних капель и пены. А им как? Тоже?.. Да, вернуться, да, остаться. Как я вернул их сейчас.
Ах, Юнус, он все-таки заразил меня.
Потом я проснулся среди ночи. На часах было два пятнадцать. Сон, разбудивший меня, отлетал, я изо всех сил хотел вернуть его, восстановить — нет, не получилось. Вместо сна явился Юнус, — не суетливый толстяк, а тот, умный и таинственный, как доктор, пользующий тебя. И я сам сидел внутри спирали, как большая обезьяна в тесной клетке, и горел румянцем стыда… Юнус стоял над своей мойкой и глядел, как из нее уходит, свиваясь вихрем, красного цвета вода. На мою десятку он покупал себе пять пачек макарон и каких-то два диода и моток проволоки в магазине «Радиолюбитель». Его самодельный компьютер, спрятанный под раскладушкой, делал анализ моей крови, записывал ее формулу и передавал на спутник, несущийся в этот миг над Индийским океаном. И весь океан выглядел так, как он выглядит на средней величины глобусе. Спутник же с помощью лазера передавал запись дальше, печатая ее на ледяных астероидах, на черных железистых камнях, на белых скоплениях кристаллов в щелях мертвых планет, на каждой капле воды, которая только есть в космосе…
Мне пришлось встать и уйти на балкон покурить.
А ночь, конечно, была летняя, тихая, темная, окна в домах не горели, и небеса были набиты своим несусветным множеством звезд. Ах, чертов Юнус! Они гудели и пели, эти светящиеся небеса, они вращались, будто мельничные колеса, они жили. Они притягивали и втягивали меня в себя, и я отчетливо сознавал себя их частицей. Больше того, я двигался в центре их, в центре воронки, подобно красному поплавку в банке Юнуса, и медленно поднимался вверх. Проклятый Юнус! Он захватил меня э т о й идеей, мой разум д о п у с к а л такую возможность и даже уже и с к а л такую возможность: занять место в центре воронки и подниматься вверх.
Тренер
Люба — обыкновенная женщина, рядовая, простая, — какие еще есть определения для таких женщин? Лицо круглое, курносое, русское, белое, светлоглазое, бровки то ли есть, то ли нет, Люба не красится, редко губы чуть мазнет, стесняется, волосы русые, прямые, в последнее время стала их закручивать в пучок на затылке и закалывать шпильками, чтобы не мешали работать. Одета Люба — что в магазинах продают, в отечественное, дешевое и некрасивое, ест — днем в столовке, а дома, что сама сготовит, что вдвоем с Витюшкой на семью достанут. Живет в огромном доме, в стандартной двухкомнатной квартире, в новом районе, сразу за метромостом, на 9-м этаже; горячая вода, отопление, мусоропровод возле лифта, все, как полагается. Муж Витюшка и двое детей, сын Яша и Люба-маленькая: не хватило у них фантазии, как назвать дочку, и Витюшка уперся: тоже пусть Люба. Любе уже пять, она в садике, садик, слава богу, рядом, Яше тринадцать, в седьмом классе, в школу ездит две остановки на троллейбусе. Сама Люба работает в большом научном институте экспедитором, — считай, все равно что на почте: институт большой и экспедиция большая. До работы пятьдесят минут двумя транспортами: метро и автобусом, а с работы, бывает, часа два-три, потому что надо по магазинам. Витюшка устроился, когда переехали, близко — слесарем на ТЭЦ, ездит на велосипеде, даже зимой, очень доволен, потому что почти каждый день выпивает. Немного, а выпьет. Где они берут, как и чего, неизвестно, но после работы — всегда. Тайна. И едет веселый, черномазый, в лыжной шапке и телогрейке, на черном и старом велосипеде, который даже не страшно оставить внизу в подъезде.
Жизнь как жизнь, день за днем одно, работа, дети, стирка, готовка, телевизор. Люба гладит и смотрит, а Витюшка обязательно у телевизора уснет, что бы ни показывали, выспится, а в одиннадцать, когда Люба ложится, усталая, и зевает, будто щука на песке, только умоется руки, истертые и иссушенные за день шпагатом и лентой, кремом намажет, наденет свежую чистую ночнушку до пят — она с детства любит в длинном спать, — тут Витюшка со смехом, со щекоткой и глупыми словами начнет приставать и своего добьется. Добьется и вмиг уснет, а как ты, Люба, что ты, Люба, это ему до лампочки, спит, сопит, будто младенец, кудри свесит, во сне смеется. Люба встанет, походит, ощущая ногами непривычную длину рубахи, попьет компота из кастрюли или молока, проверит детей, полюбуется румяной во сне Любой, удивится всякий раз, какие у Яши торчат здоровые ножищи из-под одеяла, — в кого только растет такой здоровый? — и, недовольная Витюшкой, уснет тоже скоро, чтобы утром опять вскакивать по будильнику, будить и собирать детей в садик и школу. Словом, все нормально. Как у всех.
Летом, когда дети отправлены за город, можно погулять в парке и даже сходить в Зеленый театр в своем микрорайоне или просто посидеть на балкончике, откуда видны с 9-го этажа дальние холмы и близкие трубы ТЭЦ с полосами, как на свитере. В праздники чаще всего ездят в гости к маме — Любиной маме Александре. Она тоже еще молодая, только пятьдесят лет, здоровая и крепкая, работает на производстве, в швейном цехе, зарабатывает хорошо, а живут они с младшим Любиным братом Сергеем, тоже в новой квартире, трехкомнатной, потому что Сергей, отслужив армию, сразу женился, жена его, Оля, только успев окончить десять классов, родила двойню, и благодаря этой двойне, Ванюше и Андрюше, и хорошей характеристике Александры с фабрики и была получена сразу трехкомнатная — также в новом районе, и рядом с метро, и мусоропровод у лифта, только этаж не 9-й, а 4-й.
А старого их дома, где жили раньше, где Люба выросла, стоявшего тесно вдоль улицы среди сплошь таких же малых домов, и в помине не осталось, и старой школы и бани, и магазинчиков, все снесли, и Люба уже несколько лет не бывала в родном своем районе. Как-то ездили с матерью к отцу на кладбище, мимо проезжали, видели, что на старом месте идет какая-то стройка, скрытая забором, повспоминали дорогой, как было, вот и все. И никакого прошлого у Любы не осталось. Ни дедов, ни бабок, их вроде никогда и не бывало. Во всяком случае, Люба их не знала. А у Витюшки и подавно, Витюшка вовсе из города Асбеста, детдомовский, ни отца, ни матери, приехал на экскурсию в столицу, и тут на Выставке достижений, одним прекрасным летним вечером познакомился нечаянно с Любой: их было трое парней из Асбеста, а Люба с подружкой Светой, — любили тогда ездить на Выставку гулять, там казалось очень красиво, здания и фонтаны, которые подсвечиваются разными огнями, яблоки — висят прямо над головами, и много народу. И как это, ей-богу, случается, ничего не знаешь, не ждешь, поедешь погулять, и вдруг человек, — кто, откуда, почему? — встретились, поглядели, пошутили, познакомились, сошлись, как говорится, и вот уже новая, совместная жизнь, он, я — нераздельно: что это? почему? судьба?..
В сущности, мы, люди, очень открытые, доверчивые существа. Нам, почти как животным, которым достаточно обнюхать друг друга для знакомства и дружбы, тоже бывает довольно короткого взгляда и одной улыбки, чтобы довериться, увлечься и — вдруг повернуть всю жизнь, войти к чужим прежде людям, как к своим, в чужой дом, в чужой мир, иногда и вовсе в чужую страну, перешагнуть в иную эпоху. Желания и страсти влекут нас, словно сонм микробов, к сочетаниям и соединениям, дотоле не существовавшим, к синтезу и делению, к взрыву мутации среди миллиона копий. Один растворяется в другом, другой обретает новое качество, третий отторгает, четвертый пожирает пятого. Без сознания, без анализа. На биоуровне.
Вот и Люба: влюбилась, вышла, доверилась, растворилась, нарожала детей — как все, а в сущности, ничего не ведая, кто да откуда, что из этого выйдет в конце концов. Но когда-то, рано или поздно, эта мысль приходит: как это все и зачем?
А теперь о тренере и о Яше.
Еще в прошлом году, в шестом классе, ребят в школе записывали в разные спортивные секции, и Яша записался на плаванье. Уже тогда в доме раздалось впервые слово «тренер»: «Тренер велел купить плавки и шапочки». И пошло: «Тренер сказал, тренер не разрешил…» Оказалось, что в бассейн надо ездить, почти сорок минут на метро, а тренировки три раза в неделю. Люба забеспокоилась, Яша и без того не очень хорошо учился, а проверять его было некому. Но Яша и слушать не захотел: буду ходить, и все. Записавшись в секцию, он даже плавать не умел, и Люба, которая сама всегда побаивалась воды, — какое уж там плавать! — боялась: не утонул бы.
Яша записался в секцию вместе со своим школьным другом Вовой, они ездили вдвоем, все же не так страшит. Яша вообще был мальчишка самостоятельный, не избалованный и не боязливый, только застенчивый. Этим — в Любу. Давно везде ходил и ездил сам, помогал по хозяйству, бегал по магазинам, сдачу приносил до копеечки. И был упрям: уж что возьмет в голову — не выбьешь. Это в бабку Александру, в Любину мать: та тоже крутая, упорная, грубая, «упрется рогом», как Витюшка скажет. Любе иной раз не верилось, что Александра ее мать: так непохожи. Зато Яша — наследственность, словно минуя Любу, перескочила прямо на Яшу, — на удивление похож. Люба узнавала в сыне то материнский упрямый наклон головы, то резкий смех. Глаза и волосы были такие же черные. Когда Яша родился и Александра взглянула на внука, уже тогда произнесла: «Ну! Мой внучек, не спутаешь». И Любе с годами стало казаться, что Яша словно бы и не ее сын, хоть сама рожала. Порода другая. Люба не помнила своего отца, но по фотографиям видно: тоже круглый, белесый, простоватый. А эти — точно во́роны. Что же касается Витюшки, то он словно бы и вообще не имел к этому отношения, только одно родимое пятно перевел с себя на сына: на самом копчике, будто хвостик.
Ходит Яша в секцию, плавает, в ванной на просушке висят на трубе то одни плавки, то другие, и только и слышно: «бассейн, тренер, тренировки». Со всеми Яша уже давно не ест: накупает себе пачки «геркулеса», пакеты молока, яблоки — так тренер велел. Мясо, мол, мне не надо, только молоко, овощи, кашу. Бывало, ни за что не заставишь крошку лука съесть, особенно если суп луком заправишь, — вот и будет сидеть, над супом рыдать, ложкой вылавливать. А теперь — смотрите: сырую луковицу режет и ест, половинку на завтрак, половинку в обед. Плачет, а ест. Тренер велел.
На Любины сочные, чесночные, ароматные котлеты, бывало, набросится, как тигр, — оба с Витюшкой так и зацокают вилками, или — еще любят — между двумя ломтями белого хлеба котлету положить, пальцами сжать, чтобы сок побежал, и так откусывать, хлебом бороду утирать: бутербродкотлетер — Витюшка шутит. Или сосиски: сварить не успеешь — сырыми съедят. Или жаркое. Рагу. И так далее… Нет, теперь на мясо и не смотрит. «Да что ж такое! — шумит Люба. — Отдельно тебе готовить, принц морской!» На что Яша угрюмо: «Не надо мне ничего, не буду, тренер не велел». И не ест. Витюшка говорит: «А чего ты, мать, расстраиваешься? Чем плохое питание: яйца, молочко, гречка, яблочки! Ты погляди на него». И в самом деле, Яша за короткий срок даже через смуглоту свою порозовел, расправился, чистый-пречистый. Кстати, форму свою то и дело подсовывает стирать, а то и сам выстирает, смотришь, на трубе висит, и прополоснута, как надо, порошком не пахнет.
Отец говорит свои слова, вроде посмеивается, а Яша сердится в ответ: «Сами бы тоже мяса не ели, вред, убоина». — «Чего, чего? — Витюшка спрашивает. — Смотри, каких слов наслушался. Это кто убоина?» — «Мясо убоина, животные». — «Слыхала, мать, животные! Это кто ж тебе сказал?» Яша молчит, а Люба за него отвечает: «Кто! Тренер!»
Ох уж этот тренер! По-его, надо не по будильнику вставать, а самому, по каким-то своим часам, которые внутри есть у каждого. Зарядку в любую погоду делать на улице (спасибо, у нас балкон), да такую отмахнуть-отпрыгать, чтоб до пота. Потом обязательно — в воду: в речку, в ванну, под душ, в крайнем случае. Яша пакеты с морской солью таскает, разводит в ванной, ныряет в чуть теплую. Бывало: «Ма, иди помой меня, спину потри!» И стоит перед тобой, поворачивается, уже здоровый парнище, длиннорукий, длинноногий, волоски пробиваются. А теперь — дверь на задвижку, — я сам! — и не пускает. А Любу, наоборот, любопытство разбирает поглядеть.
Витюшка спрашивает: «Вот ты продукты переводишь, руками машешь, сиропчик свой попиваешь, как старуха, из шиповничка, а плавать-то хоть научился?» Яша только усмехается свысока в ответ. «Надо поехать посмотреть, — говорит Витюшка. — А, мать? Поехали в субботу? Где он, твой бассейн?» — «Нельзя, — отвечает Яша. — Рано. Тренер не велел». — «Да я тебе отец, я хочу посмотреть!..» — «Нельзя!»
Вот такой тренер. Но самое интересное, что мальчишка не только распрямился и окреп, но в самом деле стал сам ложиться вовремя, сам вставать, отметки в школе пошли лучше. «Тренер сказал, у кого тройки будут, отчислят». И сидит у своей лампы, закрывается тонкой дверью от телевизора — некогда смотреть, от сестренки Любы, чтоб не мешала, и учит уроки. А ведь еще недавно из-за этих двоек-троек Витюшка штаны с сына спускал и ремнем гонял, но не помогало.
Вместо тревоги Люба испытывала теперь к тренеру почти благодарность и почтительность. И конечно, разбирало любопытство: увидеть и узнать, что за человек. Не раз спрашивала, а однажды изо всех сил пристала: «Ну, какой он у вас, тренер? Молодой?» Яша пожимал плечами: дети не понимают возраста, только старых не любя г. «Высокий?» Опять пожимает. «Маленький?» Тоже нет. «Ну, какой, какой?» — «Никакой! Что пристала!» И вот тут, после этого о б ы к н о в е н н о г о «что пристала» Люба вдруг услышала неслыханное прежде: «Извини». Яша взглянул удивительным быстрым виноватым взглядом и буркнул: и з в и н и. Люба не слышала у себя в доме этого никогда.
И тут Любина душа забилась, заволновалась и заплакала: это уже не овсяная каша и истовая зарядка, а д р у г о е, и видна чужая, крепкая рука. «И з в и н и». Настолько это не из их обихода и упрямому ее сыну не в свойство (мать Александра, пожалуй бы, так и села бы, если б услышала!), а он, однако, произнес это слово как бы и привычно: т а м, видно, так говорится.
Любина интуиция и без того срабатывала, угадывала перемены в мальчике, которые не одного его тела касались (Люба на счет взросления относила некоторое смягчение характера или несвойственную Яше задумчивость), но теперь это «извини» и д о б р ы й взгляд почти испугали ее: уходит ее Яша, уходит, если уже не ушел, а они и знать не знают.
Стоило признаться себе, обратить внимание, приглядеться, и Люба сразу обнаружила: это давно происходит: Яша п о м о г а е т. За ним самим не стало никакой уборки и даже стирки, готовки: размачивает в стакане свою гречку с изюмом и ест. Все за собой вымоет, сложит, заметет. Мусор выносит без всякого. Как-то сидит, Любе-маленькой книжку читает, — когда это было видано?
Кажется, надо бы обрадоваться, а Люба села потом и заплакала: точно, уходит от нее мальчик, отнимают у нее Яшу. Пусть и хорошее, да все же чужое, неродное. И еще сильнее захотелось ей увидеть тренера. Ведь все он.
А тут скоро начался еще этап. Кроме тренировок пошли у юных пловцов первые соревнования, и Яша с Вовой, который тоже продолжал заниматься, были отмечены и пропущены дальше. Пришло первое вознаграждение за труды — радость. «Тренер сказал… тренер обещал…» — «Да как хоть зовут вашего тренера?» — Люба не раз задавала тоже этот вопрос, а ответа не получала и сейчас рассчитывала на Вовку. С женским пристрастием к конкретному, вещественному ей хотелось ухватить хоть кончик, знак, малость, чтобы потом, подобно палеонтологу, по малой косточке выстроить в воображении весь скелет. Каким он ей только не представлялся, этот тренер. Сейчас Вовка совсем было собрался ответить, хоть и с каким-то затруднением, но Яша выкрикнул: «Да какая разница, все равно не знаешь! Тренер, и все!» И оба, отвернувшись, засмеялись.
И тут Любу осенило: женщина! Девчонка! Ах, даже щеки загорелись, как же она раньше не догадалась. Ну конечно. Все тогда ясно. Тренер! Тренерша, а не тренер. Вот как ларчик просто открывается. Мал еще, да ведь бывает. Что ни скажет, все исполнит. Именно так, весь секрет. И з в и н и-т е. Кто у нас уводит сыновей? Тренеры? Тренерши! Вон они, в телевизоре: стоит на вышке в купальничке, на носочках, вытянулась, стриженая, сейчас прыгнет, руки по швам, и как пуля уйдет в воду… Нет, увидеть этого тренера, срочно. Поехать, найти, убедиться. Да заодно и насчет еды — все равно поговорить надо.
У Яши пошел новый рацион: рыба. Рыба, рыба, рыба. «Тренер велел». А Люба сама не очень жалует рыбу, не любит. А чего жена не любит, говорит пословица, муж не отведает. Дух рыбий, когда варится или жарится рыбное, прямо с души воротит. Селедка еще ладно, или копченая, но свежая, а тем более живая рыба — не дай бог. Даже непонятно, откуда такое, но не любит она рыбу, не может. Ни разу в жизни не разделывала, не потрошила, не готовила свежую рыбу. Ни за что. А тут каждый день: «Мама, купи, мама, свари! Я опаздываю». Люба-маленькая, тоже чуть не в слезы: приходит из садика и уже с порога кричит: «Фу, гадость! как у вас пахнет! не хочу к вам идти!» Витюшке все равно, он смеется, ему крокодила дай — съест, а Яша ни на что не обращает внимания, и, если мать не сварит, сам себе варит, в отдельной кастрюле, точно кошке, треску или окуня.
А однажды вот так разморозил серую ледяную рыбу, взял нож, ловко со спинки срезал в длину лоскут сырого белого мяса, макнул в солонку. «Смотрите!» И двумя пальцами, будто кильку, в рот. Даже Витюшка дернулся, а Яша жует и новую полоску для отца отрезает: «Да ты попробуй, попробуй, в Японии все так сырую едят, нам тренер рассказывал». Витюшка решился попробовать, а обе Любы пошли, плюясь, из кухни.
Эта рыба Любу доконала. Теперь постель Яши и подушка пахли рыбой и, как казалось, даже лоснились рыбьим жиром. Яшина голова и лицо жирно блестели. Люба-маленькая не хотела спать с Яшей в одной комнате и в субботу-воскресенье ложилась с матерью. «Это ты всегда теперь будешь рыбой питаться?» — «Всегда!» — смеялся Яша и делал губы кувшинчиком, напоминая Любе какое-то морское животное.
Однако где-то т а м, на своих соревнованиях, в бассейнах, секциях, в соперничестве с другими школами, Яша одерживал победы, и они с Вовкой, приезжая домой поздно, врывались часто возбужденные, смеялись, Вовка называл Яшу чемпионом.
Всякий раз Люба собиралась поехать с ними, по то время не совпадало, они уезжали днем, то занята была, то сам Яша, как всегда, отнекивался, а однажды просто убежал, хотя она совсем оделась, чтобы идти с ним. Гнала Витюшку — тот отшучивался.
А тут еще новость. «Мам, надо срочно справки и твое согласие, пиши, мам! В спортлагерь, тренер сказал». — «Какие справки, какой еще спортлагерь?» — «В спортлагерь его берут, тетя Люба, поймите! Их только троих отобрали!» — «Да куда это, где?» — «Ну, на каникулы, мам! Подписывай!»
Боже, боже, Люба совсем испугалась, лагерь далеко на Волге, ехать полтора суток, а Яша сроду никуда не уезжал из дома, кроме подмосковного пионерлагеря. Ребята расписывали, какие там порядки, дисциплина, как кормят («Тренер говорил»), а Люба все возражала, кудахтала: да как, да что? А у Яши лицо горело и озарялось мечтой об этом неведомом спортивном лагере. «Да все равно лучше, чем здесь!» — сказал он с радостью и показал за окно, на серый и сырой зимний город с тающими в тумане корпусами, слитыми в сплошняк жилмассива.
А дни шли своим чередом, похожие один на другой дни серой зимы: заболела Люба-маленькая, и Люба взяла бюллетень по уходу, побыла четыре дня дома, хоть навела порядок. Опять рвалась ехать с Яшей, но он сказал: «Да что ты, ма, тренер да тренер. Нормальный тренер, сиди, не хватало тебе еще там появиться!» И Люба вдруг смякла, подумала, глядя на сына, который стал с нее ростом: «Чего я в самом деле, вон какой парень, пусть сам». Вроде успокоилась.
Но тут вдруг, с пятницы на субботу, приснился Любе сон. Да такой ясный, яркий, словно видишь кино. Будто бы Александра, веселая и озорная, едет в санаторий в Крым, в отпуск, и с нею еще женщины с фабрики (мать действительно летом ездила и рассказывала), и вот они уже стоят кучкой на берегу, песок, ветер треплет им волосы и платья, а рядом море, синее и глубокое, как в детской книжке про рыбака и рыбку, но то ли сильно холодное, то ли еще какое, и женщины в него не идут. И вроде с ними оказывается Яша — выходит голый, в трусиках, высокий, но такой странный, не понять что, и у Любы даже во сне затомило сердце. Он усмехается, идет мимо женщин и прямо ныряет без всякого в это опасное море. Они галдят на берегу, а его нет и нет, Александра кричит: утонул, но он не утонул, одна Люба видит, что Яша плывет под водой — плывет, как рыба, руки по швам, только извивается телом. И лицо у него рыбы, на шее чешуя, но он смеется радостно, счастливый, и говорит Любе: мол, видишь, я сейчас всех обгоню на соревнованиях, ты не волнуйся, мне здесь очень хорошо. Тут к нему подныривает другая рыба, купальник в обтяжечку в красную косую полоску, с женской грудью и женским взрослым лицом, хоть по виду девочка, смеется и кормит на ходу Яшу живой мелкой рыбой, достает из пластикового пакета. У Любы застыл в горле крик ужаса, она боится Яше помешать, но тут мать Александра и другие женщины выхватывают Любу из моря, и Люба видит себя еле живую, сморенно лежащую на берегу. А Яша с тренершей уплывают, как два дельфина. Навсегда.
Люба проснулась — плакала, а сон не растаял, а так и стоял весь день перед глазами, и Люба суеверно думала, что он в руку, плохой сон, и что же теперь делать?
Прибежал Яша из школы, бросил сумку, переоделся, схватил сумку спортивную — на тренировку. Выпил стакан соку, съел овсяное печенье, все, больше есть нельзя. Люба ходила за ним, хотела рассказать сон, — он не слушал. И помчался.
И вот тут Люба вмиг собралась тоже. Сама не думала. Раз, раз, пальто, сапоги, шапку. Яшу видела в окно, как он выскочил из подъезда, — сама уже была одетая. Любе-маленькой, которая не в кровати лежала, а по дому теперь ходила, крикнула: «Я скоро» — и помчалась. Она знала, что станция метро такая-то, а там — пять минут ходу — спорткомплекс, а в спорткомплексе бассейн. Найдем. Ничего. Найдем. Посмотрим.
Примерно на полдороге, в тесноте вагона метро, среди людей, едущих по делам, вдруг засомневалась: зачем еду, куда меня понесло? Даже неудобно. Но и повернуть теперь глупо. Она обращала внимание на каждого мальчишку с сумкой, но Яша, конечно, ей не попался. Там, где она вышла, мальчишек с сумками оказалось заметно много, все они двинулись в одну сторону, и Люба решила их держаться. Каждый был с сумкой, у каждого вязаная шапочка на голове, каждый в куртке, и походочки важные, вразвалочку. Попадались и девочки, и совсем маленькие дети, которых вели бабки и мамы.
Люба вышла на поверхность и оказалась в незнакомом и огромном городе. Дороги катили с холма на холм, всюду стояли не виданные ею прежде дома: синие, уступами, бесконечные, белые, серые, выгнутые крыши, широкие улицы, внезапный лес, еще стройка, грязь среди снега, самосвалы, черный после пожара и оплывший, будто свечка, новый универсам. Автобусы влетали в трубу какого-то тоннеля, как шмели в подземное гнездо, и с воем же вылетали: цвет дня еще посерел, и машины светили фарами.
Вместе с детьми Люба шлепала по талому снегу и грязи, огромный корпус имел мелкий и почти тайный вход в одну стеклянную дверь: дежурная в пальто внаброску пила чай и грела руки об стакан, висели объявления, светили световые трубки, детские голоса звонко прыгали в гулких помещениях. В одном в белых одеждах и черных масках бились на рапирах — да не один, не два, десятки малышей! В другом скакали вокруг столов, стукали белыми мячиками и круглыми ракетками еще десятки. Дальше — здоровые парни в спортформе с воплем и криком бились в волейбол, и судья в белом с высокой скамейки свистел в свисток.
Люба очумела и заблудилась, спросить было некого, все или спешили, или играли, или болели, сидя немногими оглашенными группками, хлопали и выкрикивали непонятные слова. Наконец она узнала, где бассейн, пришлось выходить опять на улицу, искать другое здание, которое стеклянно светилось в густеющих сумерках. Там Любу не стал пускать дед с повязкой на рукаве, но она уломала его, он велел идти куда-то наверх, чтоб никто ее не видел, снять шапку и пальто нести в руках. Люба шла, шла, тыкалась в закрытые двери, крашенные в белый цвет, а за дверьми слышались тоже гулкие голоса, крики, точно в бане, и как будто пахло паром… Наконец какая-то дверь сжалилась над нею, отворилась, и Люба выступила на какую-то высоту, почти на воздух, в глаза ударил свет, бледно-голубая вода, разлинованная вдоль дорожками, и по двум дорожкам кто-то плыл, бешено вздымая воду, — Люба сразу решила, что один из пловцов — ее Яша, и стала прикованно туда глядеть, боясь входить дальше или сесть.
Она совсем оробела, увидев, что серые трибуны совершенно пусты. Спортсменов внизу тоже было мало, сидели группками, в халатах и даже в куртках; иные прыгали и коротко бегали, массировали ноги; в мелком углу бассейна женщина-тренерша учила плавать девочек лег пяти-шести, не больше, — их крики наполняли огромное помещение.
Как Люба ни глядела, а Яши не находила, но видела других мальчиков и, например, молодого, с усиками, в обыкновенной курточке и свитере, низенького тренера, который шел по краю бассейна с часами в ладони и визгливым голосом кричал, командовал своим пловцом и, когда тот доплыл до конца, обругал его и махнул рукой без надежды.
Любу взяла тоска. Она видела, что откуда-то, должно быть из раздевалок, приходят новые мальчики и девочки, и может появится скоро Яша, но ей стало страшно, если на Яшу тоже будут так кричать и обидно махать рукой. Она вглядывалась в женщин-тренерш, и особенно в одну маленькую и стриженую, которая что-то долго говорила двум паренькам, объясняла, а потом — раз и сама прыгнула в воду и поплыла, пареньки рассмеялись… Здесь шла своя жизнь, Любе непонятная и Любу пугавшая, — чужая и, как ей казалось, опасная: будто она попала к летчикам или к военным, здесь что-то тайное, не ее ума. Она поняла, почему Яша не хотел ни ее, ни отца пустить сюда, и испугалась: не дай бог, он ее здесь увидит, застесняется. И она отступила, прижимая двумя руками к себе свое пальто, и пошла назад, так и не увидев сына, не узнав покорителя-тренера.
Опять спускалась гулкими и пустыми, еще пахнущими новостройкой, но уже не метенными давно лестницами, путалась по коридорам, слышала разрывы то смеха, то воды, хлещущей из душа, видела голоногих детей, которые казались ей теперь почему-то не русскими, а, может быть, немецкими или американскими, — а они тоже бежали мимо нее, словно мимо пустого места, нездешней, немодной, глупой тетки, затесавшейся не в свое дело. Она уходила, убегала из этого места почти со стыдом за себя, за неуместное свое любопытство и сомнительное право хотя бы знать, что тут делают с ее ребенком, которого она выносила, родила, одиннадцать месяцев кормила грудью? Кого это интересует, и поди попробуй скажи об этом деду с повязкой или любому тренеру. Пожалуй, на смех поднимут. Скажут, ну и что такого?..
Люба вышла уже в раннюю темноту, в огни, в город без неба, не понимая, куда идти, испытывая одну потерю, больше ничего. Кто построил эти синие пирамиды домов, проложил дороги, трубу, из которой вылетают автобусы, сгоревший универсам и действующий спорткомплекс, где собраны сотни детей, — они и сейчас там прыгают, играют, стучат рапирами, бьют по мячу, бросаются с тумбы в воду, важничают, не огрызаются на тренеров, как те ни орут, и у каждого сосредоточенное упорное выражение, такое же, как у других. Кто это все сделал, что за Тренер управляет этим? Почему Люба ничего не знает? К ней только приходят и говорят: «Тренер сказал, тренер велел», а ты, Люба, исполняй, помалкивай.
Она сбилась, не туда пошла, какая-то женщина сказала: садитесь, мол, на этот автобус. Люба доверчиво влезла с передней площадки. Мелькнуло молодое, монгольское, с копной черных волос лицо водителя, которому не терпелось ехать и скорей закрыть дверь. Народу было немного, Люба плюхнулась на сиденье у окна, устала. Огонь в автобусе ярко горел, а снаружи была темень, плохо видно. Но все же мелькали красные огни машин, светофоров, плыли опять дома, теперь освещенные. Автобус помчал как безумный и не останавливался. Должно быть, рейсовый. Все пассажиры, отвернувшись, глядели в окна, стараясь что-либо различить, и потом изредка переглядывались, как бывает, когда не знаешь, где едешь, а спросить стесняешься. Едем, и ладно. Привезут.
Но Любу томила и томила тоска, плакать хотелось, и ничего уже в голову не шло, и страшный сон забылся, и о больной Любочке, оставленной дома, она не вспоминала. Где она едет, куда? Она не знала. Никто не спрашивал, и она молчала. А за окном — или это казалось? — черно стоял лес, потом опять шел город, и еще город, и как будто один и тот же, а на самом деле другой. Мелькнуло красными буквами слово «Таллин». Белые фонари долго бежали по краю бесконечного моста. Рядом неслась электричка, потом товарняк с морозильниками сливочного цвета. Выплыл и загудел ярко освещенный грузовой пароход. Любе чудились голоногие дети в пионерских галстуках, которые идут строем. Люба отдавала утром дочку в детский сад, все сестры и воспитательницы были из-за эпидемии гриппа в белых масках, никого не узнать, и Люба шла и оглядывалась запоздало: кому она оставила дочку?.. Дети грузились летом в автобусы, махали за пыльными стеклами тонкими руками, уезжали. Куда? С кем?.. Парни в черных шлемах, в черной коже, на черно-красных мотоциклах неслись за автобусом. Осветилась нерусская надпись готическим шрифтом, аллея черных зимних деревьев была не по-нашему увита горящими лампочками. Дети, одетые, как гномы, шли гурьбой за парнем в полосатых чулках, весело играющим на дудочке. Юные матери двигались в потоке демонстрации, толкая перед собой детские коляски. В одной, широкой, сноха Оля везла Ванюшу и Андрюшу… Нет! — хотелось закричать Любе. — Нет! Нет! Нет! Одно только слово. Почему? Кому — нет? Автобусу, который не останавливался и не остановится, водителю с черной гривой, который и не видит, кого он везет? Городу, который строится быстрее, чем идет по нему автобус, и потому не может никак оборваться или переходит сразу в другой город? Кому — нет? Прапорщику, выдающему новобранцам подштанники? Своему сну, где рыльце у Яши рыбьим, дельфиньим кувшинчиком?
— Женщине! У меня! В автобусе! Плохо стало! — кричал в автомате водитель, и Люба слышала, потому что уже приходила в себя, а двери стояли настежь. Женщина в очках держала ее под голову. Так Люба узнала, что беременна, что все сроки упущены, врачи откажутся вмешиваться, и еще через полгода, хочешь не хочешь, она опять родит сына.
Чертово колесо в Кобулети
Памяти А.
В августе на кобулетском пляже еще яблоку упасть негде, столько народу, а в сентябре, когда увозят в школу детей, уже тихо и пусто. Обнажается без людских толп сам пляж, «красота его бесконечности, бесконечность его красоты», как сказал поэт, и городок с его двухэтажными богатыми домами с торжественными наружными лестницами — чтобы каждый, нисходя по такой лестнице, мог почувствовать себя князем — и с «самой длинной в Европе», как утверждают кобулетцы, главной улицей. Но еще длиннее набережная, идущая на возвышении над пляжем, — теперь местные жители выходят сюда погулять и впервые за все лето могут по крайней мере увидеть друг друга, а то раньше растворялись среди отдыхающих масс. Набережная особенно хороша: люди мирно сидят, прогуливаются, любуются закатами, под ногами играют дети. Вообще наступает прекрасная пора. Позже рассветает, раньше темнеет, но солнце не уходит с неба весь день, и можно загорать. Иногда набегут тучи, прольется дождь, а то и всю ночь прошелестит, но потом опять солнце, сухо. Туманы, радуги, эти багряные пышные закаты, на которые ходят смотреть, точно в оперу, белая ослепительная луна. Под реликтовыми соснами дует прохладный ветерок, — летом он освежал, теперь заставляет натянуть свитер. В кофейне на набережной девушки переворачивают вверх дном крохотные белые чашечки, гадают на кофейной гуще. В закусочной наконец без очереди вам дадут шашлык или даже кефаль. В садах лопается на ветках черный инжир. Дымок и запах жареного каштана надолго остаются в пальцах. Гинеколог из Тбилиси и стоматолог из Москвы ужинают за одним столиком в «Интуристе». Бархатный сезон. Покой.
Кстати, об «Интуристе». 16-этажный космический корабль опустился несколько лет назад на туземный кобулетский берег, и никак не понять, вписался в него или нет. Не очень. Одна нервотрепка с этим «Интуристом», хотя, конечно, хочется быть не хуже, чем Сочи или Марсель. Возможно, в будущем десятки таких билдингов нанижутся на нитку кобулетского пляжа, задавят и вытеснят старенькие дома и, как гигантские насосы, будут качать из туриста деньгу, — может быть, но, слава богу, это уже будет без нас. Пока же посланец из будущего чувствует себя здесь чужаком. Днем он еще возносится гордо, прямят кирпичного цвета плечи, а ночью растворяется во тьме, светит приглушенными светильниками, тоскливо тянется в небо, хочет улететь.
В отеле — чужая музыка и чужая речь. Чешские пивовары и парикмахеры, польские шахтеры, венгерские пенсионерки, дрезденские студенты — все едут к теплому морю. Бывают финны, греки, шведы. Хотя зачем, спрашивается, греку теперь Колхида? Но идут, взявшись за руки, юноша с лицом Аполлона, в белых шортах, и девушка-грузинка с копной черных волос, юная и большеглазая, милая, в длинной юбке, чтобы скрыть не очень стройные ноги. Его зовут Ясон, ее Медея.
А то вдруг приехали американцы. Что началось в Кобулети! Комедия в духе Гии Данелии. Из кадок вырывали чахлые пальмы и втыкали свежие. За одну ночь поставили забор вокруг котлована, который вырыли пять лет назад под бассейн, — но зачем нам бассейн, когда рядом море? — и ямы давно заросли колючкой. Желто-черный жук-скрепер с рассвета ползал по двору, срезал бугры старого цемента, оставшегося еще от стройки, и засыпал лужи. Гинеколога и стоматолога срочно выселяли, хотя гинеколог уверял, что сам бывал в Америке. Администратор повышал голос на немецких студентов. Появились статные столичные официанты. Ответственные мужчины в больших кепках все время совещались, стоя в мраморном вестибюле, покручивая на пальцах брелки с ключами, а мимо них потные горничные, не знакомые с дезодорантами, таскали по гладкому полу тюки со свежим бельем, загружали тюками лифты. В четверг, накануне, к ужасу администрации, лифты вышли из строя. По законам жанра американцев должны были бы провезти мимо и поселить где-нибудь в другом месте. Но нет, они приехали. Человек восемь. Ночью. Их никто не видел. И уехали так же незаметно. И это был последний мазок, последний удар отошедшего шумного лета. После американцев наступила полная тишь.
Старого писателя катала в кресле-каталке по набережной совсем юная женщина, девушка на вид, — она могла быть ему внучкой, но все, кто сидел или гулял вечерами над морем, уже знали, что это не внучка, не дочка, не сиделка. И всех, разумеется, поражала эта пара. Женщины шептались и качали головами. Они приплыли пароходом в Батуми, там матросы снесли его на руках на берег по шаткому трапу, потом час ехали на такси, а на другой машине, которую вел сын бывшего друга Нико — он и встречал писателя, — везли складное английское кресло со сверкающими спицами. Нико был юн, растерян, при галстуке, похож на доброго Гиви, своего отца. Боже, как сам писатель был молод когда-то на этом берегу — давно ли? Словно вчера — и молода Этери, мать Нико, и какой вихрь крутился тогда за ним: друзья, поэты, женщины, бард с гитарой, рыбаки, моряки, — он написал после войны свою знаменитую пьесу о военных моряках, они этого не забывали. Между прочим, он сам прошел войну и тонул однажды с эсминцем на подходах к Мурманску, участвовал в сопровождении английского каравана. Было, было, все было, и офицеры в белых кителях, горя золотыми погонами, тоже хрустели по гальке кобулетского пляжа.
Теперь не осталось никого и ничего. Только дети старых друзей, которых он видел в младенчестве. Гиви давно умер — писатель потом долго не мог простить себе, что не приехал на похороны, путешествовал по заграницам. А затем он купил себе дом совсем на другом берегу, в Прибалтике, уехал туда жить с женой, взрослой дочерью и внуками. Слава его росла, и он бежал от нее, чтобы работать. Но… вдруг на старости лет опять бросил все, ушел — ну просто пушкинский Алеко, и — словно в наказание — паралич, три месяца больницы и теперь ничего: ни дома, ни семьи, ни архива, ни книг, ни друзей, — вот, кресло на колесах, болезнь, шарф на шее, его ангел-хранитель рядом и любовь, новая любовь, которая сделала его счастливым. Ах, жизнь, не зря говорят, она самый лучший драматург и самый опасный игрок, никогда не знаешь, какую выбросит карту, как все повернет, — оглянешься назад: господи, что было всего год назад и что теперь, где я, кто, с кем?..
И почему, что за изощренность такая? У музыканта непременно отобрать слух, у художника зрение, у златоуста речь? О, он был мастер краснобайства, как никто, умел найти словцо, он самовдохновлялся, точно соловей, пока говорил, и вот так, устно, оформлялись все его сочинения: раз десять расскажет, проверит и — садись, записывай. А сколько не записалось, сколько переболталось, выболталось, было пущено на ветер, играючи, — спасибо, кое-что поподбирали друзья и ученики. Все помнят его стоящим на ногах, вдохновенным, жестикулирующим — в одной руке всегда сигарета, в другой бокал с сухим белым вином, всегда загорелый уже в марте, худой, с загорелой лысинкой и свисающими позади артистично седыми кудрями, с какой-нибудь супермодной деталью в костюме: белый ли пиджак, каких ни у кого еще нет, платочек ли на шее, шарф или блайзер с такими золотыми пуговицами, что не снились какому-нибудь капитану испанского парусника. Он никогда не сидел на месте больше одного месяца, любил самолеты и планеры, быстроходные скуттера и те секунды в хоккее, когда обе пятерки, слившись в одно, несутся к одним воротам; он сам был непрерывное движение, летун и поэт, и вот — пожалуйста, сбит, как птица, влёт. «За что? — спрашивал он сам себя и сам отвечал: — За все».
Теперь ему казалось, что все, им написанное, — постыдно, что жизнь состояла из ошибок, что по крайней мере раза четыре он свернул совсем на иные пути, а не туда, куда было нужно. Он умел и любил обольстить и увлечь — мужчины влюблялись в него, верили и шли за ним, особенно молодые авторы, режиссеры, художники. Теперь это тоже он относил к своим грехам: неверно учил, не тому. А уж что касается женщин — тут лучше умолкнуть. Умолкнуть и обратиться хотя бы к этому юному существу, студентке, девочке из московского пригорода, которая год назад послала ему на отзыв свои невинные стихи, — так они познакомились. Кто бы видел ее в вечер их приезда, после бурного, полного волнений дня, встречи с располневшей старой Этери в вечном трауре, с черным платком на седой голове, — как она плакала, обняв его! — с долгим застольем, печальными тостами, плюшевым альбомом о пожелтевшими любительскими фотографиями, где все стоят, обнявшись, все молоды, живы, любят друг друга, солнце бьет в глаза, и пальма зеленым фонтаном осеняет головы, — фотография есть, пальма есть, а людей нет, люди умерли или постарели, и невидимый ужас царапает сердце: ты тоже стоишь в этой очереди.
«Нет, витязь, ты все такой же, ты молодой!» — заливалась слезами Этери. (Когда-то они называли его «витязем в тигровой шкуре», потому что однажды он прыгал по пляжу именно в таком наряде, хотя шкура была овечья.)
Да, но вот в конце концов она осталась с ним вдвоем, на «его» половине дома, на открытой террасе, увитой виноградом, — плотные, словно надутые, черные кисти обильно темнели среди зелени, терраса была защищена самим домом от моря и ветра. Она находилась с ним непрестанно, за весь год они не расстались ни на день. Она одна понимала его мычанье и отдельные, по-младенчески выталкиваемые слова, она одна могла ухаживать за ним, не причиняя ему мук стыда, удивительно научась накормить, одеть, причесать и все вытерпеть. Слава богу, она выросла в простой, многодетной и бедной семье. Кроме того, ей казалось, она виновата. Если бы хоть кому-то из людей, кто осуждал и шептался, пришла в голову самая простая мысль: а кто же и как его кормит, ухаживает, кто надел на него нарядную рубашку и повязал галстук, благодаря кому у него ухоженный и, можно сказать, элегантный вид в этом сверкающем кресле, с серым пледом на коленях, с наброшенным на плечи свитером или шарфом, в белой шляпе днем и темной фуражечке вечером, — если бы люди чуть-чуть пораскинули умом, они бы перестали судачить. Впрочем, где там, людям разве перестать! И как это она живет с ним, бедняжечка, зачем, почему? Ради чего терпит и толкает перед собой по выбоинам нелегкое кресло?..
Между тем калека, как и бывает нередко с калеками, жил в самом мощном, даже для него непривычно-мощном духовном напряжении. И это отражалось на его лице, в горячем и полном жизни взгляде. Каждый человек, встречавший их на набережной, поражался кротости ее лица и пылкости его взгляда — пронзительный, яркий, живой, полный интереса ко всему и реакции на все. Ко в с е м у: к младенцу на руках старухи, к поздней порхающей бабочке, к иностранным пожилым туристам с одинаково подкрашенными и завитыми сединами, к школьникам в синей форме и красных галстуках, бредущим по пляжу после уроков, к москвичке из «Интуриста» в бейсбольной шапочке с длинным козырьком, которая по своей непосредственности никогда не могла скрыть при взгляде на них жалости, жалости и восторга понимания их связи, — наверное и она кого-то любила. Он старался улыбнуться в ответ и думал, что улыбается и даже подмигивает, но как раз эта половина лица его оставалась мертва.
Что ж, немудрено, его дар наблюдательности, его способность анализировать, синтезировать и творить никуда не делись. И его жажда творчества. И новая мысль, что и как надо. Все это лишь еще больше обострилось без сублимации. Сейчас мы скажем, куда в основном двинулись эти мощные силы, но и на мелочи, на пустяки его хватало. Он совершенно не занимался своей болезнью. Он принял ее, как молнию, решил, что с а м не может сделать ничего и что у него нет времени заниматься лечением, тем более что это бесполезно. Как это ни покажется странным, но он почти не мучился. Все муки он оставил за стеной клиники. В самом деле, ждать выздоровления, лечиться, направить на это все силы? Смешно. Тем более что ч у в с т в о в а л он себя замечательно. Счастье его не покидало.
Она была сама кротость? Пожалуй. Со стороны вполне можно было сказать: ангел. Если его глаза горели и жили открытой жадностью, то ее чаще всего оставались потуплены. Мир ее не интересовал. Но сказать, что она стоит коленопреклоненно, сложив ладошки перед грудкой, а крылышки за спиной, тоже нельзя бы было. Вся ее фигура — скрыто активна и напряжена, она то и дело выдвигается вперед, следит сверху: как он, не нужно ли чего? И видит поле вокруг: нет ли какой опасности для него?.. Когда они останавливались и отдыхали, она глядела на него, а не по сторонам и не стеснялась. Если только он не обращал на что-нибудь ее внимания, показывая глазами или слабой своей правой рукой. Она смотрела на него скрыто-радостным и влюбленным взглядом — тем самым, когда говорят, что люди глаз друг с друга не сводят. И это была правда. Хотя казалось бы, на что уж там смотреть очень молоденькой, хорошенькой, тоненькой и очень хорошо одетой девушке (никак не поворачивается язык назвать ее женщиной, до того она молода и весь облик ее и стать девические). Но она смотрела, и несомненно с неподдельной правдой. Просто удивительно. Будь она менее сдержанной, менее скромной, будь воспитана хотя бы столичной десятилеткой и выражай смелее свои чувства, она бы, наверное, смотрела с открытым обожанием. И ее не интересовали ни аполлоноподобные юноши, смуглые Ясоны, или светлокудрые шведы, приехавшие издалека, ни местные гордые колхидцы, у каждого из которых обязательно был хоть и небольшой, но настоящий кусочек золотого руна. И они пружинно выпрямлялись при виде ее фигурки в белых и легких развевающихся одеждах по моде того лета, с кисейной косынкой, повязанной гладко по голове и спущенной сбоку, с виска узлом — это был выходной наряд, — или в маечке-безрукавке, в белых шортах и сандалиях днем, в кепочке набекрень, поднятой пузырем и с красной пуговкой на макушке. Парни дышали, как кони, и перебирали на месте ногами.
Люда пошушукались, потом привыкли — очень она была убедительна. Кроме того, просочились слухи из дома Этери, где давным-давно погасли звуки молодой жизни (Нико был скромный мальчик), но теперь опять (люди сами видели) приезжали такси с базара, выгружали корзины, Этери командовала на летней кухне, почтальон приносил газеты и телеграммы, слышались звуки старого пианино и смех юной женщины, нормальный смех, — судите, как хотите, но чувствовалось: здесь поселились не убогие и подавленные, а счастливые люди. И толстая Этери со своей стенокардией, больными ногами, тяжко дыша, кивала под вечер головой и подтверждала: да, это так, но он всегда был такой, витязь, я помню, да, конечно, они счастливые люди, посмотрите сами повнимательней.
Что ж, так и должно было быть. Ему захотелось сюда, это он сам придумал, перебирая в памяти, где он жил особенно полно и радостно, и вспомнил про этот берег, где когда-то так гулял, так работал, легко и много, — засчитывай день за месяц, — и тоже любил, заходился от счастья, только был здоров и неутомим, бешен и весел, — эх!.. Это называлось у него: жить припеваючи. Если встаешь, чистишь зубы, одеваешься, обливаешься душем, а сам все время поешь, насвистываешь и не замечаешь, а потом вдруг заметишь или жена скажет: «Что-то отец у нас сегодня поет!» — то вот это и значит «припеваючи», то есть все нормально и хорошо, дело твое катится, как надо, совесть чиста, и люди рады тебе, а ты им. Вот так и надо жить, черт побери, шагать и петь — насвистывать. Кто лямку тянет, кто у дураков на побегушках, кто сам себе не рад, те пусть как хотят. А мы любимое дело ваяем, сил не жалеем, люди в конце концов спасибо говорят, чего не петь? Расшибло, разбило, порвало нервы, вывернуло и искалечило — печально. Но не до конца же, опять не до конца, а мало ли было случаев, хоть бы за рулем, когда конец чернел и сверкал совсем близко? Нет, не до конца, душа жива, не до конца еще, жив, живуч человек, как червяк, извивается. Главное, «не дай мне, бог, сойти с ума», как говорил Пушкин, вот только не это, только бы до этого не допустить, это уж последнее, край. Здесь я еще пока, как хочу, могу поступить, а там — хаос. Не дай бог. Образ безумного Мопассана, ползающего на четвереньках по больничной палате, приходил все время на память.
Нет-нет, мы живы, мозг горит еще жарче и ясней, чем всегда, и ангел мой со мной — какой подарок судьбы под занавес, — а не почитать ли нам, душа моя, на сон грядущий книгу Иова?.. Так говорили его глаза, и трепетала правая рука, которая понемногу выучивалась теперь даже держать карандаш, если, правда, она своею рукой сверху унимала ее нетвердость и двигала этой своею рукой, легкой и безвесной, словно присевшая бабочка, поверх его руки по корявой обойной бумаге, которая одна выдерживала тыкающийся карандаш. И так он показывал на книгу, и так он дотрагивался до ее колена, и она понимала. Да-да, почитать библейскую книгу, столь вошедшую в моду во второй половине XX века, о несчастном и твердом духом Иове, которому бог дал все и отнял все, чтобы испытать: ну, человек, как ты и что ты можешь?..
Она читала, запинаясь, почти малограмотно и плохо понимая, она сроду не держала в руках Библии, но он показывал, что она читает не так, что надо перечитать и понять, ничего трудного нет, и она осваивалась и понемногу воодушевлялась. Ее слабый поэтический дар сообщил ей по крайней мере чувство слова и ритма, кроме того, ей так не хотелось быть перед ним дурочкой. И она напряглась, и постигала красоту и смысл древних стихов… Они любили друг друга и старались один для другого — так просто.
Он и сюда не только ради себя ехал, он и ее вез. Чтобы увидела, его глазами увидела замечательный берег, воспетый поэтами, мать-Колхиду, горы — снежные горы, которые белеют вдали, точно облака, и другие, темные, которые ниже и ближе, синие от своих тайн, и самые близкие — зеленые всхолмья, круглые, как овцы, от чайных кустов. Там горы и небо, здесь небо и море. Оно сверкает под солнцем, как корыто, где плещется ребенок, или мрачно бьет тяжелой зеленой бутылью о берег в шторм. Причудливы декадентски-изломанные позы прибрежных сосен. Кругло-вопросительно лицо луны в полнолуние, когда невозможно спать. У нее восторженный свет, она полна, она миновала фазы ущерба и неполноценности. Стонет во сне бедная Этери — всмотрись, пожалуйста, в ее мучнистое лицо, отвлекись от меня, это лицо самой доброты, вечной женской доброты, которая есть первая добродетель, — ты должна все увидеть, все понять по возможности, как я, чтобы навсегда взять с собой, унести, как мой последний, может быть, подарок. Лучшего я тебе не подарю.
Он не может работать, сочинять, но он не может не творить. Божий дар его таков, программа заложена: быть щедрым, чутким, талантливым, знать вкус и меру, быть артистом, уметь другого постичь л у ч ш е, чем себя. Он творит, обратив свой дар в чистый дар любви, творит ее каждый день, неустанно, без лени, начерно и набело, кусками, потоками, лучше сразу набело, потому что нет времени, но тем более в полную силу, непременно. Никаких фальшивых или ремесленных строчек. Без повторов, без ошибок, новая партия, и надо ходить, как ходят гениальные шахматисты, из всех возможных ходов делая самый верный. Весь его опыт, силы, мощь, изощренный профессионализм, сама болезнь и печаль ухода — все в дело. Свивается смерч крутящийся, набита гигантским зарядом грозовая туча, нагрета солнцем целая акватория — ради чего? Чтобы поместить в самую середку одну бедную девчонку с ее неопытностью, доверчивостью и чистым сердцем? «Ты девушкой к нему войдешь, как пела Офелия, но девушкой не выйдешь». Остановись, уже этого ей хватит надолго. Нет, он идет все дальше и дальше, и пока у него хватает сил, чтобы побеждать себя самого.
Ему хочется обогатить и развить ее мозг, он старается, но еще не знает, что это и невозможно в столь краткий срок, да и не нужно. Это всего-навсего собственное оперение, да и то только оперение, а не суть. А женщина всегда знает суть. Он упивается, он занят замечательным процессом созидания. А она понимает одно: что занят и что для нее, ею. И нельзя сказать, чтобы труд его был впустую, — кажется, ничего не остается, никакого видимого результата, но это все равно что сказать матери, которая тютюшкается со своим младенцем, что она напрасно с ним разговаривает, поет ему, улыбается и даже доверяет ему свои слезы, — он ведь все равно ничего не понимает. Нет, не напрасно! Тайна их близости накапливается целый день: каждое его слово и взгляд, каждое прикосновение есть выражение этой титанической работы любви, которая изливается из его полубезумных, умных глаз, окатывающих ее нежностью, — нет, она не променяла бы это ни на что! Льется и льется эта любовь, море его любви, а у нее, возможно, только река, но они сливаются и вот она уже плывет в этом море легче, чем в настоящем, — тепло и прозрачно, она перестала бояться, и, раскинув руки, держится на спине, потом ныряет и фыркает, тело ее узко и легкоподвижно и невесомо, точно тело рыбы в воде, — один удар хвостом, и она наверху, внизу, она свободна и открыта до конца, море проникает в нее, солью плещет по губам, и она засыпает потом вмиг, сама не зная как, в невесомости, во взвешенности, в медленном погружении в глубину, — так тонет спящая рыба.
Она прекрасная ученица, преданный слушатель, простодушный зритель, который верит и чувствует: все правда, ему не лгут. И оттого она так доверчива, так покойна теперь и свободна, подвластна его ласке. Так было вначале, она успела понять, а теперь все больше случается, что и она талантлива и гибка и часто поражает его незнакомым до тех пор ответным или призывным движением. Музыкант и инструмент, композитор и исполнитель, ваятель и изваяние — они достигают гармонии и высоты, чистоты композиции. Речь идет не только о сексуальной стороне их отношений, но и о строительстве содуховности, точности понимания друг друга, соединенности в одно. Какое это в самом деле счастье — все отдать и все получить.
Да, вот вечер, долгий и полный день позади, а впереди еще столь же наполненный вечер, много заботы: она катит перед собой по неровному асфальту и каменным плиткам набережной потяжелевшую коляску, и, хотя он по-прежнему живо водит глазами, она знает, что он уже устал, голова его и вся фигура съехала набок, хотя никогда не признается в этом. И она сама устала, быстро стемнело, и прохлада падает сверху, точно роса. Да, еще много впереди заботы: возвращения — у дома Нико встретит их, — нового возбуждения от ужина, от осмысления дневных впечатлений, затем телевизор, опять умыванье, переодевание, прием лекарств, сон и бессонница, когда он позовет ее, и она свернется калачиком рядом, потому что все, весь день и вечер, все, что накопилось между ними, должно сблизиться и излиться наедине. И еще после он не уснет, возбужденный лунным светом, и она сквозь юный свой сон будет это чувствовать и часто просыпаться, спрашивать, а он будет делать ей знак: мол, спи, спи, а у самого слезы сверкают в глазах лунным светом.
Разумеется, у нее на него уходят в с е силы — так он сумел захватить и покорить ее собою, но бывает, что не хватает и всех сил. Сегодня что-то ее беспокоит, она чуть ускоряет шаг, ей кажется, и с ним что-то не в порядке нынче, и сама вдруг устала. Этери говорила, меняется погода, может быть, но есть еще что-то, что ее волнует. Что?.. Она не любит таких минут, потому что в свое время ее безжалостно предупредили обо всем анонимными письмами и звонками, страх за него убран в подсознание, он сам научил ее не бояться н и ч е г о и быть всегда ко всему готовой. Но все равно страх этот существует, помимо воли и сознания, и в такую минуту усталости сердце холодеет и обрывается. И она вдруг к о н к р е т н о думает, что из Кобулети никуда нельзя дозвониться по-человечески.
Нет, она знает, он здоров, здоров, как ни странно, болезнь отняла у него движение, но тем больше осталось сил мозгу, сердцу — так, бывает, непомерно здоровеет обезножевший инвалид. Как и он сам, она больше боится за его мозг, который так возбужден, за неизбежный новый удар, последствия которого непредсказуемы. Она уже наслушалась историй о разбитых инсультом, которые лежат годами без движения и без сознания. Сам он смеется, он фаталист и игрок, иногда они играют в карты, или она раскладывает перед ним пасьянс, и его всегда возбуждает неожиданный выпад карты, и он говорит ей взглядом, смеясь, одну из своих любимых фраз: «Такой расклад». Он всегда одинаково достойно принимал и удачу и проигрыш.
Но он жадина, он всегда увлекается, всегда готов отыграться. Ему все мало. Вот и сейчас: уже возвращаются, пора, стало сыро, устали, но она слышит мычание-требование и, проследив за его взглядом, видит: он показывает в сторону парка. Зачем? Что ты хочешь?.. Он оживился, улыбается, просит: туда. Она поворачивает коляску.
Мы забыли сказать: в Кобулети есть еще одна городская достопримечательность: парк культуры и отдыха, гордость местных властей. Хотя весь берег сплошной парк. Но это для отдыха. А для культуры? И кобулетцы все сделали не хуже, чем в Тбилиси или в Москве. Карусели есть? Есть. Качели есть? Есть. Автомобильчики, которые толкают друг друга? Тоже есть. Пусть радуются наши дети. И есть даже «чертово колесо» — извините, «колесо обозрения». Все можно обозреть. Оно, конечно, не выше «Интуриста», где с верхних площадок открывается простор, точно с вертолета, но если, глядя на «Интурист», только хочется подняться к звездам, то на «колесе» м о ж н о… Сезон в парке еще не кончился, аттракционы работают, хотя народу совсем нет и времени уже около девяти. Пусто, лишь одна парочка летает на цепной карусели, сталкиваясь в воздухе и смеясь, а две или три другие отправились на колесе, и лишь ради них оно скрипит и вращается, совершает во тьме свои круги, — все гирлянды погашены и горят лишь три обычные голые лампочки, вырывая из тьмы сегменты металлической конструкции и своим перемещением во тьме показывая движение колеса. Но зато там, наверху, сидя в шатающейся кабинке, можно увидеть яркие звезды, якобы приблизившуюся луну с оперением летящих рядом облачков, и можно, тесно прижавшись от малого и веселого страха, слиться в поцелуе.
Юный, саркастический, ленивый бес, скрывающийся под грузинским именем Шотик и кобулетской пропиской, в майке с облинявшими буквами «ай лав», а кого именно «ай лав» — совсем полиняло и застиралось, в пиджаке с завернутыми наружу подкладкой рукавами, обслуживал ввиду отсутствия публики все аттракционы сразу, похаживал мафиозной походочкой туда-сюда, сам отрывал билеты, похожие на трамвайные, и карман его пиджака свисал на сторону скопившейся мелочи. Он с ухмылкой глядел вверх, где сшибались и разлетались со смехом качели, словно железные ящики из-под молока, которые кидает грузчик в фургон, и где повизгивала невидимая во тьме девушка-летунья, и сигарета свисала у него с губы, из угла рта, как клык Азазелло.
И у этого типа он стал просить, требовать, мычать: туда, туда, наверх! Она возражала, она не хотела, — как это будет? Сама панически боится высоты, никогда не отважилась прокатиться на такой штуке, — ее вестибулярный аппарат плохо выдерживал даже подъем и спуск на лифте, — ну, зачем, зачем?.. Нет, он, неуемный, хотел и все. А этот бес, этот Шота, усмехался и говорил: «Слушай, что ты, ну хочет дедушка покататься, пусть покатается, я сам его повезу!..» И как это все произошло, в две минуты, просто странно: Шота остановил колесо, легко поднял его и внес на руках в кабинку, и она сама помогала. А он горящим и веселым взглядом говорил, чтобы она не боялась за него, ему очень хочется, один-два круга, и все. И она переводила бесу: «Один-два круга, пожалуйста, не больше, я так волнуюсь». — «Что ты волнуешься, слушай? — бормотал бес. — Ему хуже будет? Нет, хуже ему уже не будет». Он свистнул, и из темноты прибежал еще чертенок, младший брат, стал у ржавой коробки, откуда торчала рукоятка рубильника, сверкал белыми зубами, и вот — миг, и вся махина колеса, которая в темноте казалась ей адски-гигантской, заскрипела и заскрежетала разболтанным металлом, закачались и завизжали петлями некрашеные кабинки с номерами, и все поехало, поплыло. Бес согнулся над ним, придерживая, и он посылал ей глазами веселый привет, и рука двигалась, якобы махала, и она в ответ стала тоже прощально махать и через силу улыбаться. Но глаза ее из-под белой косынки глядели изумленно и тревожно: происходило что-то, чего она не поняла, не могла взять в толк, не приготовилась: куда он, зачем, как же так?
А от беса несло табачищем и по́том, он скалил рот в улыбке и по мере движения вверх приговаривал, дыша в самое ухо от скрюченности своей позы: «Красота, да?.. Луна, да?.. Море, да?..» Они медленно всплывали над соснами, над крышами, над дорогой с фонарями и огнями машин, над парком, где вдруг обнаружился и засиял подсвеченный мозаичный бассейн с цветными рыбами и осьминогом. И небо открылось, сизое от яркой луны, и сама луна, звезды и светлые облака. Свинцовое море, пепельные горы, белеющие человеческие жилища.
— Смотри, смотри! — прошептали ему. — Вспомни! — Кабинка вдруг дернулась и стала на самом верху, закачалась и заскрипела, а за ней другие, что болтались ниже, — это мальчик внизу нарочно остановил рубильник, чтобы они некоторое время могли посидеть там и все обозреть, — этот номер входил в сервис для самых почетных гостей, так бес приказал. И теперь он шептал: — Смотри, вспомни.
И он увидел: катит валы океан, свистит ураган, торчат как спички обрезанные пальмы; плывет по красным барханам верблюд, брякают его колокольцы; летит в облет белого Тадж-Махала белый вертолет; дочка Настя стоит у обледенелого сруба колодца в Егорьеве; старая сцена МХАТа блестит шляпками гвоздей; низкие облака и снег над Чикаго; старый букинистический на Лубянке; кавторанг Миша Кузнец, пробитый тяжелым осколком; опечатки четырехтомника; Милка в короткой норковой шубе с почти под машинку остриженной головой; шведский король на премьере его «Метаморфозы»; вид из окна в Майори; оконце в переплетной, где был он учеником; пограничный катер на Амуре; великий врач, нейрохирург Роже Картье входит в операционную, подняв белые руки, точно сдается; Галина Уланова, приседая в реверансе, подносит ему букет растопыренных роз…
И вся ночь, весь мир, вся жизнь кричат ему:
— Вот! Возьми! Что тебе власть над одной бедной девочкой и тепло одной маленькой руки? Где ты? Ты уже покорил ее, что дальше? Еще весь мир ждет, чтобы ты покорял его, не останавливайся… Да и будь милосерден хоть раз, отпусти ее, что ей потом делать без тебя, она уже и так отравлена твоей любовью, отпусти, ты опять не думаешь о других, а только о себе… Что ты хочешь, скажи? Все возможно, пока ты жив, а в загробное ты все равно не веришь. Здесь спасайся и здесь возьми все. Смотри, смотри, вот они, еще несутся: каменный мешок в Гарни, где человек сидел тридцать лет и писал; великие книги; рояль Шопена; домик Юджина О’Нила в Коннектикуте; «Огни большого города» на кассете; чистая стопа бумаги и — хочешь? — новый дисплей, переделаем на русский шрифт, еле прикасаешься к клавишам, и он все пишет сам, тебе видно на экране, тут же правишь, и тут же падает отпечатанная страница…
— Нет! Мне не надо ничего, больше ничего, мой мир — она. И ничто на свете не заменит мне нашего душевного слияния. Она не знает, может не знать, что и кто она для меня, какая это степень, но я-то знаю. Может быть, дело даже не именно в ней, мог быть кто-то другой, чтобы испытать мое сердце: живо оно или нет, может или не может? Но это она, ее рука, ее глаза, ее пушок на скулах… любить и отдавать…
— Врешь, врешь, тебе хочется, тебе всего хочется — любить и брать, — просто ты больше не можешь, и выдумал себе свой маленький Эверест, и вползаешь на него по три шага в день, — ну! ну! ну! — и вроде жив, вроде занят покореньем вершины. А ты смотри — мастер Бочаров летит с Эвереста на дельтаплане: своими ногами влез, своими руками летит!.. А?..
— Отойди от меня, отпусти!
— Врешь, хочешь!
— Отойди!
— Ну тогда ее отберем, ее…
— Ее?
Он чуть не бросился головой вниз и ничего не увидел сначала, кроме облитых луной сосновых крон. А потом разглядел: на вытоптанной множеством ног и слабо освещенной площадке стоит одиноко и поблескивает одна его пустая коляска.
Сердце перестало биться от ужаса. Как он мог оставить ее и забыть ради чертова колеса? Сердце сжалось, и кровь не долетела до мозга, как он мог?..
— Ну, еще одна потеря, мало ли было в жизни потерь, — усмехался бес, — ты вынесешь и это.
— Нет!
Кровь не долетела до мозга, и ужас пробил счастливца, словно электрический удар.
…А она была на месте, она тоже лишь в воображении сделала шаг в сторону, представила себе обиженно, как же так, ни с того ни с сего он променял ее на это колесо, уплыл в чужих руках, в детской нелепой игрушке, больной, беспомощный, но веселый, возбужденный новым впечатлением, ей в эту минуту не принадлежащий. Куда? Почему? А она осталась в растерянности, одна, в мгновенно образовавшейся вокруг пустоте, без него. Как так? Вот так и случится в одну минуту: он улетает, а она остается на земле, одна. Нет, не в этом дело, это она знает, а вот как же он: улетает, уже отрезался, без нее, бросив ее, охваченный другой идеей, ей неизвестной. Какой? О чем? Что его так потянуло?.. Как быстро он доверился, ушел от нее, почти бежал, рассеянно прощался?.. Вдруг вот так и случится однажды, и он, выздоровевший, совершенно чужой, веселый, с огнями колеса в ставших непроницаемыми глазах, уйдет и не обернется? А она останется, в недоумении и обиде, и чертенок будет с нею со стороны… Она опомнилась, повела вокруг глазами, увидела себя: в каком-то парке идиотском, в неведомом городишке, на краю страны — почему, зачем?.. Вон дорога, «самая длинная улица в Европе», бегут машины, горя чистыми фарами, — надо выбежать, поднять руку, сесть и — на вокзал, в аэропорт, прочь, куда угодно.
Только в воображении сделала она этот шаг, но сверху он ее уже не различил. Только в воображении пронеслась возможность (невозможность) потерять ее, и мозг не выдержал.
— Отпу… ссс… чё… чё…
И заскрипело, поехало вниз, в черное — где ты? — и все пропало.
— Что он говорит, что говорит, не понимаю? — плакала жена и промакивала красное и раздутое от слез лицо таким же малинового оттенка полотенцем. — Что ты, что? — Она вроде спрашивала, но сама отворачивалась, старалась не смотреть, боясь конца. Почти год это продолжается, и каждый день может быть последним.
— Чё… чё… коб… бе… — клокотало непонятное в запрокинутом горле, а глаза просили понять.
Врачи, их было двое, вели себя уже отрешенно, кратко говорили между собой, друзья застыли по углам, одна девочка-медсестра двигалась — прехорошенькая, в туго стянутом на талии халате, в накрахмаленной крепко белой шапочке, прихваченной кокетливо заколкой к волосам. Они склонялась с другой стороны, напротив малиновой глыбы жены, делала укол в вену, нежно прося потерпеть, — рука была желтая и без того исколотая, а у девушки чистенькие, узкие, без маникюра пальчики, живые на почти неживой руке. Девушку только вчера нашли, уговорили приходить за сто пятьдесят рублей, она вот сегодня с утра пришла, и при виде ее некое оживление, фантазия задрожали в глазах умирающего, и он кричал про себя счастливым голосом:
— Кобулети! Чертово колесо! — И смеялся.
Никто не понимал.
Лермонтов в Тарханах
Тридцать первого к трем часам въехали в Чембар. Русский гусар-прапорщик, никому еще не известный поэт, 22-летний Лермонтов торопился в Тарханы, к бабушке, хотел успеть под самый Новый год. В Чембаре уже все было свое, знакомое, словно на порог вступили: управа, трактир на въезде, острог. Часовой в высокой шапке, с длинным ружьем ходил по снегу под белой стеной острога, и казалось, это тот самый часовой, который шагал здесь семь лет назад.
Лермонтов еще оглянулся на повороте и посмотрел вдоль улицы: стоит ли старый дуб над оврагом? Дуб стоял — черный среди белого поля.
Господи, как это было верно — уехать, бросить все, наконец, как нужно! Остаться одному, увидеть опять вблизи Россию, поля снежные, колокольни, почтовые дворы, желтые от лошадиной мочи, бородатых мужиков, изрезанные похабными словами деревянные диваны на станциях, самовары, шлагбаумы… Серое зимнее небо, снега, елки, сугробы… Нет, Петербург — не Россия, и даже Москва — не Россия…
День синел, ранний вечер опускался на дальний лес и поля, и Лермонтов, попрыгивая и качаясь в санях, с полуулыбкой представлял, как сейчас, еще до темноты, повернув за Крюковом, въедут в Тарханы. То-то там суета теперь! То-то стуку и шипенья на кухне, беготни из кухни в дом. Трут сукном мебель и зеркала, достают из буфета посуду, девки с ног сбились, а бабушка поднялась наверх и в последний раз оглядывает приготовленные ему комнаты: все ли на месте? Она никогда не справляла новогодье, — дед умер на рождество, — но теперь не удержалась, писала, что ждет не дождется и готовит встречу ему. Милое место, самое милое на всем свете — Тарханы!
Матвей нахлестывает и нахлестывает коней, дядька Андрей перестал дремать, то и дело оборачивает к барину взволнованное радостью лицо: скоро, мол, уже, мол, вот оно, наше-то! И кони тянут и тянут изо всех сил, будто тоже почуяв дом.
До самого Тамбова все еще преследовали его Петербург и Москва, все, что было оставлено вдруг и брошено, почти с отвращением. В Тамбове еще просидел полночи за картами, пил, накурился до одури, но уж это было последнее, последняя дань оставленному. Под утро, с ясной вдруг, прозрачной головой, на крыльце и морозе, еще готов был кинуться назад, закричать лошадей, — так встала перед глазами Варя, ударило — душа перевернулась. Вскочил бы, летел, велел гнать что есть мочи. Варенька!.. Но где там Варенька! Варвара Александровна, чужая жена. У русской женщины вечный удел — любить одного, а замуж за другого идти. Что за покорность, что за рабская вечно потупленность и неуважение собственного страдания. Отдаваться с отвращением, с мыслью о другом мужчине, и не случайно, не однажды, но из года в год, исполняя долг… Зачем было Пушкину воспеть это, символ лжи возводить в идеал?
Но бог с ней! Прочь все! Забыть, оторвать от сердца. Вареньку, «Маскарад», стихи, цензурный комитет, Полину, пьяные последние дни с Монго, экономические идеализмы Севы Раевского, которые, может, хороши для Европы, но несбыточны среди российского варварства; сплетни, безделье, полковые смотры, Царское Село, Софийскую казарму! И разговоры литераторов все об одном и том же, о Жуковском и Пушкине, о Байроне и Бенкендорфе. Драки журнальные, розовые книжечки «Современника», одни за честь почитают у Краевского напечататься, иные у Сенковского, а литература все в обмороке лежит. Что да где сказал Уваров, что да где сказал Нессельроде, да разрешат ли «Ревизора», да разрешат ли «Маскарад»? Понесла еще нелегкая Мишеля Лермонтова в драматурги. Пусть бы уж Кукольником и обходились. Обходятся ведь сколько лет!.. Едешь по России, и стыд берет за всю нашу болтовню по домам и университетским коридорам, в кафе Вольфа и на энгельгардтовских балах. Слава богу, еще никому, кроме друзей, не ведом поэт Лермонтов, стыдно нынче на Руси быть поэтом.
Дорога шла теперь под уклон, Малиновый лес остался позади, открывались вокруг поля — близкие и дальние, белые, синие, и всякое место узнавалось, поднималось из памяти. Березы, сосны, старая ветла на развилке будто выбегали навстречу с криком: «Это я! Видишь, это я! Узнаешь меня?» Будто пахнуло издали кизяком и соломенным дымом. «Вновь я посетил тот уголок земли… Вновь я посетил…» Эта пушкинская строчка зазвучала давно, еще до Чембара, была словно фон, музыка. «Вновь я посетил…»
У Вари лицо измученное, глаза полны слез, оттого огромные, боялась, чтобы он не прикоснулся, а он не мог слышать, как шуршит и пахнет темно-сиреневое платье, видеть бархотку вкруг шеи, печальные плечи, печальные и такие знакомые руки со знакомыми кольцами.
«Вновь я посетил…» Директор императорских театров Гедеонов разговаривал с ними (они пришли вместе с Раевским) добродушно, даже изволил шутить, в огромном и великолепном кабинете играло зимнее солнце. Снявши свои французские очки в золотой оправе, Гедеонов поигрывал ими, прищуривал глаза, выхоленные бакенбарды лежали на тугом вороте голландской белизны. Он все говорил, как приятно видеть автором талантливой пьесы гвардейского двадцатидвухлетнего офицера. И Лермонтов потупливался польщенно — ах, ложь!
«Вновь я посетил…» Крыльцо, бабушка в нарядном кружевном чепце, высыпет дворня, мужики будут стоять по деревне, снявши шапки и кланяясь, а мальчишки побегут за санями до усадьбы. Неужто семь лет прошло? Сердце частит, и жарко на морозе от башлыка и тулупа.
— Вона, барин, вона! — Андрей тычет рукавицей вправо — там показался из низины крест новой тарханской церкви, — когда-то тут стояла церковь старая, деревянная, и они с Екимом Шан-Гиреем мальчишками лазали по ней, замирая от страха.
А в другой, домашней церкви, на усадьбе (она почти у дома), в раскрытую дверь видны ярко горящие и колеблемые ветром свечи, теплые, красные огни лампад, серебро окладов — будто пахнуло восковым теплом, ладаном, книжною плесенью, страхом детским и детской, не то пасхальною, не то рождественскою радостью…
А Матвей уже откидывается спиною, натягивая вожжи, и дико вертит гривастой головой Черкес, — сани, останавливаясь, заносятся на сторону и подкатывают к крыльцу, полному народа. Лермонтов сам торопливо отстегнул полость, отбросил перину и собачье одеяло, которые бабушка выслала ему навстречу в Чембар, и, оправляя саблю, молодо звеня шпорами, не чувствуя занемевших ног, выпрыгнул из саней — видел уже во всей толпе одно счастливое, залитое слезами лицо бабушки.
Что за наслаждение было ходить по этому дому в штатских панталонах, свободной рубахе, чисто пахнущей морозом, в теплом полухалате, сидеть в старом кресле пол окном с трубкой и книгой, глядеть на занесенный снегом сад, на пруды, где скользят на ледянках мальчишки. Подолгу пить с бабушкой чаи — со сливками, свежими пирогами, вареньем пяти сортов, — сам удивлялся, как много ел. Обедать по полдня с гостившими Шан-Гиреями. С утра топились, трещали и гудели печи, дом тепло потрескивал, дрова, сложенные у печей, оттаивали с мороза и пахли сильно и свежо. Перебирать и разглядывать свято хранимые бабушкой свои детские рисунки, детские книжки, лепленные из воска фигурки — кое-что, право, недурно, а вдруг вышел бы из него живописец, если б переменить саблю на кисти, а Софийскую казарму на Флоренцию? В столовой его портрет четырех лет: дитя в сорочке, с коротенькими волосами, круглое, похожее на девочку, — почему-то с грифелем и бумажным свитком в пухлых руках — восторженные потомки, собиратели скажут когда-нибудь, что Мишель Лермонтов сочинял еще в пеленках. Смешно, еще мальчиком здесь, в Тарханах, придумывал он драмы из испанской жизни. «Место действия — Парма. Дон Альварец — немного бедный, но гордый дворянин».
Он останавливался в прежней матушкиной спальне, гляделся в овальное чистое венецианское зеркало на стене, в которое и она гляделась когда-то, и казалось, помнит что-то, хотя вряд ли мог помнить.
Изредка садился к старому фортепьяно, тоже матушкиному, играл что-нибудь недлинное, тихое, и припоминалось ему уже отчетливое: как он играет мальчиком на скрипке, а тетушка Мария Акимовна аккомпанирует; окна отворены, лето, зеленый сад полон птичьего крика — там вечно тьма пеночек, соловьев, скворцов, — а на прудах орут лягушки. Томительный звук скрипки…
Или велеть подать себе Араба, одеться тепло, и — любимой дорогой через дамбу, потом в горку, скакать по морозу до Апалихи, к Шан-Гиреям, или просто полем — только снега вокруг великие, ни свернуть, ни оступиться, Араб вязнет по брюхо — не летом.
Еще не работать, только есть и спать, собирать себя. Но уже мелькают в мозгу неотвязно и складываются слова, когда скачешь среди снегов или бессмысленно глядишь в огонь камина. Еще немного — душа наполнена и согрета, вдруг обмирает в предчувствии, словно от вида дворовой вдовушки, миниатюрной темноглазой Устиньки — как? а Варвара Александровна Бахметьева, урожденная Лопухина?..
Он думал о новой своей драме. «Два брата». Изобразить две родные души, людей одного мира и поколения, как двух противоположных и резких типов. Разве, наблюдая, например, себя, не видит он сразу двух разных людей, разных настолько, что невозможно, кажется, никак слить в одно: одного чистого и пылкого, второго — отравленного презрением к жизни. Да и двух ли только?.. Может быть, когда-то, когда он станет писать по-настоящему, удастся нарисовать один образ, наделенный чертами самыми несовместимыми. Когда? И еще нужно сказать о ней, со всей беспощадностью — о том, как продают любовь, как мешок денег всегда оказывается… Да, мешок денег, миллион, положение в обществе, вот и все. Это так ясно и просто, и не нужно обманывать себя соображениями сложными и возвышенными. …Да и сам-то он, сам? Разве не отступил, не устал, не усомнился вдруг?..
А еще говорят, зачем он, такой молодой, пишет все о грустном и мрачном, будто в жизни мало прекрасного? Будто Россия не великая страна, процветающая год от году под отеческой сенью государевой заботы. Будто не нас трепещет Европа. Будто… Но отчего-то Булгарин все в чести, а Пушкин нет. Литераторы — сословие неблагонадежных.
Как это у Байрона? «Мне прежде снился сон прекрасный, виденье дивной красоты… Действительность, ты речью властной разогнала мои мечты…»
Вот и все. Нет больше солнечных зимних дней, нет умиления, шуток над собою за обедом, нет отдыха…
— Мишенька, ты что в потемках? Тебе нездоровится? Я велю Андрею принести свечи?..
— Спасибо, бабушка, я так…
Это уж всегда: перед работою приходит тяжесть и мизантропия, он делается мрачен, холоден.
Лишь две или три ночи спал как убитый и засыпал, едва прикоснувшись к подушке, но вот снова пришла бодрость, зажигание свечи среди ночи, чтение, попытка уснуть. Он клал с собой на столик портсигар и курил ночью; нервы опять расстроились, снились мучительные сны.
— А помнишь, Мишенька, как однажды играл с ребятами в войну на кургане и расшибся? Да ты что ж не ешь ничего, или нездоровится?
— Спасибо, сыт. А что, бабушка, Лукерья жива?
— Ну как не жива, жива. Да она приходила, как ты приехал…
— Что ж ты ее не пустила? Ах, жалко…
Лукерья была мамушка его, кормилица, он любил ее в детстве, бегал к ней на деревню, помнилось: Лукерья — что-то теплое всегда, чистое, молодое.
Вдруг собрался, пошел к ней. День был в самом начале. Миновал запруду, шагал деревней. Зима все скрашивала, но даже под снегом избы выглядели грязными развалинами. Мазаные, небеленые, под соломой. Народу не видно, только на пруду ребячьи голоса да брех собаки. А вон в том доме — он знал — живет Егор Леонтьев, старый солдат, выслуживший весь срок, 25 лет, под Бородином ранен, до Парижа дошагал.
Он не застал Лукерьи дома, постоял на пороге, огляделся и вышел. Девочка лет двенадцати, было онемевшая от робости, хотела бежать за матерью, он сказал, не надо, в другой раз зайдет. В горнице было чисто, бедно, пахло знакомым теплом, девочка была похожа на Лукерью. Он взглянул пристально и ревниво, вышел снова на свет и мороз и быстро зашагал назад, наклонив голову.
Вернулся домой, разобрал на столе книги, начатые письма, достал новенькое английское стальное перо. Надо начинать. Хоть что-нибудь пока, чтобы рука разошлась. Что-нибудь. Не «Демона», нет, что ж опять «Демона», что-нибудь.
И стал пока быстро, почти набело, сочинять «Сашку»: «Она звалась Варюшею, но я желал бы ей другое дать названье: скажу ль при этом имени, друзья, в груди моей шипит воспоминанье, как под ногой прижатая змея…»
«Два брата» стали писаться вдруг, и тоже быстро, сцена за сценой. Вставал теперь рано, затемно, и день пролетал незаметно. Почти не выходил, бабушка, как привыкла всю жизнь, беспокоилась о его здоровье, говорила, эдак он наживет себе малокровие и мигрень. Любопытно: начав писать снова о свете, о людях, измученных не внешними, но собственными страданиями, он впервые в жизни испытал неловкость. Отчего? Опять Тарханы? Зимний сад, который глядит в окно, пруды, черные избы, нищие, тупые мужики, екатерининская осанка и грозный голос бабушки, распекающей дворню, поля, снег? Это была жизнь, мало похожая на ту, что он писал. Действительность груба и ужасна, искусство ложно и трусливо изяществом. В «Сашке», например, писал он красивые слова о Москве, а тут же, в письме Раевскому, не мог удержаться, чтобы не обложить матушку-Москву матерно. И слова письма как бы были жизнью, а стихи принадлежали искусству.
Ежели дать ход этой мысли, следует оставить, бросить, не писать никогда. Или следовать Белинскому, натурализму, французскому исследовательскому направлению, рационализму, идти от головы, не от чувства. Но он еще с университета сторонился новой, рождающейся в обществе группы образованных дьячковых да фершальских детей, с их «направлениями», и вообще всю жизнь больше глядел в себя, чем по сторонам. Но и не за Жуковским же идти, Жуковский теперь смешон. Следовать слепо Байрону? Пушкину? Нет, он не Байрон и не Пушкин. «Я только еще начинаюсь».
И сколько можно о России? Зачем? Пора не удивляться.
Одна грустная жалость. Могучая и нелепая, медведь на цепи, что пляшет и становится кверху задом на потеху всякому дураку. Ну-ну, а Наполеона не мы ли повернули? Были же люди. Может, нужно просто напоминать им почаще о собственной силе?.. Нет, пока будут грязь и невежество, пока можно человека продавать и покупать, как скотину…
По вечерам, отдыхая, он стал читать Карамзина. Вот! И история-то наша темна и дика! Дика, смутна, нелепа. Лишь звездами на беспросветном небе сияли в этой ночи личности необыкновенные.
Как-то в воскресенье арсеньевские мужики затеяли на пруду «кулачки». Дядька Андрей пришел звать барина на потеху, Лермонтов оделся теплее, пошел смотреть.
На большом пруду, присыпанном снегом, а где обдутом ветром до чистого льда, собрались друг против друга две большие партии парней и молодых мужиков. Дралась одна сторона улицы против другой. День стоял без солнца, но светлый, и хоть послеобеденное время, но еще не темнело. Бабы и старики выстроились на круче тоже с обеих сторон и уже выкрикивали задорные слова, шумели. Мальчишки вились около той и этой толпы, как шмели. Девочки поменьше стояли с санками, но кататься уже не смели.
Приход молодого барина еще запалил мужиков. Откланявшись ему, откричав смелыми ради игры, бойкими голосами — мол, будь нам, барин, судьей, мол, глянь, Ивашка-то у нас каков боец (а Ивашка стоял в одной рубахе, без шапки, засучив рукава, а молодая русая борода в кольцо вьется, а грудь нараспашку, и крестик нательный наружу выбился), — откричавшись, стали разбираться вроде бы в две шеренги, та сторона и эта. Кричали, подтравливая друг друга.
— Чумазые! Мордва косоротая!
— Федька, в рот тебе редька!
— Ягор, а Ягор!
— Чаво?
— Да ничаво, иди в рыло дам!
Мальчишки вылетели наперед, задирая друг друга.
В первой, ближней толпе выделялся ростом, черной бородой и спокойной, мрачноватой повадкой молодой мужик с красным платком на шее. Взгляд умный и недобрый. Удалой, раздетый Ивашка как раз стал напротив с той стороны, и по взглядам, которыми мужики обменялись, а также по взглядам остальных бойцов на этих двоих можно было понять: они двое и начнут, и им, может, есть из-за чего биться, кроме простой пробы силы и удали.
— Это чей же? — спросил Лермонтов про высокого, уже зажигаясь интересом к нему, к его особенности и красному франтоватому платку.
Рядом с Лермонтовым стояли теперь, кроме дядьки Андрея, управляющий Степан Иванович и дед Дмитрий, отец конюха. Дед был высок, худ, в длинном рваном тулупе и горбился, чтобы сделаться пониже рядом с невысоким коренастым барином. Он все говорил, что нешто, мол, теперь бои, нешто есть теперь такие бойцы, как прежде. И Лермонтов понимал, что дед имеет в виду плохие харчи и тяжелую работу, с которой особенно не заиграешь. Дед-то ответил и про высокого:
— Блинов Карпушка, Ильича Блинова сын, черт мужик, прости господь на дурном слове.
Пока говорили, там уже разобрались, и уже один мальчишка сшиб другого, а на первого налетели еще, и выступил кто-то повыше и дал меньшому подзатыльник, и крики достигли самой большой высоты.
— Да ты выходи, выходи!
— Мало́го-то, мало́го не тронь, пес!
— Ягор, да ты где ж?
Вышли двое парней, один тут же сшиб с ног другого, и вот повалили, смешались, засопели, туго зазвучали удары, полетели в стороны шапки, и мальчишки повыскакивали из кучи, как выстреленные. Кудрявого Ивашку сбили тут же, или сам он поскользнулся, а когда поднялся, рубаха на нем уже треснула и рот окровел. Карпушка Блинов бил особым жестоким ударом сверху по головам, не подпуская к себе кучу, выбирая по одному. Молодецкий бой на глазах переходил в драку, и офицерскому, привычному к боевому учению глазу видно было, что мужики бьются неумело, нелепо, мешая своих с чужими.
Блинов прошел через толпу к Ивашке, ближние к ним бойцы как бы замерли на миг и отступили, те что-то сказали друг другу, словно бы Блинов спрашивал: бить или не бить? Ивашка отер кровавый рот и засмеялся. Тогда Блинов тычком ударил его в грудь. Ивашка отшатнулся, но устоял. Блинов ударил еще, Ивашка, чтобы удержаться, схватил его за красный платок одной рукой, а другой дал наотмашь в ухо. И оба упали.
— Через бабу петушатся-ти, — сказал дед Дмитрий, — побьет он Ивашку-то.
А мужики уже снова были на ногах и намахивали один другого по скулам.
«Вот так было и сто, и двести лет назад, — думал Лермонтов. — Еще Иван Васильевич Грозный любил, кажется, этакую потеху…» Было странное чувство понимания происходящего, своей близости к этому празднику, и вместе с тем он глядел на мужиков и их драку, как иностранец. Как иностранец? Но отчего ж так все понимал в этом Карпушке Блинове, знал, о чем говорит его умный и тяжелый взгляд?
— Из-за какой же бабы? — спросил, продолжая смотреть.
— Да вон Улька Синицыных, анчутка ее раздери, — отвечал дед, — взамуж Блиновы-то взяли в ту зиму, да нешто теперя бабы?
«Вон что», — подумал Лермонтов и представил себе, что Карпушка Блинов, может быть, чувствует теперь то же самое, что и он сам. Но Карпушке проще, он вон вышел на «кулачки», да и дело с концом.
Бой, то затихая, то разгораясь, продолжался еще с час, до сумерек. Победили те, с чьей стороны стоял Блинов. Побитый Ивашка сидел на льду и прикладывал пригоршнями снег к лицу. Сам Карпушка стоял в толпе победителей, один мальчишка принес ему почтительно шапку, другой — затоптанный платок. Карпушка глядел так же угрюмо, как прежде, без радости победы.
Лермонтов приказал Степану Ивановичу выставить мужикам два ведра водки и пошел назад в усадьбу. Может, бросить, думал дорогой, светскую драму да написать драму из народной жизни — вон он каков, Карпушка-то Блинов!
Вечером к бабушке приехали гости из Чембара, Лермонтов вышел к ним лишь на полчаса, молчал, потом сказал колкость щеголеватому заседателю суда, приставшему с расспросами о Петербурге, и, извинившись, раскланявшись холодно, вышел. Остаток вечера просидел в доме ключника с мужиками, слушая подвыпившего деда Дмитрия, наслаждаясь одним тем, как говорят мужики, и думая, что напрасно в свете болтают по-французски, и без того простой народ имеет свой язык. Бой на пруду не шел из головы. А можно написать не просто народную драму, но историческую. Что, если переодеть мужиков в старинные кафтаны и сапоги? Или не драму? Вот еще забота, анчутка ее раздери, как скажет дед Дмитрий.
Вернувшись к себе, сел за стол и писал третье действие «Двух братьев», пока свечи не выгорели, почти всю ночь.
Он работал теперь много и весело. Стояли опять солнечные морозные дни, но он не ходил дальше крыльца. То продолжал драму, то, развлекаясь, «Сашку», начал «Тамбовскую казначейшу», в одно утро, почти набело, записал «Умирающего гладиатора», который складывался накануне вечером. Хотелось поскорее освободиться ото всего, что уже созрело, просилось наружу, скорее все старое закончить или бросить и идти дальше, делать новое. Вернуться к «Демону», и, может, теперь станет он таким, как следует ему быть. А еще проза, еще новая драма, еще, дай бог, съездим на Кавказ…
Он почти забыл о Петербурге, о службе, превратился в настоящего литератора. Забыл о «Маскараде» (что будет, то и будет), о Варе. Только когда Матвей приводил почту, сразу ворох писем, книг и газет (бабушка абонировала «Губернские ведомости» и «Библиотеку для чтения»), он нетерпеливо взрезал конверты и читал письма, весело представляя себе друзей, их обычную жизнь. Он представлял, как вернется, как будет хвастать написанным. Писали Шеншин, Монго, умные московские кузины, пришло пьяное, удалое и непристойное письмо из полка (видно, что писали, собаки, зело накачавшись). Молчал только Сева Раевский. Не хотел, наверное, огорчать. Погубят они «Маскарад», погубят, тут и думать нечего, не видеть вам, молодой талантливый автор, своей афиши, не слышать, как плещет в восторге театр, как оскаливаются в поздравительных улыбках те, кто хотел бы нахлестать вам по щекам за оскорбительный отзыв об обществе. Погубят… Ну да не совсем! Как будто не рыщет испокон века весь молодой Петербург, а Москва и подавно, в поисках то одной, то другой рукописи, запрещенной цензурой. Будто не ходят по рукам то Пушкин, то Грибоедов, то какой-нибудь отчаявшийся поляк, то британец, посетивший Россию и издавший свои ошеломленные записки. Как-нибудь, как-нибудь…
Настроение было легкое и как бы восторженное. Или дни такие стояли? Солнце било в окна, снег сверкал, идиллически спускался к прудам белый сад, а там, на горе, стояли избы под снежными шапками; снегири прилетали на балкон клевать брошенное им просо. Выйдешь на крыльцо, и глаза ломит от света, а воздух как ледяной пунш, и небо над полями просторно и лазурно, словно над морем.
Сбегая как-то по лестнице, насвистывая марш из «Двух слепых» и повторяя про себя с удовольствием только что написанную фразу, он встретил на ступеньках темноглазую Устиньку с половою дорожкой в руках. Потупилась, не успела дать барину дорогу. Стоя ступенькой выше, он взял ее за плечо, не пуская. Сейчас зардеется:. «Грех, барин». И не успел подумать, как Устинька, оглянувшись, прошептала:
— Ох, грех, барин.
— Ну что за грех, вон ты какая славная! — Притянул ее к себе и, не целуя, обнял. Она была приятно-тонка и податлива, только вот дурно пахло от намасленной головы и еще чем-то простым и пресным.
Внизу стукнула дверь, Устинька стремглав бросилась вверх, а он простучал по ступенькам вниз, продолжая насвистывать. Оправа, оправа не та, подумал он, наряди этакую Устиньку в лучшее платье да облей наших красавиц обливаньями и веди на любой бал, в любую гостиную. Только чтоб молчала.
За обедом он особенно стал весел, нарисовал карикатуру на Павла Петровича (Шан-Гиреи обедали проездом в Чембар) и обещал, что непременно выведет его, ермоловца, в какой-нибудь кавказской повести. «Вот стану писать, как Марлинский».
Бабушка заговорила, как лучше составить доверенность, — в Кропотове делили отцовскую усадьбу. Лермонтов сам не хотел ехать, это было тяжело, и решали, на кого написать поручительную бумагу, — но и этот разговор не переменил его настроения, хотя память об отце, как и о матери, всякий раз возвращала к одиночеству и печали. Он торопился подняться опять к себе в мезонин, утонуть в разбросанных бумагах.
Он отпустил на волю четверых своих мужиков, записанных за ним по ревизии. А вышло так. Он зашел зачем-то к Степану Ивановичу, тот сидел за столом, а мужики, двое, братья Лаврентьевы, Кирилл и Антон, стояли у дверей, снявши шапки. Видно, только пришли: еще пахло от них морозом, и еще овчиной и луком. Кирилл был постарше и пониже ростом, разговор вел он, брат кивал только да поддакивал. Степан Иванович читал через очки прошения на толстой синей бумаге. Завидев Лермонтова, мужики сразу обернулись к нему и поклонились низко, в пояс, — уже по этому поклону Лермонтов понял: они с просьбой.
— Барин, миленький, — начал сразу Кирилл, но тоном не слезливым, а скорее суровым, — помоги ты нам, ради Христа.
— Вольную вот надумали, Михаил Юрьич, — сказал Степан Иванович, поднявшийся теперь от стола и как бы желая уступить барину свое место.
— Ну так пусть, — легко сказал Лермонтов, — пожалуйста. Только ведь земли у меня нет, сами знаете. Земля бабушкина.
— Знаем, барин, как не знаем, — сказал Кирилл все так же строго и глядя в сторону, — да ведь не одним хлебопашеством люди живы.
Степан Иванович протянул синюю бумагу, но Лермонтов не взял.
— Вы составьте как надо, я подпишу.
— Барин, миленький, — голос у Кирилла дрогнул на этот раз, — век будем бога молить.
Мужики, видно, не ожидали, что так быстро сладится дело, а молодому барину хотелось выйти скорее, казалось, он давно уже стоит в этой жарко натопленной комнате.
— Я никого держать не буду, — сказал он потом, — кто захочет, отпускайте сразу, Степан Иванович.
И вышел — мужики опять низко поклонились ему в спину.
Когда спустя два часа бабушка с недоумением стала говорить о Лаврентьевых и что еще двое уже принесли прошения тоже, он прервал ее:
— Ты же знаешь, будь моя власть, я бы всех отпустил.
— Мишенька, твои понятия о мужиках идеальные: они ведь от воли только пьют, да ленятся, да безобразничают.
— Пусть делают, что хотят. Мне-то, во всяком случае, зачем они?..
Бабушка засмеялась напряженно, заговорила опять, но он уже не хотел спорить, знал, что напрасно. Послушал из вежливости, чтобы совсем не огорчать ее, и удалился.
Отпуск его кончался, но уезжать не хотелось, надо закончить все, а то в Петербурге не доделать. Даже придумали с бабушкой выхлопотать справку у чембарского лекаря, чтобы побыть еще… Но все равно оставалось мало, и все же тянуло ехать, тянуло.
Как-то шел, задумавшись, по деревне, незаметно оказался на самом краю, у занесенной снегом ограды, — внутри возвышался каменный склеп Арсеньевых. Там похоронен дед, там лежит матушка. Он хотел войти, но снегу было слишком много, не проберешься, и замок висел. Он и без того помнил: когда она умерла, ей было ровно столько, сколько ему теперь. «А житие ей было, — написано там на камне — 21 год, 11 месяцев, 7 дней». И отец умер рано, и она. Как знать, может, и его… привезут когда-нибудь темной осенью или зеленой весной арсеньевские мужики его одинокий гроб издалека и внесут на плечах под вой бабий в эту дверь, запертую сейчас на замок и на четверть заметенную снегом… Он почувствовал внезапно: что-то будет, что-то ждет его скоро и неотвратимо, — он созрел, он готов, и, может быть, никогда больше не увидеть ему живыми глазами оврага, полей, деревни, ясного солнца. «В последний раз передо мною…»
Судьба его уже стояла рядом плечо в плечо — не свернуть. Нет, он не знал, — как можно знать? — но предчувствовал: что-то будет. Он не знал, что через год падет от пули Пушкин, он напишет стихи на его смерть, их прочтет вся Россия, а автора арестуют, и царь пошлет лекаря обследовать его: не помешан ли он? Жизнь взорвется и полетит, словно снаряд. И пять лет спустя он сам выйдет на дуэль с сыном французского посланника из-за женщины, и окажется опять на Кавказе, и уедет, и вернется, и… царь будет ненавидеть его, а царица любить, бог будет спорить о нем с демоном, природа зальется рыданьем над его смертельной раной, и акт смерти перейдет в бессмертную память и жизнь… «21 год, 11 месяцев, 7 дней…» — какая подробность… Он стоял у ограды в снегу и, прищурившись, глядел на дальние, ослепительные под солнцем поля — день опять сиял прекрасный, звонкий, живой свет жег глаза.
Синдром Сушкина
1
— Хорошая, хорошая, — говорила Сушкину докторша, — отличная больница, спасибо скажете.
— Спасибо, спасибо, — отвечал Сушкин, торопясь, сквозь кашель, а сам — лицо вбок, чтобы не увидели его внезапных слез, наливших полные глаза: так жаль стало себя — вот и больница.
Восемь лет назад, в больнице, умерла у Сушкина жена: еще раньше, в Первой Градской, любимый дядька Андрей, бывший Сушкину в жизни вместо отца, и в больнице же, совсем давно, вскоре после войны, в Сокольниках, умерла четырехлетняя дочка. Вот тебе и больница.
Докторша «неотложки» была молодая, высокого роста, не спешила, выслушивала долго, наклоняя близко к лицу Сушкина огромную, нарядную голову, душистую, как сад. А паренек-санитар, внесший следом оцинкованный чемодан с лекарствами, тоже не нервничал, разглядывал простодушно комнату Сушкина.
И у Сушкина явилось чувство, что они неизвестные, кто их знает откуда, люди: слишком чистые на них халаты, вошли без одежды с улицы, будто не из февральского свинцового дня, а из лета. Может, занедужив, в температуре и кашле, Сушкин проспал лишнее, опоздал на какие-то перемены, случившиеся без него?
Так у Сушкина образовалось сразу несколько объектов внимания, задавших непривычную работу мозгу, и он волновался, внутренне необычайно суетился, отчего еще горячее мерцало его сердце под прохладными пальцами врачихи. Будто сквозь воду, увеличенно и зыбко, видел Сушкин застывшие витки волос под белейшей медицинской шапочкой.
Он стыдился своей сильно нечистой нижней рубахи, которую держал обеими руками собранной под горлом, и черных, как пуговицы от пальто, родимых пятен на теле, заметно растущих к старости, и самого тела, его желтой восковой кожи. А также провалившегося живота, будто он голодный какой.
Он стеснялся перед врачихой, это было одно.
Второе, он боялся, не выпала бы из уха головка слухового аппарата — тоже не больно красиво будет.
В-третьих, его жарко волновало предписание: неужели в больницу? Выходит, худо дело-то? Он удерживал клокочущий кашель и не мог удержать. Неужели помирать?
Еще стыдился Сушкин перед разглядывающим пареньком затрапезного своего жилища. Например, годами готовил Сушкин себе на подоконнике, на электроплитке еду, и, конечно, там, где окно, находилось самое скопление грязи, масляных пятен. Захватанная пачка соли, сковорода с пристылым сегментом яичницы.
Лезли в глаза старые, в засохшей глине, обрезанные под вид ботинок сапоги Сушкина у дверей, на газете, а под кроватью — он вспомнил — осталась с ночи бутылка молочная с мочой.
Сороковаттка с потолка светила еле-еле, а день глядел в окно такой серый, что они вместе, свет дня и свет человечий, насилу озаряли одинокое сушкинское жилье.
В этой комнате, может быть, год, а то и больше, не бывало никаких людей, даже врачей, потому что по своей застенчивости Сушкин никогда не беспокоил поликлинику вызовами на дом, а сам ходил туда, в любую погоду.
Вторым живым существом в комнате был Лямочка, щегол, старый, пооблезший и чем-то — поднятыми плечами, малым ростом — похожий на Сушкина. Клетка его, прибитая там же, на окне, у форточки, тоже представляла собой не самое чистое место на свете, и Лямочка темнел в ней неподвижным, недовольным, мелким чучелом.
Мимоходом пришлось Сушкину подумать: если впрямь в больницу, то не забыть фортку настежь, пусть Лямочка как хочет, не до него теперь. Хотя на воле клеточной птице не прожить, не суметь, чего уж!..
Сушкина бил кашель, в горле сипело — он никак не мог лежать долго плашмя на спине. Врачиха подняла его, стала слушать со спины, и Сушкин увидел, что паренек-санитар разглядывает теперь на стене солдата. Сушкин даже подался вперед — объяснить — и был удержан врачихой за плечо, оставлен на месте — такая чуткая попалась врачиха.
Солдат — это была картинка-фотография фронтовых лет, уже помутневшая и белесая, выдранная когда-то из журнала. Просто идет солдат, и все. Будто в тумане, будто на фоне пушки ли, самоходки, идет прямо на нас, по обочине, плечи покатые, устал, сам невзрачный, маленький, но в лице и в глазах — радость. И по этому взгляду, и по иным неуловимым признакам любому фронтовику легко угадать, что это снято не иначе как в конце, — может, в самом сорок пятом, и идет солдат туда, и дело весною, и земля вокруг, и туман — уже не наши.
Картинку эту много лет назад, когда Сушкин еще не вышел на пенсию, принес как-то утром в гараж Николай Летунов, слесарь. Прямо тут, на глазах, выдрал из журнала и — Сушкину: «Не ты ли, дядя Корней?.. Гля, мужики, Сушкин топает! Похож!»
Это был не Сушкин, но в самом деле похож, и с течением времени Сушкин привык думать, что это вроде бы он сам. Мало того, с годами сходство их увеличивалось, как сходство между мужем и женой, и у Сушкина стали совсем такие же покатые, тяжелые плечи, как у солдата.
Война забывалась и забывалась; раньше она сверкала как море и все пространство памяти было занято ею. Потом море устало блестеть. Потом надвинулась на него суша. Острова разрастались. Казалось, все свежо, все помнится по-прежнему, но это было не так. Еще сверкали по отдельности озера, которым никогда не померкнуть совсем, но и на них нанесло мусору ветром, и не та была глубина и не та чистота.
Но когда глядишь на солдата — за что и берег его Сушкин, — вскипает в памяти истинное, чего не рассказать лукавыми словами, неожиданное, как кинохроника: запах дымчатых весенних чужих лесов, чужие туманы над чужими прудами и черепичными крышами, лязг колонн на просыхающих шоссе. Без солдата Сушкин забыл бы себя на войне или не так бы помнил, неясно.
Сушкин подумал: взять с собой, пускай с ним поедет солдат в больницу, но потом, в суматохе, не вспомнил. Докторша пошла вниз с четвертого этажа, без лифта (опять волновался Сушкин), звонить из автомата насчет больницы, а паренек в это время делал Сушкину укол.
И этот укол вновь произвел на Сушкина огромнее, и требующее бурного осмысления впечатление. Паренек сильными горячими руками так уверенно повернул Сушкина, обнажил от рубахи предплечье, так крепко протер место для укола, что Сушкин вдруг узнал, вспомнил что-то, задрожав почти. Свежий малый запах спирта от ватки словно опьянил Сушкина. Паренек запросто, ударом, как-то кинув с маху, тяжестью шприца всадил иглу, и Сушкин, ощущая моментальную горячую наркотическую вспышку тепла во всех конечностях и в самом сердце, вместе с тем понял: вот, началась больница. Он понял, что уходит под чужую, не спрашивающую ни о чем волю. И это было старое, знакомое Сушкину по всей его прежней, допенсионной жизни чувство подчинения, о котором он успел позабыть. А ведь то была его истинная, живая жизнь: детство, школа, ФЗУ, мастерские, армия, госпитали, война, другие мастерские и гаражи, где он работал по своему слесарному делу, всякие собрания и прочее. В том числе и жизнь семейная. Все эти истинные жизни подчинялись распорядку, который не Сушкиным ставился, — Сушкин лишь входил в него и подчинялся. Даже с женою было так: она держала верх, а Сушкин по мягкости исполнял, что велено.
Теперь ощутить наново подчинение распорядку было так нежданно-негаданно, и так волновало это ощущение Сушкина! Это куда же его? Это как же?
Паренек помогал Сушкину одеться, не разрешая самому ни руками мотать, ни наклоняться. Сушкин волновался, говорил, потел, обессилевал. Пришла (надо же!) другая машина, еще врачиха, тоже молодая, а за нею санитары. И смутили Сушкина вконец, не позволив самому идти лестницей, уложив на носилки, которые еле разворачивали потом в тесных лестничных клетках блочной пятиэтажки.
Первый раз в жизни увидел Сушкин лестничные потолки — до того сроду внимания не обращал. И они оказались в черных круглых значках копоти. Что это? — Сушкин не понял. В центре каждого пятна, прилипнув, висела обгорелая спичка. Черные звезды по белому небу. Вот и на втором этаже. И на первом. Должно быть, мальчишки баловались, пуляли спичками в потолок, но Сушкин никогда не видывал этой забавы и ничего сейчас не понимал: что это? Почему спички на потолке?
И снова ощущение, что он чего-то не знает, пропустил в окружающем мире, встревожило и испугало Сушкина.
Во дворе дети стояли вокруг машины «скорой помощи», старухи. Серый небосклон ослепил лежащего навзничь Сушкина таящимся за тучами светом, и холодные не то капли, не то снежины упали на горячее лицо.
Парни-санитары опять-таки были не злые, молодые, громкоголосые; опять слишком белые, как казалось Сушкину, сидели на них халаты поверх шинелей, а они их белизну не берегли, — парни только не обращали внимания на Сушкина, как если бы они несли неживое, куль или носилки были пустые. Но Сушкин все время испытывал стыд, что его несут, и благодарную любовь к санитарам. Он даже не соображал: по-русски ли они говорят?
Потом, в машине, пахнущей холодом полевого, палаточного госпиталя, Сушкин все волновался большими детскими волнениями насчет каждой ерунды: удобно ли, например, парню, сидящему у него в головах?
В незамазанной верхней части окон машины неслись вершины черных деревьев, верхние этажи домов, — кажется, и их Сушкин никогда такими не видел, в таком положении. И оттого город походил на сновидение, на город без своего низа, без людей, точно залитый наводнением. И по нему один Сушкин, в окружении неведомых ему ангелов, летит головой вперед, на спине.
Приехали, и — странно, не город был, а парк. Снег лежит, с черных сучьев каплет, и среди природы горят средь бела дня желтым светом окна серых кирпичных корпусов.
Куда несли, куда вели потом, подхватив крепко под мышки и нахлобучив на глаза шапку, Сушкин не понимал, покорялся. Аппарат выпал из уха, и поправить Сушкин его не мог. «Больница, — панически думал Сушкин, — не выйти мне отсюда», а сам суеверно любил уже эту больницу, хвалил ее себе, улыбался на все стороны.
Только напоследок вспомнил Сушкин про Лямочку, друга-щегла: его не отказался взять, спасибо ему, вместе с клеткой, тот паренек, что делал Сушкину укол.
Вспомнив Лямочку, Сушкин безудержно, не желая того и не похоже на себя, заплакал. И от стыда за эти слезы расстроился совсем. Конечно, чего уж сладкого: в больницу?..
2
В шесть утра, еще затемно, входила сестра, включала верхний яркий свет и раздавала градусники — холодные, с натянутыми на них плотно кусочками красной резиновой трубки, чтоб не бились (Сушкин встречал сестру неизменно счастливой улыбкой).
А в темном окне напротив, в хирургическом корпусе, тоже загорались окна, и там, как в зеркале, так же ходила из палаты в палату сестра в белой шапочке, рассовывая градусники.
Так начиналось утро.
Но для Сушкина оно наступало еще раньше. Он то и дело просыпался ночью, вдруг — то от бурного яркого сновидения, то от страха или от поражающей ясности в голове. Боль в сердце и боль в душе не давали ему покоя. С первого дня болезни невероятным возбуждением продолжал жить мозг бедного Сушкина, а он к такому не привык, не понимал, что ж это творится?
Миллионы его нервов, словно взбунтовавшийся после столетнего молчания народ, все вместе теперь ожили и стремились к свободе, к действию. Они сбегались на митинги, шли демонстрациями. Их разгоняли, успокаивали, но они, рассыпаясь из одного места, тут же скучивались в другом. Вдруг пели хором, лезли на фонарные столбы. Ночами они не спали, жгли факелы, с любой стороны надо было ждать пожара. Поднимались последние лежебоки и самые старые старики. Они отворяли ставни и включали у себя свет, озаряя темные кладовые и погребеня памяти. Ни с того ни с сего Сушкину мерещились головастики в салтыковских прудах его детства или соседка по прежней квартире Лиза, о которой он мечтал некоторое время после смерти жены. Или вдруг, точно в цветном кино, видел себя Сушкин на огромном стадионе, как он сидит с товарищами-работягами на твердой скамье, среди веселого гула и тесноты, а могучие прожекторы поливают зеленое поле красноватым светом, и по всему бесконечному склону стадионного блюда, по всей немыслимой и живой, как икра, человечьей массе возгораются беспрерывно то тут, то там вспышки спичек, удивительно яркие для такого расстояния, и клубы табачного дыма пластаются над стадионом — сто тысяч мужиков, и все курят!..
Чего только не примерещивалось Сушкину! Тело его стало жить как бы отдельно, не вызывая интереса к себе, отданное докторам, а голова осталась ему, Сушкину, и жила особо. И она распухала с каждой ночью все больше, наполняясь этим незнакомым Сушкину взбудораженным населением, которое просило чего-то, для чего-то показывало Сушкину эти и другие картины.
Единственным спасением было — открыть глаза, вернуться в простой мир палаты, окна, стен, потолка, четырех коек, болезни и больницы. Но в том и дело, что и этот обыденный мир воспринимался теперь Сушкиным как необыкновенный, вызывая бурный интерес, телескопическое преувеличение каждой мелочи, — будто Сушкин сроду не болел, людей не видел, с неба свалился, — и с такой чувствительностью и волнением, с подступающим по всякому поводу комком к горлу, что его пробудившимся от спячки нервам еще прибавлялось пищи за день, — масло лилось в огонь.
Первые два дня Сушкин лежал в коридоре, не было в палате места, и здесь он смог охватить целиком все отделение, чего не вышло бы, лежи он прикованно в палате. В коридоре, по мнению Сушкина, было замечательно: тепло, красиво и оживленно, как на магистрали. Мимо спешила, мелькала или ползла больничная жизнь, дневная и ночная, сама не подозревая, какой сонм впечатлений дает она возбужденному и свежему взгляду Сушкина. Сушкин изнемогал от наблюдений, его душили детали. И наполняла любовь.
В коридоре с одной стороны шли окна, а с другой — двери: двери всех палат, и эти двери в палатах были особенные, двустворчатые, но не закрепленные внизу и вверху, а, наоборот, мотающиеся туда-сюда, чтобы можно было открыть толчком хоть внутрь, хоть изнутри. В коридор же глядели двери кабинетов, ординаторской, ванной, туалетов, столовой — вся жизнь на виду! В коридоре по-домашнему стояли диваны, кресла, затеняли окна зеленью цветы в горшках, на столиках блестели шахматы, по стенам висели картины и медицинские плакаты, например: рука накрыла стакан, а сверху надпись: «Не пью!»
Как узнал потом Сушкин, картины и цветы дарили бывшие больные после выздоровления, а кое-какую мебель и цветной телевизор купил заведующий отделением Лев Михайлович на свои деньги, на гонорар за научный труд.
В двух краях коридора стояли «пульты», или «посты», — столы дежурных медсестер с телефонами, ночными лампами, ящиками с лекарствами и самими этими пультами, на которых загоралась красная лампочка, если больной из любой палаты звал сестру, нажимая кнопку у своего изголовья.
Тут же день и ночь кипятились, булькали шприцы в стальных коробках.
Сушкин лежал ночью без сна в теплом и проветренном коридоре, похожем на летящий в космосе аппарат, со звездами в окнах, и видел вдали, в ажуре настольного света, склоненный силуэт милой сестры Зины, читающей книгу, ощущал запах больничной, с примесью дезинфекции, чистоты от наволочки, слышал уютное бульканье, и… слезы сами навертывались на глаза от умиления и чуда пребывания его, Сушкина, в этом замечательном месте, в которое он перенесся будто бы силой сказочного джинна. Он и думать забыл о своем страхе перед больницей, он испытывал теперь один восторг.
Его кормили, лечили, ухаживали, выносили за ним горшки, одевали в чистое. Ему говорили: «Доброе утро, Корней Федорыч!» — и, склоняясь, беря его запястье душистыми пальцами, справлялись, как он себя чувствует… За что? Почему?.. В недрах памяти Сушкин подобного отыскать не мог. Может быть, в младенчестве, воспоминания о котором нет у нас, так жилось ему? И то вряд ли. Так за что ж теперь-то?
Сушкин задремывал блаженно, как дитя, а через час, через полчаса, даже со снотворной таблеткой, просыпался внезапно. Такое снилось, от чего дыбом должны были бы стать на голове волосы, будь они у Сушкина!
Ему снилось, например, что он — муравей с крыльями, лежит на спине, сучит лапками. В глубине розового дурманного, нездешнего цветка — по бразильскому лесному языку называется «Оооооо» (потому что дело происходит не то в Бразилии, не то в Африке) — он сучит, а Лямочка подлетел, — вот он, гигантский Лямочкин птичий глаз, у которого есть выражение, но нет в глубине смысла, нет того контактного зацепа, отзыва, который есть в глазах человека или, скажем, собаки. Словом, подлетел Лямочка, и вот сейчас, еще полмига, и все! — склюнет мураша из цветочного донца, выклюнет из-под бледно-зеленых тычинок, и до свиданья, поезд ушел!.. «Это я, я, я, Лямочка! — вопит каждая лапка и каждый членик. — Я!» Но Лямочке и в голову не может прийти, как он узнает? И он заносит коротким прыгающим толчком смертоносный клюв!..
Ну, скажите, люди добрые, откуда бьют в нас фонтаном эдакие и еще того почище сны?..
Но, проснувшись, Сушкин тут же успокаивался, страх проходил от милой ему обстановки больницы, он брал в руки стакан попить, и холод стекла, влага, запах компота, капли на подбородке — все это была жизнь, живое, защита.
Сушкин думал и думал, передумывал думанное и думал опять. Душа была настороже, — не сам он, равнодушный телом, худеющим и пустым, но его трепещущая душа точно стояла одна в чужой ночи часовым на посту и отзывалась всполохом чувств на каждый шорох и дуновенье. Какая, где, когда была жизнь? Жил ли он? Много это было или мало? И что теперь? Куда?.. Отчего почти все прошедшее пропало, смеркло, как уходящий день, но так горит, гудит огнем, как из сопла, каждый нынешний час?..
3
В том корпусе, напротив, в хирургии, приходили делать уколы, разносили лекарства в бумажных игрушечных кулечках — и здесь сразу разносили. Там катили на подносах еду не встающим, и здешние буфетчицы — молодая Галя и пожилая, важная, с прической, Раиса Петровна, свекровь медсестры Нины, — тоже вкатывали или тащились с бидоном, разливая по стаканам компот.
Сосед по палате, повар Люкин из ресторана, еще молодой, под сорок, смазливый, с соломенными, длинно отросшими волосами, полдня проводил у окна, развлекался и всю палату развлекал, особенно Сушкина, койка которого стояла рядом. «…Во-во, черненькая, чернавка-то, слышь, пол подтирает, во, отклячилась, ух, я б те отклячил годок назад!.. А подвешенный-то, слышь, который за ногу-то, опять жрет, ну, рожа несытая, гибимот, куда в его влазит! Ему вчерась баба, дрянь, полну сумку притаранила, два пакета оставила, сам видел, ворует небось, погань, в магазине работает, как пить, — все сожрал, хромоножина!.. Во, у их обход! В третью палату пошли! Обход, синеры-помидоры, у их обход, а наши не чешутся, кофий молют, интеллигенты щипаные, кровососы!..»
На все речи Люкина, которые лились полный день без передышки, приходилось Сушкину отвечать жалкой улыбкой, будто соглашаясь — сосед все-таки, — но на самом деле существо Сушкина было несогласно с Люкиным, страдало, и сама речь Люкина, матерщина, которой он, разумеется, провожал каждое слово, его голос вызывали у Сушкина отвращение, какого он прежде даже не посмел бы испытать к столь уверенному малому, да еще повару ресторана, да еще болеющему, с синюшными губами. Это было мучение, потому что вообще-то Люкина Сушкин тоже любил, был рад ему, но его речь, его злость — резали как ножом по сердцу.
С Люкиным, по больничным обычаям, конечно, спорили: другой сосед, директор вечерней школы Декабрев; не хуже Люкина любитель поговорить (только он совсем задыхался от разговора), и сменявшиеся постепенно в палате — пенсионер Мокеев, толстяк, или пьяница сантехник Бородкин, или артист Долетаев, или другой пенсионер Дудка, бывший красногвардеец, похожий на колодезного журавля, — этому, впрочем, смена вышла худая.
Но Люкина было не сбить. Или нарочно он так других злил и себя? По нему — весь человеческий мир был грязен, подл, продажен, похотлив, обжорлив, отвратителен, а все красивые слова, разные идеи, любови, патриотизмы и мечты затем только и придумывались, чтобы прикрыть всеобщую грязь.
Читал Люкин газету — и материл и саму газету, и все, что в ней написали. Слушал радио — хихикал, матерился и иной раз метко передразнивал дикторов. Брился — поносил бритву, пил компот — плевал обратно в стакан яблочные семечки, обзывал этот компот хлебаным: уже съели его один раз, потом опять нам дали. По Люкину, все — жулики, воры, обманщики. Врачи — шарлатаны, дрянь, инженеры — дрянь! Все воруют, я сам ворую, все врут, все! Телевизор — дрянь, артисты — дураки, только на другую букву, артистки — известно кто, и вообще жизнь — сволочь.
Раньше, рассказывал со злобой Люкин, он хоть пил да гулял без удержу, брал, как хотел, баб, — хоть лаской, хоть силой, хоть деньгами, брал, жрал, пил, три сотни в морду, сотню в морду, за каюту, на три сотни в рожу тебе! (Черт его знает, про какую-то без конца он повторял каюту, сто раз!) Словом, была жизнь, житуха, жизня, смысл был, смысл, а теперь что? Второй инфаркт, не пьет, не курит, все есть, все обставлено, квартира, только жена дура, дрянь, и сын в нее, дураком растет. А уж про баб что теперь говорить! Если только врачиху уломать, терапевта, чтоб, значит, лежала, а у самой фонендоскоп в ушах, тебя бы слушала.
Молол Люкин, молол и среди ночи, проснувшись, матюгал кого-то, и спасибо, если уйдет в коридор или еще дальше, на лестницу, где курилка, на час-полчаса. Лишь оттуда, бывало, и вернется ублаженный: «Подышал хоть отравушкой! Курють, сукоидолы, все курють!» Но через минуту снова вылавливал что-нибудь в транзисторе или углядывал через окно, и слышалось: «О, опять брешут!» или «О, пришла, скважина!»
Но вот и здесь приближался, не задерживался обход. Это всех больных волнует, но Сушкина волновало особенно. Не из-за себя, не ради вопросов о своей болезни, но как событие, как нечто такое, что подобно прибытию командующего на передовые позиции.
Пробегали прежде, словно ветер перед грозой, сестры: Зина, Нина или другая Нина, или даже сама сестра-хозяйка Лизавета на широко расставленных ногах, в перебинтованных на носу очках, с видом директора: как убрано? что лишнего на тумбочках? Почему Люкин опять варенье держит на подоконнике? Пробегал ветер, валила следом гроза. Входили белой свитой сестры и врачи, и на белом прежде всего бросались в глаза — у Сушкина сквозь пелену восторга — седая шевелюра Льва Михайловича и темные добрые глаза-вишни Сагиды Максудовны, лечащей докторши Сушкина («Закидай Посудовна», — говорил негодяй Люкин).
Момент был торжественный. Лев Михайлович, несмотря на раннюю седину, молодой, бравый, веселый (врачихи и медсестры глядели на него как куры), вел обход быстро, напористо, острил и, кажется, всех хотел заразить своим здоровьем, загаром, свободой своего разговора и каждого жеста. Любой больной, глядя на него, должен был понять, что никаких тайн для такого врача нет, что он сказал, то и есть. Плохо себя чувствуете? Так и должно быть, вы, между прочим, больны, а то б мы вас здесь не держали, лечиться надо, терпеть, потом все будет о’кэй!
Изредка обход возглавлял главврач (а может, и не глав, но профессор — уж точно, Терлецкий. Гад Люкин опять-таки переиначивал: Стервецкий). В таком случае Лев Михайлович держался позади вроде бы на подхвате, но все равно глядели на своего Льва Михайловича, а профессору веры не было. Тем более что профессор, маленький и рыженький, весь в веснушках, как пионер, ничего почти не говорил, только тянул, прицокивая: «Дэ-э…», шевелил безволосыми бровками и опять: «Н-да…»
К тому времени, когда белая свита обступала кровать Сушкина, он находился в такой степени волнения, что не мог воспринимать всего целиком, белые горы громоздились над ним, речь звучала непонятно нерусскою, и в поле зрения оставалась и приковывала к себе одна какая-нибудь деталь: замечательно красивый галстук Льва Михайловича в синих шелковых треугольниках по серому фону, о красным ободочком внутри каждого треугольника, или только нос Льва Михайловича с продолговатыми точеными ноздрями, или просунувшиеся вперед очки Лизаветы, перевязанные на переносице бинтом.
Лев Михайлович быстро, но с напряженным вниманием, дирижируя одной рукой, чтобы все молчали, слушал Сушкина трубкой, в том числе и на шее, где другие не слушают, щупал ноги, печень, заглядывал в глаз и в рот, как коню. Каждое такое действие требовало времени, протяженности для прочувствования и осмысления, а их каскад действовал на Сушкина как карусель, и будто на карусели он мог видеть среди мелькающих фигур лишь одного белого коня или верблюда. А остальное сливалось. Все силы Сушкина уходили на впечатления, испарина покрывала тело, и рубаха прилипала.
Лев Михайлович говорил быстро, много, но лишь кое-что достигало сознания Сушкина, и в его ушах звучало: «Что ж… все волнуем… Кор… Фед… Болезнь… нормаль… Вы меня слы… Нина! Аппарат нала… Не расстра…»
Лев Михайлович присаживался на край кровати, держал Сушкина за запястье, переглядывался и переговаривался с Сагидой Максудовной, которая с участием и лаской, как родная, глядела на Сушкина. А Сушкин изо всех сил, через косноязычие, слезы и слабость хотел им объяснить, что ему хорошо, что он счастлив, что он благодарен им и любит их как лучших людей на свете.
Лев Михайлович не был наивным человеком и, слава богу, навидался стариков и особенно старух, которые нарочно просятся в больницу, — ради бесплатного ухода, еды (пенсия цела остается), но, главное, спасаясь от одиночества старости. И Лев Михайлович сам, случалось, разоблачительно шумел, выявляя таких стариков «зайцев», которых язык не повернется назвать симулянтами, но которые все же занимают место, отвлекают от настоящих больных. Но Сушкин представлял собою безусловно иной случай, и его нарастающее день ото дня волнение, его трепет по каждому поводу или без видимого повода требовали объяснения. И надо признаться, было в этом нечто затрагивающее, непонятно-важное. «Все просто, — думал и говорил вслух Лев Михайлович, одобряя прописанные Сагидой Максудовной успокаивающие и снотворные, — болезнь обострила восприятие, небольшой сдвиг по фазе, прибавьте, Сагида, ему еще седуксенчику, успокоится».
Но странно, проходили дни, Сушкин не успокаивался. Взгляд его, который Люкин поначалу попросту характеризовал «собачьим» и которого теперь побаивался, не понимая, все с большей степенью сияния сиял всякому дареному яблочку, каждому доброму слову.
Лев Михайлович, проведя субботу и воскресенье за городом, под Рузою, на даче одного бывшего пациента, да с прекрасным ужином, с сидением перед настоящим камином (благо не было тяжелых больных), в понедельник утром на обходе вновь увидев трепетную улыбку Сушкина и его полные слез глаза, чуть озадачился: совсем, что ли, психика расстроена, психиатра вызывать? Какие-то слишком сильные чувства потрясают маленького человека. В конце концов, это вредно, ему нужен покой. Ведь сильные чувства, как правило, коротки, а если длительны, то небезопасны.
«Что? Что нас волнует, папаша? — спрашивал Лев Михайлович, интуитивно чувствуя, что психика Сушкина, в общем-то, в порядке, и понимая, что сам Сушкин не сумеет ответить на его вопрос. — Что его волнует, Сагида?»
И проницательная Сагида отвечала: «Все».
4
Ну, например, булочка. Ну, что такое булочка? Плюшка, завитушка, сдоба двенадцатикопеечная, посыпанная сахарной пудрой, что она для нас?.. В прежнее время, как и любой человек, Сушкин съел бы ее, запивая чаем, и не задумался. Но теперь, помимо воли, он полдня держал плюшку перед собой и видел, что это чудо, подлинное, и чем долее глядишь, тем яснее, что чудо. Сушкин не мог бы рассказать, у него не хватило бы слов, но он понимал, что булка полна множественных значений, она имеет протяженность во времени, связь с прошлым и будущим и еще с тысячью других, подобных ей, чудес на свете. Он не мог сказать, но видел ее совершенство, законченность и красоту. Ее поджаристость была одною с одного краю и другою с другого; оттенки ее вообще, начиная с коричневого или цвета корицы и кончая желтизной нежной середочки, были разнообразны, как небо на закате. А ее ароматы, целый их букет, а ее форма, казалось бы, стандартная, но при ближайшем рассмотрении тоже совсем особая: с одной стороны толще, а с другой — скос! Спираль булки была подобна спирали звездной туманности, и непостижимого и удивительного оказывалось в ней для нашего Сушкина не менее, чем в настоящей туманности для астрофизика.
Кроме того, сдоба попросту заставляла Сушкина вспомнить булочную, — но не ту, в которую он ходил недавно, живя на новом месте, а другую, памятную по прежней квартире: угловую булочную на Стромынке, очень хорошую, с двумя отделами, налево и направо, хлебным и кондитерским. Отчего мы так мало ценим и любим то, что встречается нам каждый день, с чем мы срастаемся незаметно, что навсегда становится частью нас самих?.. Эта булочная была любима окрестным народом, хлеб там всегда был свежий, не залеживался, из хорошей пекарни. Сушкину являлись знакомые лица тамошних пожилых продавщиц в белых халатах, уборщицы тети Луши, кассирши в очках, что из правого хлебного отдела. Там всегда стояла, казалось, одна и та же очередь: из молодых женщин, старух, школьников и редких мужчин. Она двигалась, как бывает в штучном отделе, быстро, но никогда не иссякала. Касса находилась в правом углу, и от кассы, белея загибающимися чеками, тут же переходили к застекленному прилавку. А за стеклом, среди батонов, буханок, хал, круглых хлебов, ситников и разных сортов булок, лежали и такие вот круглые сдобы, щедро осыпанные сахарной пудрой. И отчего же тогда Сушкину невдомек было, что они есть чудо?..
Сушкин лежал, закрыв глаза, вынув аппарат из уха, будто спал, — хитрил, чтобы не мешали, особенно Люкин. Капельница стояла рядом с кроватью, и лекарство втекало в Сушкина по стеклянной трубочке, через иголку, вставленную в вену. (Эта капельница, сам штатив и перевернутая бутылка темного стекла с резиновой пробкой, и страшенная иголка, часами торчащая в вене, тоже были целым отдельным миром, питающим воображение, но в них неприятное, опасное, Сушкин их ощущал как враждебные существа.) Солнце, проглянув, блестело в окнах противоположного корпуса, и отражение освещало палату. Сушкин блаженствовал, он созерцал.
Возможно, его многолетняя одинокая жизнь, привычка общения лишь с самим собою подготовили каким-то образом его нынешнее состояние, высокую степень способности к самопогружению. Может быть.
Самые замечательные возможности нашей памяти и воображения открылись перед умом Сушкина. Увы, перед бедным его умом. Но добрая и испуганная его душа ликовала и дрожала восторгом, с этим ничего нельзя было сделать. Память позволяет нам двадцать, сорок, тысячу раз совершать путь по стране воспоминаний, отворять туда дверь, когда захотим. Жизнь несется стремглав, не в нашей власти остановить счастливый день или продлить прекрасную ночь. Чаще всего в эту минуту мы не знаем этому цену. И не предполагаем, что это останется для нас неповторимым воспоминанием.
Впрочем, воспоминание тем и замечательно (или ужасно), что в нашей власти повторять его. Теперь это принадлежит только нам. Можно войти и остановиться. Можно цедить его по капле. Постоять у дверей. В жизни мы не имели времени задержаться, а теперь — пожалуйста. Наконец-то можно все рассмотреть, проанализировать, сравнить. И — понять! Что было с нами, чего мы тогда не поняли. О, боже, даже не поняли, вот в чем дело, мы не успели сообразить, что с нами произошло!
К Сушкину взывали Стромынка, Матросская Тишина, набережная Яузы, которую на его памяти одевали в гранит. И на его же памяти строился новый Матросский мост, ведущий на Преображенку. Слетались, взмахивая просторными светлыми крыльями, негаданные видения, каждое перышко ясно сияло.
Но Сушкин не торопился. Его не отпускала, например, от себя булочная, да и самому не было охоты покидать ее. И он вновь и вновь входил туда, отворял дверь, видел сквозь стеклянный тамбур кассиршу в очках за кассой, белые халаты за прилавком. И снова входил, и снова, и даже в очередь никак не мог встать, не то что дойти до прилавка и выйти наконец с батоном и половинкой черного. Он представлял себе булочную зимой, с обитым ото льда порогом, и летом, когда желтая вывеска ее почти скрыта кронами деревьев, вечером представлял и днем, стоя на той стороне улицы, у Короленко, и подымаясь к ней снизу, с набережной. Все он помнил, в этом воспоминании всем дышал, все любил. Как не навернуться было слезам!
Но самое интересное было вот еще что: то, что поверх всего. Не булочка, не булочная, в конце концов, и никакая иная реальность настоящего или видение из прошедшего брали власть над Сушкиным полностью, но его собственное состояние, вызываемое булочкой или булочной, его чувство и мысль по поводу их. Сами они постепенно таяли и отступали, но состояние радости оставалось, — в нем можно было плыть и плавать бесконечно долго. Почему и довольно, достаточно открыть лишь дверь в булочную, войти на порог — и согревающее блаженство потечет и польется. Вот каков получается фокус.
Память, видно, потому и выбирала одно простое, мелкое, — довольно было, — и душа тешилась именно мелочью, каким-нибудь крючком, который еще мальчишкой сам выгнул на тисках и выковал молоточком из простого гвоздя, крючочком дверным, первым, — но чем-нибудь крупным, что тоже имелось в прежней жизни Сушкина, не сотнями машин, моторов, двигателей, насосов, которые прошли через его руки. Не припоминались ему теперь ни две его страшные раны, в ногу и в грудь на реке Шпрее, ни смерть жены или маленькой дочки, а также товарищей-солдат на фронте, ни деревенский пожар, виденный им в детстве. Не было также ни оркестров, ни премий, ни медалей, ни автоколонн, с которыми Сушкин ездил в дальние области на уборку чуть не каждое лето. А если что и проскальзывало из этих больших событий, то опять-таки обыденное: его верстак в гараже, замызганный высокий табурет с провисшим кожаным сиденьем, сверла в железном ящике, надфили, метчики и другой инструмент, захватанная черными пальцами лампа на кронштейне над верстаком. Или летний сон на земле, на стерне, усеянной резаной соломой, в тени комбайна, под грачиный крик.
Никакое одно человеческое лицо, даже материнское, или женино, или прежних товарищей, не выплывало перед ним, — все они соединились, отойдя назад, в единое, общее человеческое лицо, не мужское, не женское, — оно казалось увеличенным, как луна над горизонтом, заполняющим много пространства. И оно не было ни добрым, ни злым, не предъявляло счетов Сушкину, как и Сушкин ему. И он, этот лик прошлого, занимал Сушкина куда меньше, чем живое лицо Сагиды или уборщицы бабы Ани, — баба Аня, видя в лице Сушкина постоянную тихую любовь, прониклась к нему по-старушечьи особой жалостью и расположением, терла вокруг него пластиковый пол мокрой тряпкой на палке потщательнее, чем всюду, приборматывая ласковые слова, наклоняясь к нему, заглядывая: жив ли ты, сердешный?
Ни дом свой, ни вещи, даже Лямочку, Сушкин не хотел теперь помнить, не беспокоился о них — не думая, впрочем, что они еще понадобятся ему. То есть каждая из этих категорий: дом, Лямочка, диван тоже оказывались слишком велики, чтобы вместиться целиком в представление о них. Довольно было и детали. Скажем, не всего дивана, а лишь заштопанного места на правом его валике, под рукой как раз, когда сидишь. А если голову положишь без подушки, штопка как раз тут, под глазами, чуть скоси только.
Но много Сушкин не помнил, как ни удивительно. Никак не мог догадаться, откуда длинный шрам через всю левую ладонь, — кстати, отдубевшую, белую, без мозолей, незнакомую. Или не помнил лица и тела жены. Четыре военных зимы слились, пожалуй, в одну, ну, в две. Видно, не в них, не в этом было сейчас дело, вот и не помнилось. Сияло то, что любилось, было приятно, пахло живым и ясным. Пусть булочка, пусть штопка — это волновало, а, например, сама великанша Смерть, однажды белым днем пройдя их палату (заполнив собой все, ударив и пронесясь), не затронула и не напугала Сушкина.
А было так. В то утро, после завтрака, находились в палате: Люкин, спустивший ноги с высокой кровати и наливающий из банки сгущенку в чай; лежащий навзничь с закрытыми глазами, с капельницей, Сушкин с исхудалым, обострившимся лицом, но с легким румянцем возбуждения на самых щечках; директор Декабрев, жадно читающий свежие газеты, сменив поспешно одни очки на другие, и бывший красногвардеец Дудка, высоченный, костлявый, совсем старый старик, но без бороды и усов. Дудка тоже сидел на своей койке, расставив голые костлявые ноги в шерстяных белых носках, распяливал перед собою на руках больничные байковые штаны от пижамы, ища, где зад, где перед. Он собирался в туалет, хотя вставать ему не велели, ночью он задыхался, и сестра приходила делать укол. Теперь он тоже сипел, трудно дышал, но говорил, гудел, нервничал. А говорил он лишь об одном: как это ему, старому красногвардейцу, пенсионеру, не дают квартиру, какую он хочет! Черт знает кому дают, а ему нет. Он уже написал повсюду жалобы, но идут от них одни отписки, и Дудка так этого не оставит: вот выпишется из больницы и пойдет прямо в Кремль. Дудка горячился, но уже все знали (видели его злую и крепкую старуху, навещавшую Дудку), что это его старуха мечтает выцыганить новую квартиру для меньшей дочери, а сами они, конечно, останутся на старой. И сейчас Люкин, как ни лень ему было, не преминул перебить старика: «Да ладно те врать-то, Ляксандрыч! Красная гвардия, Красная гвардия! Старуха твоя дрянь, для дочки старается, а и дочка дрянь, уложат вот тебя в могилу-то совместно, мало, понимаешь, нахапали!» И Люкин сладострастно замер, ожидая, какую речь завернет ему сейчас Дудка. Сушкин как раз открыл с улыбкой глаза. Увидел, как тягучая, длинная струя сгущенки из синей банки, которую Люкин нарочно держал высоко, чтобы струйка на конце змейкой завивалась, падает в стакан. Все приготовились. Но от Дудки не шло слов. Люкин не мог оторваться от струйки и лишь в следующую секунду перехватил ее языком. Декабрев закрылся газетным листом. А Сушкин глядел на Люкина.
Но еще через миг все они повернулись туда и — господи! — Дудка, безумно вытаращив рот и глаза, отваливался к стене, кулаки, громадные, костлявые, вцепились в штаны и, страшно содрогаясь, тянут их на себя. Изнутри хрипело.
Потом прибежавшие в палату сестры, Сагида, молодой врач Геннадий, а после и Лев Михайлович, которого нашли на другом этаже, толпой закрыли Дудку белыми спинами, дышали, давили, кололи, переговариваясь короткими быстрыми словами, как заговорщики. Сестры без лени, прытью бегали туда-сюда. Со стороны казалось, что они делают с Дудкой нехорошее, запретное, облепив его как мыши. Декабрев вышел, Люкин накрылся с головой отвернувшись к стене, от тяжелого запаха кала пришлось отворить окно. Сушкин лежал, прикованный капельницей, и ему чудилось, что под высоким потолком, над врачами, над белыми шапочками, над койками кто-то летает, нетерпеливый и властный, и если бы врачи подняли головы, то увидели бы тоже, что летает.
Скоро все устали и даже сердито отпрянули от Дудки, потом привезли каталку, сестра Нина зычно закричала по коридору: «Все по палатам! Зайдите в палаты!» А этот крик означал: сейчас повезут кого-то, кого остальным видеть не рекомендуется. И Дудку увезли, накрыв целиком простыней, — уже не Дудку, а нечто закрытое, меньшее живого длинного Дудки, никому не нужное. Баба Аня собрала с постели белье, скатала матрас. Обнажилась голая кроватная сетка, железные кости кровати, — словно лес, который только что стоял в уборе зимы или лета, и вот нет ничего, облетел в один миг, засквозил навылет.
Люкин изматерился, исплевался; ушел, вернулся, явно пахнущий табаком, опять ушел. Декабрев тоже только сунулся, забрал газеты, а Сушкин лежал и лежал. Оба они извиняющимися взглядами глядели, оставляя Сушкина, но он улыбался в ответ: мол, ничего, не думайте. Он и вправду ничего такого не ощущал особенного и даже не успел как следует пожалеть Дудку, понять его конец. Система радости, в которой он жил, не впускала в себя ни боли, ни горя. То есть они были, но цена им была теперь другая, они мало значили. В нем дрожала и не проходила радость вот отчего: когда все отпрянули от Дудки, а потом завозили в палату каталку, Сагида, поведя вокруг взглядом, не забыла подойти, тронуть утешающе за плечо Люкина, а Сушкину долго считала пульс, закрыв собою от него кровать Дудки и каталку. И это теплое прикосновение руки Сагиды, забота, написанная на ее смуглом лице, волновали Сушкина больше, чем весь конец Дудки. С Дудкой-то что можно сделать?.. Не уходило только из глаз выражение белого неимоверного ужаса Дудки, опрокинуто увидевшего перед собою или в себе, чего он никогда дотоле не видел. Прощай, красный гвардеец Дудка!
«Ты еще смотри не помри тут! — сказал вечером Люкин Сушкину, когда поуспокоились, собрались опять вместе и каждый думал теперь о том, что не его взяла смерть, а Дудку, а ведь могла любого. На дудкинской койке уже лежал новый человек, толстяк Мокеев, ничего не знающий ни о Дудке, ни о ком из них. — Смотри, понял, — сказал Люкин, — а то у меня нервы больше не выдержут!»
Перед этим Люкин надолго исчез, застрял на лестнице, где курят и звонят ходячие по телефону-автомату, вернулся, опять пахнущий табаком да еще вроде бы спиртным (или показалось?). Во всяком случае, рта не закрывал долго. «Больница называется! Сукоеды! Помирают все, как мухи! Можно это?.. Что вы? — склонялся он в сторону Декабрева, хотя тот молчал, изо всех сил старался не вступить с Люкиным в спор. — Видали, да? Вот она, жизня ваша! Детки, в школу собирайтесь! Маму не успеешь сказать — аривидер-чарема! Эх, ёклмнопрстуфцхчшщэюя!.. Чего лыбишься? — возвращался он к Сушкину. — Жри что-нибудь! На апельсинчика! Только помри у меня, слышь! Чтоб не расстраивали меня никто!»
Сушкин видел, что на глазах Люкина блестят настоящие слезы, в руке Сушкин держал брошенный Люкиным апельсин, и его переполняла любовь и жалость к синегубому, несчастному повару, съедаемому страхом, что вдруг оборвется его связь, его ниточка с проклинаемой им «жизней», все кончится. Да еще кончится так, как ты не ждешь и не думаешь, потому что это последний выверт нашей непознаваемой жизни: она даже закончить хочет по-своему, выиграть у нас и эту пешку, впрыгнуть в окно, когда ждут в дверь. И Сушкин готов был отдать все — возьмите! — лишь бы вам жить, не плача, и помирать легко.
5
— Потеряем мы нашего блаженного, как пить дать, — сказал Лев Михайлович Сагиде Максудовне, не смущаясь таким определением Сушкина и даже радуясь, что слово найдено (она поняла, о ком речь). — Есть предложение его поднять.
Сагида посмотрела пристально и с осуждением.«Есть предложение» — это значит, он уже все решил. Лев Михайлович выдержал ее взгляд, только покивал в ответ: мол, да-да, именно.
Они сидели в маленьком кабинетике Льва Михайловича, в конце своего рабочего дня, около четырех, от высокого окна несло холодом, морозы все не сдавались. Лев Михайлович названивал по телефону, перед ним лежала его красивая книжка-ежедневник, и с раскрытой страницы бросались в глаза слова, выведенные красным фломастером: «покрышки, бил. в Сатиру, библиот., Пономарев, Зайцев» — и еще фамилии и телефоны. Лев Михайлович крутил диск как бы между прочим, но беспрерывно, и, если отвечали, он извинялся перед Сагидой и быстро, весело, с шутками, выяснял, что хотел. Это не мешало ему вести разговор о больных, и в частности о Сушкине, когда они дошли до Сушкина. Впрочем, разговор состоял из монолога Льва Михайловича и терпеливого протестующего молчания Сагиды.
Поднять Сушкина — означало рисковать. Исходя из привычной методики, это было рано. Что он пристал к бедному Сушкину? Вид Льва Михайловича ясно показывал: он все понимает, но он решил и готов взять на себя ответственность. То есть, говорил он вслух, пожалуйста, можно Сушкина и не трогать: его жизнь, будем смотреть правде в глаза, интересует сегодня только нас. Пусть лежит. Куда кривая вывезет. Но мы профессионалы. И у нас больница, а не богадельня. Мы обязаны действовать. Наш объект — болезнь Сушкина, а не он сам. Разумеется, мы гуманисты, но ведь в профессиональном смысле больной — лишь промежуточная стадия, арена, на которой сражаются врач и болезнь. Наше дело организм, а не индивидуум. Хирург во время операции не может думать, сколько у больного детей или в каком он чине, в этот момент перед ним лишь операционное поле, остальное лирика. Поэтому по возможности необходимо убрать все, что стоит между врачующим и болезнью.
Что же касается Сушкина, то Лев Михайлович наконец понял: психическое состояние больного путает карты, затемняет картину. Он, можно сказать, помаленьку доходит, а странная его радость растет. В конце концов, больной должен быть занят своей болезнью, бороться с ней. А у нас чем он занят? Что за счастье такое? Что он в нашу больницу попал?.. Причем это ведь не эйфория умирающего, известная медицине, тут что-то другое. Что? Синдром, пардон, Сушкина?..
«Может, и синдром Сушкина», — выдавила задумчиво Сагида.
«Ну-ну», — сказал Лев Михайлович.
Как и что могла Сагида ему объяснить? У нее у самой не было аргументов, только ощущение. Лев Михайлович прав, но у нее тоже составилось представление о состоянии Сушкина, она тоже наконец определила для себя, что с Сушкиным. И ей кажется, не надо вмешиваться, разрушать; может быть, он тем и жив, что чувствует, и его благость — его защита и панацея. Мы не знаем. Зачем же рисковать?
Лев Михайлович, при всей широте взглядов (как истинно современный человек), тем не менее никогда не понимал и не любил абстракций. А тем более мистики. Во всех их видах. Сушкинская же нирвана отдавала чем-то таким. И Сагида лишь подтверждала это. Ну пожалуйста, валяйте! Только отчего же ваша блажь не способствует выздоровлению? Силы-то тают у больного, яко у отшельника, и сердце слабеет день ото дня. Лирика лирикой, а физика физикой. А мы-то отвечаем за физику. Или давайте его выпишем, пусть пребывает в своем блаженном состоянии у себя дома — это будет уже его частное дело, и мы ни при чем.
Что было возразить? Все так. Ведь не скажешь же устало, что, может быть, Сушкину лучше отправиться на тот свет в его нынешнем состоянии, чем потом снова жить, потеряв его? Может, ему сроду не было так хорошо на душе, как теперь? Видно же, что хорошо. Ведь не скажешь, что, вылечив его и сделав здоровым, мы, скорее всего, отнимем у него навсегда его болезненную, на наш взгляд, а на самом деле, может быть, истинную и высшую человеческую чувствительность, которая вдруг озарила его, как талант, и которую, кстати, не мешало бы ощутить каждому из нас.
Сагида не взялась бы доказывать этого Льву Михайловичу, она знала его очень хорошо. Тут просто были два полюса, он действительно не мог бы понять не только ценности мироощущения Сушкина, но вообще, о чем идет речь. Он поднял бы Сагиду на смех, в лучшем случае поморщился бы. В самом деле, Лев Михайлович был слишком взрослый человек, преуспевающий, здоровый, шел вверх, — что ему детская радость от солнечного зайчика или детское горе от лопнувшего шарика? Да и смешно было бы.
Сагида не любила, например, когда Лев Михайлович, если они выходили вместе, приглашал ее в свою машину и подвозил до метро: она сжималась, стеснялась в его теплой, хорошо пахнущей, с играющей музыкой машине, — своего вечно дурного настроения, выражения непроходящей заботы, которое старило ее, безденежья, которое тоже так и было на ней написано (она жила без мужа с матерью и дочкой на руках). И она даже не столько себя стыдилась, сколько боялась своим унылым видом внести разнобой в систему этой машины, располагающей к комфорту; музыки, зовущей к легкости; движения, захватывающего дух, и главное, в настроение хозяина, как правило, превосходное, приподнятое.
Когда-то, совсем давно, у них был краткий роман, — Лев Михайлович не позволял себе длительных, любя жену и семью. Сагида только выпорхнула тогда из института, проходила здесь практику. И ей памятен этот маленький кабинет. Но от той истории в их отношениях не осталось и следа. Разве что работалось им легко, как совсем своим людям. То есть ему с ней работалось совсем легко.
Нет, ему не объяснишь, для него останется непонятным и неинтересным, что состояние Сушкина, никому из них не знакомое, есть нечто важное — она ощущает это очень хорошо, — нечто редкое, то в чистом виде добро, которое теперь так же драгоценно, как родниковая вода или горный воздух.
Лев Михайлович между тем по телефону так же легко и весело улаживал дела с часовой мастерской, как и с редакцией, где взяли его статью. Но не выпускал из внимания и Сагиду. И он понимал больше, чем она думала, хотя понимал по-другому. «Мы его поднимем, — сказал Лев Михайлович и подмигнул, — не уйдет».
«Не уйдет» — вот в чем дело. Сагида усмехнулась. Правильно. Вот что раздражало Льва Михайловича: что Сушкин уходит. А мы не можем ему позволить уйти. Значит, сам того не ведая, Лев Михайлович, все-таки интересовался индивидуумом, а не только организмом? Впрочем, возможно, он и не вкладывает в свои слова второго смысла. Просто «не уйдет» — означает «не уйдет», потому что в самом деле положили немало сил на Сушкина, предпринимали, что могли. И мы должны быть последовательны, прав Лев Михайлович, и попробовать пойти до конца.
«Пожалуйста, если хочешь, покажем его Терлецкому, — смягчил Лев Михайлович, — но ты увидишь, что он скажет. — И, не отпуская от уха трубки, живо и похоже изобразил, сдвинув бровки, личико профессора: — Н-дэ… — пожевал он губами. — Думаю, дэ-э… Попроси пана профессора».
Сагиде ничего не оставалось, как улыбнуться. Ее сопротивление было сломлено. Разговор завершался победой Льва Михайловича; не сумев опровергнуть его точки зрения, приходилось тем самым принимать его решение. Финита.
Но Лев Михайлович еще не отпустил ее. Продолжая крутить и крутить проклятый диск без какого-либо отношения к этому диску, он еще хотел доказать ей, что он прав. Он уже не раз ей толковал: то, что она чувствует сейчас, — это непрофессионально. Никто не отнимает у нее ее чувств, они даже делают ей честь, все мы люди, но ведь их работа чаще всего требует забвения чувств, — не чувств вообще, разумеется, эмоций, но вот этого самого рассиропливания, которого он терпеть не может, сентиментальности, благорастворения. Приходится выключать сострадание во имя сострадания.
Сагида слушала, опустив глаза. В этом он весь. Его почерк. Ему мало, чтобы ему подчинялись, он не успокоится, пока не победит еще, так сказать, и идеологически. Он хочет любви, понимания, преданности. Если он считает свою точку зрения верной, значит, она единственно верная.
Но разве не так? Лев Михайлович на самом деле так думал. Он любил четкость, науку, истину, а не сомнение, не расплывчатость. Результат анализа и формула были ему ближе, чем эксперимент и гипотеза. Уж извините, но мы работники, а не творцы. Сагида была права: он шел вверх, и мироощущение у него и ощущение себя были в целом мажорны и гармоничны. Она не ошибалась: вот уже несколько лет у Льва Михайловича держалось приподнятое настроение. И было отчего, он мог гордиться: его жизнь, успехи, работа, семья, отношения с людьми, даже здоровье, за которым он ревностно следил, — все было организовано им самим. В молодости не хватало уверенности, он лишь интуитивно, по нюху, шел туда, куда нужно. Теперь его жизнь приобрела очертания стальной, летящей в цель стрелы. Поэтому — да простится нам некоторое самодовольство — иной раз так и хочется похлопать себя по пузу от радости… Но есть, вы говорите, радости и блаженство другого рода? И другого сорта? Какого? Какого? Покажите. Это еще надо проверить. Вы лучше поднимитесь пока туда, куда поднялись мы. Хотя бы. Это надежно.
Сагида знала: Льва Михайловича переполняет любовь к себе. Вот так всегда. Законная гордость окрашивает каждую его фразу, уверенность в себе и убийственный юмор подавляют собеседника — тем более такого, у которого нет ни уверенности, ни гордости (еще и до того подавленной), ни юмора (потому что не до юмора), ни вообще ничего из того, что имеется у Льва Михайловича. Даже денег. Где уж тут спорить.
Лев Михайлович прав. Он всегда прав. И ему все удается. Он знает, что говорит. Хочет поднять Сушкина? Поднимет. Достаточно посидеть напротив него полчаса и посмотреть, как он дозванивается туда, куда ему нужно. Поднимет.
6
Часы показывали шесть, а Сушкин, уже одетый, уже заправив коечку своими руками, пускался в путь. Лежал Сушкин опять в коридоре, в глубине, теперь в дальнем от входа конце, за пальмою в кадке, и уже так давно, что в отделении говорили: «шушкинская пальма». Зато Сушкин мог встать-лечь, когда хочет, никого не тревожа.
Двигался он все еще с осторожностью, чуть семеня (и даже привык к такой походке), но все-таки проворно, успевая везде. Выделенный ему Лизаветой «шушкинский» ватник, великоватый и длинный, как пальто, Сушкин прятал в моечном отделении, в том конце, и ему было удобно брать его при выходе, чтобы уличной одежей не мозолить в отделении глаза.
Впрочем, насчет ватника он задумался: шел мимо окон — там по голубому небу летели веселые облака, из форточки тянуло теплым и свежим воздухом. По двору, на прогалинах и буграх, не обезображенных стройкой, ярко зеленела трава. Апрельское солнышко так и выманивало наружу. Но все-таки рано было, свежо.
Дремлющая на первом пульте сестра Нина подняла со стола сонную голову в мятой белой шапочке: «А, Шушкин! Уже пошел?» Она потянулась, поглядела на часы и тут же схватилась за банку с градусниками, больше не обращая внимания на Сушкина и его ласковую улыбку. Можно было идти дальше. Сушкин только послушал немного, как кипящие в коробке шприцы и иголки булькают: «Шушкин пошел, Шушкин пошел!»
Чудно, везде, где Сушкин жил, работал, в армии тоже, его всегда переиначивали на «Шушкина». Чуть приглядится народ, пообвыкнет и сразу: «Шушкин! Шушкин!»
В просторной моечной белели две большие ванны — торжественно и важно. В левой, что ближе к стене, Сушкина впервые мыли, когда он начал вставать, и, вспоминая тот день, он относился к ванне так, как если бы ему сказали, что это его купель или колыбель. Это Лев Михайлович, слушая однажды Сушкина и наклонясь к нему поближе, поморщился и спросил у свиты: «А давно ли омовение хоть какое совершал наш раб божий Корней?» И вот тогда повели, подхватили Сушкина, и Лизавета сама, и баба Аня, а Сагида держалась наготове, как бы чего не случилось. Ванну обогрели, воды налили немного, только ноги закрыть, и, причитая над сушкинской худобою, поливали тихонько из душа, осторожно мылили, терли нежно, как дитя. Сушкин сидел, склоня лицо, и плакал понемножку: живая вода бежала по нему. Ему хотелось погладить ванну, помыть ее — была б она грязная, — что-то ей сделать приятное. Но она и без того сияла чисто и величаво.
Ватник Сушкин все же надел и шапку и шарфик положил на шее крест-накрест. И вот тут подошло, подкатило остро: господи, неужели кончается, уходить ему? Ведь хоть и сегодня жди: «Ну, Сушкин, дорогуша, не соскучился ли по дому? Вид у тебя хороший…» Ай-яй-яй, как неохота!
Он вышел из моечной к туалетам. Заспанный парень, сияя склянкой янтарной мочи в руках, натолкнулся на Сушкина: «А, Шушкин! Привет! Уже пошел?» Он сунул склянку в ящик для анализов, который к восьми заберет лаборатория. Сушкин, хоть и расстроенный, улыбнулся парню, кивнул.
Теперь уже горюя и причитая про себя, Сушкин двинулся дальше, на все глядя прощально и тем терзая свое сердце. Вот лифт. Он еще на запоре. Михайло Потапыч (такое прозвище у коренастого медведя-лифтера дяди Миши) спит где-нибудь в лучшем кабинете на лучшем диване. Он любит обставиться с удобствами. В просторной лифтерной у Михаилы Потапыча есть тумбочка, два стула, вешалка да еще цинковое ведро с крышкой, куда он собирает хлебные объедки для поросенка. Во, устроился медведь! На пенсию вышел, полдома за городом купил, живность завел, кур и поросят, сутки дежурит, трое отдыхает, чем не жизнь! А дежурство — спи в кабинете, не каждую ночь «скорые» бегают.
Сушкин сиживал с Михайло Потапычем в его лифте, катаясь с ним туда-сюда, вроде бы сдружился. И даже подумывал: не взяться ли? Две другие старухи лифтерши, тоже пенсионерки, еле ползают.
По лестнице приходилось спускаться долго, надоедало, хотя сегодня и лестница была Сушкину мила. Воняло окурками, чего только не услышишь, выйдя посидеть вечером с курящим народом, каких не застанешь здесь людей! А телефоны-автоматы на стенах, — сколько разговоров, горьких и сладких слов, чего только не скажут больные, стоя на холодных лестничных площадках в своих пижамах и шлепанцах, тоскуя по своим, по дому. Окна еще не мыли, весна пропадала за ними, рамы были заклеены, столько тоже народу сиживало на этих подоконниках, когда прорываются посетители, родные или твоя любовь, суют тебе в руки, между улыбок, поцелуев, быстрых слез, цветочки, прихваченные морозом, котлеты домашние в стеклянной банке, апельсины в целлофановом пакете. А то иной друг, Вася ли, Сережа, и бутылец покажет тебе из кармана, отведя полу, а из рукава у него, как у фокусника, выскочит на подоконник стакан: «Не будешь? Чуток? Ну, будь здоров!»
Сушкин спускался, а лестницу населяли голоса, смех, бег девушек-практиканток в белых халатах, кучей несущихся вниз, кашель, голоса закутанных детей, запахи курилки и кухни, лица бледных простоволосых женщин в больничных одеяниях. Сушкин держался за перила, и даже они, простые перила, обращали на себя его внимание, он ласково гладил их и соображал: кто это и когда придумал для людей перила и много ли надо их для всех домов на свете? Ведь наверняка не должно хватить лесу на все перила? А может, они и не из дерева? А только кажется, что из дерева?.. И как это, где будет он ходить, не касаясь этих перил?..
К концу лестницы он совсем забывался, выходил в вестибюль, на яркий солнечный свет, как из тоннеля, не сразу понимая, куда попал. Но здесь ему бросалась в глаза среди прочего (гардероба, справочного стола, плакатов) дверь в кабинет лечебной физкультуры, и из нее будто тотчас выходила молодая и симпатичная Лидия Павловна, которую больные звали попросту Лечебная Физкультура, немного полноватая, но быстрая и бойкая, с короткой стрижкой. И Сушкин тут же с улыбкой вспоминал, как она стала приходить к ним в палату заниматься с Сушкиным первыми, легкими упражнениями, а за ее спиной Люкин, когда она наклонялась к Сушкину, корчил рожи и делал неприличные жесты. И кончилось тем, что Лечебная Физкультура, улучив однажды момент, развернулась, будто показывая Сушкину мах рукой, и просвистела перед носом Люкина, который сидел в это время на койке, в такой близи и опасности, что Люкин откинулся, хлопнулся затылком об стену и полдня потом не мог оправиться от испуга и уж поговорил насчет Лечебной Физкультуры всласть!
Здесь, внизу, в кабинете, Лечебная Физкультура учила Сушкина заново ходить, сгибаться, разгибаться, ловить мяч и прочее. Неужто и этому конец?..
Сушкин сам, первый, открывал обычно крюк, которым запирали на ночь входную дверь, но сегодня она уже была открыта, и как ни светло казалось в вестибюле, но там, в дверной щели, куда как раз било солнце, утро горело подлинным светом. Свет, воздух, ветер свалились на голову, как водопад. Сушкин поправлял аппарат в ухе, не веря, что могут так греметь, орать птицы в лесопарке. Утро еще млело и потягивалось в прохладных тенях, и пустота ночи стояла в аллеях и на тротуарах, но ни прохлада, ни пустота уже не были хозяевами; солнце поднималось неумолимо, мотоциклист вдруг пролетал, и человек в спортивном костюме, блестя очками, бежал утренним лечебным бегом, разрушая безлюдие.
Больница строилась. Рядом со старыми возводились новые корпуса, закладывались фундаменты. Весенняя грязь вокруг хранила следы тракторных шин, и сами тракторы, ярко-оранжевые новые и замызганные старые, отдыхая ночь, торчали какой где, в беспорядке, будто подбитые танки на поле боя. В траншеях стояла глинистая пенная вода, разбитые бетонные панели валялись тут и там, по ним прыгали на солнышке легкие трясогузки. Для машин «скорой помощи» подъезд был выстелен деревянными щитами поверх грязи, но щиты уже развалились и утонули в ней. Нет, здесь тоже все было достойно внимания, привета — эти трудяги-щиты, например, — у всего было свое лицо, нрав, и вся стройка, хоть и замершая, словно нарисованная, держалась независимо и властно.
Сушкин пробирался по камням и дощечкам, где пробирались все и натопталась тропинка, и отсюда, поверх заборчика, видел улицу, дома за деревьями. Треск мотоцикла и синий его дым еще стояли в улице, на остановке медлил ранний пустой автобус. Солнце светило прямо на дома, на фасады (хотя не понять было, где у новых домов перед или зад), и Сушкин с радостью глядел, как сверкают стекла, как весело горят малиновые стены. Таких домов Сушкин нигде и никогда не видел прежде: совсем новой архитектуры, с малиновыми стенами (но не кирпичными), с выступами в целый этаж. Дома странно и причудливо соединялись между собой, они больше всего походили на строение из детских кубиков, но если бы убрать окна, все множество широких внушительных окон, то дома, все вместе, образовали бы огромную красную стену. Что за дома? Откуда?..
За ними, дальше, тоже шла стройка, возводились другие такие же дома, но первые два-три ряда уже жили на полный ход: вечерами горели окна, играла музыка, бегали дети. Понизу в каждом доме работали магазины, сберкассы, парикмахерские, подальше была почта. Микрорайон.
Сушкин сам жил в микрорайоне, но такого не видывал. Старое, первое чувство, с которым он когда-то приехал в эту больницу, вернулось к нему, и теперь он втайне считал, что попал все-таки куда-то не туда, как это кажется на первый взгляд, в какое-то место особое, странное. Он ощущал, что ничего прежнего давно нет, утекло много-много времени с тех пор, как он очутился здесь, и сейчас он живет в иной жизни и, может быть, даже в ином городе. Только сказать этого никто ему не может, поскольку они сами этого не знают: что Сушкин не ихний.
Даже люди были словно бы позабыты Сушкиным, и его удивляли их непокрытые головы, разноцветные куртки, светлые плащи. Они казались ему чересчур высокими, молодыми, подозрительно нездешними. И он ловил на себе их насмешливые и снисходительные взгляды, хотя многие уже и на улице узнавали его и говорили: «А, Шушкин, приветик!» или «О, Шушкин пришел!» Он их любил, но они были незнакомы ему, мирны, молоды, да, мирны и молоды; а он привык к другим лицам и эти видел издалека. Чудно, но ему порою опять казалось, что они вроде бы и нерусские, он туда попал, где только притворяются русскими и нарочно по-русски сделаны надписи. Вот до чего.
Он семенил помаленьку в затрапезном своем ватнике чуть не до колен, в шапке, сползающей на глаза: то ли голова усохла, то ли от шажка такого сваливается шапка наперед, — и чувствовал, что сам тоже не больно-то вписывается в новенькую улицу. Но он лишь тепла ждал, погоды, чтобы приодеться, он готов был уважить их — лишь бы не прогоняли отсюда, лишь бы оставили. Почему-то он был уверен, что его района, где он жил, и квартиры, где они коротали свои деньки с Лямочкой, давно нет на свете. И он хотел туда, это уж точно, или боялся убедиться, что их нет.
Зачем? Ему хорошо здесь. Он любит тут каждый дом, вывеску, остановку. Мужчина в полосатых трусах делает на балконе зарядку. Заспанная девочка-подросток вывела из подъезда белую собачку, и та принялась прыгать на задних лапах вокруг девочки и носиться туда-сюда. Стая воробьев как бы стекла с деревца на землю, на молодую травку, и тут же затеяла драку и возню. Вон молодая женщина с ребенком на руках ждет, чтобы перейти улицу, на ребенке сияет голубая вязаная шапочка. «В голубом мальчики, в розовом девочки», — почему-то и откуда-то вспомнилось Сушкину.
К газетному киоску подъехал фургончик, молодой длинноволосый парень-шофер разгружает его, кидает кипы газет в оконце киоска. А тут уже пристроилась недлинная утренняя очередь стариков, кому не спится, и молодых мужчин, рано едущих на работу. Вот эта компания Сушкину близка и понятна, хоть он вроде бы тут и не свой: больничная роба его выдает. Вот тут постоять приятно.
Впереди всех стоит Генерал — старик пенсионер, толстый, как груша, с палкой, в полувоенном картузе. Он смолит папиросу и заходится трескучим кашлем. Он хотел сказать и рукой сделал: мол, здорово, Шушкин, явился? Но кашель не дал ему, и он лишь глазами поприветствовал Сушкина. И Сушкин торопливо и радостно покивал.
Сушкин уже успевает пристроиться в хвост очереди, а Генерал — его здесь все так зовут — все кашляет, а потом сразу принимается распекать длинноволосого паренька — что-то тот неверно сделал — и киоскершу, которая слишком долго, на его взгляд, копается, принимает товар.
Люди торопятся, а Сушкину в радость поторчать здесь, поглазеть, послушать. За газетами он встает не для себя, людям. Еще с вечера он обходит палаты, и лежачие просят: кто газетку, кто журнал, кто лимончик в овощном взять, если есть, кто мармеладу в булочной. Только минеральную, извиняется Сушкин, носить тяжело. А так набирается немало, в сумочку и по карманам. На обратном пути он уже будет занят подсчетами, кому сколько сдавать сдачи. Иные стараются махнуть рукой или даже сунуть ему обратно копейки, вроде за работу, вроде на чай, но Сушкин никогда не берет, он чаще всего свои приплачивает: денег ему не надо, пенсия у него неплохая, а сейчас они и вовсе не нужны. И от этого, кстати, Сушкину неудобно перед больницей, перед Львом Михайловичем и Сагидой, что он так долго у них лежит. Их за это тоже не хвалят.
Сказочным радостным теремом сиял перед Сушкиным обычный газетный киоск. Как это люди не видят его красоты и волшебства. Хоть весь день можно разглядывать прилепленные с той стороны к стеклу обложки, открытки, портреты артистов, марки, значки. И мылом киоск торгует, и пастой, и бритвами — утренние товары! Целый пестрый остров среди улицы, Африка с чудесами! И чего они торопят киоскершу — она и без того проворно, ловким вывертом раскладывает газеты, шустро считает их по уголкам, как кассир деньги, — раз-раз, все готово, и вот уж Генерал отваливает, разворачивая на ходу газету «Красную звезду», и охает, и горько матерится, увидав чей-то некролог.
Речь Генерала напоминает Сушкину Люкина. Повар выписался давно, вдруг закапризничал, не долечившись, поссорился со Львом Михайловичем, нехорошо обозвал безответную Сагиду. Он заставил жену побегать по другим клиникам и институтам, чтобы показали его светилам. Грозился Люкин да и начал потихоньку опять пить да курить, пока «кондратий, дрянь, не хватит без всяких врачей», чтобы все само собой вышло. И ушел, сорвался, обложив всех еще напоследок вместо «спасибо» и разных букетов и подарков, как другие подносят врачам и сестрам, — обещал заехать, навестить Сушкина, принести гостинцев, но, конечно, не объявлялся больше, сгинул. Хотя не умер, жив где-нибудь, Сушкин чувствовал.
Генерал отошел, очередь быстро текла, и Сушкину жаль стало: так хорошо стоялось ему здесь с мужиками: отворачивался вместе со всеми от порыва ветра, взметающего пыль и еще прошлогодний, зимний сор, ловил табачный дымок впереди стоящего парня в кожаной куртке, от которой тоже попахивало заводом ли, машиной, чем-то родным.
Но вот и газеты, пойдем вперед.
Так совершал Сушкин свой утренний обход, тянул время, ожидая открытия магазинов. Незаметно, но быстро поднималось солнце, и так же незаметно изменялась, наполняясь, улица. Отвлекся, постоял у киоска, возвратился — и уж все по-иному. Солнце перешагнуло, захватив новый кусок земли, отогнав тени, а по улице бойко побежали машины, скопился на автобусной остановке народ, откуда-то заговорило и запело радио.
Задравши голову, Сушкин глядел, как невидимый самолет быстро кладет в небе снежный след, и, пока он глядел, солнышко успело припечь, согреть ему лицо.
Опустил голову, а там, где минуту назад ничего не было, старуха вытаскивает из подъезда детскую коляску, на лавке сидит, умывается войлочный кот, а женщина в красных брюках принесла ведро и моет такую же красную, как брюки, машину прямо у малиновой стены.
Заворачивал Сушкин и в лесопарк. Здесь под ногами было сухо и пыльно, неслышно шелестел прах убитых зимой листьев, земля уже хотела дождя, омовения. Кое-где, еще невысоко вылезши из земли, кучно зацветали, выглядывали желтеньким из зелени одуванчики. В осиннике неправдоподобно белые стояли березы, будто их выкрасили по стволам известкой, как яблони в саду. Лес точно растопыривало, распирало, деревья не зазеленели, но вот-вот должны были проклюнуться почки, кора ветвей цвела проступившей зеленью, и еще голый и сквозной лес, уже весь, в массе, особенно в осиннике, отдавал зеленым, жил, скрипел упруго и весело, сок играл, и каждая жилка наливалась силой, Лесу нравилось стойко мотаться под налетающим ветром, он лишь веселел и крепчал от его ударов, как парнишка-спортсмен на тренировке.
Что ж, и отсюда Сушкину было уходить? И это покинуть?
Сушкин возвращался грустнее прежнего, но новые перемены на улице опять захватывали и развлекали его. И машин и пешеходов становилось больше, отворялись балконы и окна, малиновые дома были неиссякаемы, как ульи, из них вылетали и вылетали работящие, как пчелы, люди. Отчего прежде, у себя, и вообще никогда до сих пор Сушкин не обращал на подобные картины внимания, не ощущал, какая разница между городом шести часов и семи, семи и половины восьмого? Отчего не испытывал при этом никакой такой любви и понимания, как хорош этот мир, каждая его частица, ребенок, мужчина, женщина? Конечно, бывало, еле успеешь ополоснуть ряху, жуя на ходу, потом в автобусе такую тебе лечебную физкультуру покажут, да еще с женой с утра полаешься, а в гараже тоже — гав, гав, то не так, это не так, — мать-перемать, да будьте вы все!.. Где ж эта его жизнь? Куда подевалась? И как это он очутился здесь, ничего не понимая?
Но ведь и там, должно быть, красиво было? Что-то должно было быть и там, как же он не видел? А теперь спохватился, да поздно?.. Эх, Шушкин! Жаль, всего жаль!
Булочная и овощной открывались в восемь, оба магазина находились рядом, в одном доме, и возле них уже стояли, дожидались старухи, но не сгрудясь в очередь, а вразнобой, на солнышке. И та девочка с белой собачкой опять была здесь. Собачка неутомимо сновала туда-сюда, но не любящие собак старухи сегодня глядели мирно: погода брала свое.
Сушкин не знал, стоять ему тоже или нет: к восьми пойдут на работу врачи, обычно он встречал внизу и Льва Михайловича, и Сагиду, и Лечебную Физкультуру, а также других, которых знал или, вернее, которые его знали и мимоходом говорили: «Шушкин, привет!» Но сегодня ему боязно показалось явиться им на глаза: вдруг вот так, с ходу, тот же Лев Михайлович скажет: «Ну, Сушкин, гуляешь? Все хорошо? Давай выписывайся!» Ну куда ему выписываться, ну зачем?..
Если отойти от булочной шагов десять, то с этого места, глядя вдоль улицы, увидишь как раз вдали, налево, въезд в больницу, два белых столба с железными воротами — правда, ворота теперь валяются на земле, оторванные тракторами. Но далековато, не увидеть, кто входит. Тем более ветер и время от времени крутится пыль. Сушкин решил не ходить, остаться в магазинах да завернуть еще потом в табачный киоск — было ему поручение и насчет сигарет, но все-таки он тут же стал представлять, как бегут на работу врачи, как нетерпеливо они перебирают ногами в лифте, пока неповоротливый Михайло Потапыч, ленясь ехать лишний раз, дожидается, когда еще подбегут и набьется побольше народу. Кое-кто, не выдержав, выскакивает и — по лестнице, а другие стонут: «Михайло Потапыч! Ну ты что?.. Дядя Миша, давай!» Но дядя Миша тянет: сейчас его минута, его власть, он пуп земли, и он затворяет наконец двери лифта, как апостол Петр врата рая.
Потом, после врачей, приезжает столовка: молодая Галка или важная Раиса Петровна привозят на машине из главного корпуса завтрак в больших серых кастрюлях и бидонах с черными буквами — их будничный вид и будничный запах каши или винегрета, а также и очередь ходячих больных в буфете в одинаковых робах, каждый со своей вилкой-ложкой, всегда напоминают Сушкину всю его прошлую жизнь: от пионерского лагеря до той столовой в его районе, куда он изредка заходил, когда надоест стряпать самому на своем подоконнике.
Но Сушкин всегда в последнее время живо участвовал, помогал, чем мог, держал двери, суетился, хотя главную помощь брал на себя Михайло Потапыч: он хозяйски брался и нес неподъемные кастрюли, наволочки с больничными черными наклейками, набитые батонами, — с буфетчицами у Михаилы держался крепкий контакт на почве еды для поросенка.
Девушка-кассирша в булочной самообслуживания и толстая заведующая в овощном — тоже самообслуживания, — обе поприветствовали Сушкина, и он пошутил с ними, но без радости. Чем ближе к возвращению в больницу, тем тяжелее становилось. Вот сейчас придешь, а тебе скажут… К тому же он не любил это самообслуживание, прямо с души воротило! Как из преисподней, пихают тебе по наклону черствые батоны чьи-то руки почему-то невидимых тебе людей, и оттого кажется, что люди эти скрыты нарочно, будто они там грязные, как черти, либо рожи у них такие, что и показать нельзя. И для чего сделано?
Сушкин купил себе булочку и на обратном пути, в огорчении, незаметно съел ее. Издалека белели, приближались ворота. Он не приглядывался, как обычно, к каждому встречному, но видел, что теперь ему то и дело попадаются школьники: бантики, портфели, красные галстуки. Школа, тоже новая, осталась позади, Сушкин туда сегодня не дошел, как и до почты.
Но вот и схлынули дети, пропали. Сушкин понял, что стоит на месте, почти напротив ворот, задумался, осталось только перейти дорогу. Во дворе больницы уже грохотал трактор, стреляя синим дымом, а из ворот задом пятился самосвал с желтыми от глины колесами.
И вдруг опять кто-то побежал. Так резко, опасно. Мальчик бежал в школьной форме. Без шапки, лет десяти. Только не в школу, а назад. Как ветер бежал, с перепуганными глазами (потом уже выяснили: всего-навсего тетрадь какую-то дома забыл, с домашними заданиями). Промчался мимо Сушкина, обдал тревогой и тут же остановился как вкопанный, покачнулся на чистом тротуаре и упал, сломался, точно подрезали. Шагах в шести. Сушкин стоял и смотрел, не веря. Выстрела, что ли, он не услышал? Так в бою падали, убитые в лоб. Сушкин стоял, а на той стороне, как на другом берегу, через лежащего неподвижно и свернутого мальчика, стал, тоже замерев, мужчина с портфелем, в плаще, галстуке. И он оттуда поглядел на Сушкина, будто тоже спрашивая: кто это, как? Но тут же он недовольно окинул ненадежную фигуру Сушкина. И еще глянул вокруг — никого подходящего не было — и на часы на руке: опаздывал. А мальчик лежал, и Сушкин боялся сделать шаг к нему, думая, что умер.
Но вот и он и мужчина подошли вместе, у Сушкина выпала из уха головка, и он ничего не слышал, что говорил ворчливо мужчина, пытаясь поставить мальчика на ноги. Но руки и ноги ребенка падали безжизненно, голова болталась, мальчик был без сознания.
Тогда мужчина испугался, положил мальчика плашмя, как мягкую куклу, и стал оглядываться, ища помощи, а Сушкин прикованно глядел на белое детское лицо с четким носиком, нервное, детское лицо с синеющими губами, и ужас охватывал его от этой синевы. Он заставлял мужчину и сам пытался расстегнуть пуговицы на куртке мальчика. «Сердце, сердце…» — повторял Сушкин. Но мужчина ничего не понимал и не мог, наверное, понять: при чем тут сердце, у мальчишки?
Но слава богу, через полминуты рядом уже был кто-то, потом еще, мужчина все с таким же недовольным лицом, с досадой, нес мальчика на руках через дорогу, а у того ноги висели как плети, а Сушкин бежал впереди, указывая, куда идти, где вход в больницу. Человек пять-шесть женщин, облепив их и подгоняя, шли тоже, выставляя ладонями «стоп» перед идущими машинами.
У Сушкина был с собой нитроглицерин, но вложить таблетку мальчику под язык не удалось. Сердце его стучало, но в сознание он не приходил, странно.
Самосвал, оказывается, пятился из ворот, уступая место «скорой». Слава богу! Кто-то из женщин побежал вперед, и, когда вся группа с мальчиком перешла дорогу, из «скорой» уже выпрыгивали белые халаты.
Неужели от напряжения, от страха за какую-то тетрадку, от слишком сильного бега можно вот так упасть без сознания? Сердце у мальчика оказалось как раз здоровое, и, едва придя в себя, он нервно стал проситься в школу. Допекли его, видать, в этой школе. Как же так: мчаться, как ветер, и на глазах остановиться и упасть? Или это от весны, от долгой зимы? Отчего?
У Сушкина плыло перед глазами, он плохо соображал. Мальчика уложили прямо в вестибюле, на деревянной скамье, приводили в чувство. А потом Сушкин поднимался в лифте с Михайло Потапычем, тот что-то гудел, Сушкин не слышал.
А еще через час веселая, только что заступившая на дежурство сестра Зина делала Сушкину укол, уложив его на койку за пальмой. В ординаторской шла пятиминутка, затянувшаяся сегодня на полчаса. Но Зина осмелилась открыть дверь, заглянула бойко со словами: «Извините, Сагида Максудовна, Шушкин вроде замерцал!» И пауза короткая повисла, и встала Сагида, а Лев Михайлович, оторвавшись от бумаг, взглянул резко. «Что? Сушкин? Не может быть!» Но Зина кивала головой и вертела ясными глазами, вызывая Сагиду. Лев Михайлович посмотрел на Сагиду и, поджав губы, кивнул, разрешая ей выйти и посмотреть самой, в чем там дело. Но нахмурился, — его все равно перебили, — и встал тоже, и вышел следом за Сагидой.
Зина не ошиблась: Сушкин «мерцал», началась аритмия, сердце его прыгало, пульс уходил за сто сорок. Лев Михайлович выругался и ушел, предоставив Сагиде делать все, что было нужно, что она и без него могла.
Сушкина посадили повыше, опустили ноги, поставили капельницу. Сагида уговаривала не волноваться, рассказывала, что мальчика уже забрали домой, он жив-здоров. Сушкин кивал, улыбался, плакал, и Сагида отводила глаза от его абсолютно счастливого лица. Отводила и снова возвращалась прикованно. Сквозь счастливое, уходящее лицо Сушкина глядела его добрая душа, и жаль было, так жаль маленького этого человека. Сагида знала все, что будет дальше. Но существо ее билось и кричало против этого знания и жаждало чуда. Она же не знала, что чудо было: Сушкин уходил, она оставалась.
Июль
«Татьяна, Татьяна, опомнись, что с тобой! — выговаривала она себе. — Ты замужняя женщина, у тебя семья, дочь, ты что!» И она старалась посмеяться над своей одурью.
Город, казалось, с ума сошел. Мужчины с ума сошли, женщины с ума сошли. Так и несло отовсюду, расширяя ноздри, грехом и соблазном. Жара текла восточная, день за днем, сутки тянулись, словно караваны в песках или плоты по медленной воде. (Только если бы на медленном плоту все метались, охваченные пожаром.) Странный созрел месяц июль на городском размякшем асфальте: после свирепой зимы, после пышной весны.
Город отправил половину людей в отпуск, на дачи, вывез автобусными колоннами детей. По выходным вовсе все вымирало. Подобно эпидемии или эвакуации, летний отдых затронул каждую семью: кого лишил кормильца, кого хозяйки. Из двух комнат одна стояла теперь нежилою, с зашторенным окном. Обеды на кухне не готовились, да и есть не хотелось, только пить. Фотографии мужа и дочери глядели со стен, как лица давным-давно пропавших куда-то людей. Явились холостяцкая свобода, праздность, и вместо привычных забот о других непривычная забота о себе: куда деть себя, чем занять?
Служба кончалась уже в половине дня, солнце стояло еще высоко, Татьяна шла пешком от Маяковской до Смоленской, покупала у метро себе цветы. Если ничего не придумать, сидеть дома, вечер будет тянуться, как смола, до тошноты, и захочется в конце концов пустить тяжелой пепельницей в телевизор. Короткая ночь прошмыгивала, как белая мышь, выспаться можно было за четыре-пять часов, словно в деревне.
Город отправил своих, но принял чужих, приезжих, наших и иноземных. Гости вели себя шумно, свободно, от них заразительно веяло любопытством, запретным, вольницей ночных праздношатаний. Парни и девушки шли на рассвете в обнимку, сидели на парапетах набережных, целовались на широких мостах. У них была своя жизнь как у птиц, и хотелось, как про птиц, узнать: что это за жизнь?
Зацвела ко всему липа. Ее дурман долетал вдруг среди ночи до восьмого этажа — подирало по коже, хотелось сесть и заплакать или исцарапать себе щеки, горло. Букетики липы стояли в стаканах на столике у маникюрши, в булочной у кассирши, по всем бесчисленным отделам мастерских «Моспроекта». Сорвешь на ходу веточку, сунешь в уголок губ, спеша через площадь на работу, — ну, просто девушка, абитуриентка, где мои семнадцать лет!..
Еще, по моде того лета, носили все свободное, открытое, кто во что горазд: и короткое, и длинное (ситцевые пестрые юбки до пят), кому как удобнее (будто это и не есть самое трудное: п р и д у м а т ь, как тебе удобно!). Жара еще прибавила свободы. Иногда такое входило на общее обозрение в вагон, или впархивало в отдел, или самоизвлекалось из такси — оторопь брала.
Кругом одно и то же: женские ноги, руки, бедра, женские глаза, мужские глаза, потные шеи, спины, запах дезодоранта. Три минуты в тесноте троллейбуса или метро, и атмосфера недвусмысленно накаляется: взгляды, притягивания, мимолетные, якобы случайные прикосновения, — такое создается электрическое поле, что, кажется, этой энергии хватило бы на перегон поезда от Преображении до Юго-Запада.
Впрочем, странно было бы, если бы мужчины не замечали того, что демонстрировали женщины, а женщины не фиксировали бы впечатление, которое производят их демонстрации. Все пули летели в цель, все мишени висели клочьями.
Придя домой, стоя под душем, Татьяна всякий раз думала, что вот вместе с потом и пылью смывает с тебя все грешные взгляды, липкие прикосновения. Но тут же возникало: лицо паренька, глядевшего на нее из заднего окна троллейбуса; веселый летчик в пельменной, где она перекусила: летчик проиграл глазами целый воздушный бой.
Эти маленькие победы хочешь не хочешь вызывали самодовольную усмешку.
Она ходила голая по дому. Она лежала голая поперек тахты и смотрела телевизор, свесив с тахты голову. Достаточно здоровая и дебелая, она принимала дурацкие позы, стоя в прихожей перед зеркалом. Корчила рожи. Или от нечего делать без конца стригла волоски на своем теле, ногти, давила, мазала. И конечно, бедные волосы то собирались в пучок, то распускались патлами, завивались, развивались.
Стыдно сказать, но она прислушивалась к бурной жизни Таськи с седьмого этажа: из ее раскрытого окна, снизу, неслись то песни, то вопли, то слезы, то стоны. Одинокая Таська работала продавщицей в продовольственном на Плющихе.
До того дошло, что безвинный и тишайший сосед по лестничной клетке, библиограф Володя из иностранной библиотеки, который и «здравствуйте» произносит еле слышно, и тот повадился: спички просить, хлеб и мялся в дверях, не уходя. У него тоже все уехали. А то вдруг явился однажды в шортах, предложил выпить вина, сверкнув очками.
«Мужики совсем с ума посходили!» — сказала Татьяна утром на работе своей подруге и соседке по столам Астре. Татьяна открывала окно, из которого сразу ударило грохотом города, а Астра прикуривала, как обычно, одну «беломорину» от другой.
Толстая, некрасивая, с выпученными от базедки глазами, умная и начитанная Астра глядела иронически, пыхтела в дыму, как паровоз. «Не мужики», — сказала она, — а у тебя самой, посмотри, вакантность на морде написана. Вакантность. Понимэ?»
Они посмеялись, но, пожалуй, слово было найдено правильно: вакантность.
Надо было что-то придумать, как-то перебить это тяжкое и в конце концов унизительное состояние. Она и без того никуда не ходила, никому не звонила, спасалась телевизором, отсчитывала время до родительского дня в лагере, скучая по дочке. Чуть ли не через день бросала открытки мужу Жоре в Мисхор, где он отдыхал, и даже написала (вот он удивится), что очень его любит и скучает.
Он время от времени звонил по автомату, веселый, ласковый, но отчужденный, явно не один, с компанией вокруг, кричал, что все в порядке, загорел, плавает с маской, кормят прекрасно, погода прекрасная, компания прекрасная, все о’кэй! «А ты там не это самое? — спрашивала она. — Смотри!» Он легко смеялся, подозрительно быстро понимая, о чем идет речь, и кричал: «Хотел бы даже — здесь страшила на страшиле, клянусь тебе!» И тут же у него кончались пятнадцатикопеечные монеты, его явно вытягивали из будки, все прерывалось. «Клянусь тебе! Целую!» — еще какое-то время звучало в ушах.
Но она не верила. То есть нельзя сказать: не верила. Так даже не стоял вопрос: верить или не верить? Она верила. И не верила. Об этом не следовало думать. Жоре тридцать четыре года, худой, спортивный, длинный, с черными веселыми глазами, он все остается мальчишкой, он душа любой компании, и женщины пялят на него глаза. Он никогда не был бабником, по-мужски, по-мальчишески любит спорт, маски, подводные ружья, футбол и хоккей, мотоциклы и всегда предпочитает мужские сборища. Тем не менее три года назад они пережили свою драму: Татьяна узнала, что Жора ей изменил. Пусть нечаянно, глупо, но изменил. Она хотела уйти, то есть даже ушла к матери, еще на старую квартиру, забрав четырехлетнюю дочку, и со зла изменила ему сама. То есть что значит изменила? Отдалась одному сослуживцу, Малыхину, по-дурацки, противно, сознательно, — они и теперь встречаются часто в коридорах или в столовой, как добрые знакомые, — это произошло лишь однажды, ночью, в его доме. Потом как-то быстро с Жорой все наладилось, исправилось, через три недели она вернулась домой, жизнь пошла по-старому. Или вернее, по-новому, потому что если прежде они жили еще как влюбленные, возлюбленные, то после этой истории стали жить успокоенно и упорядоченно, без прежнего задыха, остроты и безумства.
Дело не в том, верила она или не верила: она д о п у с к а л а, что все может быть. Она не ревновала, вот в чем дело. Курортный романчик? Ну и что? Теперь она знала, что сплошь и рядом так случается, и люди относятся к этому снисходительно. Приходит приятель, говорит смущенно (но игриво и победоносно): мол, вот так-то, братцы, такое вот тру-ля-ля, и все острят, хихикают, мужчины и женщины, хотя эти мужчины и женщины сами мужья и жены, и, коснись их, они будут страдать.
Совсем недавно, перед тем как Жоре уехать, приходил его товарищ, еще в армии вместе служили парнями, Петя Белопольский: перекусил на ходу, выпил водки, спешил: «Ну, я врезался, ребятки, ну, врезался!» И Жора хлопал его по загривку и благословлял: «Давай, Питэр, давай! Как говорил Саади, на каждую весну надо выбирать новую любовь!» И Татьяна тоже подыгрывала: «Влюбился? Ну, это же прекрасно! Мечта просто!» И ей не приходило в голову, что, может быть, так же Жора явится однажды к другу Пете (или являлся) с теми же словами, и Петя одобрительно похлопывал его, и Петина Оля тоже, и лишь вскользь советовала: «Только ты уж поосторожней, чтобы Таня не узнала». Ах, какие мы все свободные, легкие, ироничные, всепонимающие и всепрощающие! Какие мы современные, сложные, простые, честно-бесчестные, как смешон нам максимализм, и как мы все без труда выносим чужие беды…
Ну а что делать? Что вот делать ей, Татьяне, жене своего мужа, если, допустим, у мужа что-то там происходит? Что она может изменить? Ее устроило бы одно: ничего не знать. Вот и все. Умные люди так и поступают. Тогда, три года назад, она узнала насчет Жоры случайно. А могла бы и не узнать. И не было бы ни страданий, ни перемены их отношений. Так что же лучше? Ведь они не расстались совсем, все хорошо теперь, их семью ставят в пример. Прекрасно! — как говорит Жора. Прекрасно, да, но куда деть обман? Куда деть все наши высокие слова, мораль, возвышенные представления о том, как должно быть на самом деле?.. Но кстати, а как должно быть на самом деле? Может, так и должно, как н а с а м о м д е л е? Петя Белопольский приходил ведь на самом деле? Застенчивый Володя зовет выпить вина на самом деле? Она лежит здесь и мается от животного бабского вожделения на самом деле?..
Да, конечно, мы люди, а не животные, мы должны уметь управлять своими чувствами, что ж, вот, в частности, она лежит тут одна, на рассвете, на своей тахте — лишнее пространство которой, кстати, почти физически дразнит ее — и управляет собой. Она управляет собой, а в это время вакантность управляет ею. И выходит, что с е й ч а с она никакая не жена, не мать, а просто одуревшая баба. Самой стыдно.
Но с другой стороны, отчего же стыдно? Ведь это есть, это пришло помимо ее воли, это н о р м а л ь н о е человеческое желание, она не выдумала его или не вызвала нарочно, она не психопатка. И как знать, не честнее ли сдаться, кинуть кость этой собаке, которая жрет ее изнутри, согрешить? Ради очищения! Точно! Согрешить и покаяться…
«Жди мужа, дура, жди, змея, — говорила она себе, — не бесись с жиру, будь честной женщиной, не бери ты примеры с каждой…» — тут она грубо называла вещи своими именами, как это сделала бы Астра, — чтоб крепче было самобичеванье.
Но — «будь честной женщиной» — что это значит?.. А куда мысли-то деть? «А в мыслях мы не вольны» — как говорит та же Астра, повторяя чью-то цитату.
Было около пяти утра, а она уже долго не спала. Ее окно на восьмом этаже выходит на улицу, из него широкий вид на Москву-реку, на мосты, на Киевский вокзал (всю ночь сквозь сон она слышала бой вокзальных часов), на набережные. Улицы проснулись, умытые поливалками. Кроны лип набиты орущими птицами, как огромные круглые клетки. Солнце блестит на дальнем шпиле университета, напоминая Ленинград. Шумит первая электричка, и одинокая машина оголтело мчит через мост, одурев от простора. Слышны — подумать только — чьи-то четкие шаги.
Не пройдет и часа — грохот уличного конвейера сожрет все звуки, синяя гарь — запахи реки и липы, утренняя идиллия растает, город засучит рукава и пойдет греметь, делая свое дело.
Татьяна положила подушку на подоконник, подперла голову двумя ладонями, как скучающая тамбовская казначейша. Рассветный ветерок приятно обвевал плечи. По реке шла баржа, на которой не было видно ни души, и казалось, эта махина движется сама, как живая, что-то соображает. Уплыть бы куда-нибудь, что ли?..
Она незаметно склонила голову на подушку и незаметно крепко заснула, как провалилась. А проснулась — внизу уже все неслось, грохотало, желтый кран на стройке напротив нес, разворачиваясь, пакет панелей, и солнце ярко и жарко освещало стройплощадку. Соседка Тася внизу вытряхивала в окно простыни, плескала белым, у нее орало бодрой утренней музыкой радио, и сама она пела.
Город тут же сообщил Татьяне свой знакомый и спасительный ритм пятницы, последнего дня недели, и она бросилась, точно в воду, убирать, пылесосить (ради зарядки) и через полчаса уже все ненужно сияло, блестело, пахло по дому кофе и сама она, как всегда, была чиста, свежа, легка на ногу.
А вечером, как снег на голову, свалилась (пролетом в свой Норильск из Донецка, из командировки) Ирка Разгуляй, лучшая институтская подружка, с которой они не виделись года полтора. Года полтора! Как длинны стали, как все длинней становились их разлуки, — а ведь когда-то дня не могли прожить друг без друга. Ах, Ирка! Ирка Разгуляй!
Пошел дым коромыслом, Ирка умела оправдать свою фамилию. Часам к двенадцати ночи квартира выглядела так: на кухне остатки ужина, россыпью зеленые еще яблоки, бутылка из-под водки, которую они выпили в пропорции 2:1, по комнатам платья, лифчики, журналы, чемодан разинут, в ванной плавают розы и трусы, телевизор включен, но без звука, свет горит повсюду, окурки раздавлены о каждый спичечный коробок, у тахты на полу бокалы, две бутылки шампанского в тазу с растаявшим льдом, и так далее и тому подобное. Сама Ирка, загорелая, длинная, здоровая, как антилопа (она вообще смуглая и черноволосая, у нее бабка была гречанка), уже в чужом, Татьянином, халате, в ее же браслетах и кольцах, которые она примеряла и пока не сняла, валялась на тахте, пила, курила, с одной стороны играл магнитофон, под другим боком — телефон, глаза горели, ни о каком сне не могло быть и речи.
Но главное не это. Главное другое. Она в л ю б и л а с ь. Она влюбилась, влюбилась, влюбилась. Умереть. Сойти с ума. Две недели счастья. Но какого! Ничего подобного, никогда! Он главный инженер шахты. Тридцать пять лет. Жена, дети. Умница. Депутат. Орден Ленина. Смелый, как черт. Здоровый, сильный, красивый. Алеша. Алеша, Алеша, Алеша. «Танька, ты не понимаешь! Я не жила до сих пор, я ничего не знала! Он меня срезал, скосил, умираю! Я ничего не знала, я женщиной не была!» (Однажды она уже это говорила, но Татьяне неловко было сейчас напомнить об этом.) Ирка без стыда, как только может подруга подруге, поверяла все тайны; она каталась по полу, металась, хохотала и плакала. Два раза она набирала по автомату Донецк и разговаривала со своим Алешей по полчаса (сидя на полу, скрестив ноги, с сигаретой и бокалом в одной руке сразу, отпивая и затягиваясь). «Люблю… дорогой… я не могу без тебя… а ты?.. что ты делаешь?..» Она совала трубку Татьяне, чтобы та поговорила тоже, подтвердила, как Ирка его любит.
Татьяна тупо мямлила, не попадая им в тон, а на том конце тоже не больно звонко бубнил с южным, полуукраинским акцентом смущенный голос: что не пора ли, мол, баиньки (так он выразился). «Что делать, Танька, что делать? Я не могу, я умру без него!..»
Она все-таки попыталась напомнить Ирке, что подобное бывало раньше, что каждый раз она «умирала», влюбляясь, но Ирка не хотела слушать. «Дура! Ты не поняла ничего! Мне конец! Я брошу все! Я брошу Андрея, все брошу, я буду жить около него! Он не может, он депутат, его знают! А я могу!.. Это счастье! Это нельзя отдать!..»
Поначалу Татьяна включилась, настроилась на Иркину волну, радовалась и плакала вместе с нею, но потом устала. Можно было ожидать, что Ирка устанет, но где там! Как все безумством началось, так безумством и кончилось. В десятый раз Ирка повторяла, что сказал он, что сказала она, в три ночи опять набрала Донецк (бедный этот депутат, спасибо, его жена с детьми отдыхали в Крыму) и вдруг, когда Татьяна уже дремала, сорвалась, стала трезвонить в аэропорт, выпросила шестьдесят рублей, и — о боже, Татьяна опомниться не успела, как они мчались на рассвете в такси, мелькали березки, а билет будет или нет, неизвестно, народу полно, сегодня суббота, держись, Алеша!..
Но бог, как всегда, помогает влюбленным, в последнюю минуту Ирке продают оставшийся от брони билет, она бежит сама через поле к самолету, мелькая длинными ногами, с одною сумкой через плечо, а завтра ей обязательно надо вернуться, все ее вещи остались здесь, и Норильск ее давно ждет, неизвестно, что будет и как, все на острие ножа, и от ее счастья недалеко до несчастья.
Татьяна возвращалась потом с аэродрома в город экспрессом, автобусом, выжатая, как лимон. Устроилась одна на заднем сиденье, задернула от солнца белую шторку, полудремала. Отчего-то жаль Ирку, во всем чудился повтор, слишком все знакомо: уже сидела когда-то Ирка на полу, сложив по-турецки ноги, с телефонной трубкой в одной руке и с сигаретой и бокалом в другой, уже кричала она «умру!», и даже к самолету когда-то бежала через поле. Так артисты выходят играть все одну и ту же сцену, и только им одним это не надоедает.
И еще холодело на душе неприятное, смутное, сомнительное: Татьяна чувствовала сейчас и за Ирку, и за ее Алешу, и за ту незнакомую ей женщину, жену Алеши, которая отдыхала себе беспечно в Крыму с детьми. Она отдыхала, а Ирка шаталась голая по ее дому… «Ну-ну, не ханжи», — сказала она себе голосом Астры, но видение не проходило. И не оттого ли, не от этого ли самого видения разжигает честная Ирка такой большой, такой ненатуральный костер? Ведь б о л ь ш а я любовь все оправдывает. (Почему-то.) За большую все простится. Должно проститься… И то, как ты ходишь голая п о ч у ж о м у дому? Ложишься н е в с в о ю постель?.. «Ну-ну», — опять сказала она себе. В самом деле, теперь такое как бы и за грех не считается, подумаешь, это мелочи.
Она была почти у дома, вышла из метро на Смоленской, у гастронома, ей хотелось спать. Но она представила, что войдет и увидит сейчас ночной разгром, надо будет прибираться, мыть посуду, сметать Иркин пепел. «Иркин пепел…»
Она позвонила с улицы Астре и попала вдруг с корабля на бал. Астра закричала: «Ну где ты шляешься? Ты забыла?.. Бери такси, я одну тебя жду!»
В самом деле, ведь была уже суббота, а об этой субботе талдычили всю неделю. У мужа Астры, Николая Анатольевича, архитектора, приняли конкурсный проект, и намечалось отметить событие.
Астра много лет подряд снимала дачу в одном и том же месте, в Томилине, по Рязанке, у них была, по сути, своя половина дома, с отдельным входом, с отдельным просторным участком, на котором ничего не сажали, не возделывали. Николай Анатольевич решил устроить пир на воздухе, и конечно же с шашлыком. Гостей звали по раньше, на весь день, хозяин уехал еще с вечера, и гость ринулся на дачу охотно, до жары. Когда Татьяна с Астрой примчались около часу на такси, набитом сумками, бутылками, взятой напрокат посудой, по участку уже бродили и лежали мужчины без пиджаков, впустую суетились женщины. Уже была готова яма пылающих углей, а счастливый, лысый Николай Анатольевич, в майке и фартуке, нанизывал на шампуры бледное от маринада мясо. Он фыркал, напевал, отгонял мух, выкрикивал распоряжения и приветствия и еще успевал спорить об архитектуре с одним из своих соавторов, Смоляницким. Щуплый, рыжебородый, в затемненных очках и коротковатых джинсах интеллигент Смоляницкий подавал Николаю Анатольевичу двумя пальцами круглые дольки помидоров и лука и спорил твердо и запальчиво. Еще один соавтор, Икулов, белозубый бакинец, босой и голый по пояс, как разбойник, мотал листом фанеры над огнем, ровняя угли, и крепкое загорелое его тело (брюшной пресс, как у античной статуи) картинно блестело от пота. «А, кто приехал! Татьяна приехала!» — выкрикнул он весело. Они были знакомы.
Пир был как пир, как все такие пиры. Долго ждала шашлык, он то жарился, то не жарился, был сырой или горел. Сначала каждый кусочек терзали нарасхват, с едва прикрытой юмором жадностью, все проголодались, а потом Николай Анатольевич с пятью шампурами в руках, чуть не плача, а за ним Икулов с подносом, ходили, уговаривали: ешьте, пожалуйста. Сначала все торжественно сидели за белым столом, собранным из разных столов и ящиков, а потом кто где, на траве и на крылечке. Сначала поднимали тосты, произносили проникновенные слова, потом дули так, кому сколько влезет, без тостов; сначала казалось, что вина — море (кто будет пить в такую жару?), а потом ездили на станцию прикупать еще. Кто-то уже спал, развалясь в гамаке, а кто-то дурачился, побивая гостей из шланга.
Икулов ухаживал за Татьяной. Белые его зубы и черные глаза так и сияли перед нею, куда ни обернись. «Я вас монополизировал». Он подливал, подкладывал, целовал, когда она удачно острила, руку, открыто любовался ею, плясал для нее с ножом в зубах и осаживал сильно перебравшего соавтора, которому Татьяна, видно, тоже понравилась (вакантность, вакантность!). Смоляницкий внезапно нависал сзади с рюмкой в руке, щелкал каблуками, стараясь держаться совершенным кавалергардом, снимал очки, считая, видимо, что так он красивее, и по-детски мигал на солнышко большими глазами небесной голубизны.
С женщинами как-то не удалось, их оказалось меньше мужчин, все с мужьями, и Татьяна, самая молодая в этой компании, без пары, захватила внимание. Ее это вдохновило, она почувствовала себя легко и в какой-то момент, уже чуть хмельная первым хмелем, который обычно затем проходил, увидела себя, нравясь себе со стороны, стройной, высокой (стройнее и выше, чем на самом деле), в белой юбке, светло-розовом батнике со стоячим воротничком, с косыночкой, конец которой продернут в верхнюю петлю батника, со светлыми, вымытыми в ромашке, распадающимися (но ровно настолько, насколько нужно) волосами, с грациозно отставленной рукой, в которой — прости, Ирка! — сразу и бокал и сигарета. Вот так она стоит, смеясь, под старой елью, в закатной тени, а вокруг, на земле, валяются (буквально) мужчины.
Когда ехали в такси, она говорила Астре, что первый делом ляжет и поспит хоть час, но теперь и не думала об этом.
Честно говоря, она уже позабыла, как это бывает: компания, свобода, ты одна, делаешь, что хочешь. Уже осел в ней опыт замужней женщины, семейных застолий, с детьми, с мужьями. Выступать в роли одиночки, завлекательницы она и прежде не умела, — всегда была второй при ком-нибудь из подруг, — и что такое случилось сегодня — сама не понимала. Но — случилось, получалось.
Потом, уже в темноте, вдруг собрались купаться — далеко, на озеро, точнее, на бывший карьер, и отправились человек семь. Астра не пошла, устала, ухаживала за мужем, — Николаю Анатольевичу стало плохо, его рвало, видно, объелся, бедный, своего шашлыка. Астра сказала только: «Икулов-то! Смотри, мать!» А Икулов стоял тут же, сверкая зубами, терпеливый, мягкий, предупредительный, в меру дикий и в меру интеллигентный, тихий, как кот, в расстегнутой до пупа рубашке. Совсем свой. Наблюдал, прищурясь, как мышка делает последний шажок к мышеловке.
Но между прочим, не сдавался и запальчивый Смоляницкий, силой духа весь день держась на ногах. Преподносил вдруг, бог весь откуда, огненный пион, под носом у соавтора увлекал Татьяну танцевать. Теперь он тоже выкачнулся из-за спины Икулова, сделав руку колечком, первым предложил Татьяне идти.
Они купались в светлой парной воде, блестевшей редкими звездами, они с Икуловым заплыли дальше всех, и он подныривал под нее, пугая, и касался ее тела. Невзначай. И подавал ей руку потом. И придерживал за талию. И оберегал. А она молола без передышки чушь, раскатывалась пляжным смехом. А он придерживал, дотрагивался. Неотвратимо. Проверял: да-да, нет-нет. Бедный Смоляницкий, не умея плавать, плескался у берега, и над озером раздавалось его городское, дилетантское«ау!»
Они вышли на берег в другом месте, как бы играя в прятки со Смоляницким, дурача его. Здесь белел твердый, чистый песок. Татьяна упала на него, полузадушенно смеясь. И Икулов тоже шипел «тсс!», опускаясь рядом. И опять (совсем невзначай, в припадке веселья, чисто по-дружески — поди скажи что-нибудь) положил свою ладонь на ее колено, и (конечно же лишь корчась от смеха) ткнулся мокрой головой в ее бедро, и (нечаянно, уж совсем это нечаянно) прижался на секунду ухом к ее груди. Выл Смоляницкий, одна яркая звезда сияла в темно-бледном небе, мышка вбежала в мышеловку, ей оставалось только схватить приманку. Еще секунда промедления будет означать согласие. Ну! Потом его уже не остановить. И самой не остановиться. Ну!.. И, опершись локтями, она вскочила… Нет, не вскочила, он перехватил ее, вскинул, понес к воде. Понес, и вошел с нею в воду, и бросил ее, как с вышки, — она заорала и плюхнулась с головой.
И в воде он уже и топил ее, и хватал, и с криком «акула! акула!» шел на нее тараном. Она изнемогала от хохота, ныряла, отбивалась ногами.
И все это — лишь затем, чтобы скрыть, спрятать то настоящее, что произошло. Она не захотела. В ту секунду, на песке, она нутром ощутила: нет, не надо. Даже не потому, что ей потом не отмыться бы и не простить себя. Что-то другое сработало. Оказывается, не т а к о г о она все-таки хочет. Нет.
Напоследок, еще в воде по грудь, когда они уже стали на ноги, Икулов схватил ее и с силой прижал к себе, будто собрался поцеловать. А сам спросил чуть вкрадчиво, чуть насмешливо: «Ты что, девушка?» Как бы шутя. Она, слава богу, нашлась (не зря была весь день в ударе), ответила — тоже как бы шутя, но и вполне серьезно: «Нет, я — женщина». (Даже загордилась потом, вспоминая, к а к ответила.)
Вообще-то чуть стыдно стало и жаль человека. Слишком заигралась, они не дети. Тоже еще динамистка. Теперь, кажется, так не положено. Ну а с другой стороны, в чем дело? Почему все должно быть просто, доступно? Ведь что-то ее остановило? Хотя она уже бегала по самой мышеловке. «Я женщина». Правильно. Есть женщины и есть бабы. В этом вся разница. И не Икулова надо стыдиться, а Смоляницкого, — ну как бы она выглядела в его глазах, если бы Икулов завтра, подмигивая, рассказал бы соавтору, что случилось, пока он кричал свое «ау»?
А что касается Икулова… ничего, больше будет уважать. Женщин. Ровно настолько, насколько он уважал бы их меньше, случись все иначе.
Потом они шли назад, вокруг светились дачи, лаяли собаки, неслись песни из телевизора. Не было двенадцати, а там, на озере, казалось: уже глубокая ночь. Соавторы поотстали, заспорив вдруг о подземных гаражах и универмагах. Татьяна ушла вперед. Так захотелось домой. Чтобы прийти, а там Жора, там Маруська, все на местах. Казалось, они одни могли спасти ее, где ж они?
Хмель прошел, игра кончилась, в какие-нибудь полчаса настроение поменялось с плюса на минус. Пожалуй, теперь она даже чувствовала себя оскорбленной, оплеванной. Не приключения ей хотелось — как это мужики не понимают, — не приключения, а увлечения. Что ж он решил? Что она — кто? (Она снова назвала вещи своими именами, как это сделала бы Астра.) Ей стал противен и Икулов, и дача, и весь этот день, и сама она себе тоже. Пошлятина. Вот это и есть пошлятина. Отставлять ручку с бокалом и сигаретой, а потом позволять хватать тебя первому встречному.
Тем не менее вскоре они ехали опять большой группой в электричке, мужчины еще выпили на посошок и пели песни. Смоляницкий заливался — откуда силы брались в этом тщедушном теле. Икулов как ни в чем не бывало продолжал ухаживать, гипнотизировать, — видно, не шло у него из головы, что м о г л а хлопнуть мышеловка. Он сидел напротив, вагон мотало, а Татьяна, едва опустившись на скамью, прислонилась виском к стенке и стала проваливаться в сон, моргая глазами.
Икулов со Смоляницким проводили ее до самого подъезда и, кажется, еще рассчитывали зайти. Она им отказала. Поднималась в лифте, расстегивала на ходу юбку, которая весь день впивалась в бок, и, стоя, спала, мечтая об одном: как войдет и рухнет.
Но на том и кончился ее сон. Еще не доехав доверху, она услышала крики, матерщину, удары. На седьмом за решеткой лифта мелькнули свекольные рожи, белые ножки воздетой вверх табуретки, рвался женский визг. Татьяна поняла: у Таськи. О господи, как бы прошмыгнуть незаметно! Но где там!
Таське на седьмом, вправляла мозги подруга Светка за своего Витьку, а Витька вкладывал ума Светке; Витькин же друг Колька учил заодно Витьку за Светку, а Таська врезала Кольке, разбив ему скулу до крови; а еще все вместе колошматили некую пожилую Люську, которая заначила поллитру в ящике на лестнице, где пожарный кран.
Всю эту информацию, во всех подробностях, с повторами, Таська считала необходимым довести до сведения Татьяны, прося у нее защиты. Дело продолжалось до пяти утра: смывали кровь, прижигали раны, держали на голове лед. Являлась милиция, которую вызвали соседи, но, правда, к тому времени ураган уже унесся: Люська бежала, Светка увела Витьку, а Колька спал без памяти на Таськиной софе. А сама Таська, сидя у Татьяны на кухне (в который уж раз!), омывала слезами свою непутевую жизнь. В разорванном на спине кримпленовом платье, босая, с царапинами на шее и щеках, толстоногая, толстогрудая, толстоносая, с золотыми серьгами и кольцами, Таська была сжигаема средневековыми страстями, дворцовой сложности интригами. Она с екатерининским размахом вела свои сексуальные дела, тасовала фаворитов, как карты: приближала, ввергала в опалу, покупала, отбивала; то держала мужской гарем, то сама, забыв все на свете, подчинялась некоему падишаху хамовнических молодых дворничих, продавщиц и малярш из конторы по ремонту квартир. Что х о т е л а, то и д е л а л а. И лишь сейчас, в приступе обиды, получив по морде, не в силах смириться, что Витьку все-таки увели, она выстанывала жалкие, но хоть человеческие слова. Впрочем, ее бесстыжие глаза все равно были непроницаемы, как у зверя, и слезы бы ее высохли в секунду, вытирать не надо, помани ее вдруг кто-то, пощекочи ее никогда не дремлющее желание.
Таська сама запирала дверь на цепочку, пугала: убьют. Татьяна постелила ей у себя. Но едва легли, Таська со словами: «Ты спить, Таня, спить!» — прошла на толстых своих цыпочках через комнату и удалилась. Куда? К побитому Кольке Витькиному, что ли?..
Так прошла у Татьяны вторая бессонная ночь. А в девять уже позвонил Икулов. «Какие планы? Не желаете ли погулять? Один приятель дал машину». — «Нет, спасибо, я еще сплю (черт, надо было выключить телефон!), у меня подруга, я никуда не могу, подруга прилетает». — «Тогда я приеду», — сказал Икулов, и она увидела его улыбку. «И Смоляницкого не забудьте захватить», — ответила она. А он сказал: «Хорошо», — и тут же, бес хитрый, положил трубку.
А через час действительно позвонила Ирка, причем уже из Москвы, из аэропорта, просила срочно привезти ей чемодан в Домодедово. Голос у нее был трезвый, мрачный. «Ты что такая? Что-нибудь случилось?» — «Ничего, приезжай, через час жду тебя прямо у входа».
Вот когда пригодился бы Икулов с машиной. Но пришлось волочиться с чемоданом и с сумкой с зелеными яблоками на Садовое, ловить такси. День опять плыл жаркий, по «Маяку» передавали: двадцать шесть градусов. А после вчерашнего мышцы ныли, тело казалось опухшим, тяжелым. Краситься, причесываться по такой жаре — нет сил. Платье она надела старенькое, попросторнее, «с продувалом», без рукавов, и ноги сунула в сабо, в которых тоже только по дому ходила. Неприбранную голову охватила наспех косынкой. И эдакой марфуткой с чемоданом поехала. Город поражал пустотой, на новом шоссе к Домодедову машин почти не встречалось, в этом чудилось нечто нереальное.
Ирку она увидела издали, подъезжая с фасада к аэровокзалу, — та ходила по самому солнцепеку, сутулясь, в разноцветно-полосатом жакете. Сердце сжалось: невесело она ходила. И вообще, как ни грустно, с одного взгляда, со стороны, было видно: не девочка, и неуловимо провинциальное обнаруживалось в этом жакете, в сумке. (Вспомнился не очень-то интеллигентный говор Алеши.) Есть женщины, которые хорошо смотрятся на улице, а другим идет комната. Впрочем, когда-то Ирка всюду великолепно смотрелась. Что ж, шесть лет в Норильске, в стройуправлении, на их вечной мерзлоте, даром это не проходит.
Ни посидеть, ни поговорить толком они уже не смогли. Из нескольких фраз стало ясно, что Алешу своего Ирка просто не видела. То есть потом она говорила, что видела, но только он, мол, очень устал, что-то случилось у них в шахте. Но кажется, это уже относилось к области желаемого, а не действительного. Словом, когда она прилетела, он ее не встретил, прислал шофера, шофер отвез ее в гостиницу (да еще что-то, видимо, брякнул по дороге), и весь день и всю ночь она провела в номере, не выходя, у телефона. «Знаешь, эти сутки в пустом номере…» И Татьяна тотчас поставила себя на место Ирки: как она летела, мчалась, а тут черная «Волга», шоферюга, вполне определенно поглядевший на тебя: «Просимо у готель!» И час за часом в этом «готеле», у телефона — отрезвеешь. «Я думаю, он был в Ялте, а не в шахте».
Они прослезились, обнявшись, и Ирка пошла по стеклянному коридору, часто оглядываясь, махая рукой. Сейчас у нее, как когда-то, нет никого ближе Татьяны. Господи, как она приедет домой, к мужу? Как ей жить? Что говорить? Что делать?.. Все-таки измена есть измена, что ни говори и чем ни прикрывай ее. И изменять все равно что воровать. Иначе отчего бы нам этого стыдиться? Это только так кажется, что в измене есть шарм, что она извинительна и даже почетна. Нет, кража есть кража, как ни обставляй. И не зря честная Ирка раскладывала большой костер: Л ю б о в ь. Потому что если не любовь, то опять-таки пошлятина, кража. Находи какие хочешь объяснения — ведь крадут из нужды, с голоду, и есть люди, которым украсть все равно что плюнуть, украл и забыл, — но мы-то не воровки, мы не клептоманки, и мы претендуем на то, что совесть наша чиста. Не так ли?
Татьяна ехала назад в электричке, бесконечно долго, в духоте и все думала об одном и том же, и Ирка стояла перед глазами. Какая будет ей расплата за две безумные недели, за этого Алешу, которого она, может быть, больше никогда не увидит? И за ее воздушный замок, который рухнул так скоро?.. Но все-таки, может быть, она права? Может, это лучше, чем сидеть вот так, как сидит она, Татьяна? Все относительно.
Она вернулась домой, осторожно открывала и закрывала двери (в свой-то дом!), чтобы не привлечь внимания Таськи. Выключила телефон, ушла подальше, в спальню, затворилась, приняла таблетку снотворного и — провалилась. Как будто кто-то звонил, звал, орал песни, сменяли, сметая друг друга, сновидения («снови́дения», говорила умная Астра, которая умеет разгадывать сны). Преследовал эротический, похабный кошмар, в нем принимала участие она сама, Таська, окровавленный Колька, и она испытывала во сне отвратительное наслаждение — спасибо, ничего потом не запомнилось, растаяло. Она все не просыпалась.
Так она проспала полсуток, в три ночи прошлепала в туалет, напилась холодного молока из холодильника и опять заснула, до самого звонка будильника.
А утром вскочила бодренькая, напевала. Побежала по лестнице, без лифта. Правда, на улице снова обдало жарой, отцветающей липой, дымом гудрона и желтых дорожных катков, утюживших Садовое. В троллейбусе — снова давка, на работе — те же прокуренные коридоры, те же лица, те же шутки, аванс — получка, получка — аванс. В отделе вместо восьми человек работало трое, Астра с утра полаялась с шефом, сидела злая, в табачном дыму, да еще по телефону поругалась с Николаем Анатольевичем: ему, видишь ли, взбрендило полететь с Икуловым в Баку.
Услышав эту новость, Татьяна испытала облегчение, но вместе с тем досаду: что ж он так, в Баку? Женщины не любят, когда от них отступаются, будь то сам черт. Но в ней осталась уверенность: мол, с этим-то ясно, только пальцем помани. Хотя зачем это нужно, она сама не знала.
Татьяна работала над сметой, которую уже утвердили два месяца назад, но затем два месяца оспоривали, уточняли, корректировали: потому что подрядчики, естественно, просили прибавить, а заказчики жмотничали. То есть они могли заплатить, но им требовались обоснования. Роль группы, которая работала над сметой — и Татьяна в том числе, — сводилась теперь к тому, чтобы вопреки той смете, которую они сами составили, составить новую и доказать к тому же, что там, где они писали «два», следовало писать «три». Словом, работа гнусная. Но зато как раз сегодня Татьяне предстояло ехать в подрядную организацию, в трест, на Юго-Запад, чтобы кое-что уточнить на месте. (Хотя и это уточнение было фикцией, как и все остальное.) И она, конечно, рада была умотать в Тропарево, лишь бы не сидеть в конторе. Тем более что давно собиралась на квартиру матери, полить цветы, — мать с отчимом, оба биологи, два месяца назад уехали в экспедицию в Киргизию, Татьяна присматривала за их домом.
Квартира у матери — новая, даже новенькая, с иголочки, в модерновом кооперативном доме, совершенно непохожая на их старую, бабушкину квартиру на Земляном, на улице Чкалова: там было тесно, шумно, коммуналка, длинный коридор, дрова. Все свое детство Татьяна спала на раскладушке. На подоконниках, в деревянных противнях, мать выращивала причудливые ростки, в колбах бухли водоросли. Своего отца Татьяна не помнила, он умер молодым, вдали от Москвы. А отчим появился всего семь лет назад, Татьяна уже вышла замуж.
Новая квартира блестела, здесь все перестроили и переделали, как захотели хозяева, и выдержан был один светлый стиль: светлые обои, светлое дерево, минимум мебели, встроенные шкафы. В спальне находилась спальня, в столовой столовая, в гостиной гостиная — само это распределение уже отдавало новизной и роскошью, ибо та же мать полжизни ютилась в одной комнате, которая ночью становилась спальней, в обед столовой, при гостях гостиной. Но теперь Татьяне казалось, что там, на Чкалова, было лучше.
Рабочие кабинеты и лаборатории матери и отчима находились у них в институте, библиотека и архивы на даче, поэтому здесь книги и журналы скапливались лишь художественные, цветы и растения — лишь декоративные. Цветов, однако, держали много, они заполняли подоконники, свисали сверху, стояли на полу.
Татьяна вошла, как в оранжерею, и ее тут же охватила тревога. Цветы кричали, плакали, казалось, бросились ей навстречу. Вот стебель склонился донизу, вот листья тряпками пали по стенкам горшка, вот, как руками, растение обняло пересохший веревочный жгутик, по которому вода поступала к нему из банки, а теперь банка стояла сухой, с дохлой мухой на дне. Закутавшись с головой, будто из берлоги, пыхтели плотоядно одни кактусы.
Как к гибнущим детям, ругая себя, Татьяна кинулась к цветам — поливать, — словно минута могла решить их участь. Бедные, они бессильно плакали, не веря в спасение, безмолвный их крик затих, они погружали себя в воду, как рыбы, они дышали. Проклятая жара. Лишь один-два казались совсем безнадежны, желтизна пробила листья, высушила до ломкости их края. Теперь сухая земля повсюду почернела, в подставках щедро блестела и на глазах исчезала, впитывалась вода. Татьяна поймала себя на том, что без остановки говорит с ними: бедные, бедняжечки, сейчас, сейчас.
Она открыла узкую боковину окна, глядела с пятнадцатого этажа на затянутый полуденным маревом незнакомый город. И высота, и ракурс, и дом — все ново-чужое. В этом Тропареве, носящем такое смешное для города, деревенское название, не оставалось тем не менее ничего хоть чуть-чуть напоминающего деревенскую, деревянную Москву, дух которой еще сохранялся в детстве в Заяузье. Так же как в новом доме матери невозможно отыскать ни одной вещицы из прошлого, ни единой тряпицы или безделушки, от которой бы пахло словом «мама», так и в этом раскинувшемся внизу, по-своему роскошном и вызывающе современном жилом массиве нет ничего от города Землянок, Солянок, Сыромятников, Хитровки.
В прихожей у матери, рядом с парижской акварелью, беломорской иконой и фантастически красивой моделью ДНК, висела увеличенная, под стеклом, фотография Татьяны с двухлетней Маруськой на коленях. Хорошая фотография, удачная, летняя, они обе в сарафанах в горошек, и обе совершенно одинаково щурятся на солнце, морщат носы. Татьяна вдруг подумала, что этой фотографии, этого знака о том, что у нее есть дочь, дочь и внучка, матери вполне достаточно, этим и исчерпываются сегодня их отношения. Впрочем, они всегда были далеки. Мать слишком занята, мать талантлива, посвятила себя науке, а теперь живет заново иную, ничем не похожую на прежнюю жизнь. Чужой мир, с которым и у Татьяны нет, по сути, никакой связи, кроме этой фотографии.
И еще с удивлением глядела она: сколь светлее, тоньше, моложе было пять лет назад ее лицо. И лучше. Глаза лучше, взгляд. Чище, что ли? Шея еще юная, не женская, руки тоньше. Ах, черт возьми! Маруська, дитя, и та казалась тоже лучше и чище, чем сейчас, в этом младенческом, с крылышками, сарафане. Теперь она капризничает: «Что ты мне, мамка, надела, с ума сошла!»
Татьяна заспешила, глянув на часы, обернулась напоследок к цветам. А они уже ожили, успели. И стебель, который оставался склоненным, уже склонялся не так, чувствовалось, выгибал вверх спинку. И листья, лежащие по стенкам горшка, уже не лепились к нему полугнилью, а набухли и чуть отпрянули. И весь мелкий цветочный сад, прямясь и вытягиваясь, беззвучно пел, ликовал.
Однажды в метро Татьяна наблюдала группу глухонемых парней и девушек — одеты, как все, неотличимы от всех. Они кого-то проводили, усадили в вагон и вот, когда двери закрылись, будто побежали, рванули следом, но оставаясь на месте из-за тесноты перрона. И махали руками, кричали, смеялись, выражая море чувств и не издавая при этом ни звука. Так и цветы. Они жили, волновались, некоторые уже и прихорашивались. И они словно бы старались не смотреть в сторону тех двух горшочков, которые пока так и не подавали признаков жизни.
Татьяна сказала цветам на прощанье еще несколько ободряющих слов, обещая не оставлять их больше надолго. И вышла, странно опустошенная и странно обновленная. Хотя это обновление отдавало скорее отчаянием, чем покоем.
В управлении она решила все дела в десять минут и позвонила Астре, чтобы та не ходила без нее обедать: она чувствовала вину перед Астрой, что бросила ее сегодня одну.
И с обеда они уже не расставались. А после работы Астра решила идти к Татьяне ночевать, совсем разобиделась на своего Николая.
Между прочим, в обед, в столовой, им попался на глаза Малыхин. Они стояли с Астрой в очереди, еще с пустыми подносами, а он, уже с полным подносом, отходил от кассы, искал место по залу, поблескивая очками. Очень загорелый, похудевший — должно быть, из отпуска, — в голубоватой рубашке с коротким рукавом — такой прогресс, такая для него вольность, он всегда при галстуке. И все-таки, как обычно, он выглядел чуть нелепо, лишних полминуты толокся на одном месте со своим подносом, как в кинокомедии, и его улыбка, милая и застенчивая, казалась жалкой и даже угодливой. Его не красили к тому же ни залысины, ни очки, ни эта рубашенция, ни брюки, сшитые явно не в Доме моделей. И кажется, на подносе у него стояло сразу два супа, в такую-то жару. Не самый лучший кавалер Малыхин, что говорить, таким не погордишься. Хотя всем известно, что он умный, образованный, безусловно, хороший человек и замечательный работник.
Они переглянулись с Астрой, прыснули, как школьницы. Малыхин их не видел.
Астра, кстати, ничего не знала о том случае с Малыхиным. И никто не знал. А уж Малыхин — она была уверена — не скажет об этом никогда. Неужели она скрыла это даже от ближайшей подруги лишь потому, что это Малыхин? Была бы какая-нибудь знаменитость, красавец, их зам. генерального Тифенберг Андрей Иоганныч, неотразимый мужчина, по пять месяцев в году шастающий по заграницам, переспать с которым у всех секретарш считается делом чести, то и ничего? Так, например, что ли? Пошлятина, пошлятина.
Она припомнила то время, когда Малыхин целыми днями крутился у них на этаже, все смеялись над его влюбленностью, а она раздражалась и досадовала. Но когда понадобилось, пошла именно к нему.
Мимолетная эта встреча ничего не означала, впечатление от нее застыло без обдумывания, без развития. Просто было зафиксировано: Малыхин. Загорелый, в рубашке-тенниске. И все. Мушка пролетела и качнула паутину, больше ничего.
Как они пировали в тот вечер с Астрой! Уж они отвели душу. Устроили праздник для пуза и для души. Закатили ужин — какой пожелали. Это называлось — разгрузочный от диеты день. Каждая жрала то, что любит и сколько захочет. Была здесь и жареная картошка, и яичница, и соленая рыба, и белый хлеб с маслом, и ветчина, и помидоры. И белыми корками вымакивали сметанный соус из-под салата, и зажарили на ночь глядя, с ума сойти, купаты. Кофе пили сладкий, с пирожными — специально заходили на Новый Арбат в кулинарию. Потом Астра дула свой любимый с девичества кагор, а Татьяна рислинг со льдом.
Чего они только не делали и кому только не перемывали косточки. Смотрели телевизор и поливали на чем свет стоит всех, от дикторш до президентов. Гадали на кофейной гуще и на картах. Примеряли шмотки и менялись, хотя Астра была в полтора раза ниже и толще Татьяны. Прокляли свою работу, оффис, шефа и красавчика Тифенберга заодно. Они выяснили, что все мужики дерьмо, и их собственные в том числе. Они красили ногти. Пели. Снова ели и пили.
Астра говорила и говорила, со страстью, как все она делала, и выпучивала глаза, и плевалась дымом. О, она поднялась сегодня высоко, и язвительный ее ум служил ее плохому настроению. Мир и природа — хаос и случай, жестокость и несправедливость. Мы ни черта не смыслим, а сама смерть стережет нас каждую минуту за каждым углом и смеется над нами. Все условно, нравственность — самообман, лишь щит от ужаса, который охватил бы нас, взгляни мы в лицо правде. Толстая и несчастная, со злыми слезами на глазах, Астра пыхтела из дыма, что умный человек поэтому поступает так, как ему удобно с е й ч а с, а иначе он лжет или дурак.
Татьяна слушала, поддакивала (она перед Астрой была, как Таська перед ней самой), хотя понимала: Астра говорит о том, о чем им обеим сейчас нужно и хочется услышать: о дозволенности. Мол, все к черту и делай, что хочешь.
Но если вспомнить, совсем недавно (после одного фильма, который они побежали смотреть, соблазненные шумной рекламой) Астра говорила совсем другое. Раздуваясь лягушкой и брызжа слюной, она с такой же яростью крушила авторов современной Анны Карениной, которые доказывали, что женщина имеет право на свободу, на порыв (и даже на два порыва, если захочет). Т о г д а Астра кричала, что все всё запутали. Трактуют освобождение женщины от неравенства с мужчиной, равняясь почему-то на мужчин-кретинов. Как будто все мужчины, поголовно, только и делают, что врут и изменяют. И следовательно, бабам надо поступать так же. И многие так и поняли это освобождение: как освобождение от долга, материнства, женственности, жертвенности и, главное, от верности. Как удобно ленивым и тупым телкам! Каждый каприз, прихоть, говорила Астра, то есть то, с чем человеку н е о б х о д и м о бороться в себе, чтобы не обратиться в животное, возводится в мерило свободы или несвободы, в доблесть, в категорию нравственного, а не безнравственного. Запутали, забыли, что Анна Каренина под поезд кинулась от всех своих радостей. Все в полет в какой-то манят. Тут полет, а там проза. Тут змий с яблочком, а на этой чаше тарелка супа. (Как будто все полеты все равно не кончаются тарелкой супа!) И отчего же проза, хрипела Астра, хуже стишка? Она не хуже, да только читать надо уметь.
И т о г д а Татьяна была полностью согласна с Астрой — о недозволенности, — как и т е п е р ь согласна — о дозволенности. Отчего? Оттого, что сегодня х о т е л о с ь позволить? И только? И для этого один закон нужно было сменить на другой?
Все кончилось тем, что Астра разревелась. Мол, она устала, у нее базедка, печень, ей тридцать пять, а она чувствует себя старухой. Ей опостылела работа, она вообще не любит работать, а любит дом, готовить, печь печенье. Почему? Почему она не может сидеть дома и печь печенье?..
Татьяна уложила ее и готова была разреветься сама. Потом лежала без сна, измученная, раздутая от жратвы и питья, возбужденная крепким кофе, маялась. Вслед за Астрой она еще курила сигареты — пальцы и волосы раздражающе воняли дымом, она растирала на пальцах духи. А от духов стало душно, пришлось идти мыть руки. А поднявшись, она принялась за посуду. Потом бросила, вернулась.
Астра храпела в другой комнате, смотреть на нее, спящую с открытым ртом, было неприятно, и сердце сжималось, как подумаешь, что Астре тоже хочется ласки, красоты, любви, утонченности. И не тоже, а ей особенно, потому что она умна и способна оценить то, чего другие оценить не сумеют. Господи, как жалко всех женщин на свете, и всех людей, и себя!..
Ей опять чего-то хотелось, куда-то влекло. Примерещилась бабушкина квартира на Земляном, Жора, Маруська. В девчонках, в юности, вспомнила она, тоже было трудно: она росла дичком, страдала от патологической застенчивости. Однако в длинном коридоре, за шкафами, шалавый мальчишка Борька Липовский, сосед, прижимал ее и тискал, когда им было по четырнадцать лет. Стыдно признаться, но она сама, случалось, поджидала Борьку за шкафами, чтобы он схватил и прижал, молча, не глядя, жарко дыша.
Своего Жорку она вспоминала таким, каким он был в год их встречи, их свадьбы, любви: они уносились на его мотоцикле в Серебряный бор, в Кусково — это были места их юного супружества, медового лета.
Видения сменяли друг друга — под храп Астры, под куранты Киевского вокзала, под ночную гонку самосвалов, и ей грезился еще некий образ, незнакомец, обаятельный и прекрасный, которого она встретит. Он посмотрит и все поймет, возьмет за руку и все почувствует. Его взгляд пронзит и согреет, его улыбка умиротворит навсегда. Он уйдет потом, не останется с нею — это было бы слишком хорошо, — но то малое, что он ей даст, станет для нее огромным, потому что будет дано вовремя, — и хватит ей надолго.
Она успокоилась и вроде бы уже засыпала, как вдруг — куранты уже пробили половину третьего, и небо осветлело над вокзалом — села на постели и даже спустила ноги на пол, отчетливо зная, что нужно сделать. Сейчас, сию минуту. Это было ясно, как день. Вон телефон. Надо только унести его в прихожую или закрыть дверь, чтобы Астра не услышала. Никаких незнакомцев, обаятельных и сказочных, журавлей в небе. Она должна позвонить Малыхину. Да, прямо сейчас. Ма-лы-хи-ну. Смешному, нелепому, такому-сякому Малыхину. Это то, что у нее есть. Наверняка. Это ее. Она верит в этого человека больше, чем в мать или дочь. Он будет таким, как ей нужно. Со словами или без слов. С продолжением или без. С улыбкой или слезами. Он будет счастлив, если она придет. А ведь так хочется осчастливить, отдать — в конце концов, она рождена, чтобы отдавать, чтобы осчастливливать.
Она ничего не вспомнила, не позволила себе — лишь его подъезд, в Измайлове, они подъехали вечером, зимой, на такси, дом выходит прямо на Первомайскую, где хозяйственный, слева от метро. Она бы нашла.
Все отчетливо и просто: вот телефон. Она м ы с л е н н о набрала номер (оказывается, помнила всегда — на всякий случай) и услышала заспанный, но сразу же настороженный, внимательный голос: ведь он тоже знает, к т о может ему позвонить. Она мысленно молчала в трубку, прикрыв пальцами микрофон, чтобы не дышать в него, и на том конце молчали и ждали. Он не клал трубку, и она не опускала. Она знала, что он понял. А она поняла, что он ждет.
Она сделала этот звонок в своем воображении, и настолько отчетливо, даже устала от напряжения, — будто на самом деле позвонила. Не позвонила, а все-таки позвонила… Разве не позвонила?..
Били часы, небо светлело, она спала.
А утром снова был дом, посуда, город, желтые катки на мостовой, жара, а вечером телевизор, Таськины песни и Таськины стоны на седьмом, скука, и тек, тек до самого своего конца месяц июль, тяжелый, будто каторжное ядро, прикованное к ноге. Но вот упал наконец с неба Жора, свалился из внуковских небес, стройный и черный, как канатоходец Тибул, которого превратили в негра, с букетом красных канн и корзинкой недозрелых персиков. Он обнял ее, погладил по голове и поцеловал в нос — чужой, прекрасный, в запахах солнца, моря и вина, с серебряной — видите ли — цепочкой на шее, как киноартист. Он кому-то махал, с кем-то ее знакомил, — прекрасные парни, тетя Таня! — он еще принадлежал этим попутчикам, морю, пляжу, багажу, даже сигареты у него украинские, а не московские, но она уже, сама того не замечая, уцепилась за его локоть, висла, не отпускала. И душа у нее чуть замирала, и ноги слабели от мысли, как они войдут сейчас в дом.
Дура, она совсем забыла, ее Жоркой и погордиться можно, и заслониться, и… но почему он так от нее далеко? Надолго ли опять хватит горячки и любви их встречи?.. Но потом она все забыла. Потом, дома, они остались вдвоем, и стол был сервирован торжественно, на двоих, как в ресторане, стояли садовые ромашки и вино. Но она не могла ни есть, ни пить от волнения, не слышала его пляжных шуток, которыми он старался ее потешить и которые только на пляже и смешны. Открыли чемодан — поверх всего лежал голубой женский халат, — сердце опустилось, — а Жорка хохотал, дразнил ее, на халате оказалась магазинная бирка, это был подарок, ее размер. А она заплакала. И он схватил ее — целовать, осушать слезы, обнимать, раздевать. «Танечка!..»
И потом, когда Жорка заснул как убитый, она стояла в ванной, глядела на себя в зеркало: на горячее счастливое лицо, горячий даже на ощупь рот, сверкающие глаза и замечательно распавшиеся волосы. Черт, как она себе нравилась! Ну а что? Хороша! И линия шеи, и вот этот поворот, и этот… — кожа, глаза, каждый волосок, пушок жили, дышали. И хотя то, что Астра называла вакантностью, казалось, зажглось сейчас в ее глазах, в выражении еще ярче и острее, но грех ее был невинен, как невинность грешна. Какое счастье, что она осталась чиста, ни в чем не виновата перед мужем и перед собой, — это наполняло ее самодовольной гордостью, и она с королевской высоты бросала взгляд на тех, кто внизу: на грешниц с нечистыми взорами, лживыми устами, червивой совестью. Может быть, там, в июле, и она была такой, но теперь ее ядро, гремя цепью, катилось под гору, исчезая из глаз. Хоть стреляйте — она была чиста. И мужа она любила, хоть пусть это и не была любовь.
Она вышла из ванной, на глаза ей попался телефон. Но сейчас она как бы оттолкнула его от себя, не пожелала обратить внимания, не зафиксировала. Словно он и не попал в поле зрения. Будто его и не было никогда. Да и зачем? Разве она позвонила? Она же не звонила. Нет. Было и прошло. Она ведь не изменила? Не изменила. Не изменила? Нет, нет, нет. Ну и все.
Сад непрерывного цветения
Он писал ей:
«Я два раза перечитал письмо и думаю: что вдруг? в чем дело? что хотели мне сказать? «Прощай, прощай!»? Или чтобы я «исправился»? Что ты вибрируешь? У нас с тобой все хорошо, н о р м а л ь н о: я не виноват, что жизнь у меня такая, сто проблем каждый день; а ты влетела в нее вдруг, со своим совсем другим миром и другим понятием, как должно быть. Ты ошеломлена — да, наш мир не для слабонервных, — но костер не виноват, что опаляет бабочку. Да, я так живу, у меня такая профессия, я очень занят. А что касается лирики, я лишь недавно, ты прекрасно знаешь, еле выполз из одной черной любовной дыры, — так не затем же, чтобы попасть в другую? У меня ничего не скрыто, не замкнуто, все наружу, ты же видишь, ты умная. Мне с тобой хорошо, все соперницы твои отпадают, как болячки, и скоро совсем отпадут, дай срок. (Насчет этой женщины в машине — ты просто шуток не понимаешь, это «их нравы».) Ты говоришь, я у тебя один, а у меня много. Много — в с е г о: работы, людей, отношений, планов, мучений, нужных и ненужных, — вот опять делаю и уже ненавижу то, что делаю, — но это не значит, что ты мне не нужна или что у меня не хватает внимания на тебя, — нет, неправда, нужна. Наши отношения только проклюнулись, завязались (мои с тобой), я же не знал, что твоей любви ко мне уже «шесть лет, шесть месяцев и шесть дней» (Ваше выражение), но это твоя любовь, а не н а ш а. В общем, не гони картину, не уличай меня ни в чем, не учи (своего хватает), не обижайся. Будь женщиной, учись быть женщиной, ты еще девчонка и жизни не нюхала. А быть женщиной — значит терпеть. Ты думаешь, у тебя ко мне есть, а у меня к тебе нет и ты, как дура, навязываешься? Нет, просто ты, как всякая женщина, хочешь в с е г о, максимума, пусть даже неосознанно, и хотела бы завладеть в с е м. Но у м е н я нельзя забрать всего, я слишком много вмещаю, слишком много люблю на свете: свою проклятую работу, свою свободу, новых людей, новые страны, новых, извини, женщин — вот таких дурочек вроде тебя… Ну-ну, не плачь, сама виновата, сама вынуждаешь говорить ненужную тебе правду вместо того, чтобы петь нужную тебе ложь. Мне тоже трудновато, браток, ты сообрази, я все еще не оттаял, я внутри живу сухо и жестко, я иду один по своей дороге. Так что не надо — в чужой монастырь со своим уставом. Меня не переделать. Будет так, как есть, по-другому не будет».
Чтобы не реветь, Лора выходила из дому и, как всегда, ехала в Ботанический сад. Через Рижский, Марьину рощу, Останкино. Она старалась занять место в троллейбусе у окна, чтобы отвлекать себя картинами жаркого летнего города, впрочем, с вкраплениями уже, кое-где среди пыльной и зрелой зелени то густо закрасневшей рябины, то тронутого желтизной клена. Сыпало желтым и с берез, стоял август, близился сентябрь, осень, а там зима, конец еще одного года и начало еще одного. Она смотрела в окно на город — он кишел людьми, но все равно ничего не видела. Раскрывала на коленях сумочку и, не доставая оттуда письма, глотала его кусками, хотя знала уже наизусть и каждое слово и знак помнила на вид. Смелый и четкий почерк летел вправо, черные чернила, пером, а не шариковой ручкой, ярко гляделись на заграничной бумаге, сразу и тонкой, и плотной, и приятно-шероховатой на ощупь. Сложено тоже было не по-нашему, втрое и вдоль, чтобы уместиться письму в узкий конверт. Ему можно было поставить пятерку за орфографию, пунктуацию, да и за содержание — что тут скажешь? Она любила эту его абсолютную грамотность, столь редкую у нас даже среди пишущих людей, этот его летящий почерк, эту культурную (а не пижонскую) потребность вот в такой бумаге, в хорошем «паркере». Он рассказывал: за границей прежде других магазинов всегда бежит в писчебумажный, или как там они у них называются?.. Сам вырос в тульских Липках, лишь десяти лет оказался в Москве: отец-шофер возил в армии генерала (этот генерал Петухов вообще немалое влияние оказал в жизни на режиссера П. и был даже снят фильм, который так и назывался: «Генерал», весьма, как говорили, смелый). Лора знала, разумеется, досконально биографию режиссера П., всю его родню, мать, отца и не могла не удивляться, как далеко закатилось яблочко от яблони: режиссера отличали отточенный профессионализм, европейский вкус, даже изыск. Стихийной простонародной талантливости, особенно русской, присуща эта способность, оставаясь собою, кажется, вмиг впитать, что надо: грамоту так грамоту, науку так науку, музыку так музыку и, все впитав, стать еще поверх всего своею натурой: а ну раздайсь, я иду!
Не надо было быть графологом, чтобы по одному почерку определить и талантливость режиссера П., и ум, и целеустремленность, и эгоцентризм, и искренность. Здесь не сказано было и половины правды или правды главной, но искренность и правда не одно и то же, тут ничего не поделаешь. Он был искренен, а правды, кажется, не понимал и сам. «Будет так, как есть, по-другому не будет». Вот это, пожалуй, была правда.
Лора читала с ревностью и пристрастием, разбирая про себя каждую строчку, каждый его, если можно так сказать, постулат, глотая слезы. Опускала глаза в сумку — точно заглядывала с обрыва в пропасть, душа замирала, или точно откусывала, отхлебывала глотком яду. Защелкивала сумку, оборачивалась в окно невидящими глазами, — а строчки и слова черным почерком бежали по домам, заборам, облакам, автобусам и афишам, — глотала яд, жевала, проглатывала, а утихнув, опять раскрывала и опять заглядывала в бездну. Все равно счастье. Что он написал наконец и написал так много, ей написал, и — на его взгляд — открыто и безжалостно, что она может держать это письмо в руках, и… да что говорить, все равно она любила каждое слово в этом письме, хотя в нем было все, но не было любви.
А она-то любила его; она всегда любила его так, что даже ничего не могла делать. Ни общаться с другими людьми, ни работать нормально, ничего. Она не в силах была жить. Довольно странно в наше время. Три года назад наступил предел, нервное истощение, пришлось уйти из школы: она перестала различать учеников, они вытворяли на ее уроках что хотели, а ее называли «чокнутой». Она и была «чокнутая», без ума и памяти. Без него она могла только лежать и думать о нем. И в минуты просветления, борьбы с этой б о л е з н ь ю вся ее натура восставала и стыдилась такого существования.
Они жили с братом Виталием в доме довоенной постройки, в старой квартире, где чудом сохранилась тоже довоенная простая мебель, гравюры в стиле тридцатых годов, книги из той же эпохи: энциклопедии, красные ленинские сборники, сочинения Плеханова, тома «Академии», первые советские издания Маяковского, Есенина на грубой оберточной бумаге и совсем позабытых поэтов: Пимена Карпова, Варвары Бутягиной. Их отец работал всю жизнь в типографии, любил литературу, и эта черта передалась детям.
Лора еще девчонкой перечитала домашнюю библиотеку, в том числе и энциклопедии; образованная, начитанная, романтическая, она страдала еще и оттого, что пропадают зря ее знания, ум, натура, как пропадает душа. Вместе со своим домом, книгами, тихим неженатым братом она точно отстала от времени. А ведь прежде умела радоваться жизни, зажигать других, бежать, смеясь, по набережной, откидывая назад густые короткие волосы, восторженно читать стихи, бороться с несправедливостью. Боже ты мой, ее словно заключили в дом умалишенных: жива, ест, пьет, ходит, а смысла нет, ум помрачен, есть лишь одна идея — он, он, он, мой бог, мое несчастье.
Брат, который был старше Лоры на десять лет и тоже работал в типографии, брал для нее работу на дом, корректуру. Но часто ему самому приходилось сидеть допоздна с типографскими листами, пока сестра лежала в темноте в своей комнате, прокручивая на проигрывателе бесконечного Бетховена, уставясь в потолок, лия свои неслышные слезы. Сострадание заполняло брата, боль и молчание год за годом объединяли их, и боль Лоры за брата, болеющего ее болью, вина перед ним замыкали это кольцо.
Лежа вот так, без света, в своей комнате, Лора чаще всего видела все одно и то же: как молодой режиссер П. выходит на сцену большого столичного кинотеатра перед премьерным показом своего фильма, которому суждено потом стать знаменитым. Он должен сказать несколько слов, представить киногруппу, своих актеров (среди которых стоит и его будущая жена Нэля; на глазах у Лоры в последующие годы они поженятся, она родит ему дочь, они получат квартиру, потом разойдутся, и Нэля выйдет замуж за другого режиссера, ближайшего друга режиссера П., и все они останутся друзьями и даже будут однажды летом снимать одну дачу). Дело зимой, он выйдет непраздничный, невысокий, худой, даже худенький, как мальчик, с темными усиками на бледном лице, в свитере, кожаной куртке, в зимних сапогах, о б ы к н о в е н н ы й, будет держаться перед тысячной аудиторией спокойно, сдержанно. Лора замрет с первого его шага по сцене, с той секунды, когда он, придерживая синий занавес, будет пропускать перед собой своих товарищей, ободряя их ровной улыбкой. Лора угадает, что это не человек, а бог, е е бог, тот самый о н, о котором мечтала, всегда ждала, — всезаполняющий, единственный. Да, вот такой, с полуулыбкой, с усиками на усталом лице, без рисовки, без игры, даже сторонясь слегка этого мероприятия, всегда неловкого: почему, в самом деле, перед сидящей в шубах и пальто публикой надо выпустить еле где-то собранных по городу людей, актрису в нелепо вдруг длинном или прозрачном платье. «Звезд» обычно не заманишь, не отыщешь, а публика хотела бы «звезд», и три дежурные гвоздики вручаются неизвестно кому, публика вяло хлопает, ей не терпится, чтобы погас свет.
Режиссер П. сумел сохранить достоинство перед безжалостным зрителем, соблюсти меру, сказать самую суть, очень кратко, без всяких «случаев». Он только чуть медлил, словно бы подбирая тщательно слова, но это было признаком волнения, очень хорошо скрытого, — Лора узнала эту черту много позже. Он уходил последним и посмотрел прямо на Лору, — она сидела близко, в четвертом ряду. Взгляды их, как ей показалось, пересеклись, и она сделалась маленькой девочкой в белой панамке, которая играет на дворе в песочнице, а во двор входит и стоит над нею огромный десятиклассник в рубашке с короткими рукавами, — он так огромен и прекрасен, он смеется, он закрыл собою солнце, и оно окружает его фигуру нестерпимым сиянием.
Кино, кино. Она бросилась в кино, точно в море. Но он справедливо писал в этом своем письме, что этот мир не для слабонервных и посторонним лучше туда не входить. Она стала читать, смотреть, крутиться, изучать. Конечно же, ей хотелось сделать нечто такое, чтобы удивить его, помочь ему, в самую трудную минуту вдруг — раз! — и оказаться рядом, и спасти, и выручить. Как, как? Она и не подозревала, как далека была от этого е г о мира, от специфики кино, где, кажется, даже великие творения рождаются из неразберихи и мясорубки, из непрерывной суеты, тщеты и тщеславия, ужасных на неискушенный взгляд. Он и сам, случалось, говорил: «помойка», но он не мог без этой помойки жить. А она, приблизясь, остановилась и не могла двигаться дальше. Будто вошла в зоомагазин: сотни птиц кричат, поют, мечутся, кто во что горазд, какой-нибудь попугайчик висит из оригинальности головой вниз, другой бьется неистово о прутья клетки, третий разливается себе, ни на что не обращая внимания. Но понять их язык, понять, о чем крик и драка, как они живут, уму непостижимо. И вот это было вторым ее мученьем: вдруг оказаться среди птичьего базара, ничего не понимать, быть бесполезным и малодоброжелательным наблюдателем, но поневоле подглядывать, подслушивать и еще судить о том, чего не понимаешь. И это вместо того, чтобы быть внутри, рядом, где он, распевать на том же языке. Конечно, костер не виноват, что горит, но что ж делать бедным мотылькам, которые летят и сгорают? В чем их-то вина? Что летят? Но не лететь на огонь они тоже не могут.
Она и не подозревала: начни интересоваться каким-нибудь человеком, и информация сама потечет тебе в руки. Понемногу она узнала о нем, кажется, все. Ей и в голову не приходило, что тем самым она попадает в число поклонниц, «сыри́х», как у них говорится, которые пишут, звонят, караулят, бросают букеты или втираются в дом и жарят своим кумирам картошку. Гордая и умная, она ничего не могла поделать с собой: все равно все знала. Но, правда, она никогда не попадалась на его пути, даже никогда ему не звонила (ну, было, было раза два-три, и она слышала его голос в трубке) — ведь он был женат, у него дом, семья. На что она надеялась? Тогда, при Нэле, ни на что. И любовь ее и отчаяние были тем не менее в ту пору, кажется, светлее, легче, чем позже. Да нет, все одно, у всех людей 365 дней в году, а у нее в году, считай, только пять, или три, или семь: сколько раз удавалось его увидеть, столько и было живых дней в году, остальные — мертвые, пустые, и она их не помнила.
Ботанический сад был местом их первой встречи. Это вышло случайно. Однажды, когда совсем стало невмочь и Лора в самом деле испугалась смерти или помешательства, она написала ему. На крошечном листке из крошечного блокнота, мелко-мелко несколько крошечных фраз. Так и написала: что боится умереть, просит помощи, краткого разговора — может быть, высказавшись, успокоится, облегчит душу. Нэли уже не было, а ее долгая и мучительная любовь вроде бы давала право на такую попытку. Художественная литература и кино были богаты и не такими примерами. Она верила: бог поймет, бог услышит. Не бросит письма, не посмеется, почувствует: это не шутка — да, сама смерть и сама любовь, более невыносимая, глядит с этого маленького листочка.
И он услышал. Надо отдать ему должное, он тут же понял: да, это не шутка. Повертел, покрутил странное это письмецо, перечитал бисеринки-буквы, которые боялись отнять собою у него лишнюю секунду и, кажется, если бы могли, вообще превратились бы в точки, в стенографические крючки от смущения и вынужденности быть написанными, — он покрутил письмецо, — там стояли еще телефон и адрес, — и тут же позвонил. Услышал слабый и милый женский голос, сказал браво: «Вы мне писали, не отпирайтесь» — и по тому, как там надолго замолкли, сообразил, что надо извиниться, переменить тон, тут хорошо бы без пошлости. Тогда он глянул на часы и спросил, не может ли она тут же выйти из дому: судя по адресу, они друг от друга неподалеку, сейчас у него есть немного времени, а потом, пожалуй, долго не будет. И вот она вышла. И увидела, что он уже здесь, его синяя иностранная машина и он сам, его мальчишеская фигура, усики, непокрытая голова, сигарета во рту. Он неторопливо протирая ветровое стекло, забрызганное весенней грязью: после яркой и жаркой погоды шла полоса холода, дождя, по лужам проносилась порывами рябь. Она увидела его, а он ее, выходящую из подъезда: в светлом коротком плаще, в черном берете и шарфе, в черных сапогах, с черной через плечо сумкой — нормальная вышла женщина, молодая, милая, с хорошей фигурой и ногами, среднего роста, черноглазая, — никак не скажешь, что вот-вот, сию минуту возьмет и умрет. И на лице его появилась было ирония, но Лора приблизилась, едва выдавила «здрас…», боясь смотреть, и не составляло труда угадать и потерянность, и долгое измождение, и неестественный румянец у самых глаз, и отчаяние поступка с этим маленьким письмецом — бедное, неопытное, отставшее от века существо, ударенное нездешней и ненынешней любовью. Он-то был и опытен, и искушен, и его дегустаторская способность отличить настоящее от фальшивого, и его человеческая и профессиональная потребность в подлинном тут же сказали ему, кто и какая она. И никакой стереотип поведения здесь не годился. Хотя (сказал он себе сразу) тратиться на этот вариант, в общем-то тоже известный, просто некогда. И дело действительно не должно было занять более часа.
Они поехали по прямой, куда глаза глядят, он понимал: ей надо обвыкнуться и собраться, прежде чем говорить. Ветер швырял брызги на стекло, тучи неслись, и сквозь них прорывалось светлое, но это светлое тоже было тучами, только другими, что повыше. Широкие «дворники» ходили по стеклу. Она с каждой минутой чувствовала увеличение своей вины: что ж ты его вызвала, вроде объясниться, а сама катаешься в мягкой машине и молчишь. Но чем дальше ехали, тем шире распирало сердце теплом и покоем: вот и все, вот так бы ехать и ехать. И нечего говорить. И он, бог, все понимал. Не торопил, не отпускал шуток, не навязывался. «Ого, куда мы заехали!» Это было сказано лишь тогда, когда замелькала справа решетка Ботанического сада — за нею толпились кусты и деревья, их трепал мокрый ветер. Они проехали, может быть, всего минут пятнадцать, но ей показалось — полжизни. Он предложил выйти и погулять. Сто лет, мол, не бывал в Ботаническом. Она не догадывалась, а его кинодуша уже изнывала от однолинейности, требовалась хоть какая-то смена плана, действие, действие! Ведь уже все ясно. Дальше!
Ее чувство вины усиливалось, она не знала, как поглядеть на него, как говорить. «Вы извините, я должна…» Он закивал понимающе, успокаивал ее. Тут она испугалась, догадываясь чутко, что ему и без того все понятно и, возможно, уже становится скучно. Что ей было делать, впору повернуться и убежать. Но нет, он как будто оживился, несмотря на резкую погоду, взял из машины и надел замшевую кепочку с ремешком сзади. Он вспоминал студенчество, смеялся. Они бегали из института на ВДНХ, в ресторан «Ташкент», и сроду не могли дойти до Ботанического, хотя тут рукой подать. Впрочем, иногда доходили, бывало. Да-да, бывало. Свет какого-то воспоминания осветил его, и она тут же ощутила ревность: наверняка это связано с женщиной, с девушкой. Он усмехался, он точно отлетел от нее в эту минуту. Оживившись, он еще поговорил с теткой в кассе, — та закуталась, будто зимой, в теплый платок и удивлялась, что люди идут в сад в такую погоду. Оживился он также и засмеялся, разглядывая план парка — при дороге стоял двуногий щит — и найдя там слова «сад непрерывного цветения». Он повторял на все лады: «Непрерывного цветения… как это — непрерывного?.. непрерывно цветет?.. все или по отдельности?.. Вы слышали когда-нибудь?» Она не слышала. Но она сразу поняла, как это может быть. Она сама в эти минуты, кажется, цвела и благоухала, не замечая холода и ветра, несмотря на всю неловкость ситуации, ею же созданной. Ботанический сад, если приглядеться, сиял молодой и умытой зеленью, его мотало порывами ветра, как водоросли мотает течением воды. Ни души не встретилось на мокрых дорожках, где прилипли листья, лепестки роз, лежали обломки веточек и старые кофейные желуди. Вдруг в небесах светлело, и опять не солнце, но только свет его через верхний слой облаков озарял частями парк, и тогда словно теплело, и ветер стихал, и пруд из серого на глазах готов был засинеть, и два лебедя, как 2+2, ярко белея на сером, выплывали вдали из осоки.
Они свернули к розарию, и здесь тоже не оказалось ни одного человека. Розы цвели сами по себе и для себя, хотя их выставочный порядок и таблички требовали публики. Они качались — свежие, весенние, мелкие, крупные, всех цветов и оттенков, в каплях и бисере влаги. Режиссера П. увлекли не сами цветы, а их названия: «Пандероза», «Эрмелия Касас», «Джон Кеннеди», «Эропеана», «Бонн», «Ла Франс», «Чайнетаун». Он восхищался: «Ну, цветоводы! Они решили собрать на этом пятачке весь мир, молодцы!» Потом, когда они еще бывали в Ботаническом, он обязательно шел в розарий читать и даже записывать торжественные имена роз, и в эти минуты (она уже знала) его уносило в дальние дали, он летел надо всею землей, он вдохновлялся. Этот вчерашний тульский крестьянский мальчишка уже раза три побывал в Японии, в Лондоне, сколько-то в Германии, даже в Австралии и Рио-де-Жанейро. Лоре никогда не дано было понять, что за жажда, что за жадность гонит таких, как он, по всей земле. Он привез, — кажется, из той же Японии — маленький голубой глобус, в ладонь, искусно выделанный. От тепла руки глобус начинал светиться насквозь, сиял фосфоресцирующими океанами и материками, посверкивал точечками всех столиц мира. Режиссер П. любил играть этим глобусом, без конца катал на ладони, глаза его при этом хищно суживались, он уходил в себя, — да, он держал в этот миг в руке всю землю, что тут такого, подумаешь, в наше-то время, когда даже препустой песенкой можно в сутки охватить весь мир, когда имя звучит у всех на устах, — о супермены XX века, покорители сердец и умов, киномужчины, творцы, экстремисты, пламенные патриоты и холодные космополиты сразу. Послушать режиссера П., как он со слезами на глазах рассказывает о своих Липках, о деревенском детстве, о Ясной Поляне, до которой рукой подать, о прадеде, о бабке, послушать о его заветном замысле — снять ленту по «Слову о полку Игореве», послушать, — и уверишься, что, кроме родного угла, Липок и старой избы, ему ничего на свете и не надо. Но ему надо, все надо, от «паркера» до мировой славы, и его кумиры, разумеется, были Феллини и Висконти, только они; и в свои сорок почти лет в своей тайной гордыне он все еще надеялся если и не заткнуть за пояс великих мира сего, то, во всяком случае, стать с ними в один ряд.
Даже в ту первую прогулку, а возможно, и до нее, Лора уже угадала, узнала эту болезнь тщеславия, эту его приверженность в с е м у миру, которая отнимала его у близких людей, в том числе и у нее. Это создавало непреодолимую дистанцию: его вежливое и ровное обращение с людьми, его привязанности, чувства, нежность — все было сомнительным, временным и поверхностным, бытовой корочкой, а под нею катался вот этот голубой шарик, жажда покорения мира, да и не шарик, а шар, монолит, единая система, — кажется, проткни кожу и увидишь, как в фильмах о роботах, не живую плоть, кровь и мышцы, а другую, титановую оболочку, набитую электронными схемами или просто кинопленкой. Но эта дистанция, эта его с у т ь и могла отличать лишь бога, высшее существо. А как же иначе? Ведь что-то же есть необыкновенное у т а к и х людей в отличие от других? Лору нисколько не удивляло, что его взгляд гас и затмевался скукой от явлений на самом деле скучных и мелких и загорался от редкого и необычного, — так и должно было быть. С ним. И не нужно ему, как всем, терпеть, соблюдать условности, сковывать себя, унижаться ложью. Он хозяин, он свободен. И она готова была принять любые условия, повернись он вдруг, прикрой зевок ладонью, извинись небрежно и скажи: «Лора, мне пора», — уйди, оставив ее одну на дороге, она бы поняла, не обиделась, как можно! Какие претензии, какие условия? Все равно, что ставить условия птице, которая вдруг села тебе на ладонь поклевать крошек.
Впрочем, это было тогда, на заре их отношений, когда ее любовь довольствовалась самым малым. Идти с ним было счастьем, видеть, слышать, глядеть, как он поднимает застежкой молнии ворот у куртки доверху, как тонка его шея в этом вороте, как поправляет он кепочку, сбиваемую ветром, — все было счастьем. Каждый жест его казался прекрасен, гармоничен, каждое слово умным и тонким, каждое наблюдение талантливым. Судя по схеме и указателям, они давным-давно находились в саду непрерывного цветения, но чем сад отличался от остального парка, не могли понять. Ничего не цвело, стояли вокруг красивые дубы, трепетали рябины и молодые кусты сирени, ложилась под ветром трава, и лишь тюльпаны на клумбе, красные и желтые, густо посаженные, туго и дружно качались на открытом пространстве. По-прежнему ни души вокруг, только неподалеку на грядках, согнувшись в пояснице, трудились работницы в ватниках. Одна распрямилась и поглядела вслед гуляющей на ветру парочке. Красными от холода, в черной земле руками поправила на голове платок и утерла под носом. Ватник распахнут, глаза и щеки горят, кривоватые крепкие ноги поставлены широко и белеют вывернутыми наружу голенищами резиновых сапог. А взгляд смелый, куда там! Он оглянулся. И еще оглянулся. Сказал: «Ишь, какая!» И потом опять оглянулся. И опять усмешка воспоминания, как накануне, пробежала по губам и глазам. А работница тоже все смотрела, по-женски вмиг ощутив интерес к себе. И другие женщины уже стали поворачивать головы и потом дружно хохотнули, — отпустили, видно, шуточку.
Они отошли, и он опять стал спрашивать: «Где ж этот сад непрерывного цветения, а?» И стал вдруг рассказывать про цветочные часы. Как Карл Линней подобрал цветы таким образом, что каждый раскрывался в свое время с точностью до четверти часа. Режиссер достал из куртки толстую, крупного формата записную книжку в черном кожаном переплете, полистал и нашел запись. Вот. В четыре утра, например, раскрывается козлобородник, а ровно в полночь — кактус «Царица ночи». А в свой час цветет лилия, и опунция, и голубой цикорий, и водосбор. Он был доволен произведенным на нее впечатлением. Но где же все-таки этот сад, этот эдем непрерывного, как нам обещали, цветения? Я уже замерз, граждане присяжные заседатели!
Лора волновалась и отыскивала взглядом хоть что-нибудь цветущее, словно это она обещала непрерывный цвет сада, обещала и обманула. Она ожидала: вот-вот он посмотрит на часы и скажет, что пора; все интересное исчерпано, время тоже, скука того и гляди завладеет им. Она даже хотела бы вернуться другой дорогой: ведь он не то что с равнодушием, но, пожалуй, с раздражением должен пройти опять мимо все того же розария, прудов, кассирши, замотанной шалью. Как быть с ним? Как общаться? Что она-то может предложить его искушенному уму, всевидевшему взгляду, пресыщенному чувству? Робкую свою душу? Свою ненужную ему любовь? Но как ненужную? Как это может быть? Он — а в т о р этой любви, ее режиссер, создатель, я — вся — его творение, разве не так?.. Он опять заглядывал в свою кожаную заграничную книжку и рассказывал на обратном пути, какие цветы цвели в древности: уже в Египте выращивали лилии и резеду, а в Греции — розы и ландыши, а в Древнем Риме — гладиолусы, ирисы и тюльпаны. Боже, он даже про цветы все знал, чем его удивишь. «Вы простите, вы поймите меня… — пыталась она как можно тверже сказать на прощание, — я больше никогда не…» Он перебил, взял ее за руку: «Не надо. Мне было нетрудно, честно. Хотите, я как-нибудь еще позвоню? Поедем опять, вдруг там что зацветет?»
Так они легко, смеясь простились возле ее дома, серую стену которого вдруг осветило солнце, и Лоре не так стыдно было этого старого немодного здания, подъезда, пристроенных снаружи уродливых шахт лифтов, — все это не для него, не для бога, уныло и бедно. Ах, это приближение к богам вообще!..
Испытав огромное напряжение, она лежала потом пластом полдня, но лицо горело позабытым румянцем, ноги приятно ныли — она давно не ходила так много, и, главное, сердце играло и пело. Перед глазами кружили зеленые крепкие дубы, рябины, плакальщицы-березы с распущенными по ветру прядями ветвей. Вот торчат и качаются упругие тюльпаны, блестит мокрый розовый куст с названием «Дольче вита», все цветет вокруг, неправда: и дубы, и розы, и разноцветные сирени, и желтый дрок, и камыш, и мыльной пеной рябина, и изящными веточками, собираясь в пахучие грозди, черемуха. А папоротники, а иван-чай, а всякая травка, которой пришло время цвести? Маленький вьюнок и тот взвился и готов тянуться до самого неба.
Вечером Лора встала, готовила брату ужин, они сидели под старым маминым абажуром, пили крепкий чай, брат глядел радостно и удивленно, и румяная Лора отвечала тоже радостным взглядом.
Лора не знала, а режиссер П. находился в ту пору в простое, в поиске: в одних замыслах разочаровался с а м, другие вызывали сомнение у начальства, а надо было что-то срочно найти, начать, душа горела, вокруг люди ваяли фильм за фильмом, хватали премии, срывали аплодисменты, уже известно было, что вывозит мир в Канны, а он, «без дела, без жены, без друга», сняв задорого квартиренку в Измайлове, живя на одном кофе и сигаретах, думал, думал, искал. Читал по ночам пьесы начинающих авторов, сказки, Достоевского, русские летописи, «Графа Монте-Кристо», детские стихи, все подряд. Он мог бы сделать фильм о детстве. Или о любви. Или о войне. О счастливом человеке. О несчастливом. Или о заводе. О работягах. Вот взять и сделать всем назло н а с т о я щ и й фильм о работягах. Или о старом художнике-живописце, великом мастере. Или о Достоевском. Но все было, было, было, все снято, взято, сто раз прожевано, съедено, выплюнуто. Он приезжал в Дом кино поужинать, держался сухо, ядовито, сторонился веселых друзей, просил официантку посчитать ему отдельно: за бифштекс, бутылку минеральной и три чашки кофе. Все казалось омерзительно, фильмы — дерьмо, люди — еще того хуже, женщины — ужасны. Однажды ехал из Останкина с телевидения, где посмотрел фильм приятеля, после чего пошли в ресторан (был еще оператор), он бешено понес фильм, приятель понес его, чуть не дошло до драки, и когда он сел за руль, поехал, увидел, что ехать нельзя: взбешен, руки трясутся. Остановился, курил, искал по ящичкам японские таблетки и тут вспомнил: а вот если свернуть туда, к проспекту Мира, к Рижскому, окажешься у Лоры. Да, у этой странной, не от мира сего, влюбленной Лоры, с которой искали и так и не нашли сад непрерывного цветения. Он едко засмеялся. Отчего к самой невинной, восторженной, с обнаженными нервами захотелось вломиться этакой злой свиньей, плевать желчью, показать ей, каков он есть, ее гений, пусть опомнится и забудет навсегда. Точно, вот так он ее враз освободит!.. Он поехал и был уверен, даже не думал, что его примут, не выгонят, и там не окажется ни мужа, ни детей, ни строгой мамы. Еще и утешат. Чего там? Он позвонил уже от самого дома, почти грубо спросил, заплетаясь языком, лишь номер квартиры. И вломился. И уж показал себя. Тут было и «не отпирайтесь, вы мне писали», и велеречивое знакомство с перепуганным братом, у которого вытребовалась бутылка «Саперави», и осмотр старых гравюр с пышным комментарием о великой эпохе антибуржуазного искусства первой в мире Страны Советов, и затем грубое вторжение в Лорину комнату: как, мол, живут-поживают у нас ангелы?.. Но здесь он вдруг изумился и стих и даже размяк. Смотрел то на одну стену, то на другую. На одной висела гигантская афиша его картины, отпечатанная «Экспортфильмом», где юная Нэля глядела прямо в глаза взглядом чистоты и правды, а на другой несколько фотографий режиссера П., в том числе одна большая, цветная: там режиссер П. в сдвинутых выше лба темных очках, в любимой рубашке-сафари с погончиками, серьезный и вдохновенный, глядел вперед, явно на съемочную площадку, потому что позади расплывались еще фигуры, ноги (сам он сидел в кресле), штатив нависающей сверху камеры. Хорошая была фотография, сам он такой не помнил, где она только взяла? Где она вообще все это взяла?.. Он сел на низкую скамеечку, лежанку белой кошки Степки, оглядывал девически-белую и узкую кровать с железными спинками — подушки покрыты кружевной накидкой — и письменный столик с допотопной настольной лампой, словно взятой из реквизита, — лампа освещала разложенную корректуру. На подоконнике стоял проигрыватель «Рекорд», на маленьком диванчике валялись вразброс пластинки, — Лора тут же собрала их и держала в руках, не зная, как пройти к столику или к окну мимо режиссера П. И тут режиссер П. потянулся к ней, обнял ее ноги в вельветовых брюках, ткнулся лицом — слезы перехватили горло, выступили на глазах. Вот уж этого, кажется, не бывало с ним никогда, разве что при чтении замечательной книги, или если смотрел настоящее, недостижимое кино. Да нет, пьяные слезы. Нервы. З а х о т е л о с ь заплакать — о себе, из жалости к себе, о своем бессилии той поры, — что за тоска изглодала ему душу в какие-нибудь полгода, что за пересмотр такой самого себя, что за подозрения насчет того, что уже сделано и уже вроде отмечено знаком качества? Нет, это было непохоже на него. И возможно, это было только при этой Лоре: вот, ищи по всему белу свету, где тебя любят и понимают, а оказывается, это находится здесь, в этой маленькой комнатке с переплетом конструктивистского окна. И, наверное, ни одна из тех женщин, которые его любили, не была так бескорыстна. Он обнимал ее, Лора держала по-прежнему пластинки в руках, боясь пошевелиться, и не имела возможности даже обнять его тоже, прижать к себе его голову. Она понимала, кажется, о чем он плачет, у нее тоже катились из глаз слезы сострадания, и, боже, как она хотела помочь ему, спасти, разделить с ним его ощущение утраты и дать ему силы для нового обретения. Но что ж поделаешь, бог всегда одинок, где ему взять равных себе?..
Ночью (высокого гостя, усталого режиссера П. уложили в столовой на старом диване со спинкой и полочкой наверху со вставленными в полочку зеркальцами, — прежде на ней стояли мраморные слоники, а теперь не ставилось ничего, поскольку спинка ходила ходуном и все падало), ночью по тому же стереотипу, с которого начал, режиссер П. в трусах, завернувшись в одеяло, пришел опять в комнату к Лоре и сел в темноте на пол у ее изголовья. Он должен был прийти, и все. И стать потом перед ней на колени, целовать руку, ладонь, пальцы. Потом локоть, потом открытое и теплое плечо, и натыкаться на небольшую мягкую грудь под теплой и тонкой тканью рубашки, и целовать сквозь ткань. И вот уже под его губами шея, подбородок, рот. И тут режиссер П. обнаружил, что нет реакции на его действия. Нет. Лора поддается и, безусловно, готова позволить и дальше двигаться по столь известной ему, видимо, дороге, но сама безучастна и вроде даже в недоумении, а то и в разочаровании. Да, разумеется, понял он с опозданием, его слезы давеча выше того, что он делал сейчас, и она еще под тем впечатлением. Но его-то тоже не надо превратно истолковывать: дело не в женщине, не в физическом влечении, какого он, между прочим, вовсе к ней и не испытывал, — просто он хотел таким образом выразить ей благодарность, что ли, приблизить ее к себе, как она о том мечтала, соединить ее с собою. Только и всего. А нет — так нет, не надо. Он остановился, вслушиваясь в ее молчание, и тут же увидел себя со стороны: тощую фигуру в трусах и майке, торчащие, словно у блудного сына, голые пятки, немытую голову. Подбородок успел к вечеру зарасти щетиной, несло от него табачищем, мыл ли он вообще руки? Эхма! А от этой Лоры пахло накрахмаленным бельем, снегом и мятой, свежим зеленым запахом непахнущих цветов. Он замер, тоже устыдясь (и уже раздражаясь за этот стыд), и еще минуту-другую они провели в молчании. Он сидел, она лежала, фонарь светил с улицы в окно сквозь прозрачную занавеску. Дверь бесшумно отворилась, и в черный проем вошла белая кошка. Она стала тут же тереться о голую ногу режиссера П. и тем, слава богу, разрядила атмосферу. «Извини», — сказал режиссер П., и Лора покивала в темноте.
А что, собственно, что? Он ведь и приехал с тем, чтобы она не глядела на него больше, как на бога, не душила бы своим «ангелизмом», отрезвела, что ли. Полюбите нас черненькими, если уж так. Впрочем, на нее разве могло что-нибудь подействовать? Наверное, убей он при ней человека, и то бы простила, да жалела еще, да сильней любила. Безнадега.
А он больше всего на свете не терпел над собой никакого насилия. Пусть и насилия любви. И без того хватает. Но уж, видно, период был такой, тоска, слабость, прислониться бы. А она не походила на других. Прошло время — он позвонил, пригласил ее к себе в Измайлово. А потом опять заехал в гости, копался в книгах. А потом они еще отправились в Ботанический, посмотреть, зацвел ли сад непрерывного цветения, но он не зацвел, если не считать сирени, но она цвела тогда повсюду. А потом он долго не появлялся. А потом опять появился. И она еще была в Измайлове, мыла на кухне гору грязной посуды. А там наступила зима, и вот как-то Лора заболела, лежала в постели с ангиной, с температурой, а он заехал вдруг.
К этому времени между ними уже сложился стиль поведения: он вроде бы старший и мудрый и учит, а она маленькая, ничего не понимает. При встрече и прощании он легонько целовал ее в щеку одним прикосновением сухих губ или подавал ей руку, чтобы помочь шагнуть со ступеньки или через лужу, но никогда после той ночи не прикасался к ней иначе, и словно было между ними уговорено, что так всегда и останется. Видеть его, перемолвиться две минуты по телефону, напоить чаем, достать ему книгу, вдруг получить предложение и пойти с ним в кино, в полупустой зал, на какой-нибудь старый фильм, слушать его ядовитый или сентиментальный комментарий — это по-прежнему составляло для нее неслыханное счастье, возбуждало и кружило голову. Любовь ее не уменьшалась, а увеличивалась, она ни к чему не привыкала. Но изредка без него, живя в непрерывном воспоминании и повторении в памяти каждой встречи, она все чаще возвращалась к той ночи — боже, боже, могло ли это быть? — и все навязчивей та ночь вставала перед глазами. Признаться, она думала, что это может повториться, и как-то готовилась: а вдруг? И не представляла, что станет делать. Изредка ей приходило в голову, что общаются они довольно давно, да и пришел он не из вакуума, — значит, должна где-то быть женщина или женщины, с которыми он близок, — но нет, это так не вязалось с ним, с его настроением, поведением и, главное, с ее представлением о нем, что мысль эта тут же обрывалась. К счастью, Лора не имела никакой подруги, более опытной и менее наивной, которая живо бы разобрала режиссера П. и всю ситуацию по косточкам и открыла бы ей глаза, — сама она парила в небесах.
Но все бывает не так, как мы себе представляем, и мы готовимся к одному, а все выходит по-другому. Но все же выходит в конце концов. И вот она болела, горел в комнатке рефлектор, наполнял ее жаром, в окне белела зима, пахло календулой, которой Лора полоскала через каждый час горло, все так же лежала по комнате корректура, которую она читала механически, продолжая все равно думать только о нем, и пластинки, которые она теперь тоже слушала, а не слышала. На Лоре — длинный братов серый свитер, шерстяные носки, и она еще прячется под одеялом. А он вдруг пришел, даже не зная о ее болезни, смутил, застал врасплох, заехал по дороге из Останкина. Сидит на Степкиной скамеечке и, кажется, не замечает ни ее болезни, ни смущения, ни жара в комнате: ему не терпится рассказать о своих переговорах на телевидении. Лора пытается встать, привести себя в порядок, напоить его чаем — он не дает. Приходится так и лежать под одеялом под детским выгоревшим ковриком на стене, на котором коричневый олень с огромными рогами выходит на поляну из леса, а выше оленя молодая Нэля (которая теперь растолстела, родив второго ребенка) все так же вдохновенно-правдиво глядит с шикарной афиши прямо вам в душу. «А что с тобой?» — он вдруг спохватился и взял ее за горячую руку. Она глядит с подушки черными пылающими глазами, щеки тоже горят, волосы над ушами сколоты красненькими пластмассовыми зажимами, горло подпирает ворот серого свитера, губы запеклись в цвет малины. Ее переполняет восторг соучастия в его делах, общения с ним, преданности ему. Да к тому же он держит ее руку в своей. Да еще не грустит, а, чувствуется, загорелся: рассказ его хоть и звучит иронически, но что-то решилось, он готовился либо взять, что ему предлагали, либо твердо стоять на своем, — тоже решение. Они примерно в той же позиции, как в ту ночь, только белеет за окном день и жарит красными спиралями рефлектор, и оба подумали об этом, и каждый понял, о чем подумал другой. «Давай я тебя поцелую, и все пройдет», — говорит он весело и смотрит прямо в глаза. «Давай я тебя поцелую, давай я тебя поцелую…» — загудело в голове, точно эхо по пещерам. Такого не говорилось между ними, и она снова делается маленькой девочкой, еще меньше той, что копошилась в песочнице перед огромным десятиклассником, — будто отец опускает ее, голенькую, в ванночку, чтобы купать, а она младенчески-доверчиво барахтается в его ладонях, шевеля ручками-ножками, в полной беззащитности. Он придвигается со Степкиной скамейкой, приближает веселое лицо — запахи его лосьона, машины, табака, мороза, запахи здоровья и соблазна, — и болезнь ее, кажется, тут же улетучивается. Он, улыбаясь, слабо целует ее в щеку, в глаза. Потом — крепче — в горячие губы. Это медленный и долгий поцелуй: поначалу неловкий взаимно, неумелый взаимно, нерешительный, ищущий свою форму и оправдание себе, еще только деталь в этом мире, полном других течений, предметов и звуков, но потом все более глубокий, переходящий сам в себя, обретающий форму, заполняющий собой и перекрывающий понемногу эти другие течения и звуки мира. Господи, как, оказывается, она хотела этого. «Лора», — произносит он всего лишь одно слово потом и больше ничего не произносит — ее руки непроизвольно крепко обнимают его тонкую шею и опять притягивают его губы к своим.
Этого поцелуя было достаточно. Это было так велико и необыкновенно, точно полет в невесомости, и этого было достаточно. Поэтому все, что происходило потом, уже не имело для Лоры такой силы впечатления. Но мужчины, к сожалению, редко понимают чего достаточно, а чего недостаточно женщине в д а н н ы й момент, и следуют чаще всего опять-таки стереотипу. Режиссер П. при всей своей чуткости не уловил сразу достаточности одного события, — как и в прошлый раз. Чувство ли меры изменило ему, настроение ли было такое, или он позабыл юношеское значение первого поцелуя (да и почему ему было об этом помнить?), но опять лишь постфактум осознает он происходящее, и стыдится своей толстокожести, торопливости, банальности своего обращения с этой женщиной. И остается не радость, а досада. Зачем это было вообще? Ей все равно, она остановится во всех своих последующих воспоминаниях на одном поцелуе, у нее не будет счета к нему. А у него вдруг появится.
Досаду, да, досаду то и дело приходилось испытывать ему, общаясь с ней. Он н е д о т я г и в а л до тонкой ее организации, до высокого градуса чувств, до трепета нервов. Ему не уловить было до конца всех ее излучений, переливов, оттенков. Где нам! Пришлось бы день за днем, ночь за ночью быть рядом, настраивать свою систему на чужую волну, сделаться, пожалуй, таким, как ее брат. Брат ее понимает до конца, но где у него свой лик? А режиссер П. и сам был излучателем, дай бог! И находился он, к беде Лоры, как и других страдавших из-за него женщин, уже давно в состоянии излучения, а не приема. Что ж, кажется, чего лучше, когда оба любящих говорят «на», тут и происходит истинная отдача-обретение, но, к сожалению, их излучения не совпадали: ее было направлено исключительно на него, как узкий луч в одну точку, а его излучение изливалось широко и лишь в малой степени каталось Лоры. Даже привыкнув и полюбив ее, — пусть не безумной, оголтелой, как бывало прежде, но новой, спокойной, непьяной, можно сказать, интеллигентной любовью, — которая по крайней мере не делала его слепым, как было с Нэлей, — и тогда он все равно не совпадал, недопонимал, ошибался. И — злился. Надо было сразу бросить, плюнуть и уйти, но нет, ему хватило ума понять, что имеет он дело с редкостью, с драгоценностью. Он всматривался, завидовал, изучал этот дар любви, верной и пылкой. Он рад был бы ответить тем же, но… И в конце концов он просто уставал, изнемогал. Его крестьянская закваска и здоровая психика бунтовали против чрезмерной экзальтации, против нормальной ненормальности ее высоких чувств. Его утомляло долгое психическое напряжение. Хотя в Лоре совсем не было фальши, или внешне выраженной приподнятости, или безумного веселья, счастья — она оставалась и тихой и застенчивой, — но внутри, внутри, — он знал, что внутри она все время перегоняет его. Они оба походили на два колеса из одного и того же часового механизма: их время оставалось едино и механизм един, но только пока одно колесо делало один оборот, другое успевало сделать шестьдесят. Ее любовь превосходила способности ее «бога», а у него развивала комплекс неполноценности.
Быть ее любовником было самое трудное. Ее впечатлительности и чувствительности требовались, кажется, часы и сутки, чтобы пережить и освоить простые, в сущности, вещи. Ее неопытность и невинность нуждались в занятии ими, в чуткости, в подчинении его воле, но на это нужны были время, внимание, искусство (любовь?), а где ж он мог это взять, как ему было расточать себя? Все его связи, между прочим, давным-давно ничего не имели общего с неопытностью и невинностью. Мужчинам больше некогда быть Пигмалионами, хорошо бы иметь сразу готовенькую Галатею, — кем-то вылепленную. Но чужая Галатея, Галатея напрокат — это не Галатея. Лорина врожденная женственность, нежность, все ее ответные реакции, ее преданность, внимание, искусство внимания и, главное, полная преданность ему и любовь, — все это, конечно, был редкий и прекрасный материал, он стоил труда, что говорить. Она была только такою, как он хотел, все для него, послушно нежно и горячо. Но он был занят, занят, он не мог! Когда она испытала с ним то, чего вообще прежде не испытывала, и произошло новое потрясение ее натуры, он вообще испугался. Внешне это ничем особенным не выражалось, хотя голова у нее отлетала, а тело падало в пропасть и валялось там резиновой куклой, из которой воздух выпустили, но, бывало, он успевал собраться, уйти, доехать до Измайлова и позвонить ей оттуда, а она все лежала, будто поверженный врубелевский демон в сияющей долине, и говорила в телефон еле-еле. Кажется, мужчине могла бы льстить такая сила чувств, коих он был причиной, но он опять досадовал, почти стыдился и в конце концов сказал однажды: «Ну, ты просто чокнутая!» (Спасибо, давно не слышали!) Он не мог, не мог ответить ей ничем подобным, вот и все.
Как-то она заикнулась, что пошла бы работать в кино, хотела бы быть с ним рядом, он резко ответил: «Ни к чему», — неожиданно для себя резко и потом подумал: почему? Она не годилась, не подходила для такой работы, для их жизни. Что ей делать в кино? А учиться… ей этому учиться все равно, что ему учиться любить ее. Поздно. Не до этого. И она стала собираться опять в школу. Она почувствовала теперь, что сможет работать. Хотя она не хотела бы работать, а мечтала бы быть только рядом с ним.
Такая чуткая и любящая, разве она не понимала, что происходит? Разве хватало ей того, что он м о г дать? Прежде хватало, теперь нет. Аппетит, грубо говоря, приходит во время еды. Ей казалось, раньше она была счастливее, один на один со своей любовью. Словно эпизод из далекого безмятежного детства вспоминала она, например, как однажды под Новый год, среди пушистого снега, шла маленьким московским переулком. Вторым Новокузнецким, где жили родители режиссера П. и куда он иногда скрывался, переселялся на время работы или поссорясь с женой. Шла и искала его. Свернула с Пятницкой, вокруг лежал и падал крупный мокрый снег, окна празднично горели, а за ними елки с разноцветными огнями, из той или другой форточки доносились звуки праздника. Она еще издали увидела его машину у подъезда — уже счастье, сердце застучало: он здесь! Она отыскала три известных ей окна на четвертом этаже, тоже освещенных. С противоположного тротуара было видно, как там ходят, спешат, время перешло за половину двенадцатого. Она воображала его за столом, в кругу родных, нарядного, в галстуке (никогда не видела его в галстуке), с бокалом в руке и чуть грустного и неспокойного: что-то неясное ему самому волновало его. И весело было думать, что это ее присутствие волнует его, что он ничего не знает, не ведает о том, как незнакомая ему женщина стоит под окном, думает о нем сейчас, любит его, желая ему счастья на Новый год. Если бы она была верующая, она бы, конечно, молилась в эту ночь за него, — впрочем, бывало, если она заходила в церковь, то и ставила свечку во здравие его. Но тогда она просто стояла, улыбалась, посылая ему свои волны, и была чисто и возвышенно счастлива, не требуя от него н и ч е г о. Единственное, на что она осмелилась, — это стереть со стекла машины мокрый толстый снег, подсунуть под «дворник» новогоднюю открытку без всяких слов, без подписи: будто шел дед-мороз и всем раздавал такие открытки на счастье.
Да, все это было далеко и невозвратно, — в самом деле, словно детство. Должно быть, и у любви, как у всего на свете, бывает свое зарождение, детство, юность, зрелость и так далее. В какую же пору вступала ее любовь теперь? Все-таки приходилось признаться: есть две любви, ее и его, нет любви н а ш е й, как он о том говорит, или вообще есть лишь одна — ее.
Вдруг их встречи сделались совсем редки. Режиссер П. все-таки начал новую работу. И тут уж весь мир померк и отступил. Он решил делать фильм о детстве и войне, о любви и работягах, — обо всем сразу. Там присутствовали счастливый человек, старик живописец, и несчастливый — главный инженер завода, поклонник Достоевского. Режиссер П. работал с двумя сценаристами, сценарий выходил сверхсложный, все время ругались, никак не давалась главная героиня, которая всю жизнь должна была любить главного инженера. Сценаристы кричали, что у режиссера нет центральной идеи, нет страсти, он сам не знает, чего хочет, а он кричал, что если выйдет героиня, выйдет любовь, — с него будет достаточно. Распаляясь, он учил своих соавторов, что жизнь женской души в сто раз сложнее их штампованных представлений, что поведение женщины, которая любит, есть аномальное поведение, поскольку аномально состояние, но это-то и есть норма, и разница между женщиной любящей и «пустой» такая же, как между бревном, которое не горит и которое горит. Писали, опять спорили, он отметал варианты и однажды, в запале, вдруг жестко сказал: героиню, мол, надо назвать Лорой. Сердце его похолодело (предатель! что ж ты продаешь-то!), но он скрепился. И повторил: да, Лорой, попробуем. И — чудеса! — героиня стала прорезываться, дело пошло.
После этого он некоторое время избегал Лоры, боялся ее увидеть, точно на лице ее вдруг не окажется глаза или носа. Как-то нагрубил по телефону. Она робко просила приехать хоть на минутку — он рявкнул: «Ну занят я, занят!» В самом деле он был очень занят.
А день за днем проходила зима, потом весна, лето. Он уезжал за границу, уезжал выбирать натуру, уезжал на фестиваль в Ташкент, уезжал работать над режиссерским сценарием. И так далее, так далее. Как-то в его машине Лора увидела женщину, молодую красавицу с белыми распущенными волосами, в белом пиджаке, с красным бантом в петлице. Она обнимала режиссера П. за шею, целовала его на ходу в щеку или в ухо и запускала руку, смеясь, в раскрытую на груди любимую рубашку-сафари с погончиками. Нет-нет, он работал, это была просто мелочь, «их нравы», как он выразился, он работал день и ночь и вот-вот приступал к съемкам. Но все-таки у нее эта картинка больше никогда не стиралась из памяти. Он рассказывал Лоре все самым подробным образом, сидя изредка на Степкиной скамеечке, держа саму Степку на коленях. Он говорил перед Лорой, как перед самой замечательной слушательницей, и, рассказывая, проверял сам себя, эпизоды, идею, формулировал, и тут же что-то возникало, уточнялось, и он вскакивал, спешил, не оставался даже попить чаю, не обещал заехать позже, пусть после, позже, после смены, хоть в одиннадцать, хоть в двенадцать, когда угодно. Нет, он не обещал. «Бегу к своему детищу, — говорил он, — лежит там в люльке и плачет».
Она писала ему:
«Я слабая, я не могу вынести пыток, а началась пытка. Простите, что тревожу Вас, но мне не с кем больше поделиться моей болью. Чудеса, видимо, кончаются, мне предстоит остаться с тем, что у меня было, с чем я жила и справлялась когда-то одна. Но те пытки и эта несравнимы; там пытала себя я, теперь Вы, а Вы не можете почувствовать за меня моего болевого порога. Вы ведь были «не в курсе» моего состояния, бесплодного напряжения, бесплодного ежесекундного ожидания. Вы ничего не знали об этом, и ладно. Но теперь Вы знаете, и я знаю, что знаете, теперь у нас «отношения», и когда при отношениях — ни проблеска, ни капли сочувствия хотя бы, вот тогда пытка. А знаете, почему так? Потому что я всегда была чужая. Чужая и ненужная. Вы даже никогда по-настоящему не открылись передо мной. Не может быть, чтобы Вы — Вы! — не умели до конца открыться, потерять голову, совершать поступки. Ваши механизмы защиты работали сами: она — чужая, она — ненужная, и в конце концов позволительно махнуть рукой, повернуться задом, отрезать: я занят. Сверхчеловек, которому доступны вершины духа, способен на такую небрежность, с чужой жизнью, ц е л и к о м от него зависящей, — как это может быть? Или я ошиблась в моем сверхчеловеке? Или я, со всем, что во мне есть, ничего не стою? Крохи внимания? И Вам скучно?.. Счастье надо выносить и родить, чтобы оно стало твоим, как ребенок, а Вы не хотите потратиться на такой труд. Разве Вы, всепонимающий, не знаете, что и боль благодетельна («живешь и болью дорожась», Маяковский), а Вы, боясь боли, готовы бросить из-за этого страха и свое счастье, и меня, Ваше дитя. Если Вы можете так, если Вы не различаете ценностей и подделок, если нежность для Вас ниже страсти, то кто же Вы? Все мое существо, не рассуждая, тянется к Вам, — может, я не должна верить себе и существо мое дурно? Все силы моей души много лет были сосредоточены на Вас, я стояла под стенами крепости, и вот что же? Только еле-еле закоптила стену, но не прожгла ее. Почему? И чей это крах, только мой или стены тоже? Лишь на миг мне удалось растрогать Вас, еще тогда, в саду непрерывного цветения, и Вы были готовы и на отзыв, и на сострадание, на боль и на плату. Вы же все поняли, Вы же увидели, что перед Вами настоящее. Вы хотели настоящего, что ж Вы отступили? Оказалось, Вам не нужно н а с т о я щ е е, я чужая, ведь тогда пришлось бы оставить все ненастоящее, а это есть вся Ваша жизнь. И вот Вы отступаете, а я иду под пытку. Но я не могу под пытку, я не выдержу. Любовь может быть только разделенной, твердят мне, страдание унизительно, мученье унизительно, — да и мне оно унизительно, но что же мне делать с собой, если мой сад (Ваш, Вами посаженный) непрерывно цветет сам по себе, пускай и не обласканный благодарным хотя бы, человеческим взглядом за то, что цветет. Почему все так? Надо подумать. Ведь зачем-то и я послана Вам, а? Простите. Ваша Л.».
Он достал письмо утром из ящика, вместе с газетами, торопясь, даже не выпив кофе; он вызывал теперь «рафик» со студии или просил кого-нибудь из группы заезжать за ним: не хотел отвлекаться даже на вождение машины, наоборот, в дороге можно было еще подумать или пролистать наспех газеты. И он сначала не хотел читать это письмо, его первые строчки уже опять были досадным несовпадением с его делами, сосредоточенностью, с этим утром, когда в голове существовал только тот эпизод, который они должны сегодня снимать. Лора обрушивала всю свою лавину, целый ледник на его маленькую туристскую палатку, приткнувшуюся к подножию горы. Он не имел права даже задуматься, о чем она говорит. Нельзя, некогда. Безумная. Пусть даже ее правда, ну и что? Не теперь, не теперь. И вообще хватит. Не вникать, не разрешать себе эмоций, ответов, рассусоливаний, все потом. Любит — потерпит. «Рафик» трясло, мелкая и аккуратнейшая вязь письма, не соответствующая нервическому и бурному его содержанию (переписывала?), мешала читать. И он не дочитал письма, не стал, хотя, понимая его ценность, спрятал в свою кожаную книжку. Потом, потом. И пусть ничего не щемит, не саднит, ничего тут особенного нет. «Зачем-то ведь и я послана Вам». Да, вот это стоит обдумать. Ах, Лора, Лора. Вот тебе и Лора. Сад непрерывного цветения… И в ту же секунду он вспомнил совсем другое. Работница на грядке с красными от холода, в земле руками, провожавшая их взглядом. Вот такая была Карина. Да, Карина, вот кто. (Он даже рассмеялся про себя.) Карина, как давно! У них на курсе был такой милый парень Коля Вераско, и была у Коли сестра Карина, старшая сестра, — смех и огонь, скулы и раскосые глаза, черная прядь из-под косынки и крепкие ноги в резиновых сапогах с отвернутыми наружу голенищами. В одну весну она устроилась на выставку подработать, ухаживала там за овцами-рекордсменками и чемпионами-баранами, и вот с ней-то и убегал будущий режиссер П., когда вечером, а когда и среди дня, в Ботанический. И не было еще тогда сада непрерывного цветения, или не помнилось это, и, кажется, ничего не было, кроме них двоих. Как теряли они голову, что вытворяли. Стояла жара, стеклянный дендрарий сухо трещал, как раскаленная печка, нельзя дышать, а груди ее были прохладны и крепки, точно яблоки. А однажды ливень загнал всех посетителей в тот же дендрарий, люди столпились, уже заваливалась экспозиция, и их тоже притиснули к стеклу и друг к другу. Он чудом продел ладонь в вырез ее платья сбоку, дотягивался и дотягивался до прохладного яблока, никто ничего не видел, но тем не менее женщины вокруг стали волноваться и поворачивали к ним встревоженные головы, как овцы в стаде. Сопротивляясь, Карина только сильнее прижималась к нему. И они стали вытаскиваться из толпы, выскочили в конце концов под дождь, в минуту промокли, Карина хохотала и дурачилась, бежала босиком по потокам дождя. Зато вокруг не было теперь ни души, никто не мог выйти из-за куста или с тропинки, оказаться по ту сторону старой липы, которая всей своей мощной кроной тоже не в силах была удержать дождя: вода уже струилась по стволу. И к этому стволу, с той стороны, невидимой с тропинки, он и прижал ее, — да так, что потом ссадины остались на лопатках, — откуда сила взялась. Она сначала все продолжала хохотать, отбивалась, отпихивала его коленками и вопила, стараясь переорать грохот ливня: «Пусти! Что ты делаешь!» А потом сама охватила его безумно, затряслась и глаза ее, всегда полные смеха, закатились и померкли. Дождь поливал их, точно скульптуру, и, как скульптура, они не ощущали ничего… Вот, милая Лора, а ты говоришь, сад! Это было безумно, весело, безудержно, черт подери, как это было! Он рвался к ней каждую минуту, он догонял ее, как охотник, он все бросал, стоило ей позвонить. А она никогда ничего не читала, не кончила института, убирала за баранами. И какой долгой еще и сложной была потом эта страсть. Коля Вераско ушел в документалисты и уже много лет назад, совсем молодым, погиб в экспедиции в Африке. А огненная Карина ни с того ни с сего вышла замуж за итальянца и однажды в красивом городе Турине возила заезжего режиссера П. на своем красном «фиате», показывая достопримечательности, а потом свой дом, своих раскосых детей, мужа, кудрявого Алессандро, который умел играть на губной гармошке и петь по-русски: «Жигули вы, Жигули, до чего вы довели». И на прощание они целовались и сходили с ума в ее красной машине.
Вслед за первым письмом от Лоры пришло второе, с извинениями за первое, а потом еще одно, где она рассуждала обо всем уже спокойно, но где, между прочим, были такие слова: «Кто знает, что останется Вам для души: все Ваши фильмы, которые так скоро старятся, Ваш непрерывный бег, или память обо мне, тоже Вашем создании». Вот на это уже стоило ответить, и он хотел ответить, причем письмом, чтобы и для себя уяснить какие-то положения и сформулировать. И собрался, написал. Много написал. Чересчур серьезно. Без ерничества. Но почему-то не отправлял неделю, не мог найти конверта: он не любил стандартные конверты, уже маркированные, бог знает с какими рисунками. Потом решил не отправлять письма совсем, зачем? Если б кто увидел из своих, не поверил бы. Потом все-таки отправил. Хотел успокоить ее, чувствовал себя виноватым. В чем? В чем?.. Но ведь в самом деле зачем-то она послана ему, как чистый ангел? Вот закончить картину, сдать, все бросить, жениться и уехать с нею на год-два-три в горы, к морю, в степь, где много простора, широко видно, различимы рассвет, закат, звезды. И там синхронизировать, как в сообщающихся сосудах, свой низкий нравственный уровень с ее высоким. Его поднимется, а ее маленько опустится, и они будут квиты. Так он лениво шутил про себя, но пока что не в силах был даже позвонить Лоре, просил помрежа, верную Олю: позвони, скажи, уехал на неделю.
А Лора ходила по Ботаническому, зачитанное письмо прожигало сумку, и все искала уединенную лавочку, чтобы сесть и опять прочитать все с начала до конца, усмехнуться всем этим «проклюнулось», «трудновато», «новых дурочек». Ах, бедный, как же он не понимает, что ему нужно и что совсем не нужно. Он не может не идти по своему пути, но куда он идет? Бедный! Ботанический летним днем наполняло много народу, туристы толпами переходили из розария в дендрарий, из дендрария в оранжереи; одинокие старики и старухи, заняв все скамейки, дремали, читали, вязали, беседовали или просто глазели, сокрытые сенью дубов, лип, синих кленов, пышных, густо набитых гроздьями рябин. Дети гоняли по дорожкам, по граве, по берегам прудов, прикармливали уток с подросшими выводками и степенных лебедей. Лора редко заставала здесь такое множество народа. Те три-четыре раза, что они бывали в саду вдвоем с режиссером П., как правило, либо дождь моросил, либо стояло раннее утро. Однажды они в полном одиночестве в холодный и ветреный вечер сидели у деревянного круглого стола из цельного среза дуба, темного от времени, с боковыми продольными трещинами, на таких же монолитах-стульях, словно из сказки о трех медведях. На режиссере П. было темное узкое пальто с поднятым воротником, надвинутая на глаза, как и полагается режиссеру, кепочка с ремешком позади, повязанный галстуком красивый черно-белый шарф. Громадный стул еще уменьшал его субтильную фигуру, но в тот час режиссер П. был велик: рассказывал Лоре об одном фильме, который она по своей кинобезграмотности не видела, а он только что посмотрел, и его сотрясало истинное волнение, слезы блестели на глазах, он говорил замечательно — в пожаре своей бескорыстной кипящей зависти. Кажется, и тот вечер происходил так давно и тоже остался в области счастья.
Теперь Лора шла по саду непрерывного цветения, где опять ничего не цвело, а, напротив, все увядало, созрев (флоксы и георгины горели на клумбах), и те самые гигантские деревянные стулья, лесную мебель облепляли дети яркими ползающими жуками и осами, и Лоре хотелось попросить их уйти или даже прогнать их, чтобы самой сесть там в одиночестве и сидеть, сколько хватит сил, до ночи, до утра. А еще хотелось найти маленький пруд, спуститься, сойти в воду, в чем есть (и письмо в сумке), и так идти, идти, пока вода не дойдет до пояса, до груди, до горла, не покроет с головой. Или можно найти незаметную канавку в саду, лечь в нее, набросать на себя опавших листьев — уже можно собрать, уже хватит, чтобы укрыться, — и так остаться лежать здесь навсегда, раствориться в этом саду. А что? Что же делать? Ведь делать нечего, это ясно.
Несколько дней назад в устаревшей своей библиотеке она нашла устаревшую тоже книгу, уже желтую и хрупкую от времени. В юности она нравилась ей чем-то. И вот Лора прочитала там и теперь повторяла про себя стихи «Об отступниках»: что листья блекнут — тут не на что еще жаловаться, пусть они летят и падают, о Заратустра, не жалуйся. Лучше дуй на них вместе с шумящим ветром. Дуй на листья эти, о Заратустра, чтобы все поблекшее улетело скорей от тебя… Да-да, конечно, нужно мужаться и жить, прав брат Виталий, в наше время все-таки так нельзя, это не ценится, и надо просто работать, тогда вся дурь вылетит в конце концов из головы. О, безусловно, и она будет жить, — вон все живут, гуляют, доживают до глубокой старости, а мало ли у кого что было в жизни, — нет, люди сидят, подставляют лица солнцу, сад все равно зеленеет и цветет, верещат дети. Нет, она не станет больше лежать в темноте, глядя в потолок. Глядеть в потолок — это поза чересчур мечтательная, романтическая. Теперь не выйдет. Отвернуться к стене и накрыться с головой — вот теперь будет ее поза. Боже, боже, можно говорить что угодно, но что, собственно, произошло, что изменилось? Какие претензии, к кому? А если бы он вообще никогда не ответил ей, не пришел, остался бы вовсе с ней незнаком? Кто сказал, что счастье должно отвешиваться тоннами и длиться годами? Что изменилось, на что я претендую? Стыдно. «Началась пытка». Скажи спасибо за такую пытку. Ты любишь его? И люби. Люби, как любила. И буду. Не могу по-другому. Даже если бы я умерла, моя любовь осталась бы с ним. И он это знает. Всегда будет знать. И оценит это когда-нибудь. Я не дам ему делаться смертным. Он должен понимать, где настоящее. Он понимает. Бог есть бог.
Лора сидела на берегу прудочка, в глубине сада непрерывного цветения, обхватив колени руками, склонив голову. Растирала по щекам бегущие слезы, улыбалась сквозь слезы, кусала прядь волос; письмо лежало на траве, прижатое сумкой. Мальчик с того бережка, из кустов ореха, в шортах, карманы которых пузырились набранными желудями и орехами, хотел запулить в нее желудем, но пригляделся и передумал, жалко ее стало. Чего плачет? Чего тут же смеется? И он повернулся и ушел, а Лора осталась сидеть непотревоженной. Слезы сами лились, не останавливались.
А режиссер П. в это время, в ста сорока километрах от города, на натуре, то есть просто в деревне, а точнее, в одном старинном имении, где сохранились еще пруды, оранжерея, флигель старого барского дома, тоже на жаре, на людях, на съемочной площадке, объяснял одной известной актрисе, имя которой по фильму было Лора, как ей в таком-то эпизоде нужно одновременно и плакать от горя и смеяться от счастья и как вообще нужно ей любить героя фильма. Актриса все делала невпопад, то есть она все делала как нужно, и неплохо, но не так, как он «видел». И он кричал на нее: «Ты понятия не имеешь, что такое любовь! Ты сама-то любила хоть когда по-настоящему?» Актриса презрительно глядела на режиссера П. «Я-то — слава богу!» — отвечала она под смех присутствующих на площадке, все, разумеется, знали личную жизнь актрисы лучше своей. «Ни черта ты не знаешь! — кричал режиссер П. — Тихо, вы! — орал он на смеющихся. — Тихо! Никто ничего не знает! Одна пошлятина!..» И он вскочил — все поняли, съемка остановлена, и только переглядывались и пожимали плечами: мол, ты не прав, старик. И он знал, что не прав, не в них дело, и актриса кого-то любила, и все, все, все, кто-то как-то кого-то любил, все. И режиссер П. ушел с площадки (все глядели ему в спину), направился к берегу пруда, где уже теперь, для фильма, ребята выстроили декоративную купальню. Там надо было спускаться по крутой тропинке, и он побежал, тормозя ногами на спуске, поднимая пыль, — все продолжали глядеть, боясь, как бы он не грохнулся. Нет, он сбежал вниз, почти к самой воде. Постоял, потом сел там, прямо на траву, серую и вытоптанную, в светлых брюках. Съежился, охватил колени руками, вода слепила глаза, затих. Что-то было не так.
Наш дед Ефим
Сижу на корточках над самой водой, где песочек, над речкой, и грежу: как это было, когда? В памяти вы остались иными: и речка, и тот берег, и излука, что справа, и остров, что слева, и небо, и воздух: многократно повторяя природу, память изменила ее за многие годы, или ты, милая моя речка, тоже не та теперь? Закат. Солнце упало за тот берег, контур нового города, которого не было прежде, гребнем торчит на красном горизонте, и его дымы буравят небеса. Я умылся, не вытираясь, лицо мокро, будто от слез, и пахнет мягкой торфяной водой с легкой бензиновой примесью. Его студит вечереющий воздух Деревянный причал, остроносые черные лодки на оловянной розовой воде, — так и вижу сухую сутулую фигуру деда с веслами на плече, его чуть надменно посаженную маленькую голову. Мы отправляемся на вечерний клев, я несу следом снасти, и первым, по знаку молчаливого деда, прыгаю в нетвердую под ногами лодку. Как давно это было. А словно вчера. Катится вода, течет время, — куда ты, быстробегущая жизнь? Что ты хотела сказать нам, чему научить, отчего так скоро утекла наша вода и ее уже сменили воды чужие? Все так и не так, все было, а будто и не было. Было! — хочется закричать криком боли. — Было! Было!.. «Было, да сплыло», — отвечает мне жесткий голос, а я не хочу так, я в с е хочу оставить, м о е, с в о е, — не думайте, что вам оно не нужно. И я ведь тоже черпаю вашу воду ладонью, а пить боюсь, не знаю, можно ли ее теперь пить, новую воду из моей старой речки, — больно шибает мазутом. Про новое пусть новые и скажут, а я про деда: его ведь и на свете давным-давно нет, и кладбище старое срезали, когда вели шоссе, а для меня так он жив, виден, — вон, закурил и кашляет. Бессмертного памятника не заслужил, а для меня, для нас, кто его помнит, жив, ходит, сидит со мной на бережку, на закате, — это он научил меня сидеть на корточках, свиснув назад, и так отдыхать, и ноги не затекают… Да что говорить, вот они, старые его письма, целая связка. Я перечитал их — сердце заплакало. Бросить? Н е л ь з я. Вот я их собрал, сложил, чуть подправил, оберегая дедов особый стиль и орфографию, — пусть они будут, пусть живут — в поминание старику Ефиму.
Июля 7-го
От папы привет, дочка, тебе, Борису, Сашеньке поцелуй! Валя, деньги я получил, благодарю за помощь. Валя, в моей жизни изменение положения к лучшему, и потому: Раиса Ивановна, наскитавшись в Карелии, вынуждена вернуться, я ее пустил на квартиру с условием, что она должна стирать, готовить и выполнять работу по уходу за садом и прочие работы по моему быту, а я отказался получать с нее квартплату, а расходы по питанию она должна вкладывать по едокам, а потому мне жить теперь хорошо. Примерно: я иду в любое время, все для меня готово, т. е. обед, постель, и порядок по дому безукоризнен. Ведь она способная, как то: аккуратная, честная, чистоплотная, экономная, а потому я живу великолепно, постель чистая, белье в порядке, не допускает, чтобы я был не в порядке, т. е. увидя пятно грязи, надеть не допустит, белье стирает не хуже Анны Ильиничны, твоей матери, о которой я печалюсь по сей день. Готовит неплохо, а потому я ей очень доволен, самочувствие у меня великолепное. Она еще не работает нигде пока после Карелии, а занимается шитьем людям белья, платьев, одежды, мастерица она неплохая, посылает вам всем привет. Теперь посылку пошлешь не рубашку, а материал на рубашку, она делает по мне сама (материал желательно штапель или другое полотно).
Болезнь моя лечится врачом, он меня направил в лабораторию сдать кровь на исследование и к зубному врачу очистить челюсть от плохих зубов, и принести ему справки о результате, а потом он будет оперировать. А потому зубной врач удалил у меня 7 зубов, осталось у меня полубольных во рту 5 зуб., так что кушать могу только мягкое и моченое. Так жить нельзя, и потому буду стараться вставить зубы искусственные. Вот как стоит дело с моей болезнью, что будет дальше, напишу.
Остальное все по-старому. С Петром живем в порядке, т. е. не вмешиваюсь ни во что, а он ведет себя плохо, т. е. ежедневно приходит пьян, обижает Настю, детей, иногда и мне достается, вообще скатывается… Иван живут как будто в порядке тоже, Лиза работать не работает. Дал бог сыновей, стыдно перед тобой и Борисом Евгеничем, что имеешь таких братьев. Погода у нас плохая, дождя нет и не было, хлеба пропадают и проч. культуры.
Пиши о ваших взглядах на мой поступок.
Еще привет, поцелуй, внучке Сашеньке поцелуй. Ваш папа.
Жду ответ.
Августа 25-го
Валя, письмо я твое получил, благодарю, подарок тоже, накануне дня моего рождения как раз, телеграмму не получал. День рождения справил бедно, на празднике были! Настя, Алина и Раиса Ивановна, а Пётра, зная, что завтра день моего рождения, он утром рано уехал по Волге. Явился! вечером пьяный и поднял бунт, так что хотел всех, почитающих мой праздник, перебить. Фигура он, сама знаешь, и кулак у него тоже, особенно когда пьян напившись. Так что Настя убежала в соседи! и там ночевала, Алька к другим и тоже там ночевала, Раиса спряталась в саду и вошла в дом на заре, дрожала от холода и решила уйти от греха дальше. Настя вернулась на другой день к обеду, а Алька через неделю. Я, имененник, никуда не побежал, решил, что уж будет мне, не побегу, убьет, так ровный счет моей жизни — 70 лет. Но меня не тронул, даже не вошел в мою квартиру, т. е. на половину дома. Вот какое было дело. Хотя они вернулись! но положение у них туго натянутое…
И вот, дочка, ты поймешь! мою житуху.
Ты мне советуешь, мол, подумай, и я уж подумал, я теперь согласен бы куда хоть, в тайгу или тундру, только бы бежать от этого стража, хулиган! Получа твое письмо и читая его, я горько плакал от радости. Я думал, что все дети меня презирают и ждут моей смерти, чтобы выпить от радости на моей могиле, а я как на зло живу и живу, и бодрой еще, благодаря вас с Борисом одеваюсь лучше их, спасибо, дочка, вам. Я согласен, хоть за утро приеду, как вы известите. По получении твоего письма я как будто помолодел на 20 лет.
Был у Фанзовой, она отказала, объясняя тем, что у ней нет средств в этом году вставить зубы и даже не особенно уверена, что ей отпустят средства на тот год, чтобы я попал. А за деньги она может попросить технический кабинет, чтобы мне устроили вне очереди и написала им, но тех. кабинет и слушать ее не хотят, говорят, что мы ей не подчинены и порядки свои мы не изменим из одного старика, вставай, мол, на очередь к нам. А у них очередь большая, т. е. ждут люди годами, а они, т. е. техники работают на дому и берут гораздо дороже государственного, так что за мои зубы они берут не меньше 60 руб. Вера Ильинична так и сделала, отдала 60 руб., ей через неделю сделали, а что толку в том, т. е. она как обедать, так зубы вынимает, иначе кушать нельзя. Предъявила претензию, а ей говорят, что лучше сделать нельзя, привыкнешь, мол, и все. Она и отстала. Я решил так! что по-частности-то мне где хочешь сделают везде за деньги-то, т. е. приеду в Москву, в Москве сделают, и в Ульяновске сделают, и где угодно, и получше, чем у нас-то, вот мое решение.
Насчет ваших планов, т. е. приехать к вам на дачу, я согласен при любых условиях, если вас это не отяготит.
Больше писать пока нечего, жду ответа о вашем решении, до свидания, целую всех, ваш папа. Сашеньке внучке поцелуй.
Сентября 5-го
Здравствуйте, Валя, Борис, внучка Сашенька!
Письмо я твое получил, благодарю за внимание. Валя, ты извиняешься, что меня взбудоражила, и напрасно, что не делается, все к лучшему, я от души говорю, что не особенно эта дача меня интересовала! момент попал такой. А интересовала бы меня, дочка, хотя бы маленькая, об одной комнате, но ваша, собственная, а не съемная, как вы там в Москве каждое лето мучаетесь у чужих людей ради одного просто воздуху, и я бы там шавырялся помаленьку, расширял, огораживал, посадил бы садик, ягод и проч. я бы старался сделать для вас все, а потом рос бы сад, росла бы помаленьку дачка, и помаленьку! сделали бы дачу, и ей бы была тогда цена, вот моя мечта и перспектива, а это что, т. е. я упрячусь от мира сего и буду жрать, лежать, спать и что же! уподоблюсь борову-леженю. И хорошо, что так получилось, не извиняйся, дочка. Возможно, я приеду как-нибудь погостить на неделю, но чтобы без Елены Юрьевны, чтобы я не видел ее барское самомнение, я это не терплю. Пусть Борис не обижается! сам знает, какая его мать, не сердись, дочка. Но я стесняюсь этого, т. е. мое гостевание введет вас в вынужденный расход, и без того, как ты отписала, натянутое финансовое положение. Я этого не желаю быть таким. Я всю жизнь работая, никому не должен остался, дети мои только, Петра да Иван, думают, что я им должен, всё и буду должен, пока сами старики не станут. Я этого! не желаю.
Я теперь все сделал, т. е. подготовил свой садик к зимовке, к весне нужно подготовить химикатов для борьбы с разным садовым вредителем и проч. копаюсь, как встану, еще солнышко не выйдет. Садик дал хороший прирост, жду скоро плодов и тогда мне бы жить стало полегче. Живу я одиноко, никуда не выхожу и ни к кому. Делаю на себя всё сам, т. е. ремонт на себя, готовлю что-либо, всё сам. Но скука, особенно зимой будет, безделье страшная. Приходы тебе мои известны, расходы бытовые ограничены и я сжился с таким режимом. Ушла Раиса Ивановна, ну и скатом дорога ей, или кума с воза, коням легче. Я свою оборону держу, а она свою не выставила, испуг взял. Напиши, когда приехать можно или нельзя. А нет — не надо. Еще привет, поцелуй. До свидания Ваш папа.
Жду ответа, пиши почаще.
Сентября 19-го
Валя, я письмо твое получил, благодарю. Я приеду тогда, когда пригласите, больше не волнуйся об этом, у меня еще не все сделано в саду к зимовке. Раиса уехала сентября 8, живу один, квартирантов не пускаю и не пущу никого, останется у меня жить в моей квартире Алька! С отцом она совсем! После крупного разговора с ним, т. е. с Петром, я тоже решил. Я решил от них отгородиться совсем, а их заставить прорубить свою дверь. Это их ошарашило, т. е. иха карта бита! и он стал относиться ко мне кошечкой. И я переменил от этого план, т. е. отгородил только террасу и сделал там кладовку, а летом будет кухня и спальня. Отгородил дверь, парадный заколотил, т. е. хода нет, а ход через двор, и ему сказал, если будешь обижать, то отгорожу и сени, и выгоню вас со двора, а уж и это тебя не образумит, то я буду вынужден продать свою половину и купить себе где-нибудь подальше от тебя. Вот мое предложение, так и сделаю, если он не исправится. Раиса ушла, не жалею! т. е. кума с воза, коням легче, стираю, пол мою, кулинарничаю и не хуже других. Белье и простыни окрасил в голубой цвет, так что стирать реже, и не нуждаюсь в посторонней помощи. Сад ухожен гораздо лучше ихнего, через 2 года будет давать урожай полный. Петр пьет ежедневно, как из кузни ушел, так до дому шагая, по пути наберется, по хозяйству ничего не делает.
Валя, если у вас дело устроится, напиши мне, что мне нужно будет взять с собой, т. е. постель, белье и проч. вещи, каковы мне будут нужны одиночке.
Ивана перевели в 1-ую группу инвалидов, пенсию ему назначили 60 руб. в месяц и работает мастером матрасником, диванщиком, тоже зарабатывает не менее 70 руб. Лиза тоже работает, Володька их тоже. Иван худой да тихоня, пока трезвый, не брату чета, а поговорить да приврать любитель, каким был, таким остался. Петрова старая драка в инвалидность Ивана Ефимыча привела. Вот братец старшой! т. е. зверь.
Больше писать пока нечего, здоровье мое пока неважное что-то, желудок не в порядке, т. е. кушаю мало и печет внутри что-то, ну овощей, как соленых и свежих совсем есть нельзя, думаю это на нервной почве. До свидания, целую всех вас, ваш папа.
Ноября 14-го
Здравствуйте, дочка Валя, Борис и внучка Сашенька Благодарность за ваши поздравления к празднику. О празднике! не пишу, они меня позвали, и Алька меня под руку вела в дом, так мы вошли, Пётра молчал, и сели за праздничный стол вместе. Обошлось, т. е. говорили, как люди, и пели за столом, все благодаря красавице Альке и другой молодежи, которая хочет быть культурнее и ей стыдно своих диких родителей.
Перед праздниками заехал твой дядя, мой младший брат Иван Ильич, мясник, помнишь ты его, широкий кости мужик, нос большой. Всю жизнь возле мяса, т. е. таких, как я, в нем три будет, я иссох, одни руки мои корявые остались, с лопату, как у верблюда руки. Помнишь, дочка, когда лесником я был, он к нам на Черемушку приезжал, гостил. Развернули с ним полбутылки, рассказывает: женился я, Ефим! Вот так. Взял хорошую женщину, самому шестьдесят четыре года. Но мне не верится, т. е. жена его из Елшанки, а там сроду отбои одни. У нас у всех дворы чистые, крепкие, курица не выскочит, а в Елшанке ворота упадут, он по воротам пройдет. И бабы такие. Но я поздравил, конечно, он рад своему делу, все смеется.
9-ого сего месяца Петр на работу не вышел, был пьяный и опять чудил. Разбито два стекла на терраске. Хоть беги из дому.
До свидания, дочка, всем привет, поцелуй.
Ваш папа.
Если Вера Ильинична тебе отписала обо мне, т. е. что я нехорош был на праздник и проч., то извини, дочка, это был выход из горя. Теперь живу по-старому, т. е. одиноко и тихо.
Жду ответа, пиши почаще. Сашеньке поцелуй.
Декабря 16-го
Валя, письмо я твое получил, благодарю, никаких неприятностей у нас пока нет. Ты права! что я хандрю, причина хандры безделье. От безделья скука и тоска, безделье мать всем порокам. А таких, как я, очень много, были эти люди неплохие и что же! с некоторыми получилось? Спились, шалаются по пивнушкам и по рынку, оборвались, валяются где придется, ведь это жуть! Дети ихние от них сторонются и проч., а им уже все равно. Это все от безделья. Я смотрю на них, а есть из них знакомые мне люди, и я их обхожу. Вот почему я и сижу дома без выхода, желтею и хандрю. Водку не пью, а когда они сойдутся, два брата за стенкой, и другие им подобные, напьются, переругаются и проч., а мне остается только бежать из дома. Приеду, все скажу, а то бумаги не хватит описать их безобразий. Я приеду в средине января, а то и попозднее, если мне позволит здоровье или какие-либо события, а события, возможно, создадутся. А дело такое! есть здесь одна особа, вдова, овдовели мы с ней в одно время, т. е. скоро 3 года тому назад. Я спустя месяца 3 ее посетил, предлагал ей сойтись с ней, она в то время мне отказать не отказала, и согласья не дала. Велела подойти потом, а я больше не пошел. А время шло, т. е. она, видимо, поджидала жениха повыгоднее, а я тоже искал жену по себе, но не нашел, вот мы оба и жили до сего времени, т. е. варились оба в своем соку. И вот 12-го сего месяца уж она сама засылает ко мне свах, чтобы я к ней пришел. Андреевна у нас тут есть. Монашкина дочка прозвище ей, тебе она неизвестный человек. Я, конечно, пошел туда к ней, одел все лучшее, Борисов костюм, и она мне предложила, давай, мол, сойдемся. Сидим хорошо с ней вечерком, т. е. чай и проч. Она сказала, но приходи, мол, ко мне жить, т. е. в ее дом, я, мол, не пойду к тебе, потому что у тебя дети, т. е. сыны хулиганы. У ней дом хороший, обстановка шикарная по нашему Балахову, как то комод, шкаф, стол круглый и проч., вообще баба самостоятельная, и со средствами, возраст ее 63 года, кубатура ее не менее Веры Ильиничны, и вес тоже, но по фигурности. Малограмотная, была за мужем — механиком, одинокая, т. е. никаких детей нет и не было. И вот мы с ней договорились почти что, она велела мне к ней прийти 14, вечерком. Я, мол, схожу к племянницам, посоветуюсь. 14 я к ней пошел и что же? Она заболела, у ней оказывается, высокое давление кровей, так что обожди, мол, поправлюсь и сойдемся.
И вот я осторожно справляюсь у того, кто ее больше знает, т. е. у своих людей, что она за птица. Знакомые говорят о ней хорошее только, т. е. аккуратная, чистоплотная, хозяйственная и проч. …Но я замечаю! по-своему, что она очень властная, крепкая, одевается не хуже Елены Юрьевны, я этого боюсь.
Живу пока в порядке, здоровье тоже. 13-го сего месяца, Иван с Лизой были у меня в гостях. Лиза говорила, что я какой-то не такой ей показался, бодрой. Я посмеялся про себя. Иван ничего, хоть и выпил. Все какой-то диван хочет стянуть на пружинах, какого еще на свете не было. Болтает. А со зрением плохо — вот она, старая драка Пётрова.
Остальное по-старому. Привет вам, поцелуй, соболезнование о нездоровье Бориса, пожелание хорошей учебы Сашеньке. Учись, внучка, учись, учение свет, а неученье — тьма.
Пиши поскорее о вашем соображении о моей женитьбе (я боюсь ее что-то).
Февраля 14-го
Здравствуйте, Валя, Боря, Сашенька, с приветом к вам дедушка ваш Ефим.
Живу я пока в порядке, без особых изменений, здоровье слабеет, а также портится самочувствие, скучаю, дичаю и проч.
Алинку отдали замуж — одна добра душа меня жалела, красавица — внучка! ушла. Отдали замуж здесь в Балахове, а также Зою Веры Ильиничны — в Курловку. Сразу обе вышли подружки. Я болел, тяжело, вылежал в больнице 10 дней, вышел, поправляюсь. В больнице уход был средний, народу много по зимнему времени, но мне неплохо показалось, отдохнул, с людями пообщался насчет политики и вообще нас стариков. Всякие есть больные, умирает уже, а не верится, жить охота. Зубы вставил в порядке.
Поехать к вам не обещаю! не заботься, дочка, об этим, а потому! Здоровье неважное, средств своих гроша не могу сэкономить, на такие расходы, да и боюсь за свое здоровье, а вдруг да и заболеешь в пути или у вас там, докука тебе лишняя. И еще я слышу, что-то болеют в пути, вот в больнице был тоже один, и в Москве болеют, так что медицина принимает меры, т. е. по линии передвижения на вокзалах на посадках пассажиры вроде проходят карантины, уколы, прививки и проч. А потому решил сидеть дома и не выглядывать, да и зима проходит, а весной я отъехать не могу. Надвигается весна, скоро вскроются воды, будет ловля рыбы, а мне выехать на воду не на чем, т. е. лодочка моя изработалась, т. е. сгнила, а выезжать очень желательно. Излатать как-нибудь, наскоро — можно и не приехать совсем. Сделать сам не смогу да и не из чего, купить не на что, продать нечего, а сэкономить за счет желудка — это можно лодку купить, а поехать на ней не поедешь.
Больше писать нечего, пока, ваш папа.
Живу одиноко, варюсь в своем соку.
Февраля 24-го
Здравствуйте, мои дорогие Валя, Боря, внучка Сашенька, шлю привет, поцелуй, благодарю, доченька, за гостинчики, т. е. деньги я получил, благодарю, мои дорогие. Живу я без перемен, одиноко, никуда и ни к кому не хожу и не езжу, все в своей квартире, у печки, сготовлю, поем, полежу, радио послушаю. Болел я со свадьбы Алиной — отдали внучку мою замуж приветливую. А было! так: водку я не пил, а пил красное вино и брагу, и вот с этого напитка у меня приключился понос, а с поносом вышел геморой, сжало меня страшно, боли, вызвали участкового врача, он вызвал скорую помощь, увез меня в больницу, заподозрили дезинтерию. И я вылежал 10 дней, вышел в порядке. К Вере Ильиничне на ее Зойки свадьбу не поехал.
И вот Алинку отдали вроде хорошо, а через месяц Алинка, т. е. 22 сего месяца в 2 часа ночью отравилась уксусной эсенцией. Хорошо еще не спали свекор со свекровью, услышали, быстро дали ей молока, вызвали скорую помощь, увезли. Врачи стали спасать, а спасут ли, не знаю, гарантию врач не обещает. Свидания дают коротко и не всегда, я хотел пойти, да там и без меня есть, привет ей скажите, мол, хоть от деда. Говорит плохо, голос себе сожгла, кушать ничего нельзя, так что на выздоровление надежда плохая. Эх, люди! Настя плачет все время, Петр не перестает пьет водку, приходит пьян, плачет тоже и устраивает недопустимые сцены, ну просто жуть! Собаку ногой убил, забор у больницы сломал. Я выхожу к ним редко, боюсь, Настю подкараулю, спрошу про Альку, и он не заходит ко мне, только слышу по двору снегом хрипит да рычит, как зверь. Сегодня вызвал меня следователь, я отказался, что ничего не знаю, следователь молодой, неглупый, первый раз такого вижу, к Алинке его не допускают, так что основание вынужденной отравы пока никто не знает. Жалко мне ее, дочка, как жалко! т. е. просто плачу. Говорят ее подружки по работе, что она им говорила, что, мол, жить мне невозможно с мужем, что затем вышла, чтоб дома не быть, обмануть думала, стерпится слюбится, да себя не обманешь, честная она, Алька-то. Придется что-то сделать, вот и сделала…
Мое предположение такое: она ушла, как теперь уходят, ни с кем не посоветовала, и провожал ее Петр, говорил ей: уходишь и живи при любых условиях. Уйдешь, ко мне не ходи, т. е. забудь мой дом. Скрипел зубами и проч. Что война с человеком сделала. Помнишь, в Горьком жили, на заводе мы с ним вместе работали, парнишком я его привел. Неграмотный, а любую машину соберет-разберет. Иностранные станки приходили, пока там инструкцию читают да колдуют, он уж установит. Из немецкого плена через пять стран чужих в Россию шел. Свово плена покушал, сломался человек. Думал я: вон! какой сын и что же? Зверь. Дочку съел.
Мое предположение, думаю, так и есть. Тут причина ее решения, т. е. там жмут, а вернуться некуда. Это мои догадки. Жива останется, причина узнается.
До свидания, еще благодарю, целую, ваш папа. О ходе дела напишу.
Марта 4-го
Письмо я твое получил, спасибо. Валя, ты беспокоишься за Алинку, прошу, пожалуйста, не беспокойся о ней, никто не виноват в ее дурацкой хватке. Муж у ней неплохой, старше ее на два года, красавец и неглупый, работает на лесозаводе рамщиком, зарабатывает не менее 120 руб., не пьет и проч., и проч. Отец с матерью тоже неглупые, самостоятельные, имеют свой дом, сын у них только один, Алькин муж, больше никого нет, только бы жить и жить, обид ей! ни от мужа, ни от родителей не было. Но ей ведь все тошно в Балахове, начиталась книжек да кин насмотрелась, чего хочет, сама не знает. Что ей с рамщиком-то, конечно! Бывало, ночь уже, спать, а она (когда у меня жила от Петра) все музыку не выключай, дедушка, не выключай. Или в окно выставится, на луну глядит, по саду одна ходит. А родители его неплохие. Алинка отравилась, их поразило это событие, они плакали от обиды, ими не заслуженной. Помогли, чем могли, т. е. свезли ее в больницу, спасли, удивляются, в чем дело! чем вызвано. Сын им сказал! шли из театра — приезжий был у нас театр. Алька не могла упустить не пойти, — шли они, т. е. Алька с мужем, из театра домой и о чем-то поскандалили между собой, т. е. какие-то пустяки, и все бы дело помириться и забыть! Но не тут-то! было, т. е. она подождала, когда все уснули, приняла отраву. Но мать услышала, бросилась ее спасать, лежит в одной рубахе поперек пола, молоком отпаивать и проч. Муж и отец побежали по морозу, вызвали скорую помощь, доставили в больницу, и ее там спасли, муж ее не отходил от нее, плакал и проч. Стала она вставать, ей лучше, он стал готовиться увезти ее домой. А дома! у него накануне приезда ее домой у него с родителями был разговор, т. е. они ему говорят! Ведь она будет и дальше ставить такие номера, а для нас это пощечина от общественности. А потому! ты, мол, не вози ее домой, вообще оставь ее, королеву такую, но он пошел против родителей, т. е. взял машину и привез ее к Петру Поехал домой, поклал все добро, т. е. ее и свое, и приземлились у Петра оба. Этим выходом они еще раз обидели родителей своих, т. е. они зовут, эти нейдут, родителям обидно от общественности, что их оставил единый сын. Алька бледная и нервная, задумается и сидит. Я, говорит, если что, к тебе, дедушка, приду. А голос хрипит. Иди, говорю, но лучше свою фантазию оставь, а живи, как люди. Она! посмеялась моему слову. Как люди, говорит, разве это как люди. Я ее понять могу, но не одобряю, блажь, хоть бы ты ей, дочка, написала, она уважает тебя.
Теперь что же! Алина с мужем живут у Петра, т. е. пришли к дуракам кашу есть. Петр отступился пока что, молчит, но надо ждать бурю с его стороны.
Валентина тоже следом за меньшей сестрой чудит. Убежала от мужа с детьми, тоже к отцу, т. е. к Петре, живут уже два дня, Настя закружила с ними со всеми, а ночуют у меня, кровать я поставил для Вальки и детям стелили. Петр пошел к ним, устроил суд, т. е. помирил, сошлись, но через малое время опять выйдет у них рукоприкладство, т. е. у Валентины с мужем. Петр сдает, сдает, т. е. отступает, да прорвется, начнет опять дубасить свою Настю, она бежать куда-нибудь и проч. Я ни во что не вступаюсь. Тужить об озорниках не стоит, и тебе не советую, т. е. черт с ними, бог стащил! и бог растащит…
Иван Ефимыч тоже живут еще смешнее, т. е. дружно только! тогда, когда Иван получает получку, Лиза сидит, ждет, получат, зайдут в пивнуху и выпивают вместе, наутро у них уже денег ни гроша, и пойдет у них поход боевой друг против друга. Иван идет на работу без завтрака, без хлеба и без денег. Иван цветом стал похож на голенище от сапога.
Я к ним не хожу и они ко мне тоже, потому что я готовлю на одного, а то и совсем не готовлю, обедаю где-нибудь в столовой — есть теперь дешевые столовые, хоть и кормят нехорошо.
Все описать невозможно. Здоровье у меня слабеет, аппетита нет, и если кушаю, то чувствую болезнь желудка. Режима никакого не придерживаюсь, а еда моя — сухари, повидло и масло.
До свидания, привет, поцелуй. Ваш папа и дедушка Ефим Ильич.
Апреля 14-го
Валя, письмо твое получил, спасибо, хорошо, что ты встала на работу, но жалею, что вы частенько болеете; молодец Сашенька, что хорошо учится. Я живу без перемен, доволен, т. е. самочувствие в порядке, помощь мне и заботу о себе вижу только от тебя, спасибо, дочка.
Петр живут хорошо, очень редко приходит домой трезвым. Алька с мужем живут у них, муж у ней парень неплохой, но Алька придет ко мне бывает и плачет. Иван сейчас пошел в отпуск, конечно, получку и за отпуск, как уж у них ведется, в первую очередь без отдыху пропили всю, а потом подрались с женой, т. е. Лизой и всей семьей вышел скандал, все дети их поднялись против, особенно Наташка, которая ходит в порядке, девчонка серьезная, учится в 10-м классе. Жить не на что, Иван вернулся опять на работу, не используя время отпуска. Я к ним не хожу, и Иван не ходит ко мне, потому что он мне должен, а отдать совести не хватает у него, считает отдавать долг ниже своего достоинства. Левка, твой брат, мой сын, пропавший без вестей, оказывается, жив, живет на острове Сахалине, узнал я от Мишки, сына Ивана Ильича, дело было так! Мишка служил в армии на острове Сахалине и в одно время к нему явился человек хорошо одетый, белый, как лунь, спросил, ты, мол, Салтыков из Балахова, сын Ивана Ильича, он ему ответил, что да, и тот подарил Мишке новые шерстяные гарусные брюки и отрез на пиджак. Мишка поинтересовался, а кто, мол, вы, он ответил, я, мол, Салтыковых знал и узнал о тебе из регистрации, но ты меня не знал и знать тебе не нужно, раз дарю, то значит свой, меньше говори, — и ушел. Мишка говорит! белый, т. е. седой, прилично одетый, я, мол, понял, что человек имеет положение, вот и все, что я знаю. Все это Мишка держит в секрете, хоть и болтать любит, мы уж сами догадались, кто это был. Видишь, хоть один сын удачно вышел, человек, надеюсь, что объявится к отцу или пришлет письмо. Была бы мне радость.
Алинка бюллитенит 2-ой месяц и не хочет идти опять в свой швейкомбинат, задумывает что-то. Новостей больше никаких нет, за исключением Насти, т. е. она стала на меня стирать и уделять внимание. Я понял иху мудрость так, она боится общественности, что не могут старика последить и боится, как бы я не женился, о чем я за последнее время стал кой с кем поговаривать и уже невесты стали меня навещать, здоровье мое пока еще в порядке. К той не хожу, пусть сама объявит, когда захочет, я это не терплю, т. е. клянчиться. Была бы шея, хомут найдется.
Погоды стоят светлые, хорошие, в апреле земля преет, по садику корой пахнет отмокшей, яблони мои оживляются. Думал твои деньги на лодочку, но передал 15 руб. Алине, чтобы зависимости! у них не было от отца, т. е. Пётра с Настей.
Еще привет, поцелуй тебе, Боре, внучке Сашеньке, до свидания, ваш папа.
Желаю встретить праздник 1-й май.
Июль 5
Здравствуй, Валя, Боря, Сашенька, прости, дочка, с ответом задержал, была причина. Письмо твое я получил, спасибо, что не забыла. Я живу по-старому, доволен только! тем, что есть люди еще хуже живут моего, да живут ведь, ну и я хочу жить, а жить хочется. В настоящее время я живу получше и потому! что у меня опять гости, приехали из Сибири Нюра с мужем, дочка Ивана Ильича, с мальчиком, Мишке их к себе некуда, опять я. Хотят жить в Балахове, подыскивают купить домик, а пока не купят, я их принял, и она, спасибо ей, за мной ухаживает хорошо, т. е. стирает и кушаю я с ними вместе, как одна семья. Мальчик хороший, неглупый, все знает, прочел многие книги и рассуждение у него умное, ходим с ним на берег, сидим, любуясь на пароходы. Я ими очень доволен и было бы лучше, чтобы они подольше жили у меня, ведь я последнее время жил неважно, т. е. обедал один раз в сутки в столовой, завтрак и ужин был дома, состоял из чаю и хлеба, так что я очень похудел, но здоровье мое пока еще в порядке.
Ты пишешь, что Мишка наболтал! может быть и так, но Левка живой, я верю и думаю достиг. В нашей семье без изменениев, у Ивана Наташка окончила на хорошо 10 класс, ищет, куда бы устроиться учиться повыше. Она сумеет, только бы из дому ей уйти. Хочу, мол, дедушка, в Москву попробовать, я одобряю.
Ну и все пока, желаю от души, чтобы вы поменьше болели, жили бы хорошо и счастливо. Привет всем, т. е. тебе, Боре, Сашеньке внучке поцелуй. Хочется увидеть, какая она стала большая.
Жду ответ, ваш папа.
Сентябрь 24
Спасибо, дочка, за письмецо. Я, дочка, уж стал обижаться на тебя, думал, наверное, меня уж последняя моя жалельщица забывать стала, ждал, ждал, ежедневно встречал почтальона и все нет и нет, было обидно и горько. Я бессильный против тебя. Но час тому назад я получил твое письмецо, благодарю, дочка.
Я здоров, лето меня подправило, кой-кто завидует, что я свеж не по возрасту, дела летом были по саду, а теперь все в порядке, т. е. добро пожаловать, Зима, все готово. Сейчас делов нет никаких, сижу, лежу, читаю Алькины книжки и мальчик мне приносит. Читаю много, как твой Борис Евген. Никуда не хожу, ни с кем не переписываюсь, вообще отказался от мира сего! чувствую, никто мной не интересуется. Рыбачить мне не на чем, лодка пришла в негодность, т. е. сгнила совсем. С мальчиком мы ее подлатали, два раза выехали, да не столько ехали, сколько вычерпывали, нельзя. Сад мне дал мало. Вишни собрал кг 5 не больше, смородины черн. это собрал сносно, крыжовник тоже, красная смородина съедена с мальчиком прямо с кустов, да от нее и ждать нечего, она еще молода, только развивается. Ранетки собрал кг 30, часть переварил на варенье, а часть высушил, всего сделал варенья разного кг 15, посылаю вам, внучке Сашеньке, баночку. Яблоки в свежем виде изварил на кисель, все кончились теперь. Одно дерево ранетки посохло, отчего, не определено, жалко дерево, росла и развивалась хорошо, лучшее из сада.
В общем живу, расход веду по приходу, занимать не могу, продукт питания беру не то, что мне нравится, а что дешевле, т. е. отходы с бойни, т. е. почки, языки, куриные и проч. птицы желудки и проч. чепуху. Белье стирает Настя, но все ворчит. Нюра ушла от меня недели две назад, купили свой дом недалеко от нас, неплохой. Мальчик пошел в школу, в шестую группу, но дедушку не забывает.
Я доволен тем, что ни от кого независим, т. е. в одолжение не вхожу и одалживать не могу, т. е. варюсь в соку своем, взял курс такой! лучше умереть, но стоя! чем жить на коленях.
21-ого сего месяца в булочной встречаюсь с тою, о ком говорил. Одета хорошо, вид здоровый. Что же, мол, Ефим Ильич, забыл меня. Кто кого, отвечаю. Слово за слово, на завтрашний день назначена вечером встреча. Я независим. Имя ей Лукерья Логиновна Христофорова.
Петр живут незавидно, и потому редко приходит домой трезвый и без скандала. Грозит дом спалить и убежать на остров Сахалин и поиски брата Льва. Алинка живут с мужем у них, хотя расходились, муж к себе уходил, но опять сошлись. Со мной тоже стала натянутая, не понять, в чем дело. Жалеет, что не училась в свои годы, по танцам и кинам, и что родители 14 лет прогнали работать, т. е. Петр с Настей. Красота ее стала горькая и печальная. Надо ожидать фокус с ее стороны. Иван живут по-старому, т. е. если один пьет, то от жены скандал, а если пьют вместе, то проходит мирно. Их Володьку проводили в армию, находится в Германии, Наташка, вернувшись от вас, не пройдя в институт, эту мысль не бросает, сейчас работает транспортершей на станции. Славка прошел ремесленную школу, теперь он столяр, скоро куда-то пошлют на строительство, Шурка тоже пошел в эту же школу, т. е. столярную мастерскую, мальчишка бойкий, подрасту, говорит, уйду в космонавты, полечу на планету. Стаська учится в 3-м классе, Надя пошла в 1-й. Все дети здоровые, бойкие, своим хулиганам-родителям спуску не дают. Иван Ефим. в сарае строит диван, хочет перебить иностранных мастеров в одиночку.
Ну и все. Шлю привет, поцелуй, ваш папа.
Декабрь 25
Здравствуйте, мои дорогие, шлем привет, поздравляем с новым годом, Валя, письмо я твое получил, и посылку, все в порядке, благодарю за гостинчик. Я очень рад, что ваше здоровье поправилось и входите вы в порядок вашей жизни. Мы живем неплохо, самочувствие повысилось, т. е. я сыт, чист, ни от кого независим, а на твое предупреждение, чтобы я изменил свой характер, всем угождал и жил мирно, я тебе! отвечаю! я считаю, что лучше умереть, но стоя! чем жить на коленях и быть хуже всех. Каким я был, таким останусь! Ведь я был неплохой и потому! что я имел средства и положение, а также силу, а по тому меня считали неглупым, а теперь я что! Несчастье одно. Я ведь понимаю, ты это написала потому, что такая оценка мне и моим событиям Веры Ильиничны, а возможно и Насти с Лизой, что, мол, он совсем с ума сходит на старости. Нет! Я здоров и в порядке, и никому не позволю смеяться! над собой. А защищать себя должен каждый человек. Им охота, чтобы я был хуже всех, может кое-кто бы поверил им, о чем они ратуют, что я такой, но благодаря тебя я прилично одеваюсь, крепок, и питаюсь не хуже других, никто им не поверит. Они и этой моей старухе! шепчут, ты, мол, с ним жить не будешь, он, мол, дурак старый, а она мне все сказывает, шлет она всем привет (зови ее тетей Лушей). Не буду описывать, как все сладилось, быстро. Пока мы живем неплохо с ней, хотя она с характером, но аккуратная, честная, чистоплотная, экономная, а мне это только и нужно. А они хотя и много зарабатывают, но живут не лучше нас. Настя в больнице, сегодня ей будет операция по каким-то женским болезням, Петр с нами притих, старуху мою побаивается. Алька ушла к мужу опять, но там плохо, накануне развода, ясно, что жизни не будет. Иван живут по-старому, диван выходил неплох, но на праздники Октября сгорел вместе с сараем, Иван Ефим. плакал и беспробудно напился водки. К Вере Ильиничне я не хожу уже год, хотя мы и не ругались, но я не терплю ее мудрости! все ей известно, как надо жить, как не надо, это чушь, яйцы стали курицу учить. Поколь жив, всё жив, а как помер, так и нет. Жить — не сено трясти.
Еще привет вам, поцелуй, ждем в гости Ивана Ильича, до свидания, дочка, не обижайся, ваш папа.
Февраль 22
Здравствуйте, дочка, Борис, внучка Сашенька, посылаю вам привет и привет от Логиновны.
Дочка, что-то ты не шлешь мне никакой весточки, обидно ведь и приходит соображение, что ты недовольна мною. До меня докатилось! что ты ведешь переписку с Настей, жалко! От Насти, я знаю, на мой счет можно ожидать только плохое, ведь ее мудрость простая! как бы меня выжить из дому, хоть бы куда, я ей мешаю особенно. А в мою бы хату поселить Альку, она ведь с мужем развелась, бросила его, или он ее. Она живет на квартире, гордая, одна, платит 10 руб. в месяц, Петр к себе не берет, кричит убью, не желаю видеть и другие слова. А мне теперь тоже девать ее некуда, у меня старуха, и старуха против, чтобы Альку взять, хотя я хотел. Я у Альки был, отнес варенье черн. смородины баночку, она молчит в ответ, усмешки только горькие. И теперь Настя ведет политику, как бы поссорить нас со старухой, чтобы я ее выжил, или она бы меня оставила, т. е. остался одинок и взял к себе Альку. Алька сама этому смеется, говорит, что ей ничего этого не надо, но Настя продолжает свою агрессивную политику. Пока ей сделать это не удается, т. е. старуха на это нейдет, и говорит ей, что мы, мол, живем с ним, т. е. со мной неплохо, хотя не жирно, но в согласии. Но немного удается. В свой дом Логиновна пустила квартирантов, я велел, чтобы она их прочь, а туда Альку, но старуха уперлась, вышел у нас шум. Алькины номера никому покоя не дают. Может быть, тебе это покажется чепухой моя писанина, но я хочу разбить твое мнение обо мне, т. е. что я не с ума сошел, не пьяница и проч. Ей ведь очень охота, чтобы ты мне не помогала и я бы жил плохо (вот где зарыта собака). В настоящее время пошла на меня гонка с ее стороны даже такая, я ведь в зависимости от них из-за света, что мы берем свет от ихнего счетчика, а платим меньше. А раньше ничего. Смешно.
Насте была операция, лежала она в больнице недель 5, теперь вышла из больницы, лежит дома, работать ей нельзя, не менее месяцев 8, неприятностей у них с Петром не оберешься, и всю из-за Альки и из-за меня. Стали мы им платить за свет больше, свой счетчик поставить я не могу. Черт с ними, такой момент, я не зверь.
Иван живут без перемен. Мое здоровье и самочувствие повысилось, я покоен, чист, сыт, я доволен. Прошу меньше слушать Настю. Не вини меня, возможно, я написал что-нибудь глуповато, до свидания, еще привет тебе, Борису, Сашеньке поцелуй.
Ваш папа.
Привет от Лукерьи Логиновны.
Марта 30
Здравствуй, Валя, посылаю вам, т. е. тебе, Борису, Сашеньке, привет, благодарю за письмецо и внимание к нам и уважение. Молодец Сашенька за учебу и старание, без учебы, внучка, нельзя, такое время, неученые, малограмотные люди только мешаются под ногами, ученье свет, неученье тьма, иначе не поломать нашу одичалую историческую жизнь и привычку, пока все люди не придут к учению и культурности. Бери пример со своего отца и матери, они достигли много ученьем.
Я с тобой, дочка, согласен, что болтовня Насти идет против меня и на гонку против меня всех моих родных и знакомых, а только! не удастся ей свернуть тебя, чтобы ты меня забыла и оставила, хотя ратует всем, что вот, мол, дочка его одна была его жалела и поддерживала, и то бросила! и письма-то ему не присылает. На все идет. Логиновна хотела было уходить от меня, но поняла все, в чем тут соль, осталась у меня пока. Их взбесило это, т. е. сорвалось, мол, живут и живут. Много тут смешного, все не описать, ты бы смеялась долго над ихней дипломатией, а мы живем да живем, и неплохо им на зло.
Петр живут хорошо, Алька уехала пока в Курловку, никого нас знать не хочет, Веру Ильиничну обругала, Настю обругала, ко мне пришла плакать. Опять по этому случаю был разговор с моей старухой, в ней тоже обнаружилось зло на Альку. Иван Ефимыч живут по-старому плюс Лизе осталось домишко в наследство. А дело так! дом ставил ее отец с матерью, оба, т. е. отец и мать померли, наследниками остались Лиза и ее брат Сергей, на днях и брат Сергей тоже помер, теперь наследница осталась Лиза, дом продали они с Иваном Ефим., я кобы уже продали, точно не знаю, но пьют ежедневно, и до опухоли, гуляют, за дом им дали 450 руб. новым монетой. Иван стал под цвет земли и усох, а Лиза опухла под цвет переспелой помидоры. Ивана на днях хотела посадить милиция на 10 дней за пьянство и хулиганство, потом отступили, выпустили. Я ходил, говорю! отдайте Альке дом, но что ты, они и глаза повытаращили. Что будет дальше, извещу. Наташка собирается уехать опять от них, хоть бы куда-нибудь из Балахова, от стыда за них. Здоровье пока у меня терпимо, погода неплохая, живем мы с Логиновной неплохо, посылаем вам еще привет, поцелуй, до свидания, ваш папа.
Июль 4
Здравствуйте, Валя, Боря, Сашенька, письмо я ваше получил, спасибо. Здоровье пока что в порядке, бывает, хоть редко, приступы такие, не понимаю, где нахожусь и что делаю, не узнаю своих, не назову вещи своими именами, теряю аппетит и проч. ненормальность, читаю и не осваиваю, т. е. тут же забываю. Такое состояние! продолжается часа 4 и больше, а потом прихожу в себя. С Логиновной живем, но так! я ее приваживаю, чтобы она власть не показывала, слушала мои распоряжения, если хочет жить со мной, иначе уходи, и такие случаи были, т. е. складывала она свои шмотки, чтобы оставить мой дом, а потом бросалась передо мной на колени, соглашалась со всеми моими условиями, какие я ей предлагал, вот так и живем, не выгоняю и не держу. Хоть она для меня очень хороша, т. е. аккуратная, чистоплотная, бережливая и проч., и я ее в обиду не даю никому, но терпеть ее власть не терплю. Альку принял к себе временно, одержал в этом победу. Был у старухи плохой уклон, т. е. материться, выпивать и проч., я с корнем вырываю этот уклон то словами, а однажды и рукоприкладством пришлось. Все из Альки. И на Альку она конечно имеет зуб, но этот зуб держит в себе, не показывает пока. Вот мы и живем так. Петр и Настя смирились, тишина, надолго ли, не знаю. Раиса Ивановна с мужем обратно приехали в Балахово, но квартиру не найдут, Логиновна их к себе, т. е. в свой дом не пустила, опять сдала чужим, почему-то на них, т. е. Раиску, она не надеется. Настя обиделась, просила Логиновну, чтобы она пустила, и я просил, но она наотрез отказала, не пущу принципиально и все, она, т. е. Логиновна поняла, что нападение на нее со стороны Насти было на почве, чтобы ее изжить, а Раиску ко мне вселить. Не знаю, зла она, Логиновна, мне это стыдно. Я тоже просил, чтобы она пустила Раису, но куда тут, не пущу, не пущу, и ты, добрый дурак, не лезь со своими советами, а то хуже будет, и я отступился.
Ты интересуешься садом, сад! вырос хорош, но плодов мало и потому! сад цвел весной очень хорошо, но весна была холодная, с большими северными ветрами, во время опыления сбило весь цвет и получилось то! вишни осталось 1%, смородины черн. не больше, неплохо со смородиной красной, но кусты молоды, многого взять не с чего. Яблоков будет, но тоже маловато. Ранетка прошлый год дала хорошо, а нынче ничего не дала, отдыхает, крыжовника тоже маловато: однако для себя возьмем кой-чего. Иван Ефимыч с Лизой дом продали за 420 руб. новым монетом, кой-что детям справили, остальное все пропили.
Вот и все пока, до свидания, посылаем вам привет.
Ты зовешь к себе Альку, она гордая, не хочет вас отяготить, говорит, сама что-нибудь придумаю.
Июль 17
Здравствуйте, дети, посылаю вам привет, решил написать вам! уведомить о случившем у меня на днях! неприятности следующей. Логиновна, моя сожительница, которую я хвалил, я ошибся, оказалась дрянь, злой человек, а потому июля 14 я ее отбросил от себя, т. е. выгнал, на что были мотивы. Скулебакалась баба, скурвилась. Я хорошо, что вовремя засек ее мудрость, иначе было бы хуже. Я желал тихой жизни, по душе, как два спокойных старика, но покоя нет, только хуже. Она хотя и опытный плут, но тут просчиталась, т. е. она обозналась, сочла меня, думала, что я имею много денег и прочь, я, мол, тут его опутаю, помрет старик, все будет мое. Но поняла, что у меня нет ничего и не предвидится, стала, как зверь. Денег у меня — живу от пенсии до пенсии, сад дал только что себе, на рынок нет ничего, здоровье мое пока в порядке, у ней все сорвалось, а у старика глаз и зубы еще остры, никакого шельмовства! сделать нельзя. Кой-чего стала чудить, обзывать меня, и за Альку принялась, но Альку я в обиду не дал, и коленом под зад из дому ее вон. Кума с воза, коням легче. Меня под подметку не возьмешь, мой курс твердый! лучше умереть, но стоя! И вот я опять один, и хорошо, я понял! век живи и учись, не вешай уши, а то оборвут.
Других новостей пока нет. Петр уехал работать в колхоз по договору, хочет осмотреться и может туда жить, живем в дому вдвоем с Настей, Петр навещает нас по возможности, недалеко от города 30 километров, ходят туда автобусы. До свидания, еще привет, поцелуй, ваш папа.
Октября 19
Здравствуйте, дорогие мои дочка Валя, Борис, внучка Сашенька! Жизнь моя идет прежним ходом, т. е. неплохо, только слабеет здоровье и такие явления, как я тебе сообщал, повторяются чаще, т. е. не понимаю, что слышу, что делаю, не узнаю своих, а также упал средь комнаты и лежал до вечера, пока не очнулся. Но потом ничего. Был у меня! сын Левка, твой брат, белый, как лунь, в генеральской одеже, т. е. мундир с погонами! портупеей, но никто не верит, никто его больше не видал, а он был, сидели с ним, я плакал, радуясь на него, что такой сын. Приходил тайно, не знаю почему, видно! секретная служба.
Сейчас живу хорошо, пустил квартирантку, молодая женщина, платы за квартиру с нее не беру, она на меня постирает иногда, убирает комнату, починит что-либо, если понадобится, сготовит обед и проч. домашние дела по договоренности. Но готовлю сам и потому! что сготовлю сам и не хуже ее, несмотря, что она работает поваром в столовой, одинокая, приятная, татарка, аккуратная, а главное честная, послушная, надежная, т. е. спокойная, ничего ей не надо, ничего не возьмет чужого, живем мы с ней ладим. Что я не знаю, как сготовить, она подучит, расскажет. Я доволен, что независим опять, т. е. одолжение в чужих не надо, проживу!
Алька уже полтора месяца как уехала, прислала письмо и денег 20 руб. Живет хорошо, встала на работу, дали комнату на двоих в общежитии. Жизнь ее возле Черного моря, под городом Одессой, в морском порту. Мне без нее, как от сердца оторвал. Больше не увижу ее, знаю. За деньги ей спасибо, сберегу до весны, а там куплю лодочку, стану выезжать. Мальчик тоже копит деньги. Он опять стал ко мне ходить. Мальчик очень хороший, т. е. честный, неглупый, учится хорошо, купим лодку на двоих, а помру, ему останется.
Петр собирается переехать в колхоз, Настя плачет об Альке. Иван Ефимыч живут по-старому, Наташка уехала, поступила в Куйбышеве в технический институт, Славку послали на сибирское строительство плотины, река Енисей: хоть бы дети, т. е. внуки выросли в люди.
Ожидаю зимнюю скуку, топим печи, холод и дождь на дворе, садик весь залило. Если позволят возможности; хотел бы навестить вас, дочка, напиши твой взгляд на это, хотя боюсь дороги, т. е. мои приступы и не имею средств. Хвать в карман, ан дыра в горсти. Ну да не всем! на возу сидеть.
Пока других новостей нет, еще вам привет, т. е. тебе, Борису, внучке Сашеньке поцелуй, до свидания, ваш папа.
Один мальчик верит, что Левка, т. е. Лев Ефимыч у меня был.
Жду ответ, пиши почаще.
Последний вопрос
Москва, Москва!.. Тихомиров ходил, сидел, мыкался по номеру, стоял у окна, глядя на вечереющий город. Не снимал пиджака и галстука, чувствуя, что все равно не усидит, уйдет. Номер был удачный, с видом на реку, но сжатый, словно каюта, — сначала Тихомирову нравилось, а теперь как-то давило и пахло краской. К новенькой «России», только что отстроенной (еще остатки строительного мусора убирали со двора и гремели компрессоры), подкатывали машины, спешили с великолепными чемоданами швейцары; с десятого этажа широко открывалась Москва-река, набережные, мосты, крыши, колокольни в зазеленевшем Замоскворечье, трубы МОГЭСА, — и в скоплении домов, огней (у себя, на Карасустрое, они тоже ртутные фонари поставили, как у людей), в незатихающем гуле города Тихомиров ощущал жажду Москвы к обновлению, преуспеванию, респектабельности. Или, может быть, это ощущение несла весна, особенный дух московской весны, чистое и высокое небо с дальними, в вышине, облаками, малиновыми от заката.
Что говорить, Тихомиров любил Москву. Еще десять лет назад сам был москвичом, они жили с женой и дочкой в маленькой комнате на Каляевской, в Москве он учился, начал работать. В Москве ему везло, и всякая поездка сюда бывала праздником. Он брал побольше денег и, словно в отместку за полуголодное студенчество и житуху на Каляевской, жил в Москве жадно, насыщенно. Дочь Галя четвертый год училась в консерватории, и Тихомиров, приезжая, устраивал ей «голубую жизнь»: водил обедать в «Националь» или «Славянский базар», таскался по магазинам, доставал билеты на Рихтера или Плисецкую. Дочь была хорошенькая, заметная, Тихомирову, который и сам выглядел молодо, нравилось, что их принимают не за дочь с отцом, а за влюбленных. И вот он «накультуривался» так, что иным москвичам и в год не успеть. И это лишний раз доказывало, что они с женой Зоей мало что потеряли, расставшись когда-то со столицей.
Правда, у Зои и дома все было по-московски. Она выписывала несколько «толстых» журналов, принимала у себя по пятницам молодых инженеров, была в курсе столичных новостей. По ее рекомендациям Тихомиров читал новые романы или рассказы, от нее слышал о нашумевших фильмах или спектаклях. Из-за Гали в семье еще существовал культ музыки, и Тихомирову прокручивали то модные песенки, то записи серьезные: Бартока, Шостаковича, Стравинского. Кроме того, по телевизору до трех ночи — разница во времени — можно было смотреть московскую программу, и, как бы там Зоя и молодежь ни иронизировали насчет «ящика», информацию телевизор тоже выдавал приличную. Москва, таким образом, сохранялась у них в доме, и часто приезжие москвичи, напившись у Тихомировых кофе с коньяком, наговорившись, наслушавшись музыки, выходили потом на крыльцо, на лоно диких гор и дьявольского ущелья, и не понимали, где находятся: разве не на Арбате или не на Юго-Западе?
Да, Москва есть Москва, и хорошо жить в ее ритме, идти параллельно, успевать. Но выпасть из этого ритма — хуже нет. А Тихомиров вдруг выпал… Или, во всяком случае, чувство у него было такое, что выпал. Всегда везло, всегда двигался по самой стремнине, а теперь не получилось. Он двенадцатый день жил в Москве, — в сущности, без дела, занятый одним ожиданием, — и с каждым часом сильнее мучило его сознание, что он сам по себе, а Москва сама по себе.
Даже с дочерью не вышло контакта на этот раз: ей было явно не до него. Она готовилась к сессии и, кажется, замуж. Или, может, уже сделала это, не прибегая к формальностям. Появилось в ней нечто женское, новое, уклончивое и целеустремленное, и у Тихомирова с нею получалось, как с выключателями в этом гостиничном номере: нажимаешь, чтобы зажечь одно, а загорается другое.
Потом он сообразил, отчего стала раздражать гостиница: он превратился в старожила, в того постояльца, который всем намозолил глаза, с которым уже горничные делятся семейными историями. Не хватает только проносить в портфеле на ужин бутылку кефира и сидеть в холле в тапочках у телевизора. Вокруг таких людей само по себе возникает электрополе неудачи.
И в самом деле, он уже не обедал в дорогом желто-золотом ресторане, где с разных сторон возбуждающе звучит иностранная речь, где гвоздики на столиках и какой-нибудь молодой, интеллигентного вида, с курчавой бородкой африканец — негр, зембо или капр — курит, развалясь в низком кресле, прямую английскую трубку, — можно бы и поговорить с таким, вспомнить Бамако. Нет, Тихомиров ел теперь в буфете или стоял в очереди в министерской столовой с пластиковым подносом в руках. И уже не хлопотал о билетах в Театр на Таганке, а спускался вниз, в кино «Зарядье» — все равно на какой фильм, лишь бы отвлечься.
Да, начальник Карасустроя сам замучился и других замучил. Он каждый день минут по двадцать разговаривал со стройкой: там шел паводок, началась пробивка второго тоннеля, не смонтировали вовремя буровые станки, унесло в реку новый МАЗ — да мало ли что происходит каждый день и час на стройке! И ему позарез нужно было туда. Но три дня назад он взял еще денег под отчет и опять остался.
Однако хватит. Завтра он закажет билет и улетит. Гуд бай, Москва!.. Он поднял трубку, попросил Карасу, чтобы сказать Зое, что наконец уезжает, надел пальто и, без шарфа и шляпы, по-весеннему, пошел пройтись. Все равно разговор дадут не скоро. Шел длинным коридором, спускался в лифте, отразился во всех зеркалах, — нет, вид у него был еще ничего, вполне. Не зря он всю жизнь следит за своим весом, не ест мучного и сладкого, не пьет водки, предпочитая сухое вино, бегает на лыжах. Комильфо. Счастливчик. Молодой начальник нового стиля. Даже пахнет от него не банальным шипром, а французским лосьоном. Девушки посматривают… На Карасу он носит сапоги и старую куртку, но Москве не покажешься бедным родственником, это он уже усвоил. Москву, конечно, ничем не удивишь: тут генерал может ехать в троллейбусе или знаменитый поэт, как видел Тихомиров однажды, может сидеть в ботинках на босу ногу в шашлычной, а кинозвезда стоять в очереди за полуфабрикатами. Но все-таки надо соответствовать.
По правде сказать, Тихомиров и сам несколько бравировал своей молодостью, элегантностью, свободой, чуткостью ко всему современному. Да он, собственно, и старался таким быть. И не только внешне. Разве он сам не учился и других не учил смелости суждений, инициативе, точности, деловитости, вдохновению? У него с уст не сходило: «традиции русской инженерной школы», «культура мысли и культура труда», «техническая эстетика» и тому подобное. По четыре-пять лет работая на разных стройках, начав с прораба, два года проведя в Африке, Тихомиров, кажется, знал теперь, как надо строить и как не надо. Пришла зрелость, и он научился верить себе. А Карасустрой тем был прекрасен и нужен ему, что здесь впервые обрел он самостоятельность. Пусть относительную, но все-таки. Он получил власть, получил право делать то, что считал нужным.
Он предпочитал иронию разносам, не прощал ни слова лжи; был справедлив и умел при всех сказать молодому бригадиру: «Простите, я был неправ». «Строить красиво, быстро, современно и — весело!» — вот был его девиз. Чтобы радоваться не только результату, но и процессу. Это было, разумеется, нелегко, и заедала текучка, и многие обвиняли его в фокусничестве или смеялись над ним. Но он уже не мог иначе, он оставался самим собой.
Иногда он увлекался и совершал ошибки, но это не делало его пугливым и угрюмым перестраховщиком, он все равно держался своего стиля. Он и теперь знал, что прав, что иначе нельзя, и прилетел в Москву в настроении решительном и смелом. И вот надо же такому случиться — двенадцать дней ожидания! Они вымотали и выжали его. Хоть и сохранял он вид бодрый и победоносный, но уже одолевало его уныние.
Дело же заключалось в следующем: Карасу было место дикое, высоко в горах, и вокруг лишь несколько мелких кишлаков. Кроме того, разреженный воздух, зимой мороз, летом жара, — кто сюда поедет, кого заманишь? Пока начались лишь предварительные работы, но уже катастрофически не хватало рабочих рук. А что делать дальше? Нужны несколько тысяч рабочих, инженеров и, разумеется, врачей, учителей, продавцов, парикмахеров — мало ли. А где их взять? Год назад Карасу объявили комсомольской ударной стройкой, молодежи приехало много, но потом половина разбежалась. К тому же ребята и девушки, в основном, не имели специальностей, а условия Карасу требовали знаний и опыта.
Ответ напросился сам собой, выход был только один, и Тихомиров убедил коллегию министерства обратиться в Совмин с ходатайством: приравнять Карасустрой к отдаленным и северным стройкам — с тем чтобы платить рабочим и служащим на 30—40 процентов больше того, что они получают теперь. Так можно было привлечь на трудную стройку новые кадры, обеспечить стабильность, покончить с текучестью.
Коллегия приняла решение, министр подписал его, ходатайство в Совмин было послано, но почти все понимали, насколько безнадежна такая просьба. Особенно кипел и иронизировал по этому поводу замминистра Деревянко. Он относился к Тихомирову неплохо, даже несколько отечески, но на этот раз прямо-таки из себя вышел: мол, так каждый построит, так каждый начнет просить, всем трудно, да как же мы в первые пятилетки и после войны строили и тому подобное. Даже пришлось Тихомирову с ним поссориться, хотя вообще ссорился он с министерством нечасто.
И вот двенадцать дней назад, узнав, что на заседании Совмина вот-вот ожидается решение насчет Карасустроя Тихомиров прилетел в Москву. Собственно, как ему сразу сказали, вопрос о Карасустрое даже не собирались сначала выносить на Комиссию текущих дел Совмина: все основные заключения на просьбу министерства были отрицательные. И Тихомиров уже сам добивался в Управлении делами Совмина, у референтов по энергетике, чтобы Карасустрой наконец включили в повестку дня. Но тем не менее ни в прошлую пятницу, ни в позапрошлую вопрос этот там не ставился.
Где только не побывал Тихомиров за это время, по каким только телефонам не звонил, чьей только поддержкой не пробовал заручиться. Но все это была суета. Лев Дмитриевич Деревянко, когда Тихомиров попадался ему на глаза, только руками разводил: «Ты все здесь? Ну, даешь!..» Министр Тихомирова не принимал, начальник главка улетел с делегацией в Канаду, никто не хотел заниматься вопросом, по которому уже было принято решение и который у ш е л н а в е р х.
Повезло лишь в одном, да и то, как думал теперь Тихомиров, это было сомнительное везение: несколько дней назад он встретил Олежку Боряхина, своего однокурсника, а теперь, разумеется, Олега Ивановича Боряхина. Причем столкнулись они случайно на улице Куйбышева, и был Олежка вроде бы такой же, как в институте, долговязый, застенчивый, с белыми ресницами, но только увидел его Тихомиров в тот момент, когда Боряхин вылезал из черной «Волги», и было на нем отличное весеннее пальто, английская шляпа.
Короче говоря, вечером они встретились, вспомнили институт — все как водится, и Тихомиров рассказал Боряхину свою историю. Тот подумал, помолчал, потом сказал, что сам сделать ничего не может, но вот, так и быть, даст Тихомирову один телефон, и по этому телефону, возможно, Тихомиров, что-либо узнает.
Тихомиров, волнуясь, позвонил, там сразу сняли трубку, очень спокойный и приятный голос — обладателя его звали Сергей Александрович, и только это и было известно о нем Тихомирову — ответил, выслушал и так же спокойно просил позвонить завтра. Тихомиров позвонил завтра, это была среда, и Сергей Александрович сказал, что в повестке на пятницу Карасустроя нет, — это была прошлая пятница. «В таком случае разрешите побеспокоить вас на той неделе?» — «Извольте», — сказал Сергей Александрович, и это малоупотребляемое теперь слово вселило вдруг надежду.
Тихомиров позвонил во вторник, не дождавшись среды, и тут, неожиданно для себя, стал жаловаться Сергею Александровичу, объяснять, едва ли не унижаться, и Сергей Александрович, хоть и произнес все так же мягко слова сочувствия, отвечал заметно суше. И в среду, то есть вчера, он уже ничего не сказал Тихомирову: «Пока ничего не известно». И с утра то же.
Почему и оставалось одно: улететь.
Москва, Москва!.. Тихомиров спустился от гостиницы по лестнице и пошел набережной, направо, к Кремлю. Погода была прекрасная, свежо и зелено пахли липы вдоль Кремлевской стены, молодая трава чисто сверкала под фонарями. Было много гуляющих: длинноволосые мальчики бренчали на гитарах, смеялись и кокетничали девочки — тогда носили еще короткие юбки, — брели под ручку пенсионеры в длинных затрапезных макинтошах. По Москве-реке шли белые прогулочные пароходики, длинные огни ломались и дрожали в темной муаровой воде. Над бассейном «Москва» стояло светлое и веселое зарево. Прекрасный силуэт Крымского моста висел в не остывшем еще небе. Было тепло, чисто, надо бы радоваться. Но Тихомиров шел медленно, устало, что-то ироническое было даже в походке — он нес в себе усмешку над самим собой. Поражение — вот как это называется. Неудача. С какими глазами он явится на Карасустрой? И главное, как они будут работать, как жить? Ему стало одиноко на людной набережной, он почувствовал себя чужим. Москва слезам не верит.
Когда он вернулся, дежурная, передавая записочку с фамилией, сказала, что ему звонили. Он заволновался, поспешил в номер и еще через несколько минут говорил с Деревянко.
— Тихомиров? Где же ты шатаешься, Алексей Ильич, а? Все небось коньячок пьешь, за московскими бабочками ударяешь? А тут отдувайся за тебя.
— А что случилось, Лев Дмитрич? — Он уже понял, что случилось, и старался сдержать волнение, говорить спокойно: — Я ведь не пью, а что касается…
— Ладно, знаем, как вы не пьете! Все вы, понимаешь, не пьете!.. Завтра твой Карасу на Совмине! Слышишь? Димас в Канаде, Яхонтов не может, Сергей Степаныч не пойдет, велят мне! А у меня в три прием у норвежцев!.. Понял, какую ты ерунду затеял, только людей от дела отрывать…
— Подождите, Лев Дмитрич, дорогой, вы меня простите за тот разговор, но как же… Лев Дмитрич?
— Да что как же? Чего ты думаешь-то? Я и сейчас тебе могу сказать, и давно говорил…
— А я, Лев Дмитрич?..
— Что ты? Тебе там не положено, это же министерское ходатайство, не твое. Отдувайся вот теперь за тебя!..
— Лев Дмитрич, минуточку…
— Ну ладно, начальник, будь! Спать ложусь, и так из-за тебя режим нарушил. Позвони завтра, тебе скажут…
Вот и все. Трубка гудела в руке: ту-ту-ту! Он положил ее, распустил галстук, снял пиджак. Вот и все. Деревянко знает, что говорит, он в министерстве лет тридцать сидит, всегда в курсе.
Ну что ж, плетью обуха не перешибешь, не такие еще штуки-дрюки происходят. С утра билет и — домой. Хватит. Не хотите — не надо. И чтобы в следующий раз я вот так сидел, нервы трепал? Дудки! Ружьецо — и за куропаточками, за кекликами! Хватит! Жалко, Галя экзамены сдает, полетели бы вместе.
И он ярко представил себе долгую горную дорогу от аэродрома до Карасу, знакомую до каждой опоры, по которым тянули ЛЭП, увидел улыбающееся лицо шофера Аркаша, свою машину, старые мудрые горы, цветные от выхода марганца, меди, железа, — черные, красные, желтые горы. И зеленые, потому что еще не настала сушь, и цветут в горах тюльпаны и маки, и стоят зелеными карликовая вишня и фисташковое дерево, и разлит в воздухе смоляной дух арчи. Все-таки полюбил он эту землю и так хотел ей добра. Ну ладно… Бешеная, безумная река несется внизу — колдовская, дьявольская река, старики рассказывают о ней легенды. А ему, московскому инженеру Тихомирову, надо ее перекрыть, остановить, победить. Природу одолеть, самого господа бога облапошить, а ему коэффициент зарплаты не хотят сделать 1,4!.. Да, жалко, что Галя не едет: болтала бы всю дорогу, восхищалась, бегала за цветами, читала стихи. «И тень одной горы ложится на другую. Ты день лишь не со мной — я о тебе тоскую…» Это она сама, а ведь ничего стихи… Ну ладно, ладно, хватит, Алексей Ильич! Выспаться, душ, бритва, кофе, свежая рубашка, никаких телефонов, никаких лиц, и черта с два вы меня здесь увидите раньше чем через год!..
Он, конечно, долго не мог заснуть (Карасустрой ему не дали, связь была нарушена), потом заснул, а утром… Утром, очень свежий, жесткий, решительный, ровно в девять он позвонил Сергею Александровичу и твердо стал говорить, что ему совершенно необходимо присутствовать при разборе вопроса о Карасустрое.
— Да какой же разбор? — своим неменяющимся, спокойным и приятным голосом ответил Сергей Александрович и, вероятно, улыбнулся. — И потом будет кто-нибудь из руководителей министерства…
— Я все знаю, — сказал Тихомиров, — но, когда человека режут, можно ему хоть при этом присутствовать?..
Сергей Александрович опять, видимо, улыбнулся и ровно сказал: «Ну что ж, извольте…» И это «извольте» снова отозвалось надеждой.
И вот он в Кремле. Чистенький офицер поднимает глаза от пропуска и от удостоверения, прямо глядя в лицо, сверяясь с фотографией. Неужели у него такой запаленный и несолидный вид?.. Необыкновенная чистота дворов, дорог, тротуаров. Подстриженная трава, цветы, деревья. Белизна зданий. В самом здании длинный коридор с прекрасными высокими окнами, тишина, чистота, две-три торопливые фигуры на все пространство. Невольно начинаешь волноваться, что-то вдруг происходит, как ни старайся быть самим собой. И вот высокая дверь, небольшая приемная, еще дверь направо и за нею зал — зал, где ждут, и здесь неожиданно много народа.
Да, очень много. Пугающе. Сидят, стоят, прохаживаются, и зал наполнен слабым гулом голосов, хотя говорят все чрезвычайно тихо, и если чей-то возглас или смех вдруг выделяется на общем фоне, то все головы поворачиваются в ту сторону. Тихомиров несколько опешил, к нему как к новому лицу обратилось много глаз, но ровно на секунду, поскольку ни у кого интереса он не вызвал. Моментально приняв строгий и озабоченный вид, какой имели и все вокруг, он сделал несколько шагов и сел на свободный стул у стены, положив рядом папку. Промакнул платком выступивший на лбу легкий пот. Стал смотреть, привыкать, обживаться.
Публика здесь была солидная, многие держались группами, и было видно, что большинство знакомо между собою. Привычно и легко двигаясь между мужчин, среди костюмов, галстуков, мундиров, портфелей, ходили две-три девушки в белоснежных кокошниках и передниках, пронося к стоявшим в углу столикам маленькие бутылочки воды и бутерброды. И удивительно — то ли от нечего делать, то ли от волнения, а может, и от жажды, кто его знает, или думая, что так полагается, но все эти солидные люди, как бы считая своим долгом попить и поесть, проходили к столикам, брали бутерброды и пили освежающую воду.
Но не это, разумеется, было главным в движении зала и главным в его внимании: всем управляла другая дверь, слева от Тихомирова, в которую видна была приемная, и через приемную — дверь в зал заседаний.
Она открывалась то и дело, то впуская людей — группами или по двое-трое — то выпуская их, а сюда, в зал ожидания, входил средних лет, с бритой головой мужчина и негромко предупреждал о следующем вопросе, называя его номер: «Приготовиться к 3-му вопросу… к 4-му…» Люди, уходя в приемную из зала ожидания, заметно менялись: вид их становился строгим и отрешенным, они в последний раз окидывали взглядом свой костюм, поправляли волосы, слегка бледнели и подбирали животы. Спины их делались напряженными, а кое у кого и слегка сгибались; высокорослые становились как бы чуть ниже, низенькие старались приосаниться.
Эмоции на лицах выходивших были, напротив, довольно сдержанными, и, только приглядевшись, можно было понять, что одни возбуждены и радостны, а другие обескуражены и подавлены.
Самое странное, что Тихомиров не знал, что делать, как быть, и больше всего боялся, что Деревянко уже там, за таинственной дверью, или, что еще хуже, уже побывал там и уехал. А спрашивать и узнавать, как он чувствовал, не стоило: все-таки он оказался здесь почти нелегально.
Люди выходили и входили довольно часто. Лишь однажды произошла пауза: в зал заседаний ушли и долго не выходили оттуда военные — три генерала ВВС, адмирал и молодой полковник-строитель, на которого Тихомиров еще прежде обратил внимание: полковник был необычайно статен, красив, с седыми висками, хотя выглядел не старше Тихомирова. Любопытно было бы узнать, что́ он строит, этот красавец, коллега-строитель.
Военные пробыли за дверью весьма долго, и все ожидающие глядели на часы, томились, и потому, когда наконец дверь там, в приемной, отворилась, Тихомиров, например, даже привстал, чтобы лучше увидеть через эту, «свою», дверь выходящих военных. Гул разговоров будто утих. Военные выходили цепочкой, лица у всех красные, словно они парились в бане, — это еще оттого так казалось, что генералы, достав на ходу платки, вытирали лица и шеи. Генералы словно бы держались вместе, а полковник, тоже с красным лицом, шел последним, один, и, вероятно, прошагал бы прямо к выходу, но кто-то из генералов обернулся к нему, заступил дорогу и довольно громко сказал:
— Ну, теперь вы поняли?
На что полковник так же резко и быстро ответил:
— Нет. Не понял и никогда не пойму. Извините.
И он обошел генерала, давая понять, что не хочет больше говорить.
А другой генерал сказал:
— Ему и это не авторитет!
Полковник прошел в дверь, и Тихомиров не мог не обратить внимание на то, как изменилось его лицо. «Ого!» — сказал себе Тихомиров и с этого момента почувствовал непрекращающуюся внутреннюю дрожь волнения.
Полковник и генералы давно ушли, тихий секретарь вызывал других людей, а напряженность и неловкость, вызванная странным несогласием генералов и молодого полковника, как бы остались в воздухе, и Тихомиров думал о том, что, оказывается, и з д е с ь тоже все нелегко и непросто решается, и ему казалось, что военные наверняка обсуждали вопрос, который в сотню раз важнее Карасустроя, и куда уж ему, Тихомирову, одному, лезть со своим делом. Но с другой стороны, поведение полковника тоже произвело на Тихомирова свое действие: ясно было, что полковник вел себя бесстрашно и серьезно.
Но что же дальше? Люди продолжали входить и выходить, волновались, пили воду, и восприятие Тихомирова было столь обострено, что он, кажется, навсегда запомнил всякого, свыкся, и когда останавливал взгляд на человеке, которого не видел пять минут, то воспринимал его как старого знакомого.
И вдруг ему снова повезло: он давно заметил, что раза три являлся в приемную и входил из нее в зал заседаний, невзирая на очередь, небольшого роста, пухленький, аккуратный и спокойный, з д е ш н и й человек лет пятидесяти, в очках, с лысиной, — присутствующие оказывали ему почтение, с некоторыми он коротко и негромко говорил, оставляя на лицах просветление и благодарность.
И неожиданно этот человек вошел в зал ожидания с бумагами в руках, направился прямо к Тихомирову, к свободным возле него стульям, на ходу взял с подноса у проходящей официантки бутылочку воды, мягким и даже милым жестом отстранил от себя высокого человека с двумя лауреатскими значками (мол, не могу, батенька, некогда, некогда) и сел через стул от Тихомирова, не глядя вокруг, и сразу углубился в бумаги.
Тихомиров, однако, успел услышать, как высокий лауреат назвал кругленького человека Сергеем Александровичем. Вот это да! Неужели?! И когда тот на секунду поднял глаза, Тихомиров подался вперед, к нему, и Сергей Александрович не мог не обратить на Тихомирова внимания.
— Сергей Александрович, это вы?.. извините… это я…
Тихомиров сам не знал, что говорил, представился, и Сергей Александрович улыбнулся, глядя на него, и показал глазами, чтобы Тихомиров сел рядом.
И вот, достав аккуратную узкую книжечку и заглянув в нее, Сергей Александрович сказал, что вопрос о Карасу стоит последним, что противников ходатайства много и решение вопроса, пожалуй, можно считать предрешенным, но если Тихомиров хочет попытаться повлиять на исход дела, то ему стоит поступить так: войти в зал чуть раньше, с любой очередной группой, сесть у двери — там будут идти стулья вдоль левой стены, — затем незаметно пересаживаться поближе и, когда будет объявлен его вопрос, встать и сказать то, что он хочет сказать. Говорить ясно, быстро, коротко, смело, не более полутора минут. А уж что из этого получится, будет видно. Но при этом Сергей Александрович улыбнулся и оглядел Тихомирова оценивающе — и как будто остался им доволен.
С этой минуты Тихомиров мало что видел вокруг и был занят составлением той короткой речи, которую ему следовало произнести. Причем он не испытывал страха, не думал об опасности своего предприятия или о возможных невеселых последствиях вторжения на заседание Совмина: он был у цели и должен был выполнить свое задание. Как ни странно, но судьба Карасу сейчас зависела не от государственных планов, министров, коллегий и з а к о н о в, а во многом от воли и смелости одного ч е л о в е к а, инженера Тихомирова. В принципе в этом мало хорошего, но разве не сами люди и создают, и нарушают законы? Жизнь уже научила Тихомирова нередко преступать, обходить, даже порой обманывать закон ради пользы дела. И сейчас тоже важно было победить, а не думать о том, хорошо он поступает или плохо. К тому же он верил даже не столько в свою способность убедить или изменить мнение министров, а в их собственную разумность: дело столь ясно, что, как казалось Тихомирову, важно их просто правильно проинформировать. И все станет на свои места.
Время шло, народу заметно убавилось, дважды входил в зал ожидания Сергей Александрович и издали одобрительно взглядывал на Тихомирова. Сейчас важно не переждать, не устать от ожидания, сохранить силы для того, чтобы быть точным, корректным, убедительным, не потерять от волнения ни лица, ни голоса. Приготовленную речь он проговорил про себя дважды, сверяясь с часами, папку с фотографиями, документами, расчетами решил даже не раскрывать, — надо учесть, что все устали. И, чертовски глупо, что нет Деревянко, нет никого из министерства: нужна ведь поддержка.
…Он вошел в зал вместе с женщиной лет пятидесяти в строгом костюме и еще двумя мужчинами, — они несколько настороженно поглядели на Тихомирова — чужой, но тут же, естественно, им стало не до него. Еще ничего толком не видя, кроме длинного стола с сидящими за ним людьми, Тихомиров быстро сел на первый свободный стул у стены. И прошло минуты две, прежде чем он освоился и смог наблюдать и слушать. И первое, что он услышал — это решение об отказе в дополнительных средствах большому химкомбинату, директором которого и оказалась вошедшая с Тихомировым женщина.
Процедура обсуждения проходила таким образом: к длинному столу примыкал перпендикулярно другой стол, Председателя Совета Министров (сегодня заседание вел не он, а один из его заместителей). Суть вопроса кратко излагал один из его зампредов: такая-то организация ходатайствует о том-то и о том-то, по тем-то причинам, ходатайство поддерживают те-то, возражают те-то. Тут же зачитывалось и предварительное решение.
И Тихомиров вдруг понял всю легкомысленность своего предприятия, ненужность своей смелости и почти устыдился, как мальчик, прибежавший к взрослым людям с открытием, которое взрослым, оказывается, давно известно.
Что тут было говорить? Как говорить? Совмин решал: строить или не строить заводы, города, нефтепроводы, институты, передавать их или нет из одного ведомства в другое, давать или не давать машины, кадры, стройматериалы; один город просил больницу, другой аэродром, третий троллейбус; области ходатайствовали о заводах, мостах, дорогах, рабочей силе, и все вместе в большинстве своем просили одного: средств. А Совмин, нетрудно понять, расставался с ними крайне скупо.
В течение пяти минут Тихомиров из чужих уст услышал все те аргументы, которые и сам готовил: речь его рассыпалась и оказалась не нужна и стереотипна. Рассчитывать же на эмоции, на нечто необычайное, а тем более на такую малость, как обаяние, шутка, остроумие, было вовсе глупо: на заседании царил дух деловой и даже суровый: выражение председательствующего почти не менялось, лицо его выглядело усталым, строгим, без тени улыбки, и это накладывало свой отпечаток и на всех присутствующих, как ни разны были их лица. Стол председателя почти чист, председательствующий сидит прямо, положив на него сцепленные пальцами руки, ничего не пишет, только слушает. Время от времени задает короткий вопрос или произносит столь же краткое резюме, и, как правило, этих немногих слов достаточно, чтобы поставить точку в обсуждении.
Тихомиров растерялся. Он увидел, что на стульях вдоль стен сидит немало таких же «хитрых», как он, людей, проникших в зал пораньше. Один из них, тот самый лауреат с двумя медалями, весьма солидный, высокий человек, поднялся, как только зачитали его вопрос, и, обращаясь непосредственно к председательствующему, называя его по имени-отчеству, а также упоминая в своей речи других людей, видимо всем здесь известных, тоже по именам-отчествам, стал просить восемь реактивных установок для научных экспериментов и довольно большое количество драгоценных металлов для тех же целей.
В решении, которое было зачитано, лауреату, вернее, его организации, давали только две установки и ни грамма золота и платины. Не помогла и его речь — весьма, на взгляд Тихомирова, убедительная и толковая. Заместитель Председателя Совмина, также называя лауреата по имени-отчеству, сказал, что с е й ч а с большего ему дать не могут. С тем лауреат и ушел, сказав напоследок: «Ну, вы нас режете насмерть!»
Как ни мучительны и ни печальны были эти наблюдения, как ни скис Тихомиров, но чисто автоматически он все-таки пересаживался со стула на стул, пока не оказался совсем близко от стола председательствующего, — по левую от него руку. Теперь он хорошо видел спины, затылки, лица министров, сидящих за большим столом, и видел поверхность темного зеркального стола, и крупные руки зампреда, и его костюм, поражающе безукоризненный, и галстук, и знакомое по портретам лицо, тяжелая усталость которого вызывала сейчас у Тихомирова чисто человеческое сочувствие. Зампред представлял собою для Тихомирова полную тайну: необычность ситуации заключалась уже в том, что он видел его столь близко и мог наблюдать за ним, за его д е я т е л ь н о с т ь ю в течение получаса. Это был, как уже потом определил для себя Тихомиров, ч е л о в е к, к о т о р ы й з н а е т. Знает нечто такое, чего не знает и не может знать Тихомиров. И это знание — груз весьма нелегкий, трудный и, видимо, достаточно испепеляющий человека, его смертную физическую оболочку. Вероятно, одно это знание, даже помимо необходимости применять его ежечасно и ежеминутно, неизбежно выделяет человека из обычного ряда, делает его не таким, как все.
Тем не менее деловая и строгая обстановка заседания, лаконизм, сдержанность, п р и в ы ч н о с т ь этой обстановки — поскольку у себя на Карасу Тихомиров тоже сидел каждый день за своим Т-образным столом вместе со своими инженерами, начальниками участков и управлений, прорабами, проектировщиками, бригадирами, и тоже требовал всегда краткости, готовности, четкости, и так же с а м не мог обычно расстаться с лишней копейкой, — эта похожесть делала зампреда и министров в достаточной степени понятными и доступными людьми. То неизбежное благоговение, которое Тихомиров испытывал еще полчаса назад в зале ожидания, как ни странно, не усилилось, а прошло, и Тихомиров, например, думал мельком, как зампред завязывал утром галстук, — кстати, тем же узлом, что и Тихомиров, — надевал носки, устало прикрывал глаза, пока его брили или, наоборот, читал в это время утренние бумаги. Тихомиров понимал, что ему сейчас предстоит встреча с лицом официальным, а не просто с человеком имярек, в таком-то галстуке и таком-то костюме, с человеком, так сказать, бытовым, но все-таки это полусознательное ощущение человеческого р а в е н с т в а, сочувствия усталости зампреда и понимание сложности его труда почти успокоили Тихомирова, помогли ощутить не исключительность, а нормальность, естественность отношений между ним, Тихомировым, и одним из руководителей государства. В конце концов, не себе же он пришел просить денег и не из своего же кармана их отдаст или не отдаст Совмин Тихомирову. И почему надо бояться, что человек, много старше и опытнее Тихомирова, занимающийся всю жизнь тем же делом, что и он, не поймет того, что так ясно Тихомирову и любому рабочему на Карасустрое?..
Объявили е г о вопрос. Не поворачиваясь, боковым зрением, Тихомиров увидел, как в дверь вошел и сел там, теперь далеко, на том краю зала, Деревянко с папкой в руках. Ничего не изменилось, только Сергей Александрович, который находился тут же, поднял на секунду голову, поглядел и словно не увидел Тихомирова или, может, на самом деле не увидел. Председательствующий, глядя в поданную ему бумагу, изложил ходатайство министерства о Карасу. Моложавый серьезный референт стал читать: Карасустрой… министерство… Госплан считает… Комитет Совмина по труду и зарплате считает… главное управление, обсудив, считает… и так далее.
Ничто не изменилось, но Тихомирову казалось, что зал заседаний исчез, все исчезли, остался только он, Тихомиров, и зампред. Смысл проекта решения был именно тот, который предсказал Деревянко. Тихомиров слушал, а перед глазами словно бы мелькало кино: прошлая весна, еще снег на склонах, яркое солнце, а на стальных канатах над безумной Карасу висит трактор — таким путем они перебрасывали тогда трактора на левый берег. И скалолаз Валя Седых стоит рядом, вцепившись зубами в зажатую в кулак кепку, бледный, с уголком тельняшки на груди из-под ватника, — золотой парень, Валя Седых, которому не отплатить всеми деньгами на свете за те дела, которые он делал со своими хлопцами в ту весну.
Моложавый референт еще продолжал стоять с бумагой в руках, когда Тихомиров поднялся и сделал два шага к стволу председательствующего — даже как будто чуть испугал его своим неожиданным появлением. Некоторые головы от длинного стола тоже обернулись к Тихомирову.
— Товарищ заместитель Председателя Совета Министров, — сказал Тихомиров, глядя прямо в обратившееся к нему лицо, — разрешите несколько слов по данному вопросу?..
Не сводя глаз с зампреда, Тихомиров увидел, как рядом с зампредом оказался, наклонился к нему Сергей Александрович, и услышал его полушепот:
— Начальник строительства, Тихомиров Алексей Ильич…
— Я быстро, всего несколько слов, — продолжал Тихомиров, — но это необходимо, это вопрос жизни для нас, я быстро…
— Мы не торопимся. Пожалуйста, Алексей Ильич, — ровно сказал зампред, приняв прежнее положение, держа руки на столе. — Послушаем, товарищи?
Большой стол закивал головами, хоть и без особого одобрения. Уже было пусто, уже складывались в папку бумаги.
— Пожалуйста, товарищ Тихомиров.
Тихомирову показалось, что зампред с интересом оглядел его, всмотрелся, как еще несколько минут назад Тихомиров всматривался в него, но на этом вся фиксация Тихомировым окружающего словно прервалась, и осталось одно: Карасу.
Как рассказал потом Деревянко, говорил он гладко и точно, производя хорошее впечатление своей речью, интеллигентным видом, молодостью, эффективностью аргументов. «Будто каждый день на Совмине выступаешь!» — сказал Деревянко. Тихомиров и сам чувствовал, что его слышат и понимают (как и всегда, впрочем, когда он выступал на митингах, на собраниях), что глядят на него с интересом и уважают его за то, что он вдруг оказался здесь.
— Вы не волнуйтесь, Алексей Ильич, — сказал в паузе заместитель Председателя, — не волнуйтесь.
— Я не могу не волноваться, — тут же ответил Тихомиров, уже называя зампреда по имени-отчеству, — приходится.
Уж таких слов, конечно, не было в той речи, которую Тихомиров готовил в приемной, хотя говорил он, как ни странно, примерно все так, как и собирался.
— Всем приходится, — слабая улыбка прошла по лицу заместителя Председателя, и за большим столом почувствовалось движение.
Тогда Тихомиров позволил себе еще шагнуть назад, взял со стула папку и вынул фотографии. Это был неплохой материал, Тихомиров сам выбирал фотографу Паше Козелькову экспозиции, и на больших фотографиях запечатлелись самые опасные куски ущелья, теснота створа, крутизна скал, затерянность поселка в горах, фантастические петли дорог. Он вытащил фотографии из черного конверта чуть неловко, фотографии заскользили по чистому столу, три упали, Тихомиров бросился подбирать, и моложавый референт тоже, и сам зампред, сдвинув кресло, наклонился и поднял фотографию из-под ног.
— Ничего, ничего, — ответил он на извинения Тихомирова и проглядел фотографии разом и отодвинул от себя. — Так что, товарищи, какие есть мнения?
Тихомиров собирал фотографии, потом отступил, закладывал фотографии в черный конверт, а за большим столом поднялся между тем министр финансов, объясняя, почему отказано Карасустрою.
— Ну, понятно, понятно, — перебил зампред, — хочу только спросить: вы бы сами, интересно, стали там работать при таком коэффициенте?..
«Вот именно», — захотелось крикнуть Тихомирову, но он, естественно, смолчал. Он услышал эти слова и тут же понял: он выигрывает, вместо «нет» может быть «да», вот сейчас, еще через несколько минут.
Министр финансов заговорил уклончивым, почти оправдывающимся, но еще твердым тоном, но затем послышалось: «Стоит подумать… Надо поискать…»
Выступил другой министр, в поддержку Тихомирова. Зампред спросил, кто есть от министерства, — у дверей поднялся Деревянко, — но ему зампред не дал сказать ничего, кроме слова «поддерживаем».
И вот и все. Председатель Госплана и министр финансов, не глядя на Тихомирова, обещали в ближайшее время пересмотреть свое первое решение, и зампред с полуулыбкой сказал:
— Да, я думаю, что мы должны помочь этой стройке… Я думаю, мы вам поможем, Алексей Ильич. Езжайте, работайте, желаем вам успеха…
И Тихомиров готов был поклясться, что зампреду хочется с ним поговорить, что-то узнать еще, расспросить, — это, по крайней мере, Тихомиров увидел в его взгляде.
Тихомиров уже шел к двери, когда зампред сказал министру финансов:
— Этот случай тоже, кстати, к тому нашему разговору, помните? Хорошо что начальник строительства пришел.
К сожалению, Тихомиров уже не услышал, что ответил министр финансов и ответил ли что-нибудь: Деревянко, поднявшись первым, держал перед Тихомировым открытой дверь, пропуская его вперед и изображая на лице что-то вроде: ну, брат, ты силен! ну ты дал!..
Они вышли вместе. Деревянко тут же взял Тихомирова под руку и заговорил, заговорил без остановки; приемная и зал ожидания, который был виден в открытую дверь и который показался Тихомирову очень знакомым — даже захотелось еще зайти туда и посидеть, — опустели, оголились. Тихомиров слушал и не слушал фамильярные похвалы Деревянко, который, как он знал, понесет теперь эту историю по министерству; он шел коридорами, снова, уже машинально предъявляя пропуск, и все не мог поверить, что столь быстро и сравнительно легко (если не считать, что он был мокрым от пота) решился этот п о с л е д н и й вопрос.
Они вышли через Спасские ворота на Красную площадь. Деревянко ждала машина, он предложил подвезти Тихомирова, но тот отказался, ответил, что зайдет в гостиницу.
— Устал, брат? — бодро говорил Деревянко. — То-то! Всем вам не мешает побывать в нашей шкуре! Но ты молоток! Тридцать процентов, можешь считать, у тебя в кармане!
— Как тридцать? Сорок!
— Хе-хе! — Деревянко уже стоял у черной машины, и шофер открывал перед ним изнутри дверцу. — Так тебе и дали сорок! Один и три десятых дадут, а больше не жди!.. И то, брат ты мой, хлеб!..
— Но ведь он сам сказал…
— Правильно, сказал.
Деревянко засмеялся и сел в машину. И Тихомиров тоже засмеялся. Стоял на булыжнике, на спуске к Василию Блаженному, и смеялся. Деревянко даже оглянулся из отъезжающей машины и посмотрел с удивлением. «А ведь точно, — думал Тихомиров весело, — не дадут, зажмут. И Деревянко бы зажал. И я бы, наверное, тоже зажал… Зажал бы? Пожалуй, зажал…»
Продолжая смеяться, он пошел вниз, к «России». Солнце светило во все лопатки, было тепло, у подножья храма сидели рабочие в желтых касках, курили, стояли два компрессора и самосвал. По Москворецкому мосту бежали в две стороны машины, блестя и сверкая, зеленело под солнцем Замоскворечье, по Москве-реке, выходя из-под моста, двигалась самоходка, — нет, ничего, ничего, Москва была своя, понятная, привычная, и Тихомиров шел по ней, как по своему городу, улыбался.
1970 г.
ГРЕЧЕСКАЯ ТЕТРАДКА
СУНИОН
От Афин до Суниона, до мыса, где стоит (стоял) древний храм Посейдона, около семидесяти километров, дорога бежит вдоль берега, и для человека, который первый день в Греции, ее познание и открытие начинаются отсюда (если не считать первых впечатлений от вида с самолета, который заходил с моря на бетонного цвета пригороды, от аэропорта, где темно-синие полицейские сидят на темно-синем броневичке и где самолетов и служб, кажется, не больше, чем в Адлере, и так же синеет справа море, а слева растворяются в зное невысокие горы). Город долго не отпускает нас от себя, и мы мчим мимо отелей, таверн, магазинов, вилл, в потоке машин, но все же все чаще и чаще открывается в просветах голубизна, пляжи, тенты, а дома отступают на левую сторону и более и более прореживаются зеленью.
Пятница, конец дня, машины, машины, как и повсюду в мире, — афиняне бегут на уик-энд из города. Здесь любят надежные немецкие автомобили, предпочитают, но много, конечно, каких угодно других: «хонды», «фиаты», «рено», то и дело мелькают наши «Жигули», которые считаются недорогими среди этого класса машин. Греция — на автомобиле, вся Греция на автомобиле. Проспект до Пирея — сплошные автосалоны, продажа машин, другой проспект — мастерские, склады и ремонт старья. Разумеется, всех занимают проблемы дорог, смога, цен на бензин, штрафов, аварий, ремонта, как купить, как продать. Неужели человека, когда он ходил пешком, столько же занимали сапоги, а когда сел на лошадь, то лошадь? Наверное. Седло, сбруя, конюшня, овес, очередь в кузню. Хлопот хватало, надо думать.
В Афинах так много проблем с машинами, что придумали и издали распоряжение: пусть один день ездят машины с четными номерами, другой — с нечетными. Ну и конечно, люди тут же постарались иметь по два автомобиля, того не лучше!.. Позже в одном интервью, когда меня упорно будут спрашивать про Чернобыль, я вдруг кажу, что такова плата за прогресс и каждый автомобиль — это тоже скрытый Чернобыль. Думаю, в подсознании эта фраза начала зреть от этого первого впечатления загородного шоссе в пятницу. Ведь наши понятия о Греции связаны с вечностью, со священным, и, вероятно, шустрый наш друг и враг автомобиль, да еще в таком количестве, как-то плохо вяжется с этими представлениями и мешает настроиться на торжественный лад.
Но мало автомобилей — еще мотоциклы. Их множество, и особенно молодежь предпочитает двигаться в гуще городского транспортного потока на двух колесах. Вперед, в обгон, в маневр, трррр! Со всех сторон — мотоциклы, машины, опущенные стекла, горячий ветер, синяя гарь, черные очки, развеваемые ветром волосы, детские мордашки в заднем стекле, подголовники, гордые обладатели «мерседесов» и девицы в шортах верхом на седле. Таверны, таверны, реклама таверн, дансингов, сигарет и греческой водки «узо», пляжи и опять машины, машины, повсюду — на камнях, на песке, с раскрытыми настежь дверцами, с семейством, уже сидящим на ковриках в тени своей колымаги, среди олеандров, за эвкалиптами, под эвкалиптами, под соснами, под тополями. Ни лошадки, ни ослика. XX век — век автомобиля. А ведь изобрели его всего-навсего сто лет назад, как раз сто лет назад, в 1886 году.
Казалось бы, нелепо задавать вопрос: лучше стало человечеству с автомобилем или хуже? Автомобиль взял на себя такие услуги, что вопрос излишен. И все же накаливается в последнее время у одних смутное, у других уже вполне определенное и научно обоснованное раздражение против двигателя прогресса. Речь даже не об отраве воздуха и прочих технических проблемах, — наверное в конце концов будет электрический, или водородный, или какой-либо новый «мобиль», экономичный и сверхбезопасный, но я, сам любящий машину и благодарный ей, как верному помощнику, часто ощущаю, как все же много моего в н и м а н и я отвлекается машиной, как привычка почти слила меня с ней, как велика моя зависимость от нее. И что-то есть в этом подозрительное. Без машины я уже словно голый. Или без очков. Или без палки, если я хожу с палкой.
А сколь много занят машиной современный город. Автомобиль завладел улицами, он диктует свои правила пешеходу, старику и ребенку, тысячи здоровых мужчин почти исступленно день и ночь заняты автоинспекцией, города перестраиваются с тем, чтобы дать больше места автомобилю. Словом, наш сапог сел нам на голову, это очевидно. И что-то вытеснил, чью-то нишу явно занял. Отнял нечто нам естественно присущее, заменив искусственным… Я не против автомобиля, глупо было бы говорить, но я размышляю. Размышляю на фоне древнего моря, вечной природы, на земле великой культуры, и в сопоставлении с ними и с человеком, который идет (такой нам попался монах по дороге) вдоль берега с посохом, толстый, с терракотовым от загара лицом, в развевающейся длинной одежде и простых сандалиях, — мое размышление низводит автомобиль до игрушечного, крошечного, временного явления, и я уже вижу, как он исчезнет с лица земли когда-нибудь, уступив место чему-то другому. Может быть, столь же суетному и еще более для человека завлекательному, что еще больше будет сберегать нам силы и время, но отнимать нервы и воздух, а может быть, и более простому, естественному, вроде какого-нибудь воздушного шарика, за который зацепился и лети, куда и сколько надо, а потом отпусти. Впрочем, это так, между прочим, и, конечно, я бы не хотел трястись до Суниона на осле, а тем более идти пешком с посохом, уж это точно, А не хотел бы, так вот и плати — вытеснением, зависимостью, подчинением машине и раздражением за зависимость. И это еще цветочки.
А вот древний храм, его останки в виде нескольких колонн и покоящихся на них перекрытий, сразу трогает за душу. Ну-ка, ну-ка, почему?.. Мы видим его издалека, — всего несколько — восемь или девять колонн, их обрубки и обкуски яснее различаются по мере приближения к невысокой горе и собою обозначают возможные прежние размеры целого храма, его портал. Покинув машину, надо идти вверх, по камнем выложенной дорожке, и рядом идут в основном мальчики — юноши и девушки: шорты, майки, панамы, кроссовки, яркие рюкзаки, фотоаппараты. Речь немецкая, французская, английская. Три маленькие японки фотографируются, обнявшись. Французские скауты в красной униформе улеглись под колоннами, словно положенные к храму гвоздики: молодые лица, загорелые тела, улыбки. Все ждут заката, того самого часа, когда старый Эгей ожидал здесь когда-то сына. И увидел отсюда черный парус, а на самом деле должен был быть белый, Тезей возвращался к отцу живым и здоровым, просто забыл сменить парус, и отец в отчаянии, поверив в смерть любимого сына, бросился вниз, под откос, где бьется, если заглянуть, прибой о камни. Вот сюжет: любовь отца к сыну. Родовая, древняя, эгейская, мифологическая и библейская, и сегодняшняя. Самая нежная, искренняя, н о р м а л ь н а я, но сколь, однако, в ней нынче примесей и отчуждения. О, Эгейское море! Не зря ты названо именем любящего отца.
Древние умели найти место для храма, в этом им не откажешь. Наши русские мастера тоже взяли где-то, уразумели искусство поставить храм, и сами искали и звали лозоходов, чтобы так стояло, так гляделось, чтобы никакие тяжелые подземные потоки и силы не нарушили покоя, и грозы небесные не разбили бы тоже, — не попада́ли, словом, плюс на минус. И церкви наши и теперь, хоть и брошенные, всегда хорошо глядятся среди равнины, и колокольня колокольне шлет издалека привет.
Храму Посейдона греки нашли удивительную точку в пространстве. В этом, наверное, прежде всего дело. Стоит там присесть на камень, и о самом храме довольно скоро забываешь, хотя за спиной его колонны, а под ногами, словно круглые корни выпавших зубов, заросшие колючкой основания других, уже навсегда исчезнувших колонн, их другого ряда. Все внимание начинает отвлекать пространство. Солнце садится справа и уже зависло желтком в томате над овалами других гор и темным над ними маревом, а впереди и слева лежит море, слитое с небесами, и они уже таят в себе ночь. Раз! — и включился молодой тонкий месяц, — вверху слева, — и вдруг все связалось треугольником: солнце, месяц и мы на горе.
Море странное. Шла не так далеко яхта, и видно было, как ее гнал сильный ветер, но этот же ветер гуляет по воде вспять и вкось, как хочет. Рябит ее так и эдак, проносится туда, сюда, вода покрывается гусиной кожей. Кажется, не один, а сто ветров сразу резво валяют дурака на огромной площадке для игр. Конечно, приходит в голову «Солярис», — не бывал ли здесь Станислав Лем, не сидел ли вот так на закате, наблюдая с высокой высоты, как морщится, ежится, реагирует на всякую малость, каждую секунду живет организм фантастического мозга, субстанции, более всего напоминающей сожительство воды и ветра?.. Вдали, в наступающем сумраке — контур острова, и это там, в том направлении, вся россыпь больших и малых греческих островов. Но того дальнею пространства вроде нет, оно неинтересно, а есть вот это, «местное», обозримое пространство; оно достаточно величаво, но и как бы одомашнено, даже окультурено — и трехтысячелетним присутствием здесь храма, и легендой, которую все мы знаем и уже не можем выкинуть из головы, она на нас так или иначе воздействует. Природа эта не безымянна и уже не живет сама по себе. Как ни глубоко здесь море, но бежит по нему парусник и спешит, развевает водяной шлейф российский, сормовский корабль на подводных крыльях — весьма прижившийся у греков.
Солнце все ниже, и вот уже разноплеменная молодежь единым криком и посвистом приветствует произошедшее: солнце село. Как хорошо глядеть на этих ребят, которые сидели и стояли здесь час-полтора все вместе. (Жаль, не видно русских, хотя, говорят, теперь есть и наши молодежные группы.) И невозможно не думать, что когда-то Афины воевали со Спартой, и Фессалия с Македонией, и молодые афиняне потрясали мечами и шли в бой на спартанцев, — сегодня это смешно. И нельзя не вспомнить, что когда-то и Рязань воевала с Москвой, а Тверь с Владимиром, и противозлоба, скажем, Москвы и Новгорода ох как была велика. Неужели тысячелетия и столетия нужны людям, чтобы их прапраправнуки сидели одной веселой кучей на древней горе, смеялись, фотографировались, слушали, что им рассказывают гиды: какою бывает любовь отца к сыну, какою у л ю д е й должна быть отеческая и всякая иная любовь. И чтобы они потом бежали весело в своих одинаковых, что у французов, что у японок, шортах и кроссовках к автобусам или шли пешком, и сидели шумно в таверне на берегу, а вся таверна — это навес, деревянные столы и лавки, и там такие же, как сами туристы, мальчишки носят тарелки с греческим салатом: помидоры, огурцы и лук-репка, только масло оливковое. И дают еще жареного молодого осьминога, жареную рыбу, она прямо из моря, и воду со льдом.
Небо стало глубоко-черным, звездным, молодой месяц, проводив солнце, сразу разгорелся, рассиялся. Тепло, лает где-то собака, трещат цикады, старик сторож спит возле лодок, под навесом из фанеры, море плещет у его пяток.
В таком месте хочется быть с самым близким человеком, чтобы разделить с ним всю глубину впечатления и чтобы он, как ты, увидел этот простор, проникся им и понял, как ты, и посидел рядом молча.
Я разделся, поплыл, море очень теплое и сильно, непривычно для нас соленое, — легко держит тело вода, когда перевернешься и лежишь на спине, смотришь на звезды. Храм вон там, рядом, я знаю где, но его почему-то не подсвечивают ночью, он исчез, но я все равно знаю: он там. Они собирали колонны из мраморных толстых колец, как дети собирают пирамиду. Колонна не была монолитной. Круг на круг, круг на круг. А внутри — стержень. Держит всю колонну. Стержни делали из графита. Как в реакторе. Турки разрушали храмы и валили колонны ради того, чтобы достать графит. Кому что.
Я лежу на спине, на воде, думаю об этом храме, об этом месте, о Эгейском море. О любви отца к сыну. Не зря было придумано, что должны быть отец, сын и с ними, между ними, — свят дух.
Об этом не раз говорилось, но, право, каждый раз удивишься: как это ты, маленький и смертный человек, легко вбираешь в себя в с е пространство, впускаешь всю вселенную (и безусловно ощущаешь ее со всею ее бесконечностью), проникаешь легко в прошлое и способен даже прозреть будущее: ведь ясно же, например, что в будущем никакие Афины не пойдут с мечами ни на какую Спарту, потому что и то и другое теперь одно, а не разное. Или хоть и разное, но все равно одно. Впрочем, ясно-то ясно, но…
ПЕЛОПОННЕС
Жара 38, воздух такой, словно сидишь у костра, солнце в зените, и кажется, все живое скрылось, — только цикады гремят да люди все мчат по дорогам. По всему прибрежью и на отлогих склонах гор — оливковые рощи. Оливки, оливки — куда ни кинешь взгляд. Желтая сухая трава, мясистые кактусы-агавы, словно бледные морские чудища, и оливки. Впрочем, не только. Места тут благодатны, урожаи снимают два раза в год. Кукуруза, виноград, табак, сливы, персики, инжир (его зовут здесь «сика»), рощи лимонов — еще зеленые крепкие лимончики глядят из плотной листвы, — арбузы, помидоры. Арбузами торгуют прямо на дороге, как у нас картошкой: стоит пикапчик, набитый полосатыми глобусами, рядом, вытянув ноги, спит на стуле хозяин, шляпа на лице. Или бежит впереди фургон, полный ящиков с помидорами. Пылит по дороге желтый трактор, несмотря на воскресный день, а вон и крестьянин на ослике, гонит перед собой серую кучку овец.
Край богатый, и немудрено, что повсюду видишь: или уже стоит готовый новенький, справный, двухэтажный, красивый дом, или строится. Террасы, плоские крыши, гаражи, пристройки. Каркас делают из бетона, потом облицовывают, или так оставляют. Дома хорошие, один одного не хуже. Как и положено на юге. У нас на Украине, на Кавказе или в Азии тоже так. Только тип дома, разумеется, здесь свой. Свой, но непременно стандартный, как у соседей. Можно побогаче, можно другого цвета, но тип тот же: «шоб як у Миколы». У домов растут мальвы, георгины, вдруг мелькнет желтым родимый подсолнух. (Может, оттого, что я недавно был в Крыму и на Украине, мне все кажется сходным.) Деревянные жалюзи домов закрыты, людей нет, жара.
Между прочим, бетонные каркасы неспроста: здесь часты землетрясения. Кроме того, дешевле. И к сожалению, эта дешевизна сказалась на облике городов, и в частности Афин: город не белый, а серый. И жилые районы-новостройки особенно серы, однотипны, утилитарны. Но и таких, конечно, не хватает. Тесно в городе, дорого, дымно, плохо, гадко, в деревне лучше, но… в стране девять миллионов населения, а три с половиной, если не больше, живут в Афинах.
Пелопоннесская жара. Белое солнце в белом небе. Огненный воздух. Сухие колючки на сухой земле. И вдруг — городишко в одну прибрежную улицу, пеструю от ярких витрин лавок и таверн, опять скопище так и сяк ткнувшихся куда попало, словно тараканы, разноцветных автомобильчиков и туча голого, пляжного, вольного народа: шлепают в купальниках и плавках, глядят из-под белых козырьков с резинкой вокруг головы, несут запотевшие бутылки и жестянки с пивом, смеются, волокут за собой детей. Море! И можно раздеться прямо на террасе ресторана, нависшей над водой, и тут же спуститься лесенкой на белый пляж, кинуться в воду. Вот благодать! Море чистое-пречистое, жгучее, круто-соленое, и зной тут же словно взлетает вверх. Позади остается полоса белого пляжа, там полно людей, детей, но все же без тесноты, не впритык друг к другу, и молодые женщины и девушки загорают и купаются «топлес», без верхней части купальника, стоят и демонстративно намазывают кремом от загара свои новогреческие грудки. Поплыли с Олегом, заплескали, как дети тоже. Потом я болтался в тени лодки, боясь сгореть, ухватясь за канат ее якоря, а мой друг покарабкался на лодку, сел там, наоборот, прожариться на греческом солнышке. И повели мы беседу о чем? О греках, одиссеях, грудках? Нет, о сельском хозяйстве — о, наша «вечная тема»! «Чужих краев неопытный любитель и своего всегдашний обличитель», как говорил Пушкин, всегда, оказавшись за рубежом, едва увидев, как и что делается на свете, тут же сравнивает со своим и начинает невероятно волноваться. Да и как не волноваться. Есть что посравнивать, и что касается торговли, магазинов, организации дела, техники, умения считать, беречь, удовлетворять спрос, то тут, к сожалению, сравнение почти всегда не в нашу пользу. И так это, честно сказать, надоело. Глядишь на себя, пожилого уже человека, на патриотическое свое волнение, вспоминаешь, как ты еще мальчишкой в газете бился за внедрение торфо-перегнойных горшочков, которые, по тем понятиям, и должны были вывести наше сельское хозяйство на мировой уровень, и делается смешно: нет, видно, так и помрешь, а порядка н е увидишь. Да, смешно, только плакать хочется.
Но ладно. У нас не хватает, а эти девятимиллионные греки — у них своя проблема — не знают, куда девать свои персики и виноград, арбузы и помидоры. Таков наш мир. И какую-такую эру проходит человечество в своем развитии, что при великом прогрессе так много дикого, невероятного, несправедливого? Кто мы такие? Или так было всегда, и просто с количеством населения растет уровень общечеловеческой глупости? Миллиард или два делали меньше гадостей, чем четыре? Или просто меньше совершали поступков и меньше было последствий? В массе? Мы ведь знаем теперь, что самый невинный поступок — прихлопнуть комара — и то может иметь непредсказуемые последствия. А уж что говорить, когда колесницу гонит энергия коварства, корысти, жажды превосходства над ближним, властолюбие, жажда мести или просто жажда и голод?
Человек существо самонадеянное и отчаянное, он верит, что с ним-то ничего не случится, а если и случится — ну что ж, будь что будет. Чем человеку лучше, тем он беспечнее. Чем хуже, тем он отчаяннее. Желание гонит его вперед, ослепленный и обугленный, он все равно летит на огонь. Изменчивая реальность обходит его установления, законы и логику, он уверенно ставит на реке плотину и верит в ее незыблемость, а буря разваливает ее в один миг. Но человек плохо обучаем, и его самонадеянность сильнее опыта. Бог жестоко наказывает его, но человек все равно тянет руку, и причем уже не к древу познания, за которое поплатился, но к древу жизни. Живем на минном поле, но все равно прыгаем по нему, резвимся, беспечно машем: авось ничего! Все равно хотим настоять на своем. Хотя «свое» уже вошло в полный «клинч» с реальностью.
…Сидим «по-гречески» голышом за обеденным столом, в плавках, ноги студит мраморный пол, пьем белую, смолянистого духа «рецину», ведем интеллигентную беседу о неразумном человечестве. А на столе — «мусака», горячее блюдо вроде пирога, со сложным слоем мяса, сыра, теста (в каждой таверне своя мусака), далма в виноградных листьях, помидоры, фаршированные рисом, еще тушеное мясо, салаты — один особенно хорош: сметана, в нее натерт свежий огурец и чеснок. Как тут не будешь беспечен! Ласкается внизу море, взбегают вверх по ступенькам золотокожие, крепконогие наяды, обдают тебя запахом свежести и оставляют на мраморе мокрые изящные следы, а ты потягиваешь холодное винцо, чревоугодничаешь, слушаешь, как умный и образованный, очень интеллигентный и очень известный драматург Якобос Камбанеллис ведет рассказ о древнем Пелопоннесе, о религиозных мистериях, положивших начало театру. Ну войдет ли в голову мрачная мысль, ну не прогонишь ли ее тут же? Все равно что взять и задуматься вдруг за этим столом о собственной смерти. Разве какая-нибудь великая цивилизация предполагала в пору своего расцвета, что рано или поздно от нее останутся битые черепки и выветрившиеся стены некогда неприступных крепостей?..
Вот дальше на нашем пути Микены, сердце древнего Пелопоннеса, легендарные Микены. Отсюда братья Менелай и Агамемнон повели ахейцев на Трою, чтобы вернуть Менелаю похищенную Парисом Елену. Это они сидели ночью, согнувшись, в деревянном коне, стараясь не брякнуть копьем о щит. Кто в мире смел оскорбить Микены? Вон как высоко стоит город среди долины, а долина ниспадает к морю. Стены его были неприступны, львиные ворота священны, богатства и слава велики, цари непобедимы. Они разгромили Трою, и обманутый Менелай получил назад свою красавицу жену.
Мы глядим на Микены издали, с одного из соседних холмов, пьем из бумажных стаканчиков апельсиновый сок, и останки древних округлых стен являют одновременно торжественное и печальное зрелище. Кое-где возникают на стенах фигурки туристов, и стены сразу кажутся не столь уж велики. Так жарко, что нет сил и нет особой охоты подниматься туда, к львиным воротам, которые все мы помним с детства, по учебнику древней истории, — бродить по накаленным развалинам. Сокровища Микен, слава Микен, золото Микен — где все это, кому, зачем? И где — вот что занимает нас теперь особенно — тот пункт, с которого началось падение Микен?.. Пока вдали от дома воинственные братья умножали славу Микен, громя чужую Трою, жена Агамемнона Клитемнестра, как известно, сошлась с Эгисфом и, когда муж вернулся, коварно убила великого героя. Вот и ходи на войну!
Но просто так убила, ради любовника? Одни говорят так, другие говорят, отомстила за дочь Ифигению, — помните, которую Агамемнон принес в жертву, дабы ветры надули греческие военные паруса? А может, Агамемнон поплатился за Кассандру, которую привез из Трои как трофей и награду, доставшуюся ему при дележе добычи? Не так-то все просто, и, скорее всего, все, вместе взятое, погубило царя и полководца.
Стоя под стенами Микен, мы с Якобосом Камбанеллисом не спеша распутываем легенду. Я запоздало выступаю с осуждением Троянской войны, видя в ней причины начала упадка, Якобос же вежливо упирает на «человеческий фактор». Убийца Эгисф захватил власть и трон, но через семь лет был сам убит Орестом и Электрой. Дети Агамемнона, мстя за отца, убили и Эгисфа, и родную мать. В результате последовал знаменитый суд над Орестом, в котором отразился переход человечества от матриархата к патриархату, от материнского, кровного права к отцовскому (об этом написал Ф. Энгельс). Голоса на суде разделились поровну: р а н ь ш е самым страшным преступлением, не имеющим оправдания, считалось матереубийство, и, по-старому, вина Ореста была выше вины Клитемнестры: она не состояла с убитым мужем в кровном родстве, а Орест с нею состоял. Но т е п е р ь, в н о в о е время, когда вершился этот суд, супруг уже был господином в семье, а узы брака священны. И сама Афина, как вы помните, подала свой решающий голос в оправдание Ореста.
Да, вот так мы стоим в тени фургона, торгующего соками и разной мелочью, сувенирами и открытками, под изъеденными вечностью стенами Микен, держим в руках бумажные стаканчики и перебираем подробности старого, как мир, но странно волнующего мифа. Не зря Эсхил в «Орестее», трилогии, и Софокл и Еврипид написали на его основе великие пьесы. Агамемнона убил Эгисф, а кто он сам был такой? Я, разумеется, не помнил. Якобос стал продолжать свой рассказ. И вот вам судьба Эгисфа: мама родила его от своего (ее же) отца Фиеста. Так что уже от рождения он был и сыном и внуком своему отцу. Пелопия (мама) подкинула младенца пастухам, как и водится в хорошей сказке, а пастухи отдали его потом в царский дом, где он и стал воспитываться. А кто тогда царствовал? Атрей. А кто был Атрей? Брат Фиеста. Да-да. Но братья страшно враждовали, потому что Фиест в свое время успел соблазнить жену брата Аэропу, за что Атрей утопил Аэропу в море. А Фиесту отомстил так: заколол его детей, изжарил и их мясом накормил Фиеста. Вот такие дела. Боги прокляли за это Атрея и весь его род, велели ему идти искать брата и вымаливать пощады, но, пока Атрей скитался, он встретил бедную Пелопию. А Пелопия только-только успела зачать от незнакомца, который тоже встретился ей в пути. И она, разумеется, не знала, что этот незнакомец ее отец Фиест. Словом, Атрей женится на Пелопии, она рожает тайно мальчика и вот тут и подбрасывает его пастухам, чтобы Атрей не узнал. А обратно мальчик попадает в этот дом уже подросшим. А когда вырастает совсем, Атрей именно ему велит убить Фиеста. И Эгисф готов. Но тут Фиест узнает сына, и все тайны раскрываются. Пелопия в ужасе закалывается. Эгисф этим же мечом убивает не папу, а дядю Атрея, а папу (он же дедушка) выводит на трон. И тем самым сам становится наследником микенского трона.
Но… между прочим, у Атрея тоже были дети, тоже сыновья. Кто? А как раз Агамемнон и Менелай, Атриды! Вот как ниточка-то вьется. И вот кто будет отвечать за зверства отца. После смерти Атрея они вынуждены были бежать из Микен. Но когда Фиест был изгнан — вернулись. (Какой сериал можно было бы сделать на телевидении — иным современным сто очков даст!)
А как сухи и мертвы микенские осыпающиеся камни, как пусто окрест, и господствуют над местностью природные вершины, а не белоснежная и разрисованная терракотовыми и голубыми красками крепость. И ход к морю, и вид словно сузились и заросли от времени. Две с половиной тысячи лет назад откипели здесь страсти, сникла родовая кровосмесительная и кровопролитная схватка, пахнувшая звериной шкурой и копотью пещеры. Какие страсти правили людьми, раздували им ноздри, какие неистовые влечения! Желание жгло — хоть умри, сила ломила силу, брат рвал горло брату, матери душили чужеродных младенцев, и царицы дрались, словно деревенские бабы. Самцы бились за самку и, победив, прыгали на нее с еще кипящим кровью соперника ртом… Какая тишь над Микенами и вокруг, какой все растворяющий зной. Пелопоннесский зной, пелопический, пелопский… «А кто такой Пелоп, Якобос?» — «Пелоп? Сын Тантала, основатель Пелопоннеса». — «А-а. Родственник Пелопии?» — «Родственник? Гм. Он был отцом Атрея и Фиеста. Они все родственники. Когда Тантал пригласил богов на пир, он разрубил своего сына Пелопа на куски, чтобы угостить их». — «Ну-ну, Якобос, спасибо, хватит…» — «Здесь есть перекличка с библейским мифом об Аврааме. Боги отказались от жертвы Тантала и велели Гермесу собрать и оживить Пелопа…» — «Так Исида собирала в Древнем Египте Осириса». — «Да-да, просто удивительно, как древние народы, которые никак не могли общаться между собой, сочиняли почти во всем схожие мифы…»
Пока мы стояли и разговаривали, подкатил, нарушая однообразие выжженного пейзажа, шикарный туристический западногерманский автобус: двухэтажный, разрисованный яркими пальмами, волнами и парусами, с темными противосолнечными окнами, с откидными спальными креслами — не автобус, а корабль, дитя 1986 года. Не распахнулась, не открылась, а о т о ш л а сверкающая дверь из правой его скулы, и стали выползать наружу голоногие, в шортах, панамах, шейных косынках белотелые и красно-обгорелые мюнхенские парнишки и девчонки, очкарики, старшеклассники, вялые и пресыщенные от впечатлений.
И нельзя было не подумать, глядя на их небрежные походки, как комфортна и бесстрастна их жизнь, регламентированы чувства, убоги страсти, отмерена температура желаний. Не зря две с половиной тысячи лет причесывали дикого человека. Впрочем, разве не случается и им укокошить родного дядю, а то и маму? И разве не бывает, что очкарик с компьютером не имеет понятия о том, что мама родила его не от папы, а от дедушки, что живет он не у папы, а у дяди, а дядина жена, оказывается, на самом деле ему мать, а отомстить он должен врагу, а враг — это его родной отец плюс дедушка… Юные акселераты вполне равнодушно скользят полусонными глазами по останкам древнего царства, но нет, все-таки в конце концов собираются, разминают длинные конечности и топают к развалинам.
А мы отправляемся еще к могиле Агамемнона, сидим в прохладном сумраке удивительного сооружения: тяжелые камни сведены древними мастерами в купол поразительной соразмерности, подобный полускорлупе яйца. И как всегда при виде подобной конструкции, лезут в голову всякие фантазии: да могила ли это? да они ли это построили? да как смогли?
Они, они, кто же еще! Люди не только рвали друг другу глотки — они изучали геометрию, тесали камни, выращивали виноград, ловили рыбу, ковали оружие и умели найти под землей воду, железо и золото. Но вдруг кто-то похищал жену, и тут все начиналось. Самый древний историк, Геродот, и тот так рассказывал о том, от «каких причин пошло кровопролитие»: мол, эллины, «внесли оружие в Азию прежде, нежели персы в Европу. Ибо персы думают, что похищать жен пристало несправедливцам, стараться мстить за похищенных — безумцам, благоразумные же люди оставляют сие без внимания, ибо ясно, что если бы женщины сами не хотели, их бы не похитили. Посему-то персы о похищенных своих азийских женщинах никакой заботы не имеют: эллины же из-за своей лакедемонянки собрали великий поход».
Разумеется, теперь мы знаем, что причины даже самых первобытных войн бывали все же другие, но поводы вполне могли быть такими. Когда все готово к войне, когда настоящие причины начинают сталкиваться и наползать друг на друга, словно льдины, повод всегда отыщется, и благоразумие одних уже не остановит безумия других.
Еще два слова о Пелопоннесе, земле Микен, Спарты и Элиды. Наш путь привел нас в конце концов в Навплион, первую столицу новой Греции, которую борцы за ее освобождение, «капитаны», провозгласили в 1822 году. Маленький городок теперь ничем не примечателен, кроме этой исторической даты, но над ним, на горе, стоит гигантская крепость, выстроенная здесь в XVII веке венецианцами. Она создана по всем правилам позднего фортификационного искусства, продуманно, мощно и изысканно, с учетом уже существующей корабельной артиллерии, — ее не взять было ни с суши, ни с моря. Виды с ее стен открываются невероятные, впечатление она производит грандиозное. Но все-таки это нечто чуждое Греции, — от крепости веет холодом и рационализмом, грекам, как мне кажется, несвойственным. Чужая крепость, выстроенная наемниками по заказу захватчиков. Красивая, в абсолютной сохранности, господствующая над целым заливом, но все же какая-то не греческая. Ее выстроили, когда она уже, в сущности, была не нужна, не могла ничего изменить. Так тоже бывает: линкор еще строят, а он уже не нужен.
От выспренности хочется поскорее спуститься опять к земле, пусть сухой и колючей, но мирной и плодонасыщенной, жаркой и пряной, и к морю, украшенному белыми дальними парусами. «Так что ж мы медлим в море отважиться. / Как будто зимней скованы спячкою? / Скорее встанем, весла в руки, / Крепким напором на шест наляжем, / И оттолкнемся, в море открытое. / Направив парус, реей расправленный…» Так писал поэт Терпандр всего-навсего в седьмом веке до нашей эры. Этот Терпандр, уроженец Лесбоса, между прочим, был музыкантом и певцом в Спарте, поющим поэтом, бардом, как теперь говорится, и прославился тем, что изобрел семиструнную лиру вместо четырехструнной. Вот вам и седьмой век до нашей эры! Господи, как связаны между собою времена. И хотя еще Шекспир восклицал, что эта связь распалась, но нет, она жива — жива, пока живы люди, — барды, вспомните Терпандра!..
ЭПИДАВР
Была Москва, зима, сидели в хорошей московской квартире, с красной мебелью, картинами по стенам, синей скатертью и синими салфетками, большой компанией, и среди всех своих были греки, тоже актеры, а значит, тоже вроде свои, — она, Джени, запомнилась широкоскулой, в чем-то шелковом, фиолетовом, золотые цепи с камнями на шее, рука не выпускает сигареты, голос хрипит, умные глаза, а он — белозубый, все время смеющийся, лохматый, высокий и мощный, очень похожий на русского мужика, простоватого и веселого, и зовут почти что Костей — Костас. Да, с ними была пышная, полная, с красивой головой на античной шее, с античной же прической — волосы вверх и схвачены нарядной лентой, — гречанка! богиня! — оказалась нашей переводчицей. Смеялись, шутили, произносили слово «Эпидавр», я не придал ему значения…
Сейчас с заднего сиденья машины милая маленькая женщина Марина читает по путеводителю про Эпидавр, я тоже плохо слушаю, отвлекаюсь дорожными видами, — я ведь уже знаю, что Эпидавр не просто местечко на берегу, но и знаменитый древний театр, который буквально из-под земли раскопали археологи, и там с тридцатых годов снова стали играть, давать спектакли, главным образом, древние трагедии. Но я все еще не видел Эпидавра и теперь, задним числом, могу сказать, если бы не увидел, а только слышал, читал или даже посмотрел фильм, все бы не знал, не имел представления, потому что Эпидавр — это Нечто, Совокупность, не просто театр или представление, но много большее.
Сейчас я попытаюсь рассказать.
Дорога бежит внизу, среди склонов лесистых мягких гор, вокруг одна природа, при чем тут театр? Но вот маленькая гостиница, первые упреждающие «кирпичи», — но мы гости, нам можно, едем чуть дальше, идем потом вверх пешком, — горы кругом, лес, все открыто, и вот — театр. Серокаменная чаша его, почти полусфера, вправлена прямо в склон горы. Пятьдесят или больше каменных ступеней-рядов, оставленных точно такими, как их раскопали, без реставрации, поднимаются вверх раскрытым веером. Их режут на секции лучи-дорожки сверху донизу. Внизу абсолютно круглая и ровная двадцатиметровая арена-сцена. Ну, вроде кусок стадиона под открытым небом. Гиды, показывая древний театр и демонстрируя его акустическое чудо, обычно загоняют туристов на самый верх и, ставши в центре сцены, шуршат листом бумаги. И звук повсюду слышен.
Прежний портал театра и вход разрушены, сейчас день, солнце, пусто — и сам театр и эти декоративные развалины глядят на нас слепым старческим безразличным взором. Гремят цикады, летают дикие голуби, ничто не предвещает того, что будет вечером.
А вечером Джени и Костас, знаменитые актеры, любимцы греческой публики, создатели и владельцы своего театра, который находится в центре Афин, почти рядом с парламентом, будут играть в Эпидавре «Медею». Пока что мы сидим с ними за деревянным столом летнего ресторанчика, под зеленой крышей, сплетенной виноградом, смеемся, радуемся нашей встрече, — они обожают Олега, который работал с ними над спектаклем в прошлом году Костас отпустил двухнедельную бороду-щетину, в его руках административные дела театра, и сейчас вокруг несколько помощников, разговоры, распоряжения, ищут сценографа, — Костас в распахнутой куртке на голое тело, на пузе царапина, командует, но все равно то и дело озаряется улыбкой. Джени все так же горбится над столом, та же сигарета в руке, голос хрипит, одета в какой-то развевающийся, до пят, балахон… Лучше нет этих актерских вольных посиделок, когда вдруг соберутся, есть время поболтать, посплетничать, перемыть косточки всем, от Москвы до Нью-Йорка, собрать на себя внимание или, наоборот, уж в такой-то компании великодушно дать выступить другому, но быть готовым и легко вступить, сострить, подыграть, рассказать к месту байку, так вдруг показать, скопировать кого-то из знакомых или даже из присутствующих, чтобы все покатилось со смеху. Но впрочем, времени нет, все понимают, что вечером им играть, да еще здесь, не шутка. Так что настоящая встреча и застолье переносятся на потом, на послеспектакля, то есть, считай, на ночь, поскольку спектакль начинают в 9.15, когда садится солнце. (Хотя древние играли днем, и иногда просто с момента восхода солнца, когда оно выходило из-за соседних гор. «О, не медли, не медли, заря встает…» — с этими словами выходит на сцену Электра Еврипида, а Электра Софокла вторит: «Солнца свет непорочный! Ты, о землю объемлющий воздух!»)
…Я сел на теплый камень неподалеку от входа, обозначенного двупроемным мраморным порталом, усадил с собою рядом другого греческого писателя — Манолиса Корреса, чтобы задавать ему вопросы, и стал смотреть, как народ идет в театр. Замечательное зрелище! Я часто в таких случаях говорю, что лучший театр — это публика. Дело в том, что каменный амфитеатр вмещает двенадцать — тринадцать тысяч человек, а сегодня, как мне сказали, продано пятнадцать тысяч билетов. 15 000! И вот примерно около восьми часов эти пятнадцать тысяч начинают подниматься снизу, от сотен своих машин и автобусов, которые они пригнали сюда, к театру, в основном из Афин (это три часа езды через Коринфский перешеек и узкий, как нож, Коринфский канал). И я словно увидел всех греков, всю нацию, темноволосую и темноглазую, смуглую и простолицую, крестьянски-неторопливую и вместе по-городскому экспансивную. Я видел уже однажды подобное шествие: в Нью-Йорке, в Центральном парке, люди тоже шли в открытый театр, на Шекспировский фестиваль, который организовал продюсер Джо Папп, привлекая зрителей бесплатными билетами. Но там был пестрый и многоликий люд Нью-Йорка, а здесь… впрочем, похоже, похоже. Цепочка синих полицейских направляет все густеющий поток, много детей, которых греки любят всюду таскать за собою, даже вечером на «Медею» и даже ночью в таверну, — девочки в нарядных платьях, чулочках и бантах, а один мальчишка в полной светлой тройке, с огненной бабочкой-галстуком, держится джентльменом. Идут причесанные и нарядные женщины с пузатенькими мужьями в летних пиджаках, идут девушки в мини-юбках или белых хлопковых длинных платьях, сквозь которые просвечивают истончившиеся уже почти до ленточек трусики и лифчики. А еще чаще нет лифчиков. Идут белоснежной группой молодые морские офицеры, стройные, с болтающимися золотыми кортиками. (Греки или американцы? Ведь прямо в самих Афинах торчит крупная американская натовская база, электронные уши и глаза Средиземноморья. Нет, офицеры греческие.) Идут туристы, в одиночку и группами, немцы, французы, и опять — множество молодых людей, иные прямо с мотоциклетными шлемами в руках или салазками-рюкзаками за плечами, с пыльными ногами и лицами, — видно, шли пешком. А греки в основном семьями, парами, и если сделать выборку, вычислить средний возраст тех, кто заполняет сейчас потемневший на закате каменный амфитеатр, то цифра, думаю, не перейдет далеко за тридцать. У мужчин хорошие лица, у женщин добрые глаза. Юная актриса с голыми плечами и руками, знакомая Манолиса, подбегает и обнимает его. Хорошенькая, накрашенная, как кукла. Сегодня она играет в хоре. А вот красавица, вся в обтяжку: зеленая майка с длинным вырезом, ослепительно белые штаны до колен, клипсы величиной с блюдца, сама загорелая, почти до цвета кофе. Стоит и красуется, делает вид, что кого-то ждет. Я оглядываюсь на театр — о, он уже почти заполнен, стал цветным и живым, он еще озарен последними красными лучами, — как все стало нарядно! Белые чистые канаты отделяют сегмент от сегмента, люди движутся вверх по проходам. Неужели будет пятнадцать тысяч? Нам тоже машут, пора занять места. На камнях постелены поролоновые узкие матрасики в белых чехлах. Теплые рябые старые камни. 2300 лет этому партеру. Кто здесь сиживал? Какие люди это начали? Кто они были? Как они ездили сюда из Афин, если ездили?.. Да, ездили, — рассказывает Манолис, — и шли пешком, и путь сюда от Афин занимал две педели. Шли тоже семьями, ночевали в поле под открытым небом, разводили костры… Как началось? Это место связано с именем Асклепия (Эскулапа), оно считалось древними самым целебным в Греции, здесь особый воздух и микроклимат. Потом нам показали останки храма Асклепия, стадиона, бань, гимнасии, водолечебницы и здания, подобного больнице или поликлинике, где были, вероятно, общие спальни для больных. Великий врач, причисленный к богам, учился врачеванию у кентавра Хирона и, по мифу, способен был даже оживлять умерших. За это нарушение установленного порядка Зевс поразил первого реаниматора молнией, и у них вышел целый скандал с Аполлоном, поскольку не кто иной, как Аполлон, был Асклепию отцом, — не зря в древние времена врачевание имело эпитет искусства: «искусство врачевания». Увы, увы!.. Надо думать, больные не жалели средств жрецам Асклепия, и Эпидаврское медицинское управление могло позволить себе построить даже театр. Вероятно, здешние представления носили и религиозный, и целительный, и мистерийный характер, а может быть, и элитарный, изысканный, специально для богатых граждан, удрученных возрастом и болезнями. Но вряд ли. Для этого театр великоват. Приятней думать, что люди, как и сегодня, прослышав задолго о конкурсе драматургов в Эпидавре, собирались и шли сюда издалека, чтобы с утра, целый день, а то и не один день, смотреть новинки своих знаменитых и любимых авторов, принимать участие в оценке пьес и актеров, волноваться и спорить, плакать и смеяться, освежать душу могучим искусством.
Уходит за темную вершину горы солнце. Является опять тут же юный месяц. Люди все идут и идут, заполняют верхние ряды, а здесь, внизу, уже спорят о занятых местах, просят подвинуться, ведут под руки инвалида. Какие-то почетные места оставлены, охраняются синими молодыми полицейскими. Я оказываюсь рядом с маленькой Мариной, которая тоже приоделась сравнительно с дневным ее еле-нарядом, покачивает ножкой в синей лодочке-туфле, глядит синим умным загадочным взглядом. И курит. Кажется, все курят. Огоньки вспыхивают повсюду, как на стадионе во время футбола, дым пластается под загоревшимися фонарями, распугивает птиц. Чаша гудит человеческим гудом. Атмосфера нача́ла, уже редкие хлопки. Неужели пятнадцать тысяч? Да, да. И всех это возбуждает: люди, нас здесь пятнадцать тысяч, в театре, это же не шутка! На оставленные места приходит министр с пышными усами, его весело приветствуют. Другие занимают молодая женщина — член парламента и известная актриса и еще кто-то, вызывающий у публики оживление и интерес. Но все сидят тесно, плечо в плечо, и, если отклонишь спину, упрешься в колени сидящих позади. Сегодняшний спектакль в рамках большого афинского театрального фестиваля, мы, собственно, тоже его гости, и Олег, который один, кажется, изо всех в галстуке, — вдруг взял и надел! — раскланивается со знакомыми.
Но все, начало, начало. И гул стихает. И ярче горят прожектора, начинает светиться декорация: некое чрево, круглая красная дыра посредине, пятнадцать тысяч стихают, стихают. А оттуда, откуда пришли мы все, из аллей парка, движется процессия — идут актеры: в длинных одеждах, с знаменами, сверкая шлемами, копьями. Аплодисменты, потом артисты скрываются, и тут наступает тишина.
А между тем небо успело стемнеть и выпустить первые звезды, месяц засверкал ярче, цикады, как ни странно, смолкли. Сгасли прожектора над зрителями, «зал» погрузился во тьму. Удар гонга. И — миг поразительной тишины, когда все соединилось в одно: небо, горы, месяц, купы олив и сосен, выхваченных у ночи театральным огнем, единое множество людей, их желание и готовность к зрелищу, чувство и мысль, воспоминание, — полная тишина, замерли. Внезапный короткий плач ребенка откуда-то сверху — словно нарочно, как «подсадка» в цирке, и огромный зал, чаша подернулась, будто зыбью, единым же смешком — на секунду, впрочем, и все: начало! На сцену выбежала босая кормилица, рабыня Медеи, и полился первый монолог — рассказ о брошенной мужем Медее.
Современная режиссура (мы познакомились потом с Миносом Волонакисом), сценография, прекрасные костюмы, замечательный хор из пятнадцати актрис, страдающих и страждущих вместе с Медеей то со «своими» открытыми лицами, то в белых масках горя, смерти и безумия, мощная игра героини и Ясона — Костаса — весь спектакль был, разумеется, не реконструкцией древней постановки, как это могло бы быть в Эпидавре, а сегодняшним, страстным и бурным прочтением древней трагедии. Сказать правду, сама история о том, как Медея отомстила мужу за измену, убив его невесту, ее отца — царя Креона, а потом и своих детей от Ясона, меня так за весь спектакль и не увлекла и не взволновала, но я не в счет: я думал столь о многом, что спектаклю трудно было «войти» в меня, — так случается в консерватории, когда человек бежит туда после работы, едет — толкается в автобусе или метро, в голове его сумбур дня и планы на завтра, и нужно по крайней мере почти все первое отделение, чтобы хоть как-то настроиться и услышать, что хотят от тебя композитор, дирижер, солист и стоглавый оркестр. Кроме того, очень мешает незнание языка, и, как ни старались мне помочь переводчик Дима и маленькая Марина, одними глазами стараясь передать смысл особенно напряженных мест, я ощутил нехватку слова, как нехватку воздуха: пьеса все же «состоит» из слов.
Я думал об Еврипиде, о драматурге и писателе, и судьбе пьесы, которая впервые была поставлена в 431 году до нашей эры, то есть 2417 лет тому назад! Но мир помнит об этом, знает об этом, — разве не поразительно? Я сам, бывает, жалуюсь: ах, мою пьесу не ставили пять лет, ах, она пролежала три года. Смешно. Первую пьесу Еврипида в России показали лишь в конце XIX века. (Велика заслуга Иннокентия Анненского, переводчика Эврипидовых пьес на русский, энтузиаста, замечательного поэта и подлинного деятеля культуры.) Но все равно греческую классику ставили у нас мало, и, к сожалению, нет такой традиции, такого умения, чтобы ставить. Но впрочем, речь теперь не о нас. Это мы обедняем себя, а Еврипиду-то, как видим, все равно.
Говорят, за «Медею» на состязаниях драматургов Еврипид получил только третий приз: греческая публика не поняла и не приняла «выпада» Еврипида. У него вообще была нелегкая судьба. Не зря, например, Аристофан в своих комедиях часто впрямую высмеивал товарища по перу, клеймя его «философом», «софистом», «женоненавистником». Он одним из первых стал писать о рабах как о людях, о детях как о людях и о женщинах как о людях и женщинах. Он на самом деле дружил с философами, и хотя прямо не участвовал в политических делах своего времени, но всегда отстаивал свободу личности против подчинения ее тирании государства, защищал демократию и осуждал войну. Его неистовая Медея, «варварка», пришелица из чужих земель и колдунья, выступала, вопреки греческому закону, который позволял мужу все, а жене оставлял послушание и покорность, — за свое право быть человеком, мстить за обиду, идти на все за поруганную честь… Здесь, сейчас, на сцене Эпидавра, опухшая от слез, с растрепанными волосами, в черном платье Медея то проклинала, то умоляла своего мужа Ясона. А тот выходил в золотых одеждах, роскошной бороде, длиннокудрый, скрытый золотой полумаской, торжественный и счастливый, — он уже далеко от родного очага, в царских покоях, уже приходит от невесты, царской дочери Главки, он — новоиспеченный жених. Наряд его роскошен, вид величав, но и две тысячи четыреста лет назад драматург пишет его лицемером, легкодумом, уверенным в охранительном праве мужчины наносить боль и в бесправной доле женщины терпеть ее. Медея из любви к Ясону предала родных, убила брата, покинула родину — ну что ж, Ясон признает это, хотя тут же ссылается на волю богов. На стороне Ясона религия, закон, мораль — все доспехи, которыми и защищен, и отягощен член общества, член семейного сообщества — ячейки государства. На стороне Медеи — личное чувство: унижения, оскорбления, обиды, горя, непоправимости, страха (ее еще и изгоняют из Коринфа) и, кроме того, — возмутительное требование свободы, права на это личное чувство человека свободного, а не раба. Медея — это восстание женщины, ее заявление, — может быть, первое в нашей культуре (отчего и бессмертна «Медея») — о том, что она любой ценой готова отомстить за поругание, то есть за покушение на ее личность. Кажется, уж у кого может вызвать сочувствие или оправдание детоубийца, злая мстительница, злодейка, но мы, зрители, сострадаем Медее, это несомненно. (Так сострадаем мы «грешнице» Анне Карениной.) Да и автор устами предводительницы хора говорит: «Да, много зол, з а с л у ж е н н ы х, увы! Бог наложил сегодня на Ясона».
В отличие от меня, многотысячный зал реагирует на спектакль непосредственно и горячо: слушают, замерев, переживают, смеются, когда Ясон заявляет, как бы это рождаться детям без участья женщины, — люди, мол, избавились бы от многих зол. Аплодируют актерам, которые особенно хорошо играют: той же кормилице, вестнику, хору. Джени и Костасу устраивают в конце овацию, которую способны устроить лишь пятнадцать тысяч зрителей сразу. Страдают о Медее, о ее несчастных, красивых, царственно одетых мальчиках, да и о Ясоне в конце концов, который, содрав маску и золотой парик, с человеческим измученным лицом, небритый и взлохмаченный, остается на кровавом своем пепелище, когда Медею уносит колесница, посланная Гелиосом, — Медея внучка бога Солнца, как ни странно. Кстати, этот театральный эффект тоже вызывает восхищение: во тьме, почти среди деревьев, уже за сценической площадкой медленно поднимается (большим невидимым автокраном) золотой вогнутый щит, сверкающий, точно диск солнца, и в нем — кукла — Медея, которая уже оттуда, как бы улетая, ведет последний беспощадный диалог с мужем. Он обвиняет ее в дикости и варварстве, говорит, что никакая гречанка так бы не поступила, — «из ревности малюток заколоть!», на что Медея почти тупо отвечает: «Ты думаешь, для женщин это мало?»… Будь Еврипид на стороне Ясона, он уж, наверное, нашел бы, как осудить Медею: скажем, намекнул бы, что Медея полетела в соседнее царство и скоро вышла там замуж за «местного» царя; Ясон же, бедняга, кончил тем, что заснул однажды на берегу, под старой своей полуразвалившейся посудиной, которая носила гордое имя «Арго» и принесла ему великую славу, а теперь догнивала на песке, — он заснул, как бродяга, а старый корабль рухнул и задавил Ясона обломками. Какой был бы эффектный финал! Но не в пользу Медеи… Так что женщины должны быть благодарны Еврипиду, да и вообще всем поэтам и писателям, — кто, как не они, всегда понимали, что женщина и м е е т п р а в о, д о л ж н а иметь право, что закон и женская душа вечно не в ладу (закон жесток, а женщина добра) и женская душа наиболее чувствительна, человечна, отзывчива и — чутка к свободе.
Конец, театр гасит софиты, публика начинает расходиться, течь сверху по ступеням, словно шелковое пестрое полотнище, сгущаться в продольных проходах, вытекать наружу. Продолжают вспыхивать вспышки туристских камер: амфитеатр все еще представляет собою редкое зрелище. Но мне не хочется смотреть на театральный разъезд, — меня не покидает видение идущего в театр народа, его живой массы, заполнившей каменную чашу, ощущение праздника, события, воплощения мечты драматурга, режиссера, актера: вот это театр!.. Разумеется, сегодняшние греки совсем иной народ, нежели греки древние, но несомненно, что в самосознании нации, в ее целостности и жизнестойкости ее собственная культура и история играли и играют великую роль. Сберегая культуру, понимая ее значение в мировом культурном процессе, греки тем самым сберегли самих себя. Выжили под пятисотлетним иноземным ярмом, возродились, стали на ноги, преодолели собственные недостатки (тоже исторические), когда каждая деревня считала себя независимым государством и билась с соседними за свои обычаи (грека и теперь — хлебом не корми, но дай вступить в политическую борьбу, полемику и драку). Все-таки не может пройти бесследно высокое и благородное искусство древности, легко уподоблявшее человека богу, а богов наделявшее чертами и чувствами человеческими, — это входит, должно быть, в плоть и кровь. И воспитывает, и учит сохранять свою самобытность, уважать ее. Пожалуй, лучше оставаться чуть провинциальным и наивным, нежели космополитизироваться, рядиться в чужое и быть, как все. Провинциализм тоже бывает разный: один спокойный, с мирным чувством собственного достоинства и своего достатка, другой претенциозный, завистливый, злой, с суетной страстью доказывать, что он не хуже столиц (других столиц). Афины сознают, что им не надо быть ни Парижем, ни Лондоном, ни Москвой: Афинам достаточно, что они Афины. И они спокойны. Такое, по крайней мере, производят они впечатление. И если это так — это великий дар: уметь оставаться самим собою.
Какое, однако, количество сотен лет нужно, чтобы научиться понимать и беречь свое, жить своим, питать им душу. И это не означает — замкнуться в своей раковине и плевать оттуда на остальной мир. Напротив, подлинная культура предполагает способность уважения другой культуры, восприятия ее и взаимообогащения. Понимая, что они оказали своею культурой влияние на весь мир и на все времена, греки должны испытывать радость щедрости. На ком, как не на греках, видно, как национальное искусство способно оказать влияние на культурное, духовное развитие всего мира.
С Эпидавра полагается унести ветку оливы. Костас сам сломал и подарил мне веточку. За ужином — мы ужинали большой компанией под той же виноградной, но теперь уже ночной крышей — я держал ветку возле себя на столе. Взглядывал на нее и говорил: вспомни про Еврипида, сегодня опять его праздник. Вспомни, подними за него бокал, спроси артистов: умер Еврипид в 406 году до нашей эры, чуть ли не растерзанный собаками, как говорит одна из легенд, умер или жив? Что скажут артисты?..
ПЛАКА
Кажется, сто раз ты это видел: афинский Акрополь, гордый Парфенон с его колоннадой, голубое небо — на картинах, открытках, рисунках, в кино. Но все же как ни устойчиво книжное, воображенное представление, оно всегда иное, чем сама действительность. Как говорил Ежи Лец: «В действительности все совсем не так, как на самом деле». То есть я не против воображения (я не могу быть против), и воображение способно быть куда богаче, но все же… Когда увидишь впервые высоту горы снизу, из узких улочек города, высоту, на которой стоит Акрополь (крепость), сразу понимаешь: а, ну конечно, крепость. Высоко, отвесные скалы, старые стены, как продолженье откосов. Раза в четыре выше, чем наш Кремль, например, стоит крепость, господствует надо всем. Не доберешься, не подступишься. А уже там, внутри, — Парфенон, храмы, каменные и мраморные дороги. Снизу видна только крыша, фриз фронтона, верх колонн. Светится храм на утреннем солнце слоновой костью, освещается разноцветными прожекторами в сумерки, когда идут представления из греческой истории на его фоне, растворяется в ночи или вдруг отзовется смутно под лунным светом… Реставрационные леса по стенам, крепежная арматура; на входе, где паломничество туристов, — деревянные сходни и ступени, которые покрывают уже истершиеся ногами камни. Замечательно это беспрерывное шествие, снизу, с дороги, куда подваливают и уходят на стоянку машины, — все идут пешком, бредут, один поток вверх, другой, уже ручейками, обратно, и вот тут ты понимаешь, что есть воочию интернационал: какие лица, типы, краски!.. Белые, черные, желтые, рыжие; индианка, с ней другая; юноши-негры; китайцы; японские школьники, почти все в очках; немцы; американцы; матросы; еще индус с седыми волосами до плеч; польские мальчики со звонкой славянской речью; англичане, группа, человек шесть женщин, одна другой выше и красивее, на загляденье; наши девчонки-спортсменки, командой, голенастые, сутуловатые подростки, — в Афинах молодежная международная спартакиада…
Но я не буду про Парфенон, трудно, надо постоять под этими колоннами, походить, посидеть на ступенях, глядя на удивительную даль, — оказывается, греческий воздух испокон века славится своей чистотой и прозрачностью: жар суши и влага моря создают особый его эффект, когда видишь все далеко и отчетливо. С высоты Акрополя открыт не только весь город, но и Пирей, порт, — собственно, он уже слился с Афинами, — и береговая линия, и море, усеянное кораблями, огромное море, хоть и в дымке, но словно бы встающее вдали стеной… Впрочем, ни сосредоточиться, ни проникнуться зрелищем панорамы или великого храма невозможно: отвлекают люди, лица, дети, разговоры, и я убежден, что вся толпа, которая сбивается на околопарфенонских камнях и ступенях, занята в основном разглядыванием друг друга, потому что такое скопление самого разномастного люда в самом деле редко где встретишь. То старуха гидесса, представляющая из себя развернутую египетскую мумию и опять облаченную в длинную мужскую майку, заменяющую ей платье, тараторит рядом по-английски с усердием, угрожающим ее сверкающим зубным протезам, то девчонки-двойняшки англичанки с рыжими кудрями, в прелестных платьях и трусиках, из которых выглядывают их толстые попки, ползают туда-сюда по ступеням, а их бабушка в кроссовках грозит им пальцем, то этот самый индус с волосами, севший скрестив ноги и закрывший надолго глаза, то стриженный под бокс кореец с красным значком на груди, фотографирующий все и всех подряд… Конечно же в Пирее стоят туристические пароходы, в Афинах рассекают улицы туристические автобусы, самолеты со всего света садятся в аэропорту, и каждому нужно увидеть Парфенон. До двух миллионов туристов бывает в Афинах, каждый приходит сюда, входной билет стоит 400 драхм, то есть почти два доллара, — вот и посчитайте!.. К храму с кариатидами тоже не подойти, лучше стать подальше, глядеть снова окрест. Но тут приходит мысль о том, что не так давно город занимал совсем мало места, Пирей лежал вдали, кругом стояли леса, текли речки, поблескивали озера. Было мало людей — был другой ландшафт. Мы давим и давим на природу, выживаем со своих мест животных, насекомых, растения, наша экспансия все активнее и безнаказаннее. Мы господствующая и все подавляющая популяция. Природа этого не любит, это же известно. Природа всегда найдет способ вернуть равновесие. Мы не знаем, но, может быть, мы уже затронули интересы какого-нибудь микроба, — быть ему или не быть? — и он вот-вот вступит с агрессором в борьбу. Мы все ждем опасности от самих себя, бьемся против войны и атомной смерти и, возможно, не знаем еще, не подозреваем о тех опасностях, которые готовит нам обиженная нами природа. Еще царь Соломон в ответ на загадку: какой зверь самый хитрый? — отвечал, что самый хитрый это тот, которого мы еще не знаем.
Да, такие, уже довольно банальные мысли приходят, когда глядишь на природу, обращенную человеком в один каменный город. Но когда оборачиваешься к этой огромной, живой, многоликой и такой мирной, мирно созерцающей красоту и погруженной в красоту человеческой толпе, то тут же думаешь: да как это так, какие такие микробы должны пожрать этих детей, старух, юношей, женщин, с чуткостью лани внимающих рассказу о статуе Афины-Паллады, которую христиане якобы легко переделали потом в богородицу — вложили ей в руки вместо щита и меча младенца. Разве человек не венец и царь природы?
Слово «турист» стало теперь почти насмешливым, над туристами принято подтрунивать и рисовать на них карикатуры. А мне хочется прямо-таки оду сложить в честь человека-туриста и в благодарность всем туристическим конторам (ну пусть не всем, не всем, согласен). Какое это большое счастье человеку: вот так путешествовать, смотреть, ехать, идти, каждый день видеть новое, непривычное, удивляться, радоваться, раздумывать, знакомиться и сдружаться, расставаться со слезами, опять ехать, обрастать сувенирами, пленками (всю зиму потом проявлять, смотреть, вспоминать), забыть все, что было плохого, неудобного, невкусного, опасного, и запомнить только красивое, необыкновенное, свой собственный восторг перед этим миром, — миром природы и миром людей, — хорошо! Всех надо брать в туристы, пусть каждый человек отправляется в дальние страны, люди третьего тысячелетия должны ощущать и знать в с ю землю, — им легче будет все на свете понять…
Гуляем по Плаке. Это старый город у подножья Акрополя, по-нашему сказать «посад», этакое афинское Заречье, — только они свое сохранили, а мы свое разрушили. (И водрузили там отель с названием «Россия», да еще славянской вязью вывели буквы, а название прямо-таки физически ощутимо отторгается от здания, которое уж точно никакого отношения к России не имеет.) Но это так, к слову.
Плака — это плетение старинных улочек, подъемов, спусков, домов, церквушек, раскопов, обнесенных решеткой, с их старыми колоннами, обломками, статуями, это множество лавок, магазинов, таверн, кафе, но и старых деревьев, дворов, в которых живут, окон, из которых вечерами глазеют на туристов, балкончиков и плоских крыш, уставленных множеством ящичков и горшков с цветами. Столики одной таверны целиком помещаются под кроной огромной шелковицы, в другой все стены испещрены автографами известных актеров, спортсменов, государственных деятелей, — все сиживали здесь, в одинаковой тесноте, за столом, составленным из разномастных столов, на табуретках и стульях, которые старик хозяин выносит чуть ли не из дома, попивали красное вино из простых графинчиков, слушая старательного употевшего скрипача, который пропиликает немцам немецкий мотивчик, англичанам — английский, русским — русский.
На Плаку можно пойти и днем, побродить и поглазеть, но главная ее жизнь вечерняя, ночная. В Греции принято отдохнуть и поспать днем, в самую жару, скрыться в прохладе дома, — время сиесты, от часа до пяти, — и начать жить, проснуться и приободриться к ночи. Разумеется, вечернее гуляние больше относится к молодежи, а остальной люд, как и на всем свете, преимущественно разваливается перед телевизором, но как бы там ни было, за счет ли своих или за счет туристов, но Плака не спит до трех-четырех, и все открыто, все можно купить, посидеть, погулять, поболтать, поглазеть. Говорят, еще не так давно здесь гремели дансинги, секс-шоу, всякие злачные места, но сейчас нет ничего подобного, и не верится, что было. Музыки, между прочим, почти совсем не слышно, тем боле джаза: греки любят свою музыку, свои песни, мелодичные и чуть протяжные. Совершенно нет пьяных, хотя выпить можно на каждом шагу, и все, разумеется, задешево. Молодежи — туча, но нет ни «стай», ни драк, ни какого-либо вызова — только носятся на своих рычащих мотоциклах. В любой поздний час любая женщина в любых бриллиантах может смело идти по улице одна, — к ней не пристанут и не ограбят. Полиции почти не видно. Все лавки, магазины растворены напоказ, товары, перешагнув порог, вывалены на улицу, на тротуар, платья, кофты, брюки болтаются на плечиках по стенам, гроздьями висят сумки, обувь, пояса, бусы, тут же греческие старинные шлемы (под старинные), мечи, статуэтки, иконы, плакаты, очки, бижутерия и настоящее золото и камни, керамика, игрушки, театральные маски, бронзовые совы — символ Афин, аристофановские неприличные сатиры, и опять — самые модные платья, майки, кофты, туфли, что хочешь. Все что-то покупают, хотя знают, что покупать на Плаке глупо: дорого и товар ненадежный, для туристов, на один раз. Но так все соблазнительно, забавно, завлекательно, — был бы полный карман, так бы и выбирал что-нибудь в каждой лавчонке. Да из одной приветливости и предупредительности их хозяев, из того, что они тебя так обласкивают, уговаривают, предлагают самое лучшее, готовы бежать в недра своих лавочек и нести оттуда еще и еще товар, и снижать цену, лишь бы ты хоть что-то взял, — уже из-за одного этого охота купить. Плака — живая, соблазнительная, разнообразная, хотя с третьего-четвертого раза, когда уже научаешься ориентироваться в этом поначалу кажущемся совершенно запутанным лабиринте, понимаешь, что Плака и невелика, и обозрима, и наполнена, в общем-то, не бог весть какими сокровищами. Но она — именно живая, интересная, у каждой лавочки и таверны свое лицо.
Вот что важно! Сейчас в Москве, а по образцу Москвы сразу и в других городах тоже, стали создавать пешеходные зоны, превращать кусочки старых улиц, площадей и т. п. в заповедные. Слава богу! А то ведь уж людям и потолкаться стало негде, побродить, поглазеть, себя показать. Но скажем, почему многим (кто мало видел подобного) нравится новый Старый Арбат в Москве, а многим не нравится? Мне вот, например, тоже и нравится и не нравится. То есть я очень рад, что это сделано, что появилась наконец в Москве такая «зона», что люди, которые это придумали и исполнили, безусловно, старались от души и сделали, что могли. Но… есть вот это «но», и я сейчас постараюсь объяснить, в чем оно. И вопрос этот довольно принципиальный.
Чем был дорог и душевен любому москвичу старый Арбат и почему такое раздражение вызвал проспект Калинина, «вставная челюсть Москвы», как шутят злые языки? Старинный, прежний Арбат был жилым. Жилым и живым. Исторически многослойным. Каждый дом, каждая подворотня, магазин носили печать особенности, индивидуальности (я говорю уже о нашем, советском и даже послевоенном времени). Каждый дом и двор имели собрание своих типов, продавщицы комиссионного магазина не походили на продавщиц «Диеты», и даже хлеб в булочных бывал одним в одной, и другим в другой. Рыбачьим сейнером плыл в сумерках и пах морем рыбный, неким шиком и аристократизмом отдавал консервный, аптека на углу была одною такою аптекой в Москве, и единственным и неповторимым оставался знаменитый зоомагазин с его завсегдатаями-мальчишками, часами глазевшими на птиц, рыб и черепах, и инвалидами, торговавшими мотылем. Кинотеатр Юного зрителя, «Риони», театр Вахтангова, букинисты, цветы, писчебумажный, кулинария «Праги», «Плакат», «Белье», еще булочная, «Военная книга», ювелирный и так далее! Мне пришлось бы говорить об этом слишком долго и слишком много издать вздохов, — думаю, и так понятно, о чем я веду речь. Казалось бы, в чем дело? Ведь все осталось (или почти все), но только в подновленном, чистом, новом виде, все играет различными красками, улица вымощена специальной плиткой, украшена цветами, фонарями, скамейками, красивыми и однотипно-разнообразными вывесками. Чем плохо? Нет, неплохо. Но только в о т л и ч и е от прежнего исчезла вдруг человечность, жизнь, Арбат сделался, как ни странно, однолик, все дома оделись в пеструю, но одинаковую форму, и каждому в руку дан фонарь. Арбат н а р и с о в а н одною, пусть и способной, кистью. Он стал декорацией, а декорационность и картинность претят д у х у Москвы, а уж тем более Арбату, каким мы его знали. Индивидуальное и неповторимое ушло, а стало похоже на Швейцарию или Германию. Не хочу сказать ничего плохого в адрес этих почтенных стран, но Москва не Берн и не Веймар, и даже не Ленинград. Каждому свое.
Вернемся, однако, на Плаку. Отчего на Плаке так уютно, симпатично, красиво, приятно? Здесь тоже многое подчинено тому, чтобы завлечь, обратить внимание, доставить эстетическое удовольствие. Но здесь все п р и б л и ж е н о ко мне, человеку, идущему по этому городу, и обращено к о м н е, и показывается м н е, предлагается м н е, — я ощущаю это на каждом шагу: при взгляде на любую витрину и при обращении к официанту ли уличного кафе, подающего мне стакан сока, или к букинисту, книги и журналы которого разложены прямо на асфальте. Плака — художественна и уникальна.
Бродишь здесь, глазеешь, встречаешь опять и опять множество самого разноликого народа, который легко вбирается в себя Плакой, и видишь, что у всех на лице — удовольствие, интерес, улыбка, покой; чем больше бродишь, тем глубже впечатление: все забылось, отступило, ты отдыхаешь, мысли бегут мирные, благодушные. И легко вообразить себе Афины древние или средневековые, которые целиком помещались на этом пространстве «посада» под стенами крепости, состояли тоже из узких улочек и невысоких домов с закрытыми двориками, но только народу было, как в большом селе, и все свои. Впрочем в древности на каждого афинского гражданина приходилось не менее десятка рабов, а рабы тоже набирались отовсюду, из всего «варварского мира». Но нет, свободные граждане, разумеется, хорошо друг друга знали, жили законами, самими над собой поставленными. (В Греции насчитывалось когда-то до двух тысяч таких самостоятельных городов-полисов или сел, каждый из которых жил и хотел жить по-своему.) Удивительно, не правда ли, почему именно их культура, их взгляд на жизнь, их опыт оказали такое влияние на весь мир? Ходишь и думаешь: в чем же секрет? Как это получилось? «Для того чтобы научиться наблюдать смену времени года, — пишет Джеймс Фрэзер в «Золотой ветви», — замечать быстротечную прелесть дамасской розы, мимолетное великолепие золотого хлеба и скоропроходящую красоту пурпурных гроздьев винограда, грекам не было нужды совершать путешествия в дальние страны… Грек с его привычкой персонифицировать силы природы, расцвечивать холодные абстракции теплыми цветами воображения и покрывать голую прозу жизни роскошным покрывалом мифической фантазии… Ясный ум и трезвый темперамент греков…» Что ж, они ж и л и, и у них было «все, как у людей»: мостовые и водопровод, дома и храмы, хлеб и вино, живопись и музыка, поэзия и театр; они пришли к расцвету демократии (в Афинах) и к кризису олигархии (в Спарте); они знали славу и трофеи войны и ее бедствия, междоусобицу и союз нации против иноземного врага и ига; у них был великий фольклор и религия, положены начала математики, физики, астрономии. А медицина? Философия? «Я знаю, что я ничего не знаю», — сказал великий Сократ, и он же сказал, что «существует только один бог — знание, и только один дьявол — невежество». И это греки сказали (и поняли), что есть главная точка отсчета для всего и главная мера — человек. Как только эта мера уходит из поля зрения ученого, архитектора, политика, поэта и он начинает мерить любой другой мерой — пусть даже Науки, Архитектуры, Политики, Поэзии, — то взаимодействие естества и искусства тотчас нарушается. «Человек — мера всех вещей». Казалось бы, так просто и ясно. Но как понять это и следовать этому по-настоящему, везде и во всем и всем?..
Сидим на плоской крыше трехэтажного дома на холме в виду Акрополя, крыша превращена в уютную, столиков на десять, не более, таверну, прямо напротив — Акрополь, под ним вечерняя, в огнях, Плака. Сумерки над городом, заметная мгла смога, потемневшие горы, и над ними появляется и быстро растет красная громадная луна, уже почти полная, Селена. Она словно обколотый щит. Что можно придумать про луну? Нам трудно придумывать, мы уже з н а е м. След сапога Армстронга нарушил вечную тайну. А вот «роскошное покрывало мифической фантазии» ведало другое: что Селена выходит из-за горы полюбоваться пастухом Эндимионом, который спит в пещере: этот прекрасный юноша возмечтал навсегда остаться таким, как он есть, юным и красивым, и Зевс сказал: пожалуйста, и навсегда усыпил его. А Селена влюбилась. Она приходит целовать и ласкать его, но он спит. Оттого она так печальна. (И однако — есть вариант мифа, — она родила от него пятьдесят дочерей!..)
ЭГИНА
Мчим в Пирей, успеть на паром, который отходит в час, а потом надо будет долго ждать следующего, — мчим, летим в потоке машин, попадаем в город портовый, рабочий, бедный, но вместе с тем со всей живописью и нравом портового города: улочками, кабачками, дансингами, киношками и прочим. О вечернем Пирее я еще расскажу. А пока вперед, вперед, скорей, к пирсу. За рулем один молодой режиссер, который учится в Москве, в ГИТИСе, — его зовут Стафис, он статен и хорош собой, мил и добр, у него недавно родилась дочка, и мы встретились в самолете (Стафис летел домой на каникулы), где полугодовалая девочка в красивых одежонках покоилась на специальных носилочках, которые можно легко носить в руках или поставить. Еще с нами гречанка Катина, которая долго жила в Советском Союзе и много делает для содружества и сотрудничества нашего и греческого театров. Но теперь мы все — лишь туристы, путешественники, мореплаватели, плывем на остров Эгину, ближайший к Афинам и Пирею из больших островов.
Мне хочется записать это маленькое путешествие, потому что благодаря ему я ощутил, мне кажется, нерасторжимую связь этой земли со своим морем, а через свое море с другими морями, а через эти моря — с другими землями. Мы двинулись из порта на высоком и быстром пароме, на борту которого тоже выведено «Эгина», — его не полностью заняли грузовики, два-три трактора, легковые машины, — впрочем, сейчас, днем, народу было немного. Наверху, на открытой палубе, под тентами люди даже лежали-полеживали на скамейках. Поползли мимо корабли у пирсов, потом на рейде — новые, и старые, и совсем старые, ржавые, счаленные по четыре-пять сразу в этакий ржавый железный плот, — греческий торговый флот, один из самых больших в мире, показывал свое рабочее, непраздничное лицо. Паром стучал тоже делово, шел ровно и ходко, полетел навстречу освежающий ветер, отступила жара. Жаль, конечно, что идем не на рыбачьем баркасе, не на лодке или яхте, но все равно — режет глаза синяя сверкающая вода, вскипает по борту бурун, и хоть высоко над водой, но все же в море, в греческом синем и ярком море, — рыбаков и мореходов. «Тут светлоокая Зевсова дочь даровала им ветер попутный, / Свежий повеял зефир, ошумляющий темное море… / Гелиос с моря прекрасного встал и явился на медном / Своде небес, чтоб сиять для бессмертных богов и для смертных / Року подвластных людей, на земле плодоносной живущих…»
Я был на утреннем рынке в Афинах, видел рыбные ряды — это чудо. Рынок живет, кипит, товар свежий и должен быть продан свежим. Кучно горят яркие лампы над лотками, набитыми льдом, отовсюду течет, капает, мокрые асфальтовые полы, мокрые фартуки и руки продавцов — выкрики, торг, шутки, каждый зазывает: сюда, сюда, вот, смотри, и поднимает рыбину за хвост. Чего там только нет! Сиреневые осьминоги с их бело-розовыми присосками, креветки чуть не в руку величиной, белобрюхие крабы, красные короли-омары с полуметровыми усами, маленькие кальмарчики, мидии, устрицы. А рыбы, рыбы! И мелкая, и огромная — лежат отрубленные пучеглазые головы тунца, — и столько всякой, что не успеваешь запомнить и записать названий. Свежий острый запах, лотки, вода, огонь, крики, мокрые деньги в мокрых руках, — у них манера носить деньги в руке, хоть и кучу, будто напоказ, — и, разумеется, покупатели: солидные крепкие мужчины, гладко выбритые с утра, с седыми висками, и женщины, матери семейств, и, видимо, оптовики, которые ведут переговоры с продающими, уже стоя с ними там, за стойкой, среди громоздящихся синих лотков, из которых чуть не вываливается, выползает то хвостом, то мордой с безумным выражением ужаса смерти несчастная рыба… Я рос мальчишкой в Крыму и еще помню «шаланды, полные кефали», которые подгоняли к рыночному пирсу балаклавские листригоны, чернокудрые греки, и тоже лилось рыбье серебро на мокрый камень, и наши матери с клеенчатыми, «рыбными» сумками звонкими голосами торговали кто хамсу, кто камбалу. (А теперь севастопольские плавбазы ловят рыбу по всем океанам, везут тысячи тонн замороженного улова за тысячи верст домой, а на Севастопольском базаре рыбы нет!)
Кажется, день сегодня специально для посещения Эгины. Даже греки говорят: жарко. Остров сух и горяч, как белая печка. На Эгине худо с водой. Когда мы приехали на место, поставили в тень машину, заглушили мотор и вышли, то попали в жар духовки и в оглушительный стрекот цикад. Вот это Греция: жара, неподвижное море, сухая земля и рев цикад. Жарко. Все беленькие хорошенькие домики и дачки скрыли свои лица очками-ставнями. Говорят, здесь любят селиться писатели, артисты, художники, и некоторые виллы свидетельствуют о вкусе и достатке хозяев. Но не видно сейчас ни души. Жара. Сушь. Сухие колючки.
Но Эгина — остров фисташек. Фисташковое дерево живет практически без воды. Невысокое, крепкое, со светлым крепким стволом и круглой кроной из плотных мясистых листьев, оно выглядит уверенно и непоколебимо. Гроздьями висят фисташки. И от этих выносливых, крепких, как солдаты Александра Македонского, деревьев остров кажется почти зеленым, а жара не такой уж страшной. Греция — это остров, где сухо, жарко, ревут цикады и растут фисташки. Остров среди теплого чистого моря — чистый песок, проблеск чешуи и тень идущей внизу рыбы.
И еще Эгина — земля муравьев. Муравьи большие, как пауки, быстрые и решительные. Тоже похожи на легкую пехоту, бегущую бегом. И никуда не денешься от мифов, — оказывается, в самом деле, Эгина когда-то была населена мирмидонянами (по гречески мирмекс — муравей). Они пошли от некой дамы, к которой Зевс, умевший проникнуть к выбранной им женщине в любом обличье и сквозь любую щель, явился в образе муравья и сделал ее мамой Мирмидона.
Сидеть на берегу, укрывшись под широкополой шляпой, дразнить сухой веткой воинственных мирмидонян, которые всегда шли в бой не рассуждая и теперь не бегут от прута, а бросаются на него, вздымаясь на задние лапки, поражаться воплями цикад, вопящих от переполняющей их любви, глядеть, сощурясь, на синий блеск моря, на туманные очертания других островов вдали, созерцать и думать: что все это? откуда? и куда уходит? и почему?.. Изнемогая от изобилия разнообразий, движущая, созидающая все более совершенное, соединяя несоединимое, огонь и воду, воздух и землю, экспериментирующая, но не с неизменным, «всевлажная» и «световоздушная», словно Афина, природа затеяла осознать себя: человеку — царю обезьян — позволила вкусить плода от древа познания, — душа живого поднялась до способности узнать себя. Процесс идет довольно быстро, мозг неистовствует, войдя в азарт разгадывания загадок, мирное детское мифотворческое сознание сменилось агрессивно-аналитическим. Отчего природа жива? Хотим знать! Даешь тайну жизни! Отчего природа бессмертна? Хотим знать! Даешь тайну бессмертия! Бог? Хотим знать! Увидеть, потрогать, в кармане унести.
Но по-другому-то как? Можно остановить что хочешь, говорил Толстой, но только не сознание (он на себе доказал это, как никто).
Не может человек сидеть на берегу моря, смотреть на рыбу, на солнце, на муравья, на свою руку и не задавать вопросов. Не может. Даже если разгадка грозит ему гибелью.
На Эгине, высоко на горе — останки храма Афе, сравнительно небольшого, примечательного тем, что колонны стоят там в два этажа, — смело решил древний зодчий. Глядишь и думаешь, как всегда бывает при взгляде на древность: как это сохранилось, почему? Может быть, «детское» сознание раньше узнало некие тайны, пришло к их раскрытию простым путем: вложи свою душу в свое творение и так обессмерти себя. «Проходит все, одно искусство / Не умирает никогда. / Так мрамор бюста / Переживает города».
На обратном пути Катина рассказывает о погребальном обычае греков: как через три года нужно обязательно выкопать труп (освободить могилу, если нет возможности купить место), разобрать останки и перебрать, перемыть (!) каждую косточку. Затем сложить в мешок, освятить, на сорок дней оставить в церкви. И захоронить снова или опустить мешок с костями в общий колодец, который бывает вырыт у церкви… Как не хочет разум забвения, как бьется над тайной своего бытия и небытия! Человек простой и наивный тщится оставить по себе хоть какой-то материальный останок, знак, имя на камне, холмик или великую пирамиду — это все равно — как бы не пропустили его в день Страшного суда, не позабыли в суматохе. Человек ученый, материалист и скептик, тоже хоть раз в жизни задает себе в отчаянье вопрос: как же так? неужели исчезнуть без следа? моему разуму?..
Мы плывем назад в сумерках, опять так много простора вокруг, неба и моря, солнце опустилось, но все еще тепло и влажно: шумит бурун за кормой, трепещет сине-полосатый флаг с синим крестом. Катина и Стафис поют протяжно и ладно красивую песню: «Кто ждет на берегу, у кромки моря, глядя на белую пену, для того весь мир только маленький парус…» (Я тин психи ну картери пикри сто акрофаласи…) В такую минуту, как ни хороша она, вдруг чувствуешь себя одиноким скитальцем Одиссеем, хочется домой, и любовь к своему, — дальнему и родному, — берегу заставляет потускнеть море. Глупая слеза навертывается, и огни Пирея, огни кораблей на рейде, возникающие вдали, расплываются в глазах и дрожат…
ЕЩЕ О ТЕАТРЕ, «ЭЛЕКТРА»
Театральный фестиваль продолжает волновать город. Под Акрополем стоит древний театр «Иродион» — он менее внушителен, чем Эпидавр, принадлежит уже эпохе Рима, да и просто вмещает втрое меньше зрителей (хотя тоже три-четыре тысячи), но зато театр в центре города, и каждый вечер там спектакли, концерты, и ежевечернее столпотворение машин, негде запарковаться, свистит полиция, нарядные люди перебегают через дорогу, стекаются к началу длинной широкой беломраморной лестницы — она ведет вверх, к почтенным развалинам театрального фронтона, и зрители опять идут и идут, — впрочем, здесь публика уже более рафинированная, театральная, столичная, все друг с другом раскланиваются, общаются, прижимаются щекой к щеке, и то и дело всплескивают аплодисменты или несется ветерок шушуканья, когда появляется опять-таки то министр, то известный актер, то сам начальник всей греческой полиции в штатском, то священник (на симфоническом концерте). Мы смотрим развеселую «Лисистрату», превращенную в музыкальную комедию, с известной и любимой публикой актрисой, спектакль, лишенный, к сожалению, аристофановской злости и горечи, и еще «Медею», и слушаем знаменитого молодого скрипача, виртуозно исполняющего Паганини. Мы присутствуем на премьере современного шоу молодого греческого драматурга Каламитиса в дешевом летнем театре, где бросают вызов сразу всему: правительству, классике, империализму, падению нравов, военным базам и инфляции. Молодые красивые артистки и актеры с увлечением синеблузников пляшут, поют куплеты, разыгрывают сценки: пародируют телевидение, Монополия раздевает Экономику, «понтийский грек» (персонаж всех анекдотов), крестьянин, попавший в город, дурачит горожан. В Афинах повсюду, на стенах и на деревьях, расклеен плакат: «Нас душат смог и ложь!» Вот примерно таков же пафос этого веселого спектакля. И любопытно, что рядом сидящие зрители — одни от души хохочут и хлопают, а другие (противоборствующие партии) глядят сердито и возмущаются.
Мы посещаем маленький и скромный театральный музей, где имитированы гримоуборные самых почитаемых греческих актеров XX века: Катины Паксину, Эмилиоса Веакиса, Марики Катопули, Елены Пападаки, Кевели, Кристофера Незера, Софи Бембо и других. Висят старые фотографии, лежат на столиках коробочки, веера, перчатки, на потемневших афишах все те же «Гамлет», «Медея», «Царь Эдип», «Король Лир», Ибсен, О’Нил, Шоу. Как гремела их слава, как осыпали их цветы, мчали автомобили, любили женщины (а актрис мужчины), как росли их гонорары и, главное, как полна и прекрасна была жизнь, вдохновенье, самоотдача. Энтузиасты Новогреческого театра, отгородив полстадиона (еще до раскопок Эпидавра и других древних театров), играли «Медею» и уже «исповедовали» Станиславского и Рейнхарда… Лежат сморщенные перчатки, сухие цветы, глядят с фотографий коротко стриженные женщины и мужчины с набриолиненными прическами. Другая эпоха; проходящий век, XX век.
Чем больше находишься в такой стране, тем больше думаешь: как же так? Была великая долгая эпоха древности (пять тысяч лет насчитывается городу Афины), был великий расцвет древней культуры, потом все сгинуло и исчезло на полторы тысячи лет — Греция и Древний Рим, а затем в д р у г началось Возрождение, а потом опять все исчезло и ни о каких Афинах и слуху не было. А теперь вот опять, всего лишь несколько десятилетий, играют вовсю «Медею», и — как узнали мы в музее — только в 1901 году было сделано 17 переводов «Медеи» на новогреческий. Сколько ни изучаешь историю, всегда тут чудится какая-то неувязка.
Недавно я нечаянно прочел в рукописи одну работу, автор которой, привлекши в с ю историю, и математику, и вычислительные машины, доказывает (я говорю очень приблизительно и грубо об этой тщательнейшей работе), что последовательной хронологии как бы и вообще нет, что времена наслаиваются одно на другое и что возможно (опять-таки, говоря грубо), что Древний Рим как бы сброшюрован и прошит в одной папке с Древней Грецией и со средними веками, и древность ближе к нам, чем мы думаем. Автору не внушает доверия даже радиоизотопный метод, и он приводит тому свои аргументы. Я сейчас не вступаю в спор, так это или не так, но сама идея сближения и взаимопроникновения времен столь плодотворна для фантазии и поэтична, что так и просится подхватить ее.
В конце концов, удивительно, насколько жизненны, живы, присутственны в современной нашей культуре древние литература и искусство. Всеобщее образование, свободное время, зрелый интерес общества к документу, факту, истории, к творениям вечным и истинным, а не мнимым и преходящим вызвали в наше время новую эпоху Возрождения. Мы, может быть, просто не замечаем этого. Замечаем вопиющее невежество, и оно существует, бесспорно, но рядом ширится и углубляется процесс освоения культуры, принадлежавшей дотоле лишь избранным.
Меня волнует судьба литературы и театра, мне так хочется, чтобы люди (и сами деятели культуры) знали к р и т е р и й, умели отделять настоящее от поддельного, понимали, что гуманно и что антигуманно, и соображали бы, что антигуманное — низко. Прекрасно, когда театр говорит о вещах высоких и благородных, страстных и мудрых. Современный развлекательный театр губит себя заискиваньем перед зрителем, делается мелок и пошл, да еще и цинично расшаркивается: а я ни на что и не претендую! Я — паяц и коммерсант: покупают — продаю! И как прекрасно, когда существует другой театр, настоящий, и люди, преданные ему, — они были всегда, и их трудом и умом передается, и оживляется, и обессмерчено древнее настоящее искусство.
Джени и Костас, о которых я уже говорил, собираются ставить «Электру» Софокла. Она уже у них в планах, в разработке, в воображении, и я не могу удержаться, чтобы не передать, как это делается практически, как начинается.
Сидим в прекрасной квартире в центре города (двухэтажной, богатой, красивой, с просторными балконами, укрытыми маркизами, уставленными цветами, с аквариумом, картинами, кабинетами и ванными), в большой гостиной с мраморным полом — на пол брошены подушки, можно возлежать. «Сочиняем» «Электру». В какую-то минуту я позволяю себе отвлечься, взглянуть со стороны: взрослые, седые и лысые люди, прикуривая сигарету от сигареты, попивая вино с льдом, среди роскошных апартаментов, в жару, среди бела дня, утирая салфетками пот, среди разбросанных книг и фломастерных набросков на белых листах, — о чем вы так страстно шумите, что так бурно волнует вас? Деньги? Болезнь? Опасность? Любовь? О чем крик и спор?.. Господи, оказывается, о театре! На взгляд любого практического человека, — какое детское наивное занятие, просто смех! Но это занятие — вся их жизнь…
Нам придется вернуться к истории Ореста, Электры, Эгисфа и Клитемнестры. Но теперь перед нами миф, мотив мифа, организованный драматургом. Актеры выбрали «Электру» Софокла, а не Еврипида, — эта кажется им мощнее. Софокл вообще демократичнее и яснее «модерниста» Еврипида, его «Электра» проста, словно сказка. Вот наставник выводит на сцену Ореста (у Пилада даже нет слов), рассказывает его историю, и тут же излагается план мести: проникнуть во дворец, сказать, что Орест погиб, внести урну с его прахом и таким образом прямо в доме убить Эгисфа и Клитемнестру. Затем появляется Электра. Тоже рассказывает перед хором, как она страдает и жаждет мщения и ждет Ореста. Потом приходит ее сестра Хрисофемида, тихая и скромная, которая уговаривает Электру покориться судьбе, и они ссорятся. Является Клитемнестра и набрасывается на Электру с бранью, что та не дает, мол, спокойно жить. Электра режет ей всю правду в глаза. Ссора. Наставник приходит и рассказывает, как якобы погиб Орест. Клитемнестра не скрывает радости, что сына-мстителя больше нет в живых, а Электра в отчаянии. И опять подговаривает сестру самим убить Эгисфа. Выходят Орест и Пилад с урной. Знаменитая сцена встречи брата и сестры: Электра бросается к урне и оплакивает прах брата, Орест же, не в силах видеть ее горе, признается, что он это он, и отчаянье Электры сменяется великой радостью и новой волной энергии мщения. Она посылает Ореста в дом, откуда тут же несутся крики Клитемнестры о помощи. Все. Убийство совершилось. Следом приходит Эгисф, которого Орест тоже закалывает. И последние слова Электры — это просьба разить его скорее, не тратиться на объяснения.
Электра, безусловно, в центре трагедии, она страстна и фанатична, она ни о чем другом больше не думает и другого не делает: ее сверхзадача проста.
Джени. Только за последнее время в Греции поставили пять «Медей», пятнадцать «Лисистрат», последняя «Электра» была неделю назад. Нам нужны новые формы, мы должны все придумать заново, понять и прочесть. Поднять нее на новую ступень. В Греции всегда идут эти поиски форм для одних и тех же вещей. Классика дает актерам и режиссерам такую возможность — найти свое.
Костас. Есть ограничение — как в шахматах: можете ходить, но в шестидесяти четырех клетках и так, как каждой фигуре предопределено.
Георгий (высокий, бурный, с лысиной и в очках, критик и литературовед, переводчик «Электры»). Комедиограф Менандр за три дня до конкурсного представления еще не садился писать пьесы, он лежал и искал идею, мысль, форму. Главное — придумать решение.
Костас. Решение — в пьесе. Чем она интересна сегодня?
Олег. А чем она интересна сегодня? Может, неинтересна?
Георгий. Тогда бы она не прожила три тысячи лет.
Джени. Две с половиной.
Костас. Электра — дочь, которая ненавидит своих родителей, мать, готова растерзать их, старших, за их жизнь, за предательство, за ложь, за нарушение правды. Разве не современно? И Софокл детей оправдывает, — дело даже не в убийстве, а в отношениях, — а Клитемнестру не жалеет и не прощает…
Костас в куртке на голое тело, взъерошенный. Он надел очки, держит перед собой на отлете книгу и торжественно читает по кусочкам и тут же комментирует.
Костас. В прологе — две дороги, так было. По одной приходят чужие, по другой свои. Начало — это весна, раннее утро. Идут чужие, а оказываются свои. Вот тут, Орест, ты вырос, играл мальчиком. И теперь пришла пора мщения… Из монолога Ореста явствует, что он еще не совсем решился, не хочет этого делать, но он инструмент судьбы. Он довольно ординарен. Это не Электра. Он ходил к Аполлону, спрашивал, каким образом ему убить мать? Не можно ли, а как? Орест сам принял решение, а бог продиктовал лишь способ.
Георгий. Люди, которые верят в судьбу, должны верить в жизнь. Важно решить эстетически теологический аспект. Трагедия свободна от символов, это другое искусство, она сама — движущая сила. Для нашего зрителя нет проблемы восприятия классической трагедии. И нельзя вносить изменения в ее форму, нарушать. Нет проблемы условности хора, есть проблема — как он будет действовать?.. В древности весь хор пел. Говорил в один голос и на разные голоса. Софокл увеличил хор с двенадцати до пятнадцати человек, ввел третье лицо в сцену, до этого взаимодействовали лишь два персонажа, не больше.
Олег. А хор у Питера Штайна? Старики. Нарушать не надо, но нельзя быть современным, если не совместить традиционное с…
Джени. С чем?
Олег. С собой. Я спрашивал у простых зрителей, что для них древняя трагедия? Они говорят: у этих древних всегда все серьезно, серьезное содержание. И это волнует. Это связывает людей между собой. Например, они тоже все время боролись за мир.
Костас. Электра — мощный образ, да и очень серьезный. Как я несчастна, — она вопит, стенает, она расцарапывает себе грудь и лицо. Она ведет себя необычно, выходит за рамки. Она, между прочим, царская дочь, она появляется на сцене с подругами-хором, это девочки-аристократки, ее фрейлины, хор на ее стороне, к концу просто как мать. Ее мучают, запирают, она плохо одета, оборвана, волосы отросли, не причесаны. Она в доме своего отца, но ходит голодная вокруг столов, ломящихся от яств. Ее бьют. Она обращается к заре, к природе со своим монологом, больше ей не с кем говорить. Эгисф плюет на кушетку, где она спит. Она обращается к Ниобее и говорит, что окаменела, как та. Нечеловечески — страдать так сильно и болеть местью. Каждый день она обличает и поносит мать и Эгисфа. Я дважды сирота: у меня нет родителей и меня даже не покрыла тень мужчины. Я сама тень в этом доме. Она диссидентка.
Я. Это не «Электра», это просто «Гамлет».
Георгий. Не забывайте, в чем суть трагедии. Через хор все ее человеческие личные эмоции делаются достоянием всех. Герой трагедии — всегда редкий человек. Каждый человек хотел бы быть героем, да не каждый может. Герой трагедии знает, что судьба его погубит, знает, но идет. Нельзя, но идет.
Костас. Нравственный закон расходится с юридическим.
Георгий. В древней трагедии частные проблемы становятся общественным достоянием, а в европейской драме общественные — личными.
Джени. Как играть, как играть?
Костас. Тут два плана действия: Орест и Электра. Электра — высоко, Орест — низко. Она хочет восстановить порядок вещей, не менее. И еще третий план — рока, предопределения свыше.
Джени. Как играть?
Георгий. У Софокла был любимый актер — Полас. Замечательно играл женщин. Софокл на него и писал. И он играл Электру. И чтобы вызвать в себе подлинные чувства, сыграть Электру, он попросил привезти ему прах его отца.
Костас (он всех горячее). Вдумайтесь, станьте на ее место. (Электры). Идея ее довела почти до безумия. Она ненормальна. Она хочет совершить ужасное: убить мать. Все герои трагедий совершают ужасное, а это ужасное разрушает их самих. Эдип убил отца и женился на матери, ничего не подозревая, кто есть кто. Он не виноват, но его вина его уничтожает. С момента смерти отца у Электры даже прекратились менструации — вот в каком она состоянии. И вот какое состояние должна играть актриса.
Джени. Когда при «полковниках» меня забирали в тюрьму, офицер рявкнул: «Возьми тампоны». Я ответила, что пока ничего не жду. Он сказал: У нас сразу начнется. И когда они меня стали бить…
Тут мы все умолкаем. Смотрим, как Джени прикуривает новую сигарету и отпивает глоток из стакана, гремя льдом. Горбится над столом и усмехается криво. Наша переводчица зажимает себе рот рукой, из глаз — слезы.
Вот как просто. И можно больше ничего не говорить, не объяснять. Посмотреть на эту женщину, на фотографии за ее спиной, которыми украшена вся стена, — это их свадебные фотографии, они с Костасом молоды, счастливы, у нее замечательное лицо, юная шея, выражение лани, остановившей бег и вслушивающейся в мир. Я вспоминаю: когда их выпустили из тюрьмы (Костас был там тоже), все Афины встречали их на вокзале, несли на руках. Что мы пишем, черт возьми, где же наши-то трагедии?
Костас. Ну-ну, передохнем. Но понимаете, когда мы все разберем, все отношения по-настоящему и все состояния, то из новых столкновений родятся новые изотопы, которые до этого были нам просто неизвестны, новые мутации…
Все кивают, но уже плохо слушают, и как ни велика «Электра», но она уступила место факту сегодняшнему. Но играть надо через это, через факт, несомненно, — Джени сама себе ответила, «как играть».
Мы обедаем потом в этой красивой квартире, за прекрасно сервированным столом, нас угощают блюдом «фондю»: посреди стола горят спиртовки, в начищенных медных котелках кипит оливковое масло. Нужно взять этакую спицу с цветной рукояточкой (каждый выберет себе свою), нанизать на нее два-три кусочка свежайшего мяса и опустить в котелок. Подождать до той готовности, какая кому по вкусу: мясо может быть и сыроватым, и почти зажаренным. А уж к нему даются соусы, специи, овощные гарниры, картошка в укропе — все как полагается.
За столом весело, легко, шутки, вино, но понемногу разговор опять возвращается к «Электре» — «завелись».
В самом деле, как трудно придумать спектакль. Надо наполнить его самым новым и острым, играть, как играют сегодня драматические актеры, а потом вложить это новое в канонический текст, в рамки, которые нельзя сдвигать или ломать. Какая будет Электра, какая Клитемнестра? В конце концов, это их схватка. Знаменитая Аспасия Папатанасиу играла Электру скромной и сдержанной, но это было давно, и, вероятно, сегодняшнюю публику способна потрясти Электра иная, — думаю, скорее та, о которой так страстно говорит Костас. Ведь так легко ошибиться и оставить публику вежливо-равнодушной. Нет, мастера не должны ошибаться.
Я вспомнил о скульптурной группе, где Электра, старшая, между прочим, сестра и выглядит рядом с Орестом, как старшая: довольно мощной молодой женщиной, чуть не на голову выше брата, фигура и выражение которого рядом с нею кажутся мелкими и робкими. Может, пойти на такое распределение ролей? Пожалуй, публика станет смеяться.
Ах, публика, публика!.. Потом мы никак не можем расстаться с Джени и Костасом, весь этот долгий день, и вечером едем к ним в театр, к концу спектакля, — в тот вечер они играют свою «Медею» в Пирейском театре, наверху, на горе, — чаша его тоже под открытым небом, под звездами, с последних рядов далеко видна ночная береговая линия в бисере огней и фонарей и темное глухое море, но тоже с сигнальными корабельными огнями. Здесь играть потруднее, чем в Эпидавре: летают самолеты, трещат по узким крутым улочкам мотоциклы, духота города скопилась над амфитеатром, и с бедных актеров в их царственных нарядах и масках сходит десять потов.
Я сидел на парапете у самого выхода, не успел спрыгнуть, и, когда публика двинулась из театра, оказался с людьми лицом к лицу. То есть я бы еще успел спрыгнуть, пока поток, сворачивающий к лестнице, не загустел, но вдруг понял всю выгоду своей позиции и остался: лучшего места, чтобы вплотную разглядывать публику, я бы не нашел. Свет прожектора оказался у меня за спиной.
Выходящие обращали на меня внимание лишь в самый последний момент, уже ступая на ведущую вниз лестницу, я же видел всех самым крупным планом: лица проплывали на расстоянии руки. Жаль, не было у меня, как у шпиона в искусственном глазу, микрокинокамеры, — передо мною проплывало человечество. Головы, плечи, шеи, волосы, глаза, уши, прически, бороды, усы, цепочки, бусы, морщины, губы, зубы, лысины, кудри, очки, медальоны, седины, воротнички, голые плечи, еще голые плечи, носы, носы, носы (ну и нос!), брови, бровки, бровищи, бровочки, заколки, бантики, ленточки, заколки с цветами, серьги, клипсы, ноздри, ноздри (красивые какие ноздри), юные щеки, глаза, глаза, глаза, глаза, — надо всеми еще веет облако размягченного романтического состояния, — виски, подбородки, скулы, веки, ресницы, ресницы, сигареты, — густо-сиреневая перламутровая помада, полуоткрытая грудь, косынка на шее уголком вперед, а узел и хвостики сзади, не слишком ли крупные бусы? — стеклянные листья, сияющие чистотой волосы, — хороша, ничего не скажешь, и он с нею — шляпка или панамка такая надвинута на глаза, сам ниже ее на полголовы, седые усики, белый пиджак с васильковым платочком в кармане, золотая зажигалка, глаза, глаза, темные, голубые, — рот, губы, отвисла шея, старческие пятна, пигментация по всему лбу, неясные глаза, — еще не переступили за порог театра, ничем обыденным не отвлеклись, выражение очищенности и пережитого волнения, — очки, очки, очки, сигареты, сигареты, сигареты, — у них пока нет имен и профессий, они еще не вышли из храма, и каждое лицо по-своему замечательно, открыто и готово к общению, к обмену впечатлениями, на каждое выступило изнутри или доброе, добродушное, или капризное и недовольное, но во всяком случае искреннее, — «дежурное», уличное выражение еще не окостенило черт, — челки, косицы, бакенбарды, уши, лбы, надбровья, крестики, галстуки, блестки, — надо всем стоит тот гуд, гул, бу-бу-бу, когда публика уходит довольной, умиротворенной, отхлопав себе ладоши, — улыбки, зубы, приветы, — как картинно тронула сережку и улыбается хорошо, а этот смешно напялил берет, — глаза, глаза, глаза, очки, очки, очки, губы, губы, губы…
Нет, не зря эти лысые взрослые дяди и тети играют, как дети, в эту вечную Игру. Театр сшивает времена, соединяет души в одно и доказывает, что все люди — не только те, кто есть, но кто был и будет, — братья.
ЖРИЦА «АМАЛИИ», НИМФА ТРЕВОГИ
В нашей «Амалии», как входишь, справа — рецепция, портье, телефонный коммутатор, двери лифта, а прямо — холл, и дальше, тремя ступеньками ниже, еще холл, с несколькими столиками и телевизором. А там уже задвижная дверь-стенка в ресторан. В холле диван и четыре кресла друг против друга, низкий столик.
В одном из этих кресел, утонув в нем так, что, когда входишь с улицы, видна только голова, макушка, без шеи, сидит женщина. Стрижка — как носили в тридцатые годы и как опять стало модно теперь, русая, бледнокожая, лет тридцати, скромная, тихая и глубоко печальная, почти никогда не поднимает глаз. Здесь, в гостиничном холле, могла бы сойти за искательницу приключений, работающую «под девочку», но нет, сто́ит присмотреться, и ясно, что тут что-то другое. Что?..
Ну хорошо, какое нам дело, сидит человек и сидит. Курит. Иногда листает газету. Иногда перед ним чашка кофе. Ни с кем не общается. Почти не встает. Пусть сидит. Оставим эту сердобольную русскую манеру интересоваться, что с вами да не надо ли чего. Здесь это считается малоприличным любопытством. Не надо лезть в чужие дела. Не дома. У них тут порядок такой. Хочешь сидеть — сиди. Если заплатил.
Но она… Утром — сидит. Днем — сидит. Вечером — сидит. И на другое утро — сидит. И уже сам портье объясняет постояльцам не без реверанса, что, мол, номер сняла, вещи там, номер не дешевый, а сама просидела здесь всю ночь. Извините, если не нравится.
Проходит еще день — сидит. Еще ночь — сидит. Рано утром можно было увидеть: все-таки дремлет, свесив на грудь голову, волосы упали косо на пол-лица, ноги полувынуты из босоножек. Ноги в колготках, будто зимой, босоножки не ахти. Больная? Тихо помешанная? В такую минуту ее мучительно жалко.
На немой вопрос о ней здоровый малый в ливрее корчит рожу и крутит пальцем у виска: дескать, крейзи, сумасшедшая. Но она не больная, не экстравагантная американка или экспансивная новозеландка, паспорт у нее греческий, и похоже, просто горе — потеря или разлука, — усадили ее в это кресло: быть на людях, в самом деле не сойти с ума. Или кого-то ждет?..
Во всяком случае, когда она поднимает глаза — они у нее темные и большие или кажутся такими на опавшем и сером лице, — печаль в них беспредельная. Что с тобой, бедная?..
Люди входят с солнца, с жаркой улицы, краснолицые, загорелые, с пляжными сумками, — она сидит бледная. Или отправляются куда-то вечером, нарядные, встречаются в холле — «о! а! как мы рады!» — рукопожатья, поцелуи, — она деликатно встает, освобождает место, но не уходит совсем.
У стойки постоянное оживление, здесь сдают и берут ключи, меняют валюту на драхмы, заказывают телефонные разговоры и звонят, наводят справки, — она все сидит на этом шумном фоне со своим печальным наклоном головы.
Проживя даже недолго на одном месте, в одной гостинице, на одной улице, так или иначе становишься старожилом, уже различаешь лица, и тебя тоже узнают, отношения делаются все приветливее. Ее ничто не трогает, не касается. Хотя она уже тоже различает людей, и иногда как будто слабый интерес мелькнет на ее лице, она вдруг медленно обернется на наши голоса. Но в другой раз — нет, не реагирует..
У нас наступают дни, когда все закручивается воронкой, времени ни на что не остается, срок перевалил за половину, скоро уезжать. Люблю этот момент: каждый день вмещает так много. Уже завязались знакомства, симпатии, одни дела сделаны, другие тоже удаются, город и люди перестали быть безлики, появилась куча новых друзей, и уже сам, без провожатых, знаешь, где вокзал, где какой музей, как проехать к театру, каким автобусом к морю, где мужские магазины, где женские, — в Афинах прекрасные магазины для мужчин. Словом, надо и туда, и сюда, блокнот разбух от записей и телефонов, ложишься поздно, встаешь рано, ритм все быстрее, уже ловишь на улице такси… Влетаешь в свою «Амалию», как в дом родной, поскорее принять душ и переодеться, в руках пакеты, книги, еще, не дай бог, цветы, настроение прекрасное, скорей, скорей, — влетаешь… а она сидит. Голова опущена, волосы свисли, сигарета дымится в пепельнице… Господи, ну что она сидит?
…У нас пресс-конференции, корреспонденты, записи на радио и на телевидении, — красивая, популярная дикторша Даная Стратигаки, долго накладывая на лицо сложный грим, говорит в зеркало:
— Боже, а у меня проблем, ма-мия! — и вздыхает так, что прямо на зеркало проецируются и плата за квартиру, и долги, и отношения с мамой, и все другие отношения и заботы. Она производит свой вздох, а у меня перед глазами наша несчастная в холле.
…Мы на приеме у министра культуры, а министром культуры — госпожа Мелина Меркури — одна из известнейших актрис Греции, тоже когда-то лучшая исполнительница Медеи, — она высокого роста, интересная, живая, умная, — вот сидит в кресле, заплетя ногу за ногу, острит, шутит, решает (пытается разрешить) нелегкие финансовые проблемы, — где, где брать деньги на нужды культуры?.. Мы возбуждены этой встречей, планами, решениями, у нас международные глобальные планы и идеи — Европа, Америка, Азия, ООН, ЮНЕСКО, — надо переодеться для нового приема, подъезжаем к гостинице, выходим из длинных машин — она сидит.
…Ужин в компании молодых известных актеров: она певица, он киногерой. Поехали в Пирей, на Турколиман, — так по-старинному зовется заливчик, где запаркованы сотни яхт, а на берегу, на крутой подкове залива, сплошь таверны. Сидишь у самой кромки воды, качаются мачты, стукаются деревянно друг о друга бортами катера, — таверна «4 брата», столики под полосатыми тентами, мидии такие свежие, что начинают извиваться в раскрытой раковине от капли лимона, белое вино «Санта Лаура», жареные рыбины поставлены на блюде на животы и так стоят, освещенные свечой, горящей в круглом светильнике из свежесрезанной кожуры апельсина. Ветер, музыка, кругом народ, веселый и праздный, — словом, кайф, как говорит молодежь. И все о театре, о кино, о музыке, об актерах и новых фильмах. И ты размягчен, ты с наслаждением дышишь этим морем, запахами — вина, раковины из-под мидии, даже спичечного коробка, — и вот таким подходишь к стеклянным дверям отеля, провожаемый шумными актерами. Неужели сидит? Сидит. Так и торчит поверх спинки кресла ее печальная голова. Нимфа беды, тревоги, Атропа, третья из Парок, ждущая часа, чтобы перерезать нить жизни. Чьей?
Час поздний, белое вино «Санта Лаура» возвращает нам самих себя с нашими сострадательными порывами сердца — прочь всякие «ихние порядки» — и ты склоняешься с извинением и как можно деликатнее (и трезвее) выражаешь сочувствие и готовность, — всегда! — но она еле поворачивает голову, не отрывая ее от спинки, еле приоткрывает глаза под свинцовыми веками, явно скованными снотворным, и — больше ничего. Молчание. Вывернутая сном беспомощная ладонь. Нимфа немоты, сестра ночи, жрица слез.
Теперь уже про нее не говорят «крейзи», обслуга к ней привыкла и относится с состраданием. Хотя, в чем дело, так никто и не знает. Она молчит. Лицо ее заметно похудело и осунулось. Иногда за завтраком она съедает сухой тост. (Мне рассказывали об одной старухе в Армении, которая после смерти кого-то из близких ела целый год только лук и хлеб, пила воду, — и этого человеку достаточно, чтобы жить.) Своего коричневого платья-костюма она не меняет, обуви тоже, но волосы у нее чистые, она вообще чистая и, видимо, свой номер все же изредка посещает. Но ж и в е т в кресле. Вот в этом одном и том же большом приземистом кресле.
…С переводчиком Димой, на его мотоцикле, укрепясь на заднем сиденье, я летел среди дня по городу, — стал на полчаса противной стороной автомобилистов. Все мелькало, мы ловко обходили машины, которые казались неуклюжими и тяжелыми чудищами, пролезали, пробивались среди них и выскакивали к красному светофору первыми, и сюда сбивались все другие мотоциклисты, юные парни и девушки, и деловые мужчины простецкого вида, и семейные парочки: она, например, довольно полная и миловидная, очень спокойная, сидит на седле не верхом, а боком, обняв мужа за талию, положив голову ему на плечо. Мы перекусили с Димой в «американском» кафе, которое нравится студентам: пластмасса, цинковая стойка, дежурные дешевые блюда, кружка ледяного пива — все о’кэй; десяток мотоциклов пасутся под окном, — вышли, сели, помчали. Мне весело, приступ эйфории, я легко спрыгиваю, словно с коня, с кожаного седла возле отеля; жму руку Диме, вхожу в холл… Она сидит.
Поднимаюсь потом в лифте с какою-то почтенной парой англичан — ему лет шестьдесят, он в шортах и панаме, она такого же возраста, на ней розовая распашонка и распашоночные же штаны чуть ниже колен. Еще ожидая лифта, мы обмениваемся взглядом насчет нашей нимфы, я понимаю, что она вызывает у них то же беспокойство, что и у меня. Дама смотрит растерянно и сострадательно, господин похмуривается и похмыкивает: он считает, что в хорошем отеле не должно быть подобных вещей, хотя, разумеется, каждый, кто не мешает другому, может вести себя как угодно.
Но она мешает. В том-то и дело. Не дает о себе забыть.
…Замечательны в Афинах старые христианские храмы, иные очень древние, так стары, что на четверть, а то и на треть ушли в землю (в асфальт) или вобраны в себя новыми высокими зданиями. Чем древнее, тем проще, скромнее, да и внутреннее убранство не столь уж богато. Старые пожары выжгли им нутро, стены и своды в старой копоти, по ней серебрятся контуры прежней росписи — овалы и нимбы святых. Мощи, древние иконы, жарко и кучно горят свечи, причта не видно среди дня, печально глядят темноликие большеглазые страстотерпцы. Иконы есть прекрасные, тоже скромные и строгие, но в большинстве мягкие, без русского, например, фанатизма и неистовства. Я не специалист и не берусь объяснить по-настоящему, о чем говорю, но мне хочется сказать, что Феофан Грек, скажем, иной мастер, нежели Рублев или те, кто творил на исходе татарского ига, когда Спас кричал, как плакат.
Глядишь на эти лики, нутром вдруг понимаешь: а, вот же! ну конечно! — вот откуда — из Греции, через Византию спустя века (это называется убедиться воочию) на Русь, в Киев и дальше, на север и на восток шло христианство… Смотрю на печальную Богоматерь на маленькой изящной иконке, на наклон ее головы, на горестные глаза, и… вижу: сидит!
…И что ж так тревожит, в самом деле? Какое, в конце концов, дело? И мало ли и без того печали на свете?.. Вечер, большая компания, с детьми, с молоденькими девушками, с почтенным стариком с палкой заняла весь холл, обсела диван и ручки кресел, смех, вспышки «поляроида», передают из рук в руки цветные моментальные фотографии. Наша нимфа скромно ушла подальше, устроилась за столиком поближе к телевизору, на фоне экрана, а там — пылят танки, взмывают со стальных палуб истребители, крутятся тут же мультяшки рекламы мыла и жвачки, — мир жив, мир разбрасывает фейерверки, о чем тревожиться?
И действительно, сколько можно про одну несчастную? Забыть и не думать. Но нет, видно, не зря сказано о заблудшей овце и о потерянной драхме: кто, имея сто овец и потеряв одну, не оставит девяносто девять, живых и здоровых, и не пойдет искать одну пропащую? И кто, имея десять драхм и потеряв одну, не станет ползать со свечой в руке, чтобы найти потерянную?..
Мы так и не узнали, кто она и какая случилась с нею беда. Я не выдержал и в утро отъезда взял под локоть переводчицу и подвел ее к креслу, где наша нимфа сидела по-утреннему безучастно. Мы спросили, извинившись, не нуждается ли она все-таки в какой-либо помощи, не надо ли ей чего-нибудь?.. Она не открыла рта, но глаза ее задрожали и наполнились слезами, губы изогнулись — вроде бы в попытке улыбки вежливости или благодарности. И все. И мы ушли, а она глядела нам вслед. Что же, мне было достаточно, я увидел: она жива еще, слезы у нее еще не все…
…Ну вот, и остается рассказать только про бузуки. Совсем немножко.
Еще в десять вечера Никос и Аня говорили, что ехать, пожалуй, рано, и поехали только в одиннадцать, а приехали в половине двенадцатого — опять куда-то в район Пирея. Отовсюду мигало огнями, рекламой, темные глухие ангары, вроде авиационных, расцвечивались неоновыми разноцветными трубками и гирляндами, — кстати, греческий алфавит, все городские надписи и рекламы все время воспринимаешь как нечто родное, родовое, заграница приучила к надписям на латинском шрифте, а тут почти все буквы «наши»: ведь грамота тоже пришла к нам из Греции, как религия.
Запарковали машину, вышли, оказались в огромном ресторанном помещении, но с очень большой эстрадой, и оттуда, пока мы искали столик, уже привлекала внимание певица с микрофоном, оркестр в глубине, звуки раздирали воздух. Никос шел уверенно, все и всех зная, — он работает в муниципалитете, на выборной должности, хотя у него своя профессия, архитектора, и он ее не оставляет. Он молод, в очках, длинноволос. Аня его подруга, она говорит по-русски, она нас и познакомила.
Зал огромный, темный и почти весь заполнен, мы занимаем столик уже довольно далеко от эстрады или, скорее, надо сказать, помоста, площадки, — на нее легко подняться из зала, — что и сделали у нас на глазах два парня в светлых джинсах и стали танцевать, подняв руки, а певица продолжала петь, чуть отступив от них в сторону.
Играет оркестр, поют, сменяя друг друга, певцы, а все, кто хотят, выходят на площадку и пляшут там. Вот вышли еще две девушки, стали медленно крутиться друг перед другом, вот поднялась еще пара: она одета, по-моему, в зеленую мужскую майку примерно 56 размера, майка ей до ног (скажем так) и перехвачена золотым пояском. А на нем джинсы и рубашка с засученными рукавами.
Да, я забыл сказать, до этого мы заехали еще в два подобных заведения, и нам не понравилось, я просил, чтобы место было самое обычное, недорогое, не туристское, а для своих, греческое, где собирается молодежь. И теперь мы оказались вроде бы в таком шоу, и публика говорила сама за себя: в основном молодые мужчины, женщины. Впрочем, судя по тому, что происходило дальше, народ тут сидел не бедный. Кстати, рядом за столиком две молодые девушки, попрыгивая на своих стульях в такт музыки, потягивали виски, и целая бутылка темнела на их столике. Одну девицу совсем скрыл хорошо организованный хаос бурных черных волос, другую отличала гора браслетов, бус и цепочек на шее и на руках. Они веселились вдвоем, курили сигарету за сигаретой, понемногу заводили себя, разогревали, чтобы ринуться потом в танец тоже.
Вот в этом «разогреве», в «заводе» все дело. Сидишь, глазеешь, за одной певицей вышла другая, потом певец, долговязый и хриплый (он вдруг сорвал аплодисменты), и вдруг через весь зал побежал к нему официант, выскочил, в руках оказалась бутылка шампанского. Он тут же ее открыл, налил бокал, на подносике поднес певцу, тот пригубил, послал приветственный взмах в зал, и официант побежал с бутылкой и бокалом обратно. За столиками хлопали и весело покрикивали. Певец захрипел еще вдохновеннее. Наши соседки уже явно топали, били в ладошки.
Нам принесли вино, арбуз и дыню, я расспрашивал Никоса о том, о сем, но говорить становилось все труднее, — происходящее вокруг вовлекало нас все больше в свою круговерть.
Вышел новый певец — коренастый, быстрый и веселый, его весело же встречали. На площадке к этому времени танцевало — одни уходили и возвращались, другие, как, например, те самые два первых парня, не уходили совсем — уже пар двенадцать. По всему залу все больше и больше шло тоже движение туда-сюда: между столиками лавировали официанты все с новыми бутылками шампанского (а оно недешево здесь, тысяч по пять драхм бутылка, то есть примерно рублей по пятьдесят), и двигались девушки-цветочницы, они ловко держали на руке — снизу и до плеча — штук по двадцать гофрированных бумажных тарелочек, наполненных головками цветов, роз и гвоздик. Я мог подозвать девушку, купить цветы, и тогда она спешила к сцене, выходила и осыпала этими цветами певицу или певца или просто начинала бросать тарелочку за тарелочкой к его ногам.
Наш последний солист имел все больший и больший успех. Надо сказать, он и разливался соловьем. В концертных брюках с блестками и в обтягивающей темной рубашке с распахнутым воротом и тоже осыпанной блеском, он раскачивался и вытягивался вслед за своими страстными фиоритурами, и зал приходил в восторг, потому что певец «забирал». Песни были все о том, как он любит, и как страдает, и как он ждет, а она не идет, и он плачет, а она не внемлет, он ищет, а ее нет.
И вот три официанта один за другим помчались с шампанским, а за ними четвертый с бокалом на подносике, и бутылки были тут же раскручены и откупорены, а затем еще побежали четверо и протискивались сквозь кутерьму танцующих. И тут же девушки с цветами метали свои блюдечки на пол и сыпали певцу на плечи, и он держал полную горсть бутонов и с последней нотой швырял цветы обратно в зал, и кланялся, и смеялся, и пригубливал шампанское.
Я интересовался, а куда же девают потом все это море шампанского.
— Куда можно деть открытое шампанское? — ответил мне вопросом Никос.
Атмосфера разогревалась с каждой минутой. Оркестранты только успевали утирать пот. А тут еще вдруг незаметно позади танцующих оказались сразу шесть девушек — хор, те, что создают обычно певцу фон, фонят, «фонючки», можно сказать, — и эти фонючки не были еле заметным, в униформу одетым ансамблем, но каждая, видимо, сама была певица, и каждая оделась на свой манер, причесалась и держалась, как королева. Они вызвали тоже большой восторг у публики, и к одной, белокурой и загадочной секс-даме, и к другой, брюнетке с чуть высокомерно поднятым подбородком, после номера тоже побежали с шампанским и с цветами.
Ей-богу, я не заметил, как сам уже и хлопал в такт, и постукивал ногами, и посматривал на девчонку с браслетами: не позвать ли ее на танец. Никос и Аня не выдержали, ушли на эстраду, и белые Анины руки лебедиными шеями покручивались среди толпы.
Самое интересное, что это не были какие-то бурные безумные танцы из дискотеки, — танцевали под песни, а песни были как песни.
Но вот один и другой официант помчались на эстраду, неся в опущенных руках по длинной пирамиде тарелок, — в каждой стоике не менее тридцати, а то и больше. И так же как девушки метали цветы, начали метать под ноги певцу тарелки. В один миг все было свалено и перебито. Народ шумел от восторга. Мне тоже хотелось вскочить и что-то такое сделать.
Оказывается, есть три степени выражения признательности артисту: послать шампанское, осыпать цветами и бить тарелки. Тарелки специальные, глиняные, белые, но не обожженные, без глазури. Но тоже денег стоят. И для хозяина заведения, конечно, немало значит, сколько денег из публики выкачает восторг перед певцом.
Во всяком случае, все второе отделение, если можно так сказать об этом шоу, вел один этот певец, и ему натаскали столько тарелок, цветов, столько наоткрывали бутылок, что потом два парня-уборщика специальными швабрами, налегая изо всех сил, сгребали эти дары с площадки, чтобы народ мог танцевать дальше.
Я не заметил, как прошли два часа, потом три.
И вдруг наш певец, наша звезда оказался за столиком у наших соседок. Обнял их, посмеялся, улыбка не сходила у него с лица, и он оглядывался вокруг, как оглядывается знаменитость, привыкшая, что его отовсюду фотографируют. Никос сказал ему несколько слов, певец глянул на меня, и вот уже сидел рядом, и жал мне руку, и хлопал по плечу. Мало того, он говорил по-русски! Хоть и с трудом.
Через три минуты Пандазис — так его звали и так горела, оказывается, неоновая реклама со всех сторон нашего ресторана — был мне другом и товарищем. Выяснилось, он родился где-то под Ташкентом (в Греции немало встречаешь людей, которые жили в эмиграции в Советском Союзе, а потом вернулись на родину), уехал уже одиннадцатилетним мальчиком, кончил четыре класса в русской школе, помнит учительницу Галину Михайловну. Ну надо же!
— Я тут самый знаменитый певец! — с белозубой улыбкой хвастал Пандазис. — Видишь, как меня любит публика? Я зарабатываю по сто тысяч в вечер. Привет России. Сейчас я буду петь для вас.
Чего не бывает на свете. Веселый Пандазис легко взлетел на эстраду, и едва он начал, как вполне уже разогретый и заведенный народ ринулся опять в танец, и снова были бутылки, цветы, тарелки, и площадка заполнилась постепенно целиком. Теперь уже сами танцующие осыпали друг друга цветами, сами пели вместо исчезнувших «фонючек», и мужчины становились на одно колено, а партнерша каждого кружилась вокруг с поднятыми руками, играя ими, улыбаясь, смеясь, и переходила к другому, и возвращалась, а мужчины, стоя на колене, хлопали в такт и глядели снизу вверх с любовью на своих королев. И в зале хлопали, и я сам, хоть и сидел на стуле, но, безусловно, стоял тоже на колене, и хлопал, и глядел на свою снизу вверх. Вот это театр! Вот это был бузуки! Ай да бузуки!..
А Аня с Никосом привезли меня наконец в «Амалию» на рассвете, в пятом часу, мы все еще были возбуждены и не угомонились даже за дорогу (а Никос предлагал попить еще кофе где-нибудь на Плаке), и я их от души благодарил, и прощался с ними у стеклянных дверей, и махал им открыткой с улыбающимся Пандазисом и его автографом. Спасибо, Греция! И прощай!.. Я был растроган и счастлив, и душа моя отдохнула среди этих людей.
Но уже за дверями меня опять ожидала нимфа Тревоги.
СТАТЬИ
Три газеты
…Наводим с сыном порядок в субботу, пылесосим книги, разбираем ящики письменного стола, — большая радость порыться в отцовском столе, — и я слышу: «Пап, а это что за газеты? Старые, смотри. Выбрасывать?..»
Смотрю — сверху, с лесенки, где стою, с трубой гудящего пылесоса в руках, в залитом солнцем своем кабинете, — и сразу — другой совсем день, тоже солнце, дверь раскрыта на балкон, и с балкона, с шестого этажа, — вся Москва, от Рогожки до Зарядья, до Кремля; веет прохладный майский ветер, мигает зеленым глазком индикатора и разливается вовсю немецкая, уже трофейная радиола «Минерва»; утро, все еще дома, перед школой, перед работой, завтрак, чай пьем с подсолнечной халвой, но день особенный, все можно, и вчера был особенный, и позавчера, — о, а позавчера вообще! — да и весь месяц особенный, все время поют внутри, подымая душу, фанфары, прыгать охота, бежать, кричать, как вчера: «Ура! ура-ра!», а женщины ревут, слезы бегут по улыбающимся губам, а мужчины — как струны, и радио гремит и гремит: «…танкисты генерал-полковника Лелюшенко, генерал-полковника Рыбалко, генерал-полковника танковых войск Новикова, генерал-майора танковых войск Упмана…» А соседи уже с утра к нам, а мы к ним, и двери на лестничную площадку стоят настежь, потому что невозможно переживать это волнение в одиночку. И вот среди замечательного этого хаоса, неразберихи и свободы — секундная остановка, отцовская рука на плече или на голове, — стоп, стоп, обрати внимание, что я тебе говорю, запомни — и перед глазами моими обыкновенная газета, с е г о д н я ш н я я, и он говорит со значением: «На, возьми, спрячь и храни в с е г д а. И еще вот эти я тебе дам, тоже храни. Обещаешь?»
В 1945 году отец был еще совсем молодым, 35 лет. Он строил корабли, всегда работал на черноморском заводе, и вот только год, как мы переехали в Москву, отца перевели в наркомат, как тогда назывались министерства, он стал начальником. Раньше он ходил в гимнастерке с ремнем и в сапогах, а теперь стал носить специально сшитый в ателье китель или даже костюм с галстуком. За ним приезжала машина, и каждую субботу шофер Василь Тихоныч приносил пакет: «дополнительный паек», который давался сверх карточек. Там бывала вот эта самая халва и яркие длинные банки с мягкой американской колбасой, которые открывались особым ключиком: надо было вдеть торчащее на банке ушко в прорезь ключика и закручивать — как открываем мы теперь сардины.
Но отец оставался простым и веселым, по утрам делал зарядку и меня заставлял. Голый по пояс, обвязавшись по поясу полотенцем, брился опасной бритвой, густо намылив щеки, и умывался ледяной водой. Он любил подтягиваться на руках, ухватясь за любую дверную перекладину, а если ему попадался турник, то мог раскрутить «солнце». Когда у меня появилась младшая сестра, он сам укачивал ее, носил на руках по комнате и пел: «Где же ты, моя Сулико?..»
Я опускаюсь с лесенки, мы выключаем пылесос, раскладываем на полу три желтые, истертые на сгибах газеты: вот «Правда» от 10 мая 1945 года, а вот две «Правды»: от 22 и от 23 июня 1941 года.
— Скажи своему деду спасибо, — говорю я сыну.
Разумеется, я знал, что эти газеты хранятся в моем столе, но давно не держал их в руках. Но я помнил, что они всегда производили на меня новое и свежее впечатление, когда бы я их ни смотрел. Слава богу, что не пропали, никуда не делись за всю жизнь, несмотря на переезды, обмены и ремонты. Сохранил. Сберег. Отца нет уже почти сорок лет, а газеты остались. С е м е й н ы е д р а г о ц е н н о с т и. Еще храню я отцовские ордена да несколько писем и открыток, тоже военной поры. Вот и все, что осталось из в е щ е й.
По странному совпадению, сыну в этом году тоже двенадцать лет, как и мне было в т о м году, да еще родился он 9 мая, что заставляет его тоже по-особому относиться к этому дню.
Итак, брошен пылесос, брошены книги, остановилась наша уборка, мы сидим на полу и совершаем путешествие во времени, входим без всякого труда, словно в соседнюю комнату, в такое далекое и близкое прошлое. Память, дотоле неподвижная, пузырится, как открытая бутылка боржоми или шампанского. Сын видит мое волнение, понимает, как много связано у меня с этими старыми газетами, старается вникнуть, но для него это, разумеется, лишь урок истории, и взятие Праги 9 мая 1945-го, в четыре утра, для него такая же даль, как Бородино или битва при Фермопилах.
Пузырится память, лопаются почки т о й весны, и я вдруг вспоминаю: было два салюта в тот вечер, первый за Прагу, второй за Победу, — да вот и газета это подтверждает. «Тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий». Так и слышу поднимающийся до самых высоких модуляций голос Левитана: «…из тыся-чи!!!» Боже ты мой, разве не вчера это было?.. «Вчера наш великий народ, народ-победитель праздновал день полного торжества своего правого дела». Вот газета, первая полоса, обращение Сталина к народу, его портрет в форме генералиссимуса, но с трубкой в руке. Рядом портреты Черчилля и Трумэна и, кроме того, внизу фотография с Тегеранской конференции, где сидят в креслах Сталин, Черчилль, а между ними элегантный, в штатском костюме Рузвельт, — дань памяти американскому президенту, так много сделавшему для содружества борцов против фашизма и не дожившего до победы меньше месяца.
Сын, конечно, делает вид, что знает этих людей, но, разумеется, не знает, приходится рассказывать. Рассказываю и думаю про себя: о ком в мире мы в течение сорока лет еще так много говорили, писали, с кем были на постоянной связи, — то как друзья и братья по оружию, то как противники и враги? И о ком они ни на минуту не забывали сорок лет? Парадокс, но за всю историю СССР и США никогда так не были близки друг к другу, так взаимно друг в друга не проникали, как теперь. Словно притянулись сами континенты. Выросло гигантское историческое древо взаимоотношений, плохих и хороших, — налицо все его плоды, корни, разветвления, сплетения и отростки и его в о з м о ж н о с т и. «Живи и жить давай другим», — написано на гербе Соединенных Штатов.
Рассказываю сыну о британских караванах, которые шли из Англии в Мурманск, о военном братстве летчиков и моряков, об американских «студебеккерах» и «виллисах», месивших белорусскую и прусскую грязь; о встрече на Эльбе; о той американской колбасе, о которой я уже упоминал. И ребенок никак в толк не возьмет: ну почему же на войне были друзьями, а в мирное время стали врагами?
Я спрашиваю его, как он вообще относится к Америке. Он говорит: хорошо, но зачем они хотят на нас бомбу бросить?.. И я вспоминаю, как задал тот же вопрос одной американской школьнице: мол, как она относится к русским? И она сказала: хорошо, но зачем они хотят бросить на нас бомбу?..
Но перевернем страницу. Здесь опять выступления Черчилля, Трумэна, приказы Верховного Главнокомандующего, оперативная сводка за 9 мая, где сообщается, какие немецкие части сдаются, складывают оружие, а какие еще сопротивляются. И сказано, что в Австрии войска 3-го Украинского фронта соединились с американскими войсками в районе Амшеттена.
Здесь же указ об учреждении медали «За победу над Германией», ее описание и рисунок. Мы с сыном тут же достаем из ящика красные орденские коробочки и находим в них такую медаль живьем — латунь ее чуть потускнела, муаровая черно-оранжевая ленточка как новенькая: отец почти и не успел ее поносить.
Но медаль медалью, а еще больше привлекает следующая полоса. На ней уместились двадцать два портрета: все наши маршалы и военачальники, полководцы Великой Отечественной: Жуков, Василевский, Ворошилов, Тимошенко, Буденный, Мерецков, Говоров, Рокоссовский, Конев, Малиновский, Толбухин, Воронов, Федоренко, маршалы авиации Новиков и Голованов, Воробьев, Пересыпкин, адмиралы Кузнецов, Исаков. И тут же снова союзники: Эйзенхауер, Александер, Монтгомери.
Сын беспрестанно спрашивает: «А это кто? А это кто?..» А я, к стыду своему, о ком-то много могу рассказать, а о ком-то уже ничего. Хотя читал, знал. И я валю с полки военные мемуары, хватаюсь за тома энциклопедии. И снова и снова вглядываюсь: какие молодые лица! Неужели были такими молодыми? Тот же Рокоссовский, Новиков, Кузнецов?.. Да, справочники подтверждают: молоды. Потому что рано выходили «на рысях на большие дела». Потому что в революцию, в войну качества л и ч н о с т и и талант выдвигают людей вперед, а не анкета или усредненный возрастной ценз.
О Жукове сын знает, слава богу, слышал, читал. Но не знает, например, что Жуков брал Берлин, подписывал от лица Советского командования акт капитуляции Германии. Сын всматривается в знаменитый, ставший историческим снимок военкоров «Правды» Рюмкина и Темина, где Кейтель подписывает акт капитуляции. Горит над столом большая люстра, на стене торчком, как на фасаде дома, флаги союзников, стол длинный, на столе графины, микрофоны, бумаги, папки, ручки, коробки папирос, видны высокие спинки кожаных стульев с медными шляпками обивки. И в центре стола сидит маршал Георгий Константинович Жуков, повернув голову влево, в жестком военном воротнике, сурово смотрит на чопорного фельдмаршала Кейтеля с ненарушимо-аккуратным пробором и моноклем в глазу, столь нелепым в ту минуту. Да, это он, Жуков, взял Берлин и, можно сказать, приволок за шиворот фельдмаршала к этому столу.
И снова здесь союзники: маршал Теддер, генералы Спаатс и де Тассиньи, а вокруг снимка, на полосе газеты — сообщения из-за рубежа: из Сан-Франциско, где устроен большой прием для делегатов ООН; из Лондона, где Черчилль посетил с поздравлениями советского посла (а в Москве, в ВОКСе, как называлось раньше Общество культурных связей с заграницей, устраивался прием в честь г-жи Клементины Черчилль, которая в это время находилась в Москве как председатель британского комитета «Фонда помощи России»). Тут же приведено обращение английского короля к народу по случаю окончания войны. И между прочим, там есть такие слова, которые не грех процитировать и сегодня: «Мы испытываем большое утешение при мысли, что годы мрака и опасности, в которые выросли наши дети, навсегда (мы молим Бога, чтобы это было так) миновали. Наши надежды окажутся обманутыми, и кровь наших близких будет пролита напрасно, если победа, во имя которой они погибли, не приведет к длительному миру, основанному на справедливости и созданному в духе доброй воли».
Сколь многое в этом дне было спроецировано на далекое будущее.
Маленькая заметка сообщала о том, что пойманы и взяты в плен Геринг и Кессельриг, командующий германскими войсками на западе. А речь американского президента Трумэна не столько была посвящена факту наступившего мира, сколько дышала ненавистью к Японии, которая еще воевала против США, — эта речь уже отдавала Хиросимой.
Все эти сообщения соседствуют с литературой и искусством: в номере стихи Суркова, Щипачева, Маршака, Демьяна Бедного, статьи Эренбурга и Рябова. Примечательно, что литература занимает столь много места в этом историческом номере: всю войну велика была потребность, н у ж н о с т ь стихов и песен, человеческая душа искала ф о р м у л и р о в а н и я своих высоких и трагических чувств и легко отзывалась на искреннее слово. Маршак написал: «Победа наша. Сколько дней / В промозглой сырости походов, / В горячих мастерских заводов, / В боях мы думали о ней. / И вот гремят ее раскаты, / Москва ликует в этот час / Как будто затемненье снято / С открытых лиц, счастливых глаз».
Да, снято, снято, и на концерте в этом самом ВОКСе выступают Ойстрах и Образцов, поют Шпиллер и Виноградов. В Большом театре идет «Лебединое озеро», в филиале Большого (где теперь театр оперетты) — «Травиата». Да, кажется, что все пели тогда, все танцевали, кружились, как дети, взявшись за руки, под простую гармошку или трофейный аккордеон.
Как ни странно, именно отсюда оттолкнувшись, от искусства, мы перешли к другим двум газетам, ступили в иное время, в жизнь, еще по-настоящему мирную, неомраченную. Что шло в театрах 22 июня 1941 года? Что смотрели, чем жили? Ведь газета версталась накануне, 21-го, когда никто ничего не знал, все собирались, как мы это делаем теперь, поприятнее провести свой выходной, и даже не верится, что на газете стоит эта роковая дата: «22 июня», когда гад с автоматом сапогом выбил дверь в наш дом.
«Сегодня в театрах», «В парках и садах», «Сегодня в кинотеатрах».
В Большом — ничего, в филиале днем (ведь воскресенье) — «Демон», а вечером — «Ромео и Джульетта», премьера, опера Гуно. Во МХАТе днем — «Синяя птица», вечером — «Анна Каренина».
— Неужели «Синяя птица»? — закричал сын, который был на этом спектакле не так давно.
— Эта самая, эта самая. (Право, не зря говорится: жизнь коротка, искусство вечно.)
А вот у вахтанговцев утром «Фельдмаршал Кутузов», — должно быть, кстати оказалось, — а вечером тоже премьера — «Маскарад». Ведь наступил лермонтовский юбилей, 100-летие со дня гибели, и в газете, на другой полосе, мы увидим статью о «Бородине» — чью? — ну конечно, Андроникова.
Приехавший в Москву на гастроли Украинской театр имени Ивана Франко показывал «Ой, не ходи, Грицю, та на вечерници», а в Камерном выступал ансамбль еврейской оперетты. В «Эрмитаже» конечно же Утесов, а в Зеленом театре Парка культуры — джаз Цфасмана. И там же, в парке, цирк шапито давал за день аж четыре представления с «большим иллюзионным аттракционом Клео Доротти» и обещал: «на днях — человекообразная обезьяна Чарли». Лекторий МГУ приглашал на встречу с писателем Л. Оваловым, слушать неопубликованные главы из «Рассказов майора Пронина».
Сын хотел, чтобы я вернулся к Дню Победы, рассказал ему подробности, которые помню, но я впился в «мирную» газету и находил в ней все новую и новую пищу глазам и сердцу. Господи, в кино шли и «Танкер «Дербент», и «Фронтовые подруги», и «Путевка в жизнь», и «Чапаев», и «Красные дьяволята», и «Парень из тайги». Удивительно, эти фильмы нашего детства сопутствуют нам всю жизнь, и пришли к нашим детям, внукам, и все живы!.. Даже мурашки по коже, какая с ними связана жизнь, — совсем другая, мирная и веселая, хоть и со своими тяготами, о которых мы, дети, разумеется, мало знали тогда. Другая, но словно бы все та же, н а ш а, со всеми ее признаками, заботами, нелепостями, делами великими и малыми. Впору то смеяться, то плакать, то изумляться тому, что похоже.
Передовая. «Народная забота о школе». Прямо-таки сегодняшняя передовица. Из нашей прошедшей морозной зимы: «Не должно быть ни одного случая, когда бы ребята сидели на уроках в шубах… нельзя допустить ни одного срыва занятий из-за отсутствия дров».
Пленумы Московского и Ленинградского горкомов партии рассматривали хозяйственные вопросы; в Йошкар-Оле праздновали 20-летие Марийской АССР, ленинградская фабрика «Скороход» перевыполнила полугодовой план и выпустила 10 336 тысяч пар обуви; и московская «Парижская коммуна» тоже; и табачная фабрика «Дукат», и ленинградская имени Урицкого. (И никто не знал, что вчерашняя пачка «Беломора» будет докурена уже в день войны.)
На полях Орджоникидзевского края началась уборка ячменя, — опять же никто не подозревал, какая нас ждет нынче страда, — а в иных местах медлили с сенокосом, и газета тревожилась: «Травы перестаивают». Одна статья призывала: «Сахарной свекле — образцовый уход», другая доказывала: «Восстановление старого инструмента — большое хозяйственное дело».
Сообщалось: об открытии в Киеве нового стадиона имени Хрущева на 50 тысяч мест, о подготовке к Дню Военно-Морского Флота в Архангельске, ходе работ на строительстве Большого Чуйского канала в Киргизии, о идущем в Ростове шахматном турнире, о смерче на Черном море в районе Сухуми.
Наша обычная, привычная, нормальная жизнь. Наш образ жизни.
Гитлер потом придумает «юридическое» обоснование для своего бандитского влома к нам: дескать, СССР сосредоточил войска на германской границе, готовился напасть на Германию. Зло всегда ищет маску добротворца.
Да, мы готовились. Вот и газета подтверждает: «Трудовая доблесть и военная храбрость — родные сестры». Даже о «Бородине» Лермонтова Андроников рассказывал не без подтекста. Но мы никогда не готовились к н а п а д е н и ю, к вероломству агрессии, — мир наших будней доказывает это лучше всего. И к сожалению, мы по себе судили о других, не верили, не хотели увидеть реальность такою, как она есть, а не в розовом свете наших о ней представлений.
А война уже шла, мир трещал по швам, бумажную маску прорывали железные усы. Вот международные сообщения за 22 июня: германская авиация бомбит английские города и топит корабли в море, англичане и французы бомбят немцев и итальянцев в Северной Африке. Военные действия в Сирии, Ливии, Египте, Абиссинии. Дамаск занят англичанами, и идет эвакуация мирных жителей из Бейрута — да-да, из Бейрута!
Щупальца войны тянутся в экономику, в торговлю, душат культуру. Англия — недостаток угля, Венгрия — вводятся карточки на продовольствие, Япония — не хватает бумаги, Египет — нашествие саранчи. В Бразилии уничтожают кофе, уже сожжено 71 427 мешков. Обостряется война в Китае.
Сообщение из США: военное министерство обязало школу парашютистов в форте Беннинг (штат Джорджия) готовить 1 400 парашютистов ежегодно, ибо в данное время армия США имеет всего один батальон парашютистов.
Вот так начинается мировая война.
Люди заняты своими делами, у каждого их хватает, все мы в меру беспечны и благодушны, и, если где-то что-то гремит, горит, нам всегда кажется: это далеко, это нас не касается. Чудище войны откладывает свои яйца по всему миру, и, если н и ч е г о н е д е л а т ь, из каждого яйца рано или поздно выползает дракон войны.
Но с другой стороны, человек устроен так, чтобы думать о жизни, а не о смерти, почему надо каждый день колотиться в истерике по поводу проклятых бомб и ракет, как выдержать такое напряжение?
Или как, например, непосвященному разглядеть знак, который определит почти все будущее, в такой, например, заметке, по странному стечению судьбы тоже напечатанной в этом же номере от 22 июня: «В Лесном (под Ленинградом), на территории физико-технического института Академии наук недавно построено двухэтажное здание, похожее на планетарий… это первая в Советском Союзе мощная циклотронная лаборатория для расщепления атомного ядра». Наш первый циклотрон.
Сын понял, что меня не оторвать от этих газет, а ему, я видел, уже стало скучно, внимание рассеялось. «Сейчас, сейчас, — говорил я ему, а сам продолжал читать, вникать, волноваться. — Ты пойми, пойми…»
Вот так же, должно быть, мой отец хотел, чтобы я п о н я л, а что же я мог понять по-настоящему?..
Вот другой номер «Правды» — «Понедельник. 23 июня 1941 года». Он еще чем-то похож на предыдущий, в нем есть еще заметки о том же Лермонтовском юбилее, и о турпоходах, но на первой полосе, в газетной шапке уже стоят г л а в н ы е слова: «Фашистская Германия совершила разбойничье нападение на Советский Союз. Наши доблестные армия и флот и смелые соколы советской авиации нанесут сокрушительный удар агрессору… Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».
И напечатана самая первая «Сводка Главного командования Красной Армии»: «С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря и в течение первой половины дня сдерживались ими…»
Все мирное, милое, веселое будет уходить теперь из жизни с каждым часом, стремительно, как кровь отливает от лица. Демон войны вырвался и взвился надо всем на свете. Указы, указы. О мобилизации, о введении военного положения, о военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положении. Митинги, митинги. На московских заводах — на «Серпе и молоте», на подшипниковом, авиационном, на автозаводе, на комбинате «Красная роза». Митинги в Баку и Тбилиси, Риге и Кишиневе, Таллине и Петрозаводске. Еще не все осознали, еще кажется: враг будет отбит и отброшен через месяц-другой. Но работницы с «Серпа и молота», что видны на (фотографии заводского митинга — береты, береты, косынки, — в основном они на переднем плане, тоже словно знак предстоящей им роли в тылу, — женщины уже сосредоточенно-невеселы, стоят тяжело и плотно, и дума их нелегка. Они словно чувствуют: многим уже не отойти от этого дня никогда.
Я всегда думаю (и даже уже писал где-то об этом): почему ветеранами считают лишь тех, кто прошел фронт, кто служил в армии? А женщины? А дети? Те, кого бомбили? Кто перенес оккупацию? Кто эвакуировался? Не хочу сказать ничего плохого, пусть поймут меня правильно, но я никогда не сравню военные годы какого-нибудь офицера, человека взрослого, опытного, профессионального военного, делавшего свою работу, скажем, в тыловых или штабных условиях, и военные месяцы ленинградских детей и женщин-блокадников, или детей Украины, или женщин, потерявших мужей, детей, родных. Кажется, кто был в сорок первом (и даже в сорок пятом) в материнской утробе, и тот уже ветеран, потому что в крови у матери была война…
Но нет, это другие дни, и память об июне 1941-го другая, хотя стоят они рядом — первый день войны и последний, — точно так, как лежат вместе эти газеты. Все-таки вернемся к Дню Победы, к дню свободы, как я зову его про себя. В сознании моего сына 22 июня как бы отлито в монумент, удалено в прошедшее, а 9 мая (может, оттого, что он привык праздновать его каждый год) — день живой, осязаемый, который будет и на следующий год тоже. А 22 июня не будет, не может быть. И поэтому ему этот день и воспоминание о нем как бы не нравятся.
И тогда я опять рассказываю ему о 9-м, что помню: о салютах, о том, как всех влекло на улицу, где незнакомые люди обнимались и плакали и останавливали друг друга. Можно было заговорить с каждым, — да, в этот день все было можно. Тогда сильнее была привычка жить сообща, на виду, всем вместе, и днем народ еще работал, промышлял, как обычно, насчет харчей, сновал в толкучке рынков, вис на трамваях, но к вечеру всех повлекло по майской погоде к центру — словно древний праотцовский инстинкт всех москвичей на Пожар, на Спасскую, как когда-то называлась наша Красная площадь и куда предки наши сбегались от всех застав, — когда ставить царей, а когда сбрасывать, когда на драку, а когда на ярмарку, когда лобызать святую икону, а когда и ограбить свят-оклад… Все ждали торжественной речи вождя, это тянулось до вечера, а потом уже хлынули, пошли, и двигались и с набережных, и с Манежа, с улицы Горького, все было забито, а небо полосовали прожектора, и в их перекрестье сияло полотнище с портретом, поднятое на таком же аэростате заграждения, какие поднимали в дни обороны города. Меня отпустили с соседской девчонкой Майкой, девятиклассницей, и с нами пошли другие ребята — соседи по лестнице, по дому, по двору. Трамваи до центра уже не ходили, мы пробирались пешком, ввинчивались в толпу, а толпа, соединяясь, становилась праздничной, все более вольной, с шутками, прибаутками, песнями на пятачке. Старались или качать, бросая в воздух, военных, или обступали, обнимали, а их было сравнительно немного, и, конечно, совсем, наверное, мало тех, что прямо с фронта. Но все равно ко всякому, кто в форме, люди теплели и старались выказать радость и привет.
С набережных вверх, к Василию Блаженному, было почти не протолкнуться, но мы все-таки пролезли, — толпа была добра, нас, детей, никто не осаживал, не ругал, и мы вылезли к самому Минину и Пожарскому, и меня, как меньшего, подсадили на камень пьедестала, где уже и без того было тесно. И оттуда можно было окинуть всю площадь, море голов, огней, марево дыханья и табачного беспрестанного дыма, как бывает над стадионом. И хотелось петь, кричать, взлететь вместе с огнями фейерверка в воздух, и мы пели, кричали, вопили: «Ура-а!»
А меня еще распирало оттого, что я раньше знал, вчера еще знал и даже позавчера. Вот это и был наш с отцом секрет, его мне подарок, хоть и нечаянный. Люди, конечно, и 8-го вечером знали, и тоже ходили под Кремлем, и видели, что в американском посольстве, что было возле «Националя», уже шумят и празднуют и выкрики вают поздравления, но таких было немного. А вот мы с отцом и вовсе узнали обо всем ночью 7-го!..
Я уже говорил, он был начальником, работал в наркомате, днем приезжал домой обедать, и машина ожидала его внизу. А после обеда он иногда ложился поспать на полчаса или час, и тогда я выбегал, чтобы отпустить Василя Тихоныча, шофера. Дело в том, что все начальники работали тогда ночи напролет, иногда до трех-четырех утра, потому что так работали в Кремле, и вдруг кто понадобится. Но если раньше эта суровая ночная служба, еженощное дежурство, была на самом деле суровой и необходимой, то теперь настроение переменилось, строгость была не такая, и брали свое апрель, усталость, победное настроение, молодость, жажда скинуть с себя войну. Во всяком случае, я пронюхал, что вечерами и ночами у отца в наркомате стали крутить, например, американские, английские и немецкие трофейные фильмы, и один раз нечаянно проник в их кинозал. А потом уж старался это дело повторить.
В наркомате, в подвале, была еще душевая. Просторная, большая, почти всегда пустующая. А дома с мытьем было непросто: или надо отстоять часа три в хвосте в баню, или дома колоть чурки, топить высокую колонку, ждать, когда колонка согреется, и пускать воду экономно, а то не хватит и вымыться.
И вот я повадился к ним в душ. Стараешься приехать попозже, когда основная масса служащих уже ушла, чтобы не особенно-то видели, что чей-то мальчишка болтается по учреждению на ночь глядя. Из проходной позвонишь отцовской секретарше, она позвонит вниз вахтеру: мол, пропустите мальчика. Пройдешь, и сразу в подвал. И вот начнешь мыться. Моешься, моешься, час, другой, уже носом начинаешь клевать; и трусы уже выстираешь, и майку, и носки, а все опять лезешь под душ, особенно если заслышишь чьи шаги. Наконец надо выходить. Идешь потихоньку, пробираешься в отцовский кабинет. И хорошо бы тебя не заметили, в том числе и отец… Туда придешь, чистенький, с мокрым чубчиком, там над тобой умилятся: какой мальчик, какие веснушки! А на кого же он похож? Вылитый папка. И нальют тебе в стакан с тяжелым подстаканником сладкого багряного чая с кружком лимона, и дадут бутерброд с сыром или несколько печений «пети-фур». И ты держишься скромно, тихо, вежливо, но сидишь и сидишь, тянешь и тянешь время, пока по быстрым телефонным переговорам, по намекам не поймешь: скоро начнут «крутить», и кто свободен, те отправятся в зал.
Тут надо сделать вид, что ты уходишь, говорить «спасибо», откланиваться, отказываться от того, чтобы кто-то из дежурных шоферов тебя отвез домой, и быстро, быстро, уже известной тайной дорогой дуть в зал. Но не в самый кинозал, а на балкон, где никого не будет, и там таиться до тех пор, пока не погаснет свет… Вот так я тайком поглядел разные замечательные фильмы: и «Белоснежку» Диснея, и «Пять гробниц по дороге в Каир», и «Майора и малютку», и разные другие диковины, которые в наших кинотеатрах никогда не шли.
Так было и в ночь на 8-е мая. Начался фильм, я стал коленями на стул на балконе, уперся подбородком в бархатный барьер, взглянул вниз. В темноте зала, в свете кинолуча видно было голов двадцать в рядах, не больше. Намывшись и напившись чаю, я почти засыпал, а там, на экране, что-то все пели, танцевали, катались на коньках. Но вдруг внизу кто-то открыл дверь, крикнул, все стали вставать. А фильм шел, гремела музыка, женщина, вся из ресниц и губ, пела, сияя зубами, но что-то случилось, и, хотя в зале все так же было темно, мужчины выбирались из рядов, хлопали сиденья деревянных стульев, голоса звучали громко, уже перекрикивая певицу, и иллюзия фильма погасла, он ужался в свой экран (а сейчас только заполнял весь зал), и главной стала открытая внизу дверь из зала, освещенная снаружи, — в нее-то и выходили, едва не теснясь, и возле нее обнимались и взмахивали руками и стремились куда-то. Стали кричать механику, чтобы остановил аппарат, и наконец свет вспыхнул, кино погасло.
Я уже почти догадался, почти понял: это что-то т а м случилось, где происходит самое главное, — это не зря весь апрель был такой, и май, и год, и салюты чуть не каждый день, — война кончается, братцы, подыхает эта война, и мы победили… Зал опустел вмиг, и я понесся вниз по лестнице и все еще боялся натолкнуться на взрослых, но пустое здание уже звучало смелыми голосами, открывались двери, кто-то громко смеялся, чего не слыхивали обычно в этих коридорах. А я был в пальто, в одной руке шапка, в другой банный сверток со стираными трусами и носками, надо бы, как я делал обычно, пробраться к машине, спрятаться там на заднем сиденье — пусть поворчит Василь Тихоныч, пусть отец скажет потом: «Это что еще за штуки? Ты знаешь, который час? Чтоб я этого больше не видел!..» — и я промолчу, мы поедем, и все обойдется.
Вот и теперь вроде бы надо было скрыться, но я не мог. И я шел по одному коридору, по другому, на меня не обращали внимания, перебегая из двери в дверь, кто со смехом, кто со слезами. А потом я увидел отца в группе других мужчин, в коридоре, перед раскрытыми в чей-то важный кабинет дверями, — они стояли группой человек в десять, курили, говорили громко, кто-то шел туда, оттуда. И кто-то показал, наверное, отцу на меня, он повернулся — лицо у него было полно свободы и смеха, и я уже не боялся. И в самом деле он сам побежал почти ко мне и схватил на руки, оторвал от пола: «Мишка! Мишка! Победа!.. Победа!..»
И ничего, что ночь, что суровый коридор, что все взрослые, а ты один малыш, — нет, все можно, товарищи, все можно, победа!..
И мы едем потом ночью по мокрой от дождя Москве, я сижу у отца под боком, прижавшись, на переднем сиденье, он все что-то говорит, говорит, не может уняться, уже не ночь, а почти рассвет, щетки мотаются по стеклу, лужи блестят уже оловянно, он все что-то хочет внушить мне, втолковать, все хочет, чтобы я понял, чтобы я запомнил, — ему, должно быть, кажется, что я не понимаю, не запомню, не перейму то, что хочет он, чтобы я перенял…
Ну вот и все. Потом мы опять с сыном пылесосим книги, заканчиваем нашу уборку, умываемся и одеваемся, Я складываю драгоценные наши газеты в новую, пластиковую, уже вполне современную и симпатичную папку и говорю сыну:
— Видишь, куда я их кладу? Запомнишь?
И он кивает небрежно, он насвистывает, он дает понять: мол, все ясно, старик, не нажимай больше, я понял. Он кидает маленький мячик в стенку и ловко ловит его. Ну что я волнуюсь, в самом деле. Запомнит.
Бессмертие Чехова
…Закат, майские тучи, мокрая после ливня трава. Мы рулим своей огромной и послушной машиной по блестящим дорожкам, все густо прилипли к окнам, а снаружи — ни души, буквально ни души на всем огромном пространстве аэрополя, вплоть до гигантского колизея аэровокзала де Голль, — только самолеты и ярко разноцветные, умытые дождем машины и механизмы, в которых тоже не видно водителей, и потому кажется, что это роботы. Ощущение, что прибыли на другую, безлюдную планету, только трава и облака похожи. Суббота.
«Мы» — это группа писателей-туристов из Москвы, почти никто не бывал во Франции прежде, а я был очень давно и сразу отмечаю новое: и самый этот аэропорт, и низкие коробки новых построек «Ситроена» и «Рено» по дороге к городу, и чистое, ухоженное шоссе, украшенное горящими в сумерках указателями, — если бы шоссе со всеми его развилками поставить вверх, как новогоднюю елку, оно бы оказалось и нарядно, как елка. И ночуем мы в «нуово-отеле» в чистеньком городе-спутнике, тоже безлюдном и новом, и утром птицы поют незнакомо, и из окна, со второго этажа, видна на зеленой лужайке двора одинокая цветущая вишня — такая аккуратная, что кажется искусственной. (Но мысли или напоминания о Чехове, о «Вишневом саде» еще нет и в помине).
Потом мы увидим еще много нового: дорог, построек, отелей, театральных зданий, нас повезут в Ла Дюфанс, маленький парижский Манхаттен, новый город в старом, где было приказано строить дома так, чтобы не оказалось двух одинаковых, и теперь здесь есть небоскребы круглые, как трубы, или ступенчатые — пирамидами, или развернутые книгой, с круглыми и треугольными окнами, синие, розовые, зеленые. Веселый и причудливый квартал, словно выстроенный не взрослыми, а детьми из разноцветных кубиков, для забавы. Но не думаю, чтобы в нем людям жилось по-другому, нежели в старом Париже.
Потом мы увидим еще и центр Помпиду, Бобур, музей современного искусства, тоже забаву и диковинку, о котором так много писали, — это дворец из бетона и стекла, опутанный трубами собственных коммуникаций, вынесенных изнутри дома наружу: голубые трубы — воздух, синие — вода, желтые — электроэнергия и так далее. Все равно как если бы все наши жилы и сосуды взяли и пустили поверх кожи… О Бобуре судачат и насмешничают и по сей день, но народ валит валом, и, говорят, его посещает больше людей, чем все музеи Парижа, вместе взятые. Смотришь и думаешь: его называют домом XXI века, как сто лет назад символом нового века называли Эйфелеву башню. Башню тоже все осуждали, смеялись, и триста виднейших деятелей культуры писали петицию против ее строительства. Но башня победила, подавила собою все предрассудки и всех оппонентов и даже стала символом города. Все так, но я думаю, что это произошло потому, что пришла она в Париж все же не из будущего, а из с в о е г о времени. Сегодня, сто лет спустя, она выглядит вполне старомодной, точно старинная иллюстрация к Жюлю Верну. Во всяком случае, сегодняшние башни совсем другие, а Эйфелева осталась памятником п р е д с т а в л е н и я о будущем. Должно быть, и Бобур через сто лет покажется старомоден, и жизнь усмехнется над «домом XXI века». (Я пророчествую, что к концу XXI века каждая семья захочет жить на природе в отдельном домике).
В музее народ движется по эскалаторам с этажа на этаж, смотрит стоя фильмы сразу на трех экранах, в залах в основном Кандинский, Ларионов, Шагал, Архипенко, Гончарова, Пикассо, Брак, Дали, Утрилло — то есть все те художники, которыми был начат век и которые теперь ближе к Эйфелевой башне, чем к нам. Конструктивизм, кубизм, сюрреализм быстро переходят (если не сказать вырождаются) в абстракцию, и в последнем зале экспозиции так и хочется повесить гигантский знак вопроса с многоточием: что дальше?..
Вокруг искусственного Бобура шумит естественная жизнь. На площади перед ним — это стало уже традицией — идет охмуреж туристов: продаются сувениры, составляются гороскопы, выступают самодеятельные и профессиональные артисты, кто во что горазд: показывают фокусы, глотают огонь, тасуют картишки, поют и пляшут. Сквозь стеклянную стену, примерно с высоты четвертого этажа, повернувшись спиной к залу абстрактной скульптуры, гляжу то на паяца с ключом в спине, которого другой заводит, как игрушку (боже, какой старый номер!), то на гиганта-негра с голубым херувимом на плечах — акробатически-эротический этюд, то на оркестрик, где один музыкант играет, например, на унитазе. Шоколадный йог то и дело вскакивает со своих гвоздей, нервно плюет и кричит прямо в лицо полукругом стоящей публике, что он не намерен страдать из-за каких-то восьми вонючих франков, которые накидали ему в тарелочку.
Я смотрю с улыбкой на этих бродяг, на цыган, на бородатых астрологов и вырезывателей вашего профиля из черной бумаги, — это старинный и вечный Париж, это знакомо, это человеческое. Там, где давно не был, ищешь не новое, а старое, знакомое.
Я хожу потом по Лувру и Версалю, по соборам и кладбищам, мы совершаем почти обязательный туристический ритуал, и, право, это не так плохо, как мы привыкли об этом говорить. Нам предъявляют историю и культуру Франции, нам предлагают сверить наши представления с действительностью, взглянуть заново на то, что кажется незыблемым и однозначным. И вы разочаровываетесь или убеждаетесь, открываете известное, как неизвестное, — искусство, одно искусство, его абсолюты, мысль о них, наслаждение ими, работа осмысления, сопоставление и сравнение идут час за часом, и какое, в конце концов, глубокое наслаждение получаешь от соприкосновения с этими сокровищами и сокровищницами. В чем секрет Джоконды? В в ы р а ж е н и и. Это не просто портрет женщины такого-то века, в таком-то туалете, на таком-то фоне, — все это вы постепенно забудете, — но ее с в е ж е г о, схваченного мастером выражения вы не забудете и не спутаете с другим никогда. Богиня Ника есть высшая точка в искусстве скульптуры, — не зря она и стоит высоко, — кажется, ничего лучше сделать нельзя, да, наверное, и не было сделано. В ней — восторг, майское утро, она похожа на звук фанфары и на мой детский крик: «Ура! Победа!» Все это понятно к а ж д о м у без перевода и пояснений и может быть воспринято каждым — вот что удивительно. Египетская священная кошка, кормящая котят, точно так же похожа на египетскую Исиду, кормящую грудью младенца, как Исида похожа в свою очередь на Богоматерь с младенцем — Христом. Все это — один и тот же ч е л о в е ч е с к и й опыт, психология, нрав, жизнь, красота жизни и покой смерти.
Люди гонятся за б л а г а м и цивилизации, всем нужны штаны и часы, но что же э т о? Это-то что? Все эти предметы, картины, рельефы, обломки, ювелирные штучки, — предметы, не имеющие утилитарной полезности и потому не имеющие, в сущности, стоимости, — что это? Зачем к ним-то валят толпы? Это — ц е н н о с т и. Есть блага и есть ценности. Блага современному человеку очень понятны, ценность ценностей подвергнута ревизии. Старая культура и новая эпоха.
Я сам ловлю себя на том, что все время п р о в е р я ю что-то в себе самом, в своем отношении к нетленным памятникам, вижу их чьими-то еще, не только своими, глазами. На эти памятники опирается вся наша (европорожденная, во всяком случае, или, научно говоря, индоевропейская культура). А я смотрю и вроде бы прикидываю: живо ли это? а нужно ли? а не преувеличиваем ли мы, деятели культуры, р о л ь культурного наследия и его в л и я н и е на н о в ы е поколения?
В любом музее вы увидите маленьких девочек и мальчиков, школьников, которые бродят по залам во главе со своими учительницами рисования. У каждого ксерокопии известных картин с вопросами: что ты видишь на этой картине? видишь ли ты то-то и то-то? понял ли? — и так далее. Смотришь на этих ребятишек, на то, как они щебечут, рассаживаются прямо на полу со своими копиями, и умиляешься.
Но с другой стороны, многое ли они п о й м у т? И не эти ли самые дети, чуть выросши, будут сидеть у «видео» и глотать только кинодетективщину, заводить дикую музыку и вешать у себя на стенке Джоконду с усами, как у Дали, или Джоконду в бикини?
Толпы туристов дежурно бегут по залам и толпятся у картин, но в и д я т ли они их?
Старый мир был похож на старую географическую карту: вот Париж, вот Лондон, Рим, Афины, Стамбул, Петербург. Все. Остального, мол, или нет, или оно не имеет значения. Теперь сморщенный баллончик раздут в свою истинную величину, в гигантский шар, на котором ч е т к о видны все континенты, все страны и все… проблемы. Мир огигантел. Америка, Африка, Азия — СССР, США, Китай, Япония, Великобритания, Индия. Европу сжали со всех сторон проснувшиеся континенты. Каждая национальная культура справедливо выбросила свой флаг и им размахивает. В самом деле, чем храмы Индии хуже Парфенона или «Владимирская богоматерь» — любой другой европейской иконы XII века?..
Но если бы дело было только в этом. Великое движение пролетариата за равноправие и свободу показало (впервые еще во Франции), что лозунг революции «Долой!» касается и старой культуры. В наследии разбираются потом.
Одним из памятных мне мест в Париже был музей Родена. Я отправился туда с трепетом, ходил по нему с грустью, вышел опечаленный, как после встречи с первой любовью тридцать лет спустя. Но дело не в этом. Мы вышли, по небу неслись майские тучи, а по улице — гром, крик и вой. Кордон полицейских зашвырнул нас обратно в переулок. По улице катилась демонстрация, катилась вспять, гонимая полицейскими (или переодетыми солдатами) в касках и полицейскими воющими машинами. Нас предупреждали: прятаться в таких случаях, куда угодно и побыстрее, потому что ни демонстранты (в основном молодежь), ни полиция не щадят никого, кто попадется на пути. Среди демонстрантов было много темнокожих — арабы, турки, африканцы, они заполняют сегодня парижские улицы, как никогда прежде, — и по их яростным лицам, лицам восставших и терпящих поражение рабов, нетрудно было понять: дай им сейчас волю, и они разнесут нас всех — вместе с нашими автобусами, полицией и музеем Родена в придачу.
Я ничего плохого не хочу о них сказать, но что им в самом деле Роден? Волей судеб они — рабы-варвары, живущие среди роскошеств Древнего Рима. Не совсем «рабы», не совсем среди «роскошеств», сделаем сноски и коррективы, но все равно их удел — бесправие, бедность, ожесточение. Сервизы Жозефины, спальни Антуанетты, библиотека Наполеона или даже полотно Веронезе на тему соединения Христом Востока и Запада не могут вызвать у них ничего, кроме вражды. Даже сами французы, экстремисты-бретонцы, не погнушались заложить и взорвать бомбу в Версале, — что уж говорить об отчаявшемся и безграмотном турке, — турке, жителе города Парижа?.. Зверские факты насилия в наше время — не просто результат человеческих комплексов — это результат несправедливости общественного устройства и плод бескультурья, варварского развития.
Я нарочно заостряю и беру крайнюю точку. Тревога сопровождает тебя на всем пути по прекрасным улицам прекрасного города. Париж, как и вся Европа, сам по себе — ценность, музей, в нем заключены, как в любом произведении искусства, — дух, мысль, красота, и с т о р и ч е с к о е время, с ним связаны с юных лет помыслы любого образованного человека. Париж — музей человечества, и, конечно, тысячи, сотни тысяч людей хотят прикоснуться, приобщиться к его святыням. Толпы туристов в те майские дни росли прямо на глазах, и, кажется, большинство из них были сами французы: школьники, пенсионеры, юные парочки. Я однажды спросил у пяти прохожих подряд о какой-то улице, и все пятеро с улыбкой отвечали мне, что они тоже приезжие. Днем на пляс де ля Конкорд, одной из красивейших площадей на свете, или вечером на Елисейских полях, среди увитых электрогирляндами деревьев, в живой, пестрой, праздничной, разноликой и разноязыкой толпе, между мостовой с ее тысячами автомобилей и тротуаром с его тысячами витрин, конечно же, все забывается, все выглядит гармонично и прочно, незыблемо и изысканно.
Париж жив, Париж весел, Париж есть Париж, и нетрудно забыться. Вот гастроли китайской оперы, вот «Мастер и Маргарита» в постановке режиссера-румына Андрея Сербана, вот фильмы, рестораны, варьете с самой злободневной программой, дискотеки и секс-шоу, Лолита-клуб, вот девушки на вечерней улице Сан-Дени, вот крокет на бульваре, старушки на весеннем солнышке — все нормально. Он прекрасен, весенний Париж, что говорить, полный цветов и цокающих каблучками женщин, живой и уютный. И Джоконда на месте, и Венера Милосская, возле которой фотографируются маленькие японки в кроссовках и пожилые жизнерадостные американцы; и мосты через Сену, и сама Сена, качающая на весенних волнах нарядные прогулочные катера.
Но тревога не проходит. Каждая газета, выпуск теленовостей, первая же беседа во французской семье, за ужином, когда через пятнадцать минут после обмена любезностями говорят о политике, о зарплате, дороговизне, инфляции, о поисках работы, о тех же арабах и турках, — все усиливает и п р о я с н я е т тревогу. В самом деле, слишком много проблем, и год за годом они никак не разрешаются — лишь к старым прибавляются новые. Два разных полюса, положительный и отрицательный з а р я д ы, сближаясь, всегда искрят или дают взрыв. Есть специальность — нет работы, стоят пустые дома — людям негде жить, завал товаров — не на что купить, купил — попал в кабалу, не дай бог, заболел — лучше б сразу умер. И главное, ты мыкаешься с детьми, собираешь сантимы на метро, а рядом моют дорогим шампунем собак в парикмахерской. Что-то не так, не так в этом мире. Почему? Кто виноват?
Париж цветет, как весенний сад, но ветер тревоги несется над ним, и дальний гром слышнее жужжания пчел…
А теперь о Чехове.
Да простят меня читатели, что, дав своей статье такое название и действительно собираясь говорить о Чехове, я столь долго говорил о другом. Но этот прерассказ необходим, и то, о чем идет речь, имеет отношение к Чехову, вы увидите.
Мне повезло. Мне с трудом достали билет на «Вишневый сад» в постановке Питера Брука, а однажды вечером я отправился на метро в Театр Буф дю Нор (то есть у Северного вокзала), и это оказалось довольно далеко.
Два слова о самом театре, потому что это тоже важно, потому что всякий театр все равно «начинается с вешалки», это уж точно, и, кто не в силах изменить «вешалку», как ему нужно, облик, правило, тон, тот не изменит ничего, и «вешалка» в конце концов превратится в виселицу: новое пройдет, как дым, а старое останется, как было.
Я попал в старинное театральное здание с белыми полукружиями ярусов, с гипсовой лепниной, но только до последней степени ободранное. Представьте себе зал Малого театра или даже Большого, из которого бы выдрали все нутро, начиная с кресел и канделябров и кончая тем, что соскребли бы краску со стен и так оставили. «Чистый» театр. В нем не отдохнешь, не развалишься, не выпьешь в буфете шампанского и даже не покуришь. По ярусам идут жесткие деревянные скамьи, в партере частично лежат просто жесткие подушки, чтобы сидеть прямо на полу. Подмостков, сцены нет. Занавеса, кулис нет. Тут же, где зрители сидят на полу, на подушках и коврах, ходят и играют актеры. Все застелено огромными вытертыми коврами. Две — три выгородки заслоняют лишь «карманы» сцены, откуда актеры входят-выходят. Но приходят они и почти с улицы и спускаются с ярусов, если нужно, и, например, приезд Раневской в первом действии сначала долго слышен звуками снаружи и из фойе, возгласами и смехом, и появляются все не со стороны сцены, а откуда-то из-под нас, из-под зрителей. (Я сидел во втором ярусе слева и примерно с этой точки буду вести свой «репортаж».
Звуки, свет в этом спектакле, эти ковры на полу — все имеет значение, все исполнено точно, дозировано строго, действует экономно и рассчитанно. Диву даешься. Очень высокая техника. Хотя вроде бы элементарная. Свернут, например, быстро ковер в трубочку, и вот уже идут по нему, как по бревну через ручей (во втором акте, где так важно воссоздать простор, даль, наше русское лето).
Вместе с тем все костюмы реальны, «по Чехову», без «клюквы», реквизит натуральный, и если на земле лежит букет полевых цветов, то это букет настоящий, из настоящих ромашек и васильков (где они их только берут в мае?). Эта сценография (сценограф — Хлоз Оболенски) тоже, как потом понимаешь, служит идее «чистого» театра, изо всех сил рвущегося из традиционно-банального назад, к источнику, к с м ы с л у пьесы. То же самое с музыкой, точной и сдержанной, ни в одном месте не довлеющей над темой, не обретающей той самостоятельной формы, которая позволила бы ей потом быть записанной на диске как «вальс к спектаклю А. П. Чехова «Вишневый сад». (Музыка Мариуса Констана.)
И еще: спектакль идет два часа без антракта. Зал набит битком и, поверьте, смотрит и слушает превосходно, все понимая и много смеясь. Атмосфера замечательная. И… но о впечатлениях потом.
Начинается «Вишневый сад». Выходит Лопахин в белом жилете и желтых ботинках, как написано в ремарке у автора, — он коренастый, лысоватый, с длинноватыми прядями современной прически, с бородкой, заспанный и мятый. Это шведский актер Нильс Ареструп, и облик его уж очень вроде бы современен. Но он так выходит, так поеживается, так начинает свой разговор с Дуняшей, щипнув ее походя, что я тотчас верю: это Лопахин. И вот этот Лопахин, Ермолай Алексеич, русский купец и завтрашний «миллионщик», «странный» купец, у которого «нежные тонкие пальцы, как у артиста», и «такая нежная душа», этот вчерашний мужик, внук крепостного и сын лавочника (Антон Павлович Чехов, великий писатель, сам был внуком крепостного и сыном лавочника), быстро занимает в спектакле то место, которое ему и отведено автором в пьесе: если не первое, так второе.
Наташа Парри, актриса точная, быстрая, «французская», брюнетка, играет Любовь Андреевну Раневскую доброй и женственной, изломанной, измученной, жесткой, «порочной», как говорит о ней брат, Леонид Андреевич Гаев, но это порок не сексуальный, а скорее нравственный, умственный или, точнее, родовой, сословный, национальный. Она есть другое главное действующее лицо — антипод Лопахина. Впрочем, это неверное слово — «антипод»: у Чехова антиподы всегда уживаются и сосуществуют, даже если это грозит им гибелью. Раневская не борется с Лопахиным, она борется с жизнью, — впрочем, тоже как умеет.
Она прожила пять лет в Париже, у нее была дача около Ментоны, но она все продала, все отдала ради любовника, все потеряла. Аня, ее 17-летняя дочь (Ирина Брук), кажется, больше думает о том, как же жить, чем мать. Усталость Ани от дороги сыграна как вообще усталость юного существа от жизни этих взрослых, которой не понять. В том разговоре Шарлотты с Фирсом, которым кончался у Чехова второй акт и который зачем-то выбросили во МХАТе, Шарлотта говорит: «Любовь Андреевна постоянно теряет. Она и жизнь свою потеряла». Наташа Парри играет начало нервно, остро — еще бы, пять лет заграницы, она — другая, привыкла к иному стилю жизни, в ней есть даже что-то деловое, «западное», нерусское, и это отторжение от родной земли скажется, даст себя знать. Она, разумеется, мила, очаровательна, красива, но ее эгоизм и легкомыслие, ее тайная, непроходящая любовь тоже скажутся. Хотя пока мы не знаем об этом. Но приехала не русская барыня, приехала уже русская парижанка. Но она обвыкнется.
Действие разворачивается быстро и энергично. Наверное, под страхом смертной казни актерам велели играть эту пьесу живо, не размазывая слюни и слезы, ахи и охи, не изображая пресловутую «русскую тоску» тоскливо. Лопахин уже с первых шагов говорит о том, что знаменитому вишневому саду грозит гибель, что имение заложено и пойдет с торгов. Он предлагает выход: разбить сад на участки, продавать их дачникам, под дачи, старый дом сломать и построить новый. От сада все равно уже ни проку, ни доходу, — вишни старые, ягоду никто не покупает. Ну как быть, в самом деле? Кажется, так просто и ясно, что все это необходимо сделать. И в результате еще иметь двадцать пять тысяч ежегодно дохода, а не долги и проценты по закладу. Уж кажется, ребенку ясно. Но… «Извините, какая чепуха!» — говорит Гаев. «Я вас не совсем понимаю, Ермолай Алексеич!» — едва ли не с высокомерием вторит Раневская. И больше н и ч е г о об этом не говорят. Только потом Любовь Андреевна скажет монолог о саде: «О сад мой!» И вместо видения матушки в белом платье выйдет обносившийся и нелепый Петя Трофимов, «вечный студент». Начнется комедия.
Чехов всегда настаивал, что «Вишневый сад» — комедия, а не слезливая драма. «Почему на афишах и в газетных объявлениях моя пьеса так упорно называется драмой? Немирович и Алексеев в моей пьесе видят положительно не то, что я написал, и я готов дать какое угодно слово, что оба они ни разу не прочли внимательно моей пьесы». (Письмо О. Книппер 10 апреля 1904 г.).
Вот даже как!
Известно, споров и разночтений было множество уже при жизни Чехова. «Неужели в нашей жизни все так нудно и тоскливо?» — писал рецензент «Русского листка». Чехов «является драматургом не только слабым, но почти курьезным, в достаточной мере пустым, вялым, однообразным», — писал Буренин в «Новом времени». Одни ругали спектакль МХАТа, другие восторгались им. Прежний друг Чехова Суворин писал: «Это трагедия русской жизни, а не комедия и не забава». Брюсов отозвался холодно, Белый хвалил, Горький не понял, Бунин, не любивший театра, посмеивался: мол, вишневых садов в России вообще не бывает, это только в Малороссии, да и то садики возле мазанки. А казанский студент Барановский в письме Чехову писал, отражая настроения молодежи: «Вся соль в Лопахине и студенте Трофимове. Вы ставите вопрос, что называется, ребром… категорически предлагаете ультиматум в лице этого Лопахина… вопрос этот — тот самый, который ясно сознавал Александр II, когда он в своей речи в Москве накануне освобождения крестьян сказал между прочим: «Лучше освобождение сверху, чем революция снизу». Молодой Мейерхольд ставил пьесу в провинциальном Херсоне, ставил еще традиционно-реалистически, но писал о ней так: «Ваша пьеса абстрактна, как симфония Чайковского. И режиссер должен уловить ее слухом прежде всего. В третьем акте на фоне глупого «топотанья» — вот это топотанье нужно услышать — незаметно для людей входит Ужас… В Художественном театре… не остается такого впечатления». И далее Мейерхольд говорит пророчески: «…в драме Западу придется учиться у вас».
Прошло восемьдесят лет, но споры и трактовки не утихают. Хотя стали наконец приходить к истине.
Вот высказывания Питера Брука: «Чехов не выносил драматический тон и замедленность, навязываемые режиссером… Чтобы быть верным Чехову, создавшему современный театр, надо придумывать. Нельзя пользоваться только тем, что было создано до и после него». И еще: «Я бы сравнил его поэзию с тем, что прекрасно в фильме, — с последовательностью естественных и правдивых картин… Он драматург движения жизни, одновременно серьезный и улыбающийся, забавный и горький».
У нас почему-то часто путают комедию и водевиль, фарс, и если в комедии, не дай бог, чья-то судьба складывается печально или звучит грустно-лирический монолог, уж ее сразу обзовут трагикомедией. А комедия-то всегда — внутри, в позиции и взгляде автора на происходящее. Вот слуга Яша курит сигару, все смеются. Это комедия, фарс, номер, это можно. Но Яша подлец, он безнравствен, он смеется в лицо над Гаевым, обманывает Дуняшу, презирает родную мать, как и родную страну, он не отправил к доктору больного Фирса, и Фирса «забыли» по милости Яши. Это уже вроде бы и не комедия. Но парижский зал особенно смеется, когда Яша просит Раневскую скорее ехать в Париж и его взять с собой: «…сами видите, страна необразованная, народ безнравственный, притом скука, на кухне кормят безобразно…» Раневская н и ч е г о Яше на это не отвечает. Потому что к этому моменту она уже заодно с Яшей. И писатель Чехов, драматург Чехов, д о к т о р Чехов это знает. Он и еще раньше все знает про Раневскую, он видит ее насквозь (он и писал уже таких или подобных прелестных, но жалких, безвольных и «порочных», выморочных, обреченных героинь: Аркадину, Сарру, Елену в «Лешем» и «Дяде Ване», Машу в «Трех сестрах»). И в с е й пьесой «Вишневый сад» он говорит о комедии ж и з н и, когда человек не хочет и не может понять происходящих п е р е м е н, не видит новых, надвигающихся сил, когда он слеп, в шорах, живет иллюзиями и превратными представлениями о происходящем.
Чехов жесткий и беспощадный писатель. «Мягкий» Чехов, «грустный», «певец сумерек» — это все полная чепуха. И всегда было чепухой, выдумкой поверхностной критики. Чехов с у д и л строго. Не надо путать интеллигентность со слюнтяйством и сентиментальничаньем. Интеллигенты прежде всего д у м а ю т, в и д я т и потому имеют право делать выводы, судить, обобщать. И говорить, как оно есть на самом деле. То есть правду.
Но и для правды есть своя форма. Можно говорить правду, как доктор Львов в «Иванове», обличительно и с пафосом, едва не с трибуны: «Николай Алексеевич Иванов, объявляю во всеуслышание, что вы подлец!» Но пафос, поза, неделикатность — это для Чехова всегда нож острый. Он говорит правду по-своему.
Сам отнюдь не владелец имений и не «миллионщик», но человек, знающий разницу между благами и ценностями, нравственным и безнравственным, Чехов говорит: смотрите, вот Лопахин, это реальность, это с е г о д н я ш н и й герой, герой н а ш е г о времени, он пришел и твердо стоит на ногах. Но он не хапуга, у него «нежная душа», он вас любит и сам предлагает вам путь спасения. Это «чеховский», русский буржуа. И вы смешны, говорит Чехов, если не замечаете его, не хотите замечать, боитесь э т о й жизни. А потом все равно оставляете ему свой «изумительный сад», а сами бежите в Париж.
Питер Брук, как и Чехов, не щадит своих героев: понемногу слабеют симпатии зрителя к Любови Андреевне Раневской. Если вы помните, уже войдя в дом, Раневская получает призывную телеграмму из Парижа. Тут она ее рвет решительно. Во второй раз она рвет ее уже по-другому. В третий прячет на груди. Это не режиссерская деталь, это авторская, к о м и ч е с к а я и на нынешний взгляд, может быть, даже и грубоватая деталь. Но режиссер пользуется ею, как нужно: разоблачительно. Гаев, которого так широко, «с надрывом» играл Станиславский — барином, большим ребенком, «недотепой», — произносит монолог о шкапе тоже под смех зала. Да и как иначе? Разве сам Чехов не смеется и не гневается над Гаевым? «Внутри» пьесы — «насмешка горькая обманутого сына над промотавшимся отцом», как сказал другой русский поэт. И разве не про Гаева и таких, как он, говорит Петя Трофимов и потом Лопахин: «Громадное большинство той интеллигенции, какую я знаю, ничего не ищет, ничего не делает и к труду пока не способно. Называют себя интеллигенцией, а прислуге говорят «ты», с мужиками обращаются, как с животными, учатся плохо, серьезно ничего не читают, ровно ничего не делают, о науках только говорят, в искусстве понимают мало. Все серьезны, у всех строгие лица, все говорят только о важном, философствуют, а между тем у всех на глазах рабочие едят отвратительно, спят без подушек, по тридцати, по сорока в одной комнате, везде клопы, смрад, сырость, нравственная нечистота». Даже Чехову не хватает одной иронии, он срывается на открытое обличение.
А Лопахин вторит: «Знаете, я встаю в пятом часу утра, работаю с утра до вечера, ну, у меня постоянно деньги свои и чужие, и я вижу, какие кругом люди. Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало честных, порядочных людей».
И это Чехов!.. Он почти кричит в этой своей последней, прощальной пьесе, он хочет быть услышан: да сделайте же вы, черт вас побери, если вы так любите свой сад, свою к р а с о т у, хоть что-нибудь, чтобы оберечь ее от топора, от полной погибели, возьмите же на себя, в конце концов, о т в е т с т в е н н о с т ь за вишневый сад, а не просто проливайте над ним слезы умиления.
«Ваш дед, прадед и все ваши предки, — говорит Трофимов Ане, — были крепостники, владевшие живыми душами, и неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа… ваша мать, вы, дядя уже не замечаете, что вы живете в долг, на чужой счет, на счет тех людей, которых вы не пускаете дальше передней… чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое».
Пусть не создается впечатления, что режиссер и актеры показывают чуть ли не публицистический спектакль, — нет, в нем много нежного, милого, Аня в белом платье ходит босиком по утреннему дому, Шарлотта (Мишель Симоннэ) не утрированная и, по-моему, даже без акцента, в нормальном костюме, ведет свою роль без эксцентрики, Дуняша смешлива, глупа, резва, смешно любит Яшу. Тут есть все, что нужно, но на вечеринке третьего акта танцами под еврейский оркестрик — такими же нелепыми в день торгов, как нелепа и вся остальная жизнь Раневской, — Ужас безусловно входит в дом. И все равно все подчинено м ы с л и, — той самой мысли, которая тревогой била по сердцу Чехова: как хорошие вроде бы люди не умеют устроить своей жизни да еще ухитряются погубить и жизнь ближних.
Мне кажется, я впервые видел в театре такого сдержанного, строгого, «черно-белого», а не расцвеченного Чехова, не растянутого и скучного, а энергичного и ироничного, у м н о г о. Режиссер и вместе с ним актеры удивительно чувствовали, что главные враги писателя Чехова — фальшь, выспренность, неделикатность, насилие одних над другими, что любое проявление этих пороков должно быть п о к а з а н о и в ы с м е я н о, и потому, естественно, они сами как огня должны бояться фальшивого жеста, слова, неточности. (Думается, краткость, присущая Чехову-писателю вообще как одна из основных его черт, рождена его человеческой чертой никогда не быть назойливым, не переборщить, не навязывать долго себя другим.) Простота, ясность и ум — вот с т и л ь этого спектакля. А это стиль Чехова. И он уловлен и исполнен — вот самое, пожалуй, главное. А там, где ясность, простота и ум встречаются с фальшью, вычурностью и глупостью, всегда рождается ирония. А это ключ к пьесе.
Казалось, все, о чем я думал в эти дни, о чем говорил, что слышал, и все, о чем я читал до этого, присутствует в этом зале, в его атмосфере, что в с е п о н и м а ю т, о чем идет речь: социалисты, коммунисты, националисты, бедные и богатые, циники и идеалисты, молодые и старые. Нильс Ареструп — Лопахин, купивший имение, пьяный от своей победы, хохочет, топочет ногами, он победитель, и он — он п р а в, но интересно, что к этой минуте мы теряем и к нему расположение. Чехов всегда рассказывает о л ю д я х, кто бы они ни были, капиталисты, или нищие крестьяне, или аристократы. Лопахин тоже человек. Его самоощущение хозяина и самолюбие непомерно выросли на наших глазах за два часа спектакля. Купив вишневый сад, он не прочь купить теперь и остальное. Разумеется, он тайно любит Раневскую, он почти намекает ей (хотя бы своим отказом от Вари — что ему теперь Варя!), что если бы она осталась… Но когда понимает, что это все-таки невозможно (возможно, и это возможно, — грустно намекает нам реалист Чехов), то уже довольно просто выпроваживает прежних хозяев из с в о е г о, хоть и ненужного ему, дома. Он обретает иную пластику — разрушителя. И мы видим: он станет жестче, Лопахин, после этой истории, он выходит на крупную игру, а такая игра не знает пощады: монополия не может остановиться, пока не проглотит все.
Лопахин прав исторически, объективно, а человечески?
Я говорил все время как бы с его позиции или Пети Трофимова, с точки зрения необходимости, — и все это есть в спектакле, все так. Это одна точка зрения. И если бы в спектакле существовала только она, то тогда и не жаль было бы Раневскую, Аню, Варю, Гаева, Фирса, нелепого Епиходова, уж совсем, кажется, ни к чему не годного, Шарлотту, смешного Симеонова-Пищика. Зачем они, раз они ничего не понимают, не хотят? Или не умеют «перестроиться», «перевоспитаться»? Но их жаль. И в спектакле Брука их жаль. Они — ж и в ы е люди. Они живы, живут. Что им делать?.. «Каждый чеховский персонаж, — говорит Брук, — живет своей жизнью… некоторые возвещают социальные перемены, другие гибнут. Стороннему взгляду их существование может показаться нелепым, пустым. Но они-то полны желаний… Их драма состоит в том, что общество и внешний мир им мешают, стесняют их. Но они не разрушители. Сложность их поведения не проявляется в словах, она передается мозаичной конструкцией, складывающейся из бесконечного множества подробностей».
Эти замечательные слова п о н и м а н и я автора осуществлены Бруком на сцене. Должно быть, неимоверно трудна была эта вязь подробностей, подбор мозаики, — следовало бы, как театральному критику, посмотреть спектакль три или четыре раза, чтобы вникнуть в технику режиссерской постройки. Но с меня достаточно было результата и впечатления. Последний акт двигался быстро и жестко, все уезжали, светлые костюмы сменились на темные, свет померк, и стук топора в финале, нарастая, стал звучать со всех сторон, во всем зале, — смачный хряпающий звук, п о ж и в о м у, — ничего не поделаешь, рубят. Тут горечь и отчаяние заставили содрогнуться сердце. Жалко, жаль. Людей, л и ч н о с т е й, их чувств, отношений, их жизни, эпохи. Приехали и уехали. Продали, потеряли прошлое, распались, рассыпались в разные стороны, никогда больше з д е с ь не сойдутся. Виноваты? Но что ж их теперь — в газовую камеру?.. Да, как все быстро случилось: приехали, уехали, и все кончено.
Как ни странно, приглушается тема осуждения Раневской — теперь уже не она ведет игру, — и она, виновница, уже не виновата. Эти персонажи, как цветы, — отцвели и исчезли. Разве они виноваты, что цвели?..
Мы, люди другого времени, знаем то, чего не знал Чехов, мы уже не можем не привносить в увиденное своего знания и опыта, и все символы «Вишневого сада», которые в 1904 году могли быть непонятны или казаться невероятными, сегодня более чем ясны.
Я опять процитирую Брука: «У Чехова постоянно ощущается присутствие смерти, — он слишком хорошо знает, как люди умирают, — но в этом нет ничего страшного или болезненного. Сознание смертности сопрягается у него с жаждой жизни. Как в великих трагедиях, смерть и жизнь у Чехова уравновешены… Это сознание смертности и драгоценности каждого мгновения жизни позволяет ему ощутить относительность, то есть он умеет достаточно отстраниться, чтобы всегда заметить смешную сторону драмы».
Да, конечно. Ведь, в сущности, смешно, что Фирса «забыли». Так же смешно, как то, что «смешной» Соленый убивает Тузенбаха, дядя Ваня «смешно» стреляет в Серебрякова, «смешно» застреливается Треплев, когда рядом играют в лото. «Смешно», когда в первой сцене «Иванова» Боркин направляет на Иванова ружье, — на Иванова, который в конце застрелится. Все это так же смешно, как и то, что тело самого Чехова привезли из Баденвейлера в Россию в вагоне «для устриц».
Прекрасная была реакция и восторг зала в конце. В них тоже было нечто свежее: будто сам спектакль, Чехов, его манера за два часа уже «воспитали» зрителей, научили их выражать свои чувства без излишнего апломба, ажиотажа, — з д е с ь это было бы дико. Но аплодисменты звучали долго, слитно, бесконечно искренне; актеры так же естественно, как они играли, выбегали на поклоны, и мы — самые разные люди, французы, японские студенты, шведы, англичане, актеры пекинской оперы, критики, писатели, — слившись в единое, в публику, благодарили театр за испытанное театральное потрясение. Я всегда повторяю: «театр должен потрясать», все остальные театральные эмоции сомнительны.
Я долго шел потом один по незнакомым улочкам, вышел на бульвар Севастополь, и, по мере того как приближался к центру, довольно пустынные улицы, откуда я двигался, сменялись улицами все более оживленными, наполненными. Горели витрины, люди сидели в ресторанчиках и кафе, мчались машины, мигали светофоры. Я думал о Чехове, о нашей литературе, — в сущности, Чехов последним написал о том, о чем писали и Гоголь в «Мертвых душах», и Тургенев в «Дворянском гнезде», и Салтыков-Щедрин в «Головлевых», и Гончаров в «Обломове», и Островский в «Лесе», да и много, много других писателей. Более того, я вспомнил: есть рассказ И. Белоконского «На развалинах», напечатанный в те годы, — там был и сад, который должны рубить, и старуха хозяйка, и купец — покупатель имения, и даже слуга, который остается умирать в проданном доме. Что же, все это говорит только в пользу Чехова, в пользу русской литературы: она упорно твердит о самом болезненном в жизни, самом остром, касающемся главных общественных проблем и драматизма человеческих судеб. В том письме Мейерхольда, которое я уже цитировал, сказано: «…люди беспечны и не чувствуют беды». «Выходит Ужас», а они танцуют, смеются, пиликает оркестр. «Беспечны и не чувствуют беды». Увы, это так. Хотя те катаклизмы, те поистине великие перемены, которые произошли в мире за восемьдесят лет с момента написания «Вишневого сада», могли бы, кажется, людей чему-то научить. (Вот Чехов бы изумился, что столь многое свершилось в столь короткий, в сущности, срок.)
Впрочем, грех говорить, люди научились кое-чему. И бороться научились, и думать, и искать выход. И не воевать. И совместными усилиями подавлять очаги войн, катастроф, мировых бедствий. И вместе работать в космосе, в океане, в Антарктиде, в науке, в медицине, в искусстве. Торговать. Одна и та же песенка облетает в неделю все континенты, одна и та же новость или мода охватывает, подобно эпидемии гриппа, сразу и Европу, и Азию, и Америку. Влияние к а ж д о г о на ход событий — непосредственно или опосредованно, но безусловно совершается. Выросла возможность и необходимость человеческих усилий, качеств, воли, ума, аргумента, энергии влиять на события, добиваясь р а з у м н о г о, научно выверенного решения. Сокрушая сопротивление других воль, умов, аргументов. Гуманистические, общечеловеческие интересы все более подавляют узкополитические, торгашеские, экстремистские, бандитские. Силы мира сдерживают силы войны.
И все-таки. Все-таки мы еще «беспечны и не чувствуем беды». Людям надо непременно, чтобы беда постучала в самую их дверь. Тогда они спохватятся. Гром не грянет, говорит русская пословица, мужик не перекрестится. А беда есть, она касается каждого. И тревога за прекрасное, видимо, не зря так чувствуется именно в атмосфере прекрасного.
Я человек и думаю, разумеется, прежде всего о людях, о том, чтобы они были живы. Но я писатель, человек культуры, работник культуры, и я хорошо знаю, что я и мои современники исчезнут, как исчезли сотни поколений других людей на земле, а культура останется, должна остаться, ее бесценные ценности, которые учат нас добру, милосердию, чести, смелости, красоте, любви; должны быть переданы дальше, новым поколениям, чтобы им не одичать и не погибнуть либо среди пожарищ, либо среди благ, принимаемых за цель и смысл жизни. Вырубить сад — пара пустяков, вырастить и сберечь его, выходить — это задача.
Я шел по замечательному городу, в вечерний вечер, влажный и ветреный, чувствовал себя в этом городе вполне легко и бесстрашно, думал о высоких материях и был взволнован, как герой чеховского рассказа «Студент». Стены Лувра были красиво подсвечены прожекторами и казались особенно величественными, незыблемыми, вечными, — крепость культуры обещала мне быть неприступной. Я ехал потом в обшарпанном парижском метро, на переходах чернокожие музыканты соло, дуэтом, трио дули в трубы, били по струнам и собирали таким образом милостыню, — редкие монеты или бумажный франк падали в раскрытый футляр из-под скрипки или тромбона, — это тоже было искусство, к сожалению не нужное никому.
Правда, какая-то пьяная старуха плясала на одном переходе, поставив руки, как в лезгинке, и смеясь сама над собой. На нее никто не обращал внимания. Уж она-то точно была «беспечна и не чувствовала беды»…
Пожалуй, на этом я и закончу свой рассказ. Он вышел гораздо многозначительнее, чем я предполагал, но в самом деле в тот вечер, в те дни я ощущал ж и з н ь и р о л ь Антона Павловича Чехова, его присутствие в процессе нашей современной жизни почти мистически отчетливо. Я будто слышал его смех, его покашливание, стук его трости по тротуару. Словно он смешно пересказывает те слова Фирса из разговора с Шарлоттой, что были сокращены: «Дядя прыгнул с телеги… взял куль… а в том куле опять куль. И глядит, а там что-то — дрыг! дрыг!..»
В голове у меня все прокручивался и прокручивался заново виденный спектакль и звучал прекрасно исполненный, мощный звук, — тот самый «отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный», что звучит в конце второго акта. Я услышал его не как звук смерти и конца, а как звук жизни, бессмертия, вечности природы и, дай бог, человека.
Трагедия драмы
Стало почти штампом говорить о недостатках нашей драматургии, о том, что мало хороших пьес и зритель недоволен. Все так, хотя и не совсем. У нас в стране более шестисот театров, тысячи самодеятельных коллективов, на экраны выходят фильм за фильмом, и целый вечер мы смотрим телевизор, — все это обеспечено трудом огромного отряда деятелей театра, кино, телевидения, и конечно же здесь важное место принадлежит драматургу, сценаристу, автору. У нас немало славных имен, среди старшего поколения и среди молодых, людей, преданных своему делу, своему народу. Но… драматургия отстает, зритель недоволен, причин год от года называется много, а нового «Ревизора» или «Горя от ума» по-прежнему не видно. И сегодня, когда все наши надежды, жажда перемен, стремление к лучшему упираются прежде всего в проблему к а ч е с т в а любой нашей продукции, пора откровенно сказать и о практике создания и обнародования театрального произведения.
Начнем со зрителя, который недоволен. Я храню сотни записок, — их обычно получаешь на встречах и конференциях, сотни писем, — это, по сути, документы. Чего хочет зритель? Каков он сам? Всегда ли он прав? Существует ли на самом деле театральный бум, или это лишь столичная проблема? (Отчетная цифирь еще ни о чем не говорит, мы знаем примеры, когда предприятия просто перечисляют театру деньги за «культпоход», за «мертвые души», которые и не думали идти в театр, а все довольны, отчетность и финансы в порядке!) Анализируя впечатления и пожелания зрителей, приходишь прежде всего к выводу: какой он разный! Не зря в одной и той же семье люди стали покупать по два телевизора: одни хотят смотреть одно, другие другое. Расхожее понятие «массовый зритель» есть просто ширма для тех, кто боится исследовать, что это такое на самом деле — «массовый зритель», какова его дифференциация? В театр прет и пресыщенный мещанин, и скептик, и пошляк, и невежда, а истинный театрал остается порой без театрального «дефицита». Но это мелочи. Публика есть публика, и, как говорится, в театре «публика всегда права». В самом деле, точно так же, как и испокон веков, театр обязан угодить каждому, — комедией ли, драмой ли, трагедией, — и в лучшие свои минуты, за которые мы так и любим его, он должен покорить и объединить в с е х, всем внушить одно волнение, все сердца всколыхнуть одним чувством, пронзить нас художественной правдой.
Если суммировать зрительские пожелания, то беру на себя смелость утверждать, что вот этого-то и не хватает больше всего: художественной правды. Вообще: м а л о правды.
Было бы странно отделять драматургию от литературы вообще (как и от других видов искусства) и рассматривать ее проблемы в отрыве от общелитературных. Ведь прямо сказать, читатель наш столь же недоволен, как и зритель, и как бы ни тщилась критика доказывать, что сегодня проза выше драматургии (а вчера выше была поэзия, а позавчера кино и т. д.), но тем не менее хорошая проза, то есть высокохудожественная и правдивая, без хитромудрых и лукавых делений ее на «деревенскую», «городскую», «военную» и прочую, весьма одиноко возвышается среди моря бездушных, однообразных, даже по виду одинаковых литературных «кирпичей». Критика занимается эквилибристикой, желая скрыть суть вещей, выдвинуть одни тематически злободневные произведения вперед за счет других, закрывая глаза на их качество, вводя табель о рангах, подменяя подлинный и высокий, с о в р е м е н н ы й эстетический критерий соображениями мелкими, а порой и корыстными. А у художника не должно быть иного тщеславия, кроме творческого! И соревнование его должно заключаться не в состязании с братьями писателями по числу заслуг, а с библиотекой, с книжной полкой, откуда смотрит на него вечность.
Я не буду углубляться в эту тему, но хочу показать, наметить связь одного с другими, подчеркнуть, что первая причина упадка драмы — это причина общая, и не только литературная. Когда много полуправды, парадности, помпезности, показухи, очковтирательства, то правде не остается места. У нас великая страна, наши достижения грандиозны, — это общеизвестно и у всех на виду. Но у нас есть вопиющие недостатки, которые тормозят наше движение, да порой так тормозят, что уж и ехать нельзя. Это н а ш и недостатки, наш дремучий бюрократизм, казенщина, бездушие, оголтелое мещанство, разврат воровства. Об этом надо кричать, это должны знать в с е, и если искусство замазывает эти явления, обходит их, значит, оно лжет и не может рассчитывать на уважение. Поразительных извивов достигла, с одной стороны, боязнь талантливого, на прежнее непохожего, а с другой — приятие «верняка», тематически выдержанного, всегда «идейного», привычного. С каждым годом нас все больше и больше заваливают романами, которые нужны только их авторам, полотнами, которые и авторам не нужны, фильмами, поражающими полным отсутствием какого-либо авторского лица, песнями, которые нельзя ни спеть, ни слушать. Это искусство похоже на нашу торговлю: чего хочешь, того не найдешь, а что лежит, того не нужно. Люди просят воды — им несут пирожные. Такому искусству хочется бросить обвинение в том, что оно не «принадлежит народу». Его ни подлинная радость народная, ни боль не трогают. Оно служит каким-то иным, конъюнктурным интересам. При этом создатели его преуспевают, их никчемные создания щедро оплачиваются (из народного же кармана), и, пока новое и талантливое где-то там пробивает дорогу, «верняк» цветет себе не хуже, чем сорняк, да еще и кичится: я колос!..
Писательская душа, его ум и совесть нераздельны, в каком бы жанре он ни работал. Однажды, например, я был свидетелем, как трудился над самоинсценировкой «Живи и помни» Валентин Распутин во МХАТе. Он мучился, он допускал просчеты в незнакомом для него тогда жанре драмы, но не могло ни на минуту возникнуть сомнения, что э т о т писатель способен допустить просчет или поступиться с в о е й мыслью, содержанием, п р а в д о й своих образов. Личность настоящего писателя, новое слово, которое он несет, его индивидуальность и талант — вот ценность, которую обязаны увидеть и жадно схватить театр, издатель, телевидение и донести их читателю и зрителю. Но, сталкиваясь с практикой нашего театра, кино, телевидения, индивидуальность писателя, как правило, тут же высекает искру. Зритель недоволен, а думаете, драматург доволен? Годы уходят на огромную внутреннюю сосредоточенность: как работать? что сделать? сумею ли? Сегодняшний читатель и зритель, даже очень молодой, находятся на том же информативном уровне, что и писатель, художник. А иные и куда выше. Значит, моя задача найти с в о й ход, повернуть знакомое и привычное н о в о й стороной, о ц е н и т ь происходящее, оценить н р а в ы, какой бы горькой и спорной эта оценка ни оказалась. Но вдруг выясняется, что это-то и не нужно. Нужно обкатанное, привычное и отнюдь не глубокое, а, наоборот, лучше всего бы — отображающее очередную «кампанию»: дайте пьесу про ПТУ! дайте пьесу про механизаторов! дайте пьесу против алкоголиков! То есть дайте примитив, плакат, персонифицированную передовицу. Хотя театр не профсобрание, а пьеса — не газета. Например, нас год за годом призывают: пишите о рабочем классе, создайте образ советского рабочего. Нет ли здесь некоторой путаницы? Может быть, не обязательно именно о рабочем классе, а важно, что с п о з и ц и й рабочего класса?.. А если о рабочем, то непременно о положительном? А если душа болит при виде вполне благопристойного вида работяг, которые и план выполняют, и в поведении приличны, но которым на самом деле все «до фени» и которых ничто на свете не интересует, кроме того, чтоб ему «наряд» хорошо закрыли и, упаси бог, его выгоды не нарушили… Но вернемся к драматургу. К его профессиональной чести, к проблеме собственно мастерства, к работе не над поделкой, но над вещью, с которой, так сказать, не стыдно на люди выйти. Между прочим, не в деревне живем, на виду всего мира, и звание русского, советского писателя всегда высоко стояло в мире. И во всем мире ценят и уважают наш театр, его великие традиции. А если еще вспомнить, что вообще все мировое искусство XX века рождалось или было зачато в предреволюционном и революционном Петрограде, в России, то еще и еще сто раз подумаешь: что ты пишешь, с чем ты выходишь на народ?.. Сидишь, корпишь, выверяешь каждую фразу. А никакой зарплаты у писателя, между прочим, нет, особенно у молодого, а писательский труд над одной вещью может длиться годами.
Вот давайте обратимся к такому молодому автору, который слышит, что пьес нет, что драматургия отстает и, желая осчастливить человечество, пишет вполне серьезно и профессионально. Итак, он пишет пьесу и, волнуясь, несет ее… куда? В театр, разумеется. Он приходит в театр, а в театре говорят: «Это, молодой человек, не к нам». — «Как не к вам? Ведь вы театр?» — «Театр». — «Где пьесы играют?» — «Да». — «А что ж не берете?» — «А чего брать? Хоть и возьмем, да решаем не мы». — «А кто…» И тут молодому автору многозначительно показывают наверх. (Это знакомо нам не только по театрам, не правда ли?) Итак, юный талант пожимает плечами, но идет куда указано. А там лежат горы пьес. А там сидят люди-профессионалы, которые собаку съели на этих пьесах, редакторы и критики, бывшие работники театров и даже бывшие драматурги. Они все знают, все могут объяснить, всему научить. И вот начинается «работа над пьесой». Автору все желают добра, заметьте! Ему советуют (причем настоятельно): название изменить, одного персонажа убрать, двух других ввести, финал выкинуть и написать другой. Упаси бог, чтобы герой в конце умирал! Со времен «Тихого Дона» и «Дней Турбиных», где герои боролись даже с Советской властью, в нашей драматургии не появилось н и о д н о й трагедии! Нельзя. Нельзя, чтобы наши герои умирали, чтобы они, упаси бог, изменяли женам или мужьям, чтобы они грустили, бывали недовольны жизнью, чтобы они говорили о деньгах, о еде и так далее. Со времен «бесконфликтности», которой болела когда-то наша драматургия, много воды утекло, но тайная редакторская мечта о том, чтобы в пьесе вообще ничего не происходило, все еще дает себя знать. Все это не шутки, и такая «работа» происходит с л ю б о й пьесой, не только молодых авторов. Причем, выйдя в коридоры своих уважаемых учреждений, редакторы смеются над иными своими требованиями, — они тоже не свою волю исполняют. А чью?
Почему мы, драматурги, мало обращаем внимания на театральную критику и сама она, как правило, беспомощна и неавторитетна? Да потому, что от ее приговора ничего не зависит. Мало того, что она тоже малоправдива, и зрители привыкли к тому, что, если ругают, надо идти смотреть, а если хвалят, то и ходить нечего, — она еще и потому бесправна, что она, собственно, «посткритика», если пользоваться ее собственной терминологией, а вся настоящая критика происходит д о обнародования пьесы, не в пылу зрительских дискуссий и критических схваток, а в тиши редакторских кабинетов, и автору потом уже никогда никому не доказать, что и название у него было другое, и заключительный монолог, и герой в финале не оживал, а умирал.
Но вот пьеса отредактирована, «куплена» (при этом всем платят одинаково, и, принеси завтра Пушкин «Бориса Годунова», он получит столько же, сколько любой из нас). После этого пьеса отправляется в отдел распространения. Там, не спеша и без энтузиазма, поскольку никакого «своего» интереса у отдела нет, пьесу предлагают театрам. Кому? Каким? Да берите, кто хочет, т е п е р ь нас не касается. До востребования. На деревню дедушке.
А тем временем театр, избавившись от юного дарования, «делает» свою игру. Тут-то хорошо знают, что настоящая пьеса р о ж д а е т с я в т е а т р е. А театру срочно нужно: откликнуться на День Победы, найти вещь с «положительным героем», — для чего лучше всего подойдет инсценировка очередного премированного романа, с этим уж не будет никаких хлопот, — потом надо поставить классику, это «для души», за-ради уж самого искусства, шут его совсем забери, потом нужна еще кассовая пьеса, чтобы зритель ломился, — тут ищи без сомнения иностранную комедию и под маской разоблачения «гнилого Запада» шуруй вовсю: стреляй, носи шикарные наряды, показывай голые ножки и выше, пей виски, крути диски, весели народ!.. На все эти постановки есть свои мастера, драматурги и драмоделы, композиторы и текстовики, крепкие профессионалы, лихие циники, которые сделают тебе, что хочешь, «абы гроши».
Я еще ничего не сказал о режиссуре, а между тем настоящий, х у д о ж е с т в е н н ы й театр немыслим сегодня без хозяина, художника, который и выражает собою, и организует театральный процесс. Н о в ы е театры — такие, как Малый в свое время, МХАТ, Вахтангова, Мейерхольда, Таирова, «Современник», Театр на Таганке и другие — возникают, как правило, на гребне высокого общественного подъема, как н е о б х о д и м о с т ь. Но они не зря связаны с конкретными именами, драматургов и режиссеров: Чехова, Горького, Маяковского, Станиславского и Немировича, и тех же Мейерхольда, Вахтангова, Таирова, а сегодня — Ефремова, Товстоногова, Эфроса, Гончарова, Волчек, Плучека, Захарова, Владимирова, Фокина, Додина, Каца в Риге, Монастырского в Куйбышеве, Орлова в Челябинске — и… немногих, к сожалению, других. Эти художники, будучи сами яркими индивидуальностями, и при этом очень р а з н ы м и, имея одну общую идейную, идеологическую платформу, исповедуют и в искусстве разные стили, занимают каждый свою художественную позицию. И вполне естественно, что и драматургический материал они ищут такой, который и х удовлетворил бы или безусловно сходился с их вкусами и стилями. И как правило, свой круг авторов притягивается к каждому из этих магнитов. Казалось бы, уж этим «зубрам» нужно доверить все, поскольку уж им доверены театры. Но нет, и они часто годами бьются за постановку той или иной пьесы.
Например. Лет двадцать назад я познакомился с Людмилой Петрушевской, прочитал ее очень талантливую, хоть и печальную, пьесу «Уроки музыки». Все говорили об этой пьесе, все хотели ее ставить. Не дали. И кроме студенческого театра, она так и не пошла, пропала. С тех пор Петрушевская написала более тридцати пьес, стала притчей во языцех, режиссеры по-прежнему хотят ставить ее пьесы, — нет, нельзя. И нигде не найдешь толкового ответа: почему? Марк Захаров че-ты-ре года сдавал спектакль по пьесе Петрушевской «Три девушки в голубом», и че-ты-ре года — нельзя! Р. Виктюк поставил спектакль по Петрушевской в «Современнике», — опять нельзя! Хоть целый синклит драматургов и критиков сказали: можно. При нормальной театральной атмосфере давно бы уже выпустили эти спектакли и думать забыли, занялись бы делами более насущными. Нет, нельзя.
Или я вспоминаю, как ходили мы с молодым Александром Вампиловым вдоль улицы Горького, от театра Ермоловой до «Современника», который был тогда на Маяковке, носили за пазухой свои пьесы, стреляли у завлитов трешки на пропитание. Вампилов написал прекрасные пьесы, но он не дождался своей «поствампиловской» славы, умер. Его лучшая пьеса «Утиная охота» не разрешалась к постановке д е с я т ь лет, и только семижильное упорство и великое терпение Олега Ефремова «пробили» наконец пьесу, но десять лет спустя она уже звучала не так, как прозвучала бы в с в о е в р е м я.
Не постесняюсь сказать о себе. Я считаю себя счастливчиком, мои пьесы ставили и ставят замечательные режиссеры, в них заняты прекрасные артисты, и у нас и за рубежом. Но например, «Валентин и Валентина», которая вот уже 15 лет идет во МХАТе, была под запретом полгода, а редактировалась так, что в с е страницы были синие, могу показать.
Со «Старым Новым годом» тот же Ефремов ходил по начальству с е м ь л е т, пока поставил. «Эшелон» в «Современнике», уже готовый спектакль, не разрешали д в а г о д а. «Ремонт» в Театре сатиры был изуродован поправками и в конце концов снят. Ну и так далее. Двадцать лет назад я написал пьесу о том, как Геракл чистил Авгиевы конюшни, и никогда не забуду, как один чиновник кричал на меня и топал ногами: «Эту пьесу м ы не разрешим никогда!» Бог с ним, он уже умер, но пьеса… хотя, может быть, как раз пришла ее пора? Ничего, говорю я, все нормально[1]. И я все-таки счастливчик, потому что всегда писал то, что хотел. Хотя, конечно, один я знаю, чего мне это стоило.
Но вернемся еще раз к юному драматургу. Куда ему податься? Кому он нужен? Как ему быть?.. Превратиться в циника, кропать пьесу за пьесой, получать свои небольшие деньги, а там, бог с ними, пусть канут? Ждать?
При этом: у нас очень м а л о театров. В стране, где так выросли культурные потребности, на триста театров меньше, чем было до войны. В довоенной Москве было столько же театров, сколько сейчас, а население увеличилось чуть не втрое (а с приезжими и того больше — а они-то и мечтают попасть в столичный театр!). У нас труппы организованы так, что десятки актеров годами не работают, — пусть бы они взяли да ставили новые пьесы, п р о б о в а л и. Нет, пробовать нельзя, хотя мы так любим клеить всюду слово «эксперимент». Открыть новую студию, дать молодежи под любой крышей, в любом зальчике играть в одну из самых увлекательных игр, — в Театр и, не боясь н и ч е г о, смотреть, что вырастет, что получится, а уж тогда полоть и окучивать, — вот что нужно сегодня. Но для этого надо л ю б и т ь театр, понимать его природу, гореть его интересами, а не интересами, прямо противоположными искусству. С болью приходится констатировать: все лучшее, и боевое, и новое, что появилось у нас в театре за последние годы, — хотя бы пьесы Гельмана, с их острой публицистичностью, казалось бы, столь нужной обществу, или пьесы даже таких маститых авторов, как Розов, Айтматов, Друцэ, Дворецкий, Шатров, — все пробивали себе дорогу вопреки усилиям людей, ответственных за работу театров, а не благодаря им.
Да, зритель прав. Душа его томится неисполненными желаниями, он ищет нового и сильного впечатления и не хочет жевать позавчерашнюю жвачку. Он жаждет свежей мысли и первозданной красоты. Но, право, я хочу того же. Пусть зритель знает: мы, драматурги, хотим того же. И этим взаимным стремлениям необходимо совпасть.
Не буду замахиваться на многое и требовать немедленных и мало, может быть, реальных перестроек театрального дела (хотя, если уж перестраиваться, то смело и быстро), но попытаюсь предложить на первых порах немногое: так же как на заводе честному труженику, годами проверенному, профессионалу, дается «личное клеймо», пусть бы и профессиональным, заслужившим доброе имя драматургам и писателям, крупным режиссерам доверено было право: если уж я поставил свое имя на своей продукции, — все, никаких ОТК. Надоело.
На дальнем берегу
Несколько лет назад в Нью-Йорке Марта Коней, директор американского центра Международного института театра, познакомила меня с мистером Джорджем Уайтом, содиректором национального О’Ниловского фестиваля начинающих драматургов. Мистер Уайт, оживленный и приветливый, был очень радушен, в окна его офиса на Бродвее, выходящие прямо на Линкольн-центр, замечательное театральное сооружение города, светило весеннее солнце, и наш разговор вышел самым непринужденным и доброжелательным, вопреки той общей напряженной телерадиогазетной интонации в отношении СССР, которая так бурно брала старт в тот период. Речь шла именно о том, как, следуя здравому смыслу и уже изрядному историческому опыту, сберечь и по возможности укрепить культурные связи между нашими двумя странами — ведь, в частности, на развитие связей театральных в последние годы было затрачено так много сил с обеих сторон. Мистер Уайт деловито и конкретно предложил: приезжайте на О’Ниловский фестиваль, познакомьтесь, посмотрите, как мы работаем с нашей творческой сменой. Фестиваль, точнее конференция, соберется уже в семнадцатый раз, а русские у нас еще не бывали.
Признаться, для меня это оказалось новостью, хотя я уже изрядно, кажется, к этому времени узнал об американском театре, о его структуре, его успехах и трудностях. Я не предполагал, что в стране есть энтузиасты и организации, которые занимаются молодыми драматургами, стремятся помочь им, ищут новые пьесы. Я рассказал о том, как дело обстоит у нас: Союз писателей и Министерство культуры тоже проводят ежегодные месячные семинары начинающих драматургов, где опытные писатели, и критики, и сами драматурги разбирают и оценивают новые пьесы, рекомендуя их затем к постановке и распространению в театрах. «О, это похоже, — обрадовался мистер Уайт, — но все-таки у нас немного иначе, приезжайте!»
И вот три месяца спустя мы, советская делегация, организованная Всесоюзным агентством по авторским правам в составе Валерия Иванова, заведующего отделом драматургии ВААПа, Александра Штейна и автора этих строк, перенесясь через океан, движемся по направлению от Нью-Йорка к Новой Англии, в штат Коннектикут, где есть и город Нью-Лондон, и даже речка Темза. Нас ждет маленький городок Уотерфорд на самом берегу пролива Лонг-Айленд (хочется сказать: океана), где действительно уже много лет подряд неподалеку от дома, в котором вырос и жил почти всю жизнь великий О’Нил, собирается О’Ниловская конференция молодых.
Нас сопровождает Эдит Марксон, одна из видных театральных деятельниц страны, много сделавшая для укрепления наших связей, театрального обмена, высоко ценящая достижения советского театра, и мы много говорим о театральной культуре вообще, о перспективах и планах. Американский театр, как известно, театр коммерческий и всегда был таким. То есть, грубо говоря, это значит: нашли хорошую пьесу, подобрали артистов, сняли помещение и играют. Идет публика — хорошо, будем давать спектакли каждый вечер хоть десять лет подряд, лишь бы дело давало доход. Не идет — до свидания, общий привет, извините, что побеспокоили. (Мы обедали в одном ресторане, где артистка работает официанткой, драматург — кельнером, а оркестр составлен из бывших театральных музыкантов. Будет работа — они вернутся к своим профессиям.)
В США постоянных трупп никогда не было, да и настоящего театра, по сути, тоже. Театр приезжал из Европы, гастроли «Ла Скала» или МХАТа потрясали воображение, балет был русский, серьезная музыка — немецкая или австрийская, эстрада — негритянская. Еще лет двадцать назад пойти в драматический театр считалось роскошью, привилегией богатых людей или художественной элиты; жених приглашал невесту в театр — и это оставалось памятнейшим событием в жизни. Спрос простого американца на развлечение вполне удовлетворяли кино, джаз, бокс и «гёрлс», синхронно выбрасывающие сто одинаковых ног в ста одинаковых туфельках.
Теперь многое изменилось, время идет, в США появились интеллектуальные, если можно так сказать, поколения, резко увеличилась прослойка интеллигенции, заметно усилилась и усиливается тяга к гуманитарным дисциплинам, тяга к подлинному искусству. Это возникает еще и как вызов, как результат интеллигентного отвращения к дурному массовому, ставшему еще более оголтелым и безвкусным коммерческому кино, шоу, музыке, телевидению.
Американцы ощутили потребность в своем театре, серьезном, глубоком, и стабильном, и широком, национальном, не ограниченном одним Бродвеем, и этот спрос стал осуществляться довольно быстро, с американским размахом и организационным опытом. В короткое время были построены замечательные театральные здания, каждый штат считает своим долгом иметь у себя так называемый региональный театр, постоянный и не хуже, чем у других; усилились и приобрели серьезный вес университетские театры, всевозможные студии и школы. Театры офф-Бродвея и офф-офф Бродвея, то есть тоже столичные, но небольшие, не занятые бизнесом, отличают высокий вкус, поиски, суперавангардизм. Упадок великого американского кино, однообразие телевидения еще более усилили тягу к театру. Тем более что серьезный театр не занимался просто развлечением зрителя, устами Уильямса, Олби, Миллера, Сарояна и других американских, а также европейских драматургов он говорил правду о жизни, о человеке, об обществе. Подлинная, настоящая, а не расхожая американская литература, всегда отличавшаяся высоким мужеством, правдивостью, оригинальностью и, главное, искренним и чутким человеколюбием (от Уитмена до Фолкнера, от О’Нила до Олби), зазвучала с подмостков во всю силу.
Естественно, этот спрос вызвал потребность в новых актерах, режиссерах, художниках, продюсерах, администраторах. А где брать деньги, если театр «горит»? Государственной дотации, как у нас, там нет, спектакль, не собирающий зрителя, никому не нужен и сходит со сцены не постепенно, а моментально. Пожертвования, меценатство, корпорация пайщиков — вот как организуется дело. А ведь разбег все равно нужен, право на ошибку необходимо, удача — гостья, а постоянному успеху предшествует постоянный предварительный изнурительный труд, как в балете или в музыке: годы труда, упражнения, чтобы четыре или пятнадцать минут сверкать на сцене. Но это техника. А талант? А новизна? Театр — это чувство нового, это всегда открытие, а не пережевывание уже однажды жеванной, холодной жевательной резинки. Зритель должен быть потрясен. Он любит за три часа в театре и за свои пять — десять долларов прожить целую жизнь, смеяться и плакать, играть вместе с драматургом и артистами в эту странную игру. — Театр, который умеет так удивительно превратить взрослых, практических и рассудительных господ в детей, подпевающих веселый куплетик чудаку-артисту.
Но искусство и пайщики — две вещи, тоже не легко уживающиеся. Пайщику хочется быть хоть в чем-то уверенным. Или по крайней мере знать: а чем собираются привлечь публику?..
Не будем углубляться здесь во все проблемы американского театра, я только хочу обратить внимание на их сложность, новизну и объяснить, откуда такая потребность в новой, оригинальной драматургии и забота о ней.
Мы приехали в очаровательное место среди зеленых холмов и лужаек, где растут старые медные буки и прозрачная вода накатывает на белый песок. Мирный, старинный край, над которым никогда не проносились военные бури. Нас поселили в летнем пустующем студенческом кампусе, где на крышке стола можно найти вырезанную ножом надпись с малоприличным эпитетом в адрес родного колледжа.
Главное театральное здание мест на двести переделали из старого коровника, но, поскольку погода стояла хорошая, репетировали и играли прямо на лужайке, на простом помосте, окруженном полукруглой деревянной трибуной высотой в четыре скамьи, как на волейбольной площадке. Вечерами театр осеняла не по-нашему перевернутая Большая Медведица, тянулись по заливу корабли в топовых огнях, дул ветерок, пахнувший морской капустой.
О’Ниловская конференция проходит иначе, чем наш дубултский семинар: у нас просто читаются и обсуждаются участниками пьесы, а здесь они играются. Приглашенные актеры и режиссеры за четыре дня готовят, почти импровизируют спектакль, актеры играют, не выпуская текста из рук. Это откровенное условие никому не мешает. Кстати, рукописи обращают на себя внимание тем, что они странно разноцветны. В чем дело? Оказывается, белая бумага — это первоначальный вариант, желтая — поправленный, красная — еще поправленный. Вся работа видна на экземпляре: вычерки, вставки, исправления.
На другое утро на той же лужайке происходит обсуждение вчерашнего спектакля. Участвуют сами драматурги, критики, гости, артисты, зрители (зрителей приглашают из соседних городков). Обсуждение, как правило, ведет художественный руководитель конференции, глава и душа всего дела мистер Ллойд Ричард, полный, живой, седовласый, чернолицый человек с удивительно добрыми глазами. Он не любит пустых разглагольствований, повторов, тянучки, но не мешает вспыхивающему спору и не давит чужих мнений своим авторитетом опытного режиссера — он, между прочим, является также главным режиссером старинного шекспировского театра-студии Йельского университета — там, собственно, и зародилась идея О’Ниловской конференции.
Ллойд Ричард и рассказывал нам подробно об организации этого нелегкого дела. Отбор драматургов идет весь год, вернее, всю зиму. Двенадцать опытных рецензентов, критиков, писателей и режиссеров читают бесчисленное количество присылаемых как бы на конкурс пьес. Это не обязательно молодые по возрасту авторы (как и у нас); есть весьма почтенные люди, ветераны, старые артисты, пенсионеры. Из многих десятков пьес подбирается четырнадцать. Два места мистер Ричард всегда оставляет в резерве: вдруг в самый последний момент явится нечто необыкновенное, новый Нил Саймон или Мамет, Уиллер — это новые американские драматурги, приобретшие известность в последние годы.
Все отобранные пьесы снова и снова обсуждаются компетентной комиссией О’Ниловского центра, Советом доверия, куда входят крупные режиссеры, критики, профессора, писатели. Любопытно, что одно из правил, введенных Ричардом, не позволяет появляться на фестивале коммерсантам, продюсерам, режиссерам коммерческих театров, которые могли бы здесь же, на месте, заграбастать себе новую пьесу, которая нуждается еще в дальнейшем совершенствовании. Потом — пожалуйста. И скажем, результат прошлогоднего фестиваля — две пьесы на Бродвее и десять уже идущих в провинции.
Понятно, что при таком отборе требования довольно жесткие, серьезные, участниками конференции становятся люди, как правило, профессиональные, перспективные, и здесь, на месте, за тот месяц, что идет общая работа, драматург может не только сопоставить свое творчество с творчеством товарищей, но и практически «довести» свою вещь, окончательно ее доделать. Для чего и происходит в основном проверка сценой.
После обсуждения, когда собраны все критические замечания, автор и режиссер снова делают поправки, в рукописях появляются вклейки желтого цвета, и спектакль играется еще раз — такой прогон уже вполне убедительно обнаруживает и достоинства, и недостатки работы.
Словом, это интересно. Это живое, творческое дело, которое втягивает каждого, кто захочет вот сейчас, сегодня принять участие в одной из репетиций, в другой, в третьей или в подвале под бывшим коровником, тоже превращенном в репетиционный зал, захочет наблюдать съемки учебного же телефильма, телеспектакля, идущие при помощи аппаратуры, которую неугомонный Ллойд Ричард или авторитетный мистер Уайт взяли взаймы, выпросили у телевидения — кстати, одна из крупных организаций, которая помогает, финансирует конференцию — это Эй-Би-Си.
Здесь трудно рассказать обо всех пьесах и обо всех шестнадцати авторах, участниках конференции нынешнего года, да и не все нам удалось посмотреть. Но главное выделить можно. Все авторы, будь то молодая Гранвилетт Уильямс с ее первой телевизионной пьесой о негритянской семье, или вполне профессиональная писательница Элизабет Блейк, создавшая уже немало коротких пьес, или актер Роберт Аулетта с его первой комедией с вызывающим названием «Сексуальная история», или Дейр Клабб, написавший очень сложную, серьезную, стремительную драму из коротких, как кинокадры, сцен, полных жестокости, страстей, убийств, — все без исключения стремятся к изображению или, вернее, к постижению сегодняшнего сложного, чем-то бесконечно мучительного их человеческого мира. Следуя лучшим традициям своей литературы, драматурги с душевной болью повествуют о человеческих комплексах, зажатости, несвободе, горестях маленького человека. И не просто маленького социально, но часто духовно маленького. В театре, как и всюду, есть всегда своя мода, и вот теперь с американской сцены не сходит то ли закомплексованный юноша, то ли инвалид, калека, то ли одинокий старик или старуха — так отражается тревожный мир человеческого отчуждения, некоммуникабельности, жестокости жизни.
Все это понятно и объяснимо, но хочется спросить: не чересчур ли? Не однобоко ли? А если это так, то делается тревожно и грустно, отступает куда-то праздничная, летняя, красивая страна, ярко одетые люди, чистенькие дома, ухоженная земля, самолеты, машины, витрины — остается один озябший от одиночества или брызжущий во все стороны ядом неудовлетворенности герой. И только он один. Гуманистический настрой авторов, призыв дойти до каждого, до ребенка, впервые ожегшего руку, и до матери, теряющей детей, вдруг оборачивается томительно-мрачной картиной жизни вообще. Куда ушли хемингуэевская романтическая стойкость героя-одиночки и бесконечное упорство фолкнеровских героев? Неужели так беден, так духовно убог, нерадостен мир американцев? И почему одним мюзиклам отдан юмор, радость, молодость, свет? Возможно, я сгущаю краски, но так показалось, что в большинстве новые пьесы более ориентируются на требования и эталоны театра, уже сложившееся сегодня, нежели вырываются непосредственно из жизни, без повтора и реминисценций.
Но об этом следовало бы говорить обстоятельнее и доказательнее — мой же рассказ чисто информационный. Как бы там ни было, но О’Ниловский фестиваль дал театрам страны за шестнадцать лет 230 новых пьес 169 авторов — немало! Практически все новые пьесы, идущие в США, пришли отсюда, с этого романтического берега, где обосновывались когда-то первые поселенцы страны: лесорубы, корабелы и китобои, здоровый и выносливый народ.
Мы провели там свою небольшую встречу-беседу с участниками конференции, рассказывали о нашем театре, его новинках, о себе — атмосфера была самая дружеская. Как нельзя более кстати прозвучали слова Александра Штейна, человека, прошедшего войну, написавшего о ней, — эти слова процитировали потом газеты, — что «прошлая война может показаться детской забавой по сравнению с теми разрушениями, которые может причинить ядерное оружие», и что «никто этого не хочет».
Призма Маркеса
Помнится, когда-то, впервые испытав потрясение от «Ста лет одиночества», мы, кажется, полностью воздали Габриэлю Гарсиа Маркесу дань восторга и благодарности. Это было как взрыв, это было событие, взбурлившее читательское море. Неожиданная книга, поэма-роман, сага о роде Буэндиа, симфония или, скорее, фантазия на тему «что есть жизнь?», — она раздвинула наш горизонт, подарила нам мир, дотоле неведомый, — странно, как мы не знали его раньше? — вывела перед нами галерею типов, мужчин и женщин, поразительно живых, достоверных, удивительно увиденных. Писатель не просто повествовал, не просто поведал нам далекую историю, пленившую нас экзотикой, — нет, им было сказано — поверх историй и образов — еще нечто неуловимо-важное, чему, может быть, даже нет названия. «Сто лет одиночества». Что это значит?
Мы написали в наших сердцах: Маркес, мы поместили это имя в созвездие лучших писателей XX века.
Нашлись, разумеется, и скептики: иные читатели не принимали именно причудливость книги, ее гипербол, иронии, не могли различить правду ее вымысла, вязи ее письма. Слышались ссылки на Гоголя, на Фолкнера, — хотя что же плохого в таких ссылках? Потом явилось определение: магический реализм, литература Карибского моря. Как признавался сам Маркес, это Кубинская революция привлекла внимание читающего мира к литературе Латинской Америки, заставила увидеть и оценить то, мимо чего раньше проходили без внимания.
После «Ста лет одиночества» были переведены рассказы Маркеса, повести, мы многое узнали о личности автора, художника и борца, и обаяние этой личности еще усилило нашу привязанность к его произведениям, раскрыло нам их корни. Затем явилась на свет не менее сокрушительная, чем первый роман, «Осень патриарха» (споров стало еще больше: что лучше?), и имя Маркеса, захватывая все новые и новые читательские круги, стало звучать еще мощнее.
И все-таки теперь уже никогда, видимо, не отделаться от того первого, удивительного впечатления, которое произвело «Сто лет одиночества». Перечитывая роман сейчас, испытываешь, вместе с радостью воспоминания, прежнее чувство новизны и свежести. И хочется опять поговорить о Маркесе, подумать о его даре, опыте, о принадлежащих ему художественных открытиях и вновь отдать этому человеку дань уважения.
В самом деле, почему эта трагическая, в сущности, книга, полная печали, с апокалиптическим финалом, с гибелью в с е х населяющих ее героев, звучит тем не менее ликующе радостно и навсегда оставляет в душе след света, а не мрака? Нельзя не различать раблезианскую усмешку рассказчика, но вместе с нею не слышать стона отчаяния, — о великой утрате, о потере, которой нет возврата. Кажется, сам дьявол смеется над людьми в этой книге и сам бог, сострадая, в бессилии, предостерегает их. От чего? От чего? Скорее всего, от самих себя.
Мысль Маркеса о жизни, о человеке широка и вместе с тем сурово-определенна. Его система познания беспощадна. У него мужицкий опыт и мужицкий взгляд. Но это только закваска. В его крови играет солнце, он поэт, дудочник, пересмешник, лирик. Его система беспощадна, она ведет к объективному, надмоментному; казалось бы, перед нами самый строгий реалист, переносящий на полотно лишь то, что есть. Но вместе с тем как прекрасно искажен изображаемый им предмет, сколько сияет вокруг радуг, и правда воображаемого от этого не расплывается, но фокусируется еще точнее.
Как много перемешано, смещено, перепутано на первый взгляд в этой книге и как, в конце концов, все ясно, просто и определенно прочерчено. Как в самой жизни. Какие сверкают человеческие личности, какое разнообразие, сколько энергии, усилий, страсти — и рок судьбы, предопределенность, цыганская ворожба Мелькиадеса, которая сбывается то ли потому, что к а ж д ы й был хоть в чем-то виноват, то ли потому, что не был виноват никто, и дело не в чьей-то вине, а в чем-то еще. В чем? В чем? В чем? — вопиет эта книга, полная любви к жизни и отчаяния оттого, что жизнь проходит… Жизнь проходит, люди проходят, могикане сходят с ума, и их сажают на цепь, младенцев пожирают муравьи, героев убивают предатели, — их пули попадают прямо в божью отметину на лбу, прекрасные женщины превращаются в лысых старух, а галионы, оснащенные всеми парусами, гниют среди леса, на суше. Сто лет одиночества, сто лет одиночества…
Разве дело в смерти? Нет, Маркес не боится смерти и знает, что не одна ее коса косит человеческую траву. В системе его верований и его представлений о жизни смерть занимает свое, н о р м а л ь н о е место, и совсем нетрудно поставить ее в ряд с другими событиями человеческой жизни. Не более того. «Амаранта увидела свою смерть в один жаркий полдень… смерть сидела и шила и галерее рядом с Амарантой, и та сразу же ее узнала: в ней не было ничего страшного — просто женщина в синем платье, длинноволосая, немножко старомодная». Смерть есть смерть.
Но отчего же вырождается и гибнет могучий род Буэндиа, какой червь точит и точит это крепкое яблоко? И один ли червь? Что они делают с собой, эти люди, и что делает с ними жизнь?
Веселая и даже озорная поначалу форма рассказа не может скрыть от нас библейских аналогий Маркеса. Он начинает свой эпос об истории Макондо, о роде Буэндиа с тех времен, когда «мир еще был таким новым, что многие вещи не имели названия и на них приходилось показывать пальцем». Сотворение нового мира совершается в сказочных джунглях, вдали от всего света. От первой пары в роду, Хосе Аркадио Буэндиа и Урсулы, рождаются двое мальчиков с разными характерами и судьбами. Является странная фигура Мелькиадеса, черного цыгана, исполняющего роль дающего познание совратителя. Сказочные цыганские и нецыганские чудеса наполняют этот первобытный мир. И как могучи, легендарны, цельнокроены первые из рода, родоначальники, основатели, зачинатели истории. Да здравствует жизнь! Но тем не менее Маркес сразу же фиксирует свое внимание не на том, как предки корчевали пни и пахали землю, а на том, как бушующие в них природные силы вносили разлад в их же судьбу. Либо эти силы не находили применения, либо расходовались на пустяки: на изготовление леденцов, на алхимию, на золотых рыбок, которых бесконечно чеканит полковник Аурелиано. У всех Буэндиа «могучее воображение», которое «увлекает не только за ту грань, перед которой останавливается созидательный гений природы, но и дальше, за пределы чудес и волшебства».
Вообще, пока люди сражаются с природой, добывая кусок хлеба и строя свой дом, они обнаруживают и силу, и выдержку, и здравый смысл, но, вступая в борьбу с собою, со своим характером и страстями, они чаще всего терпят поражение. «Они все такие, — говорит старая Урсула. — Сумасшедшие от рождения». Но сумасшедшие по-разному. «В то время как все Аурелиано были нелюдимыми и обладали проницательным умом, все Хосе Аркадио отличались порывистым, предприимчивым характером и были отмечены знаком трагической обреченности». Не зря первая в роду трагедия с Хосе Аркадио Буэндиа, «самым толковым человеком в деревне», происходит тогда, когда он «позволил воображению ввергнуть себя в состояние непреходящего бреда».
Может быть, Маркес смеется? Может быть, он рассказывает свою историю так же, как веселый студиозус, вернувшись после каникул из родного медвежьего угла, рассказывает приятелям о своих чудаках-«предках»? Так насмешничает и озорничает вместе с сестрой Амарантой мальчишка Аурелиано-последний, когда они таскают свою прародительницу, бабку Урсулу, немощную и высохшую, как куклу, по всему дому. Да, Маркес смеется. Но тут же он глядит пристально и страстно, умно и обреченно, как тот же Аурелиано-юноша, который, оторвавшись однажды от старых книг, видит вокруг себя закат Макондо, разрушающийся дом своих предков, декаданс, — и сам, последний в роду, идет на гибель: прекрасная и грешная любовь к сестре, от которой старики уберегали пять поколений Буэндиа, да так и не уберегли, замыкает эту звенящую цепь жизни.
Маркес и смеется, и плачет, и негодует, и страдает. Он глядит не через лупу, а сквозь призму: все сияет, все ярко и близко. Он пишет о родном, своем, беря этот мир из сердца. Макондо — есть целый мир, как любая деревня есть целый мир (Обломовка или Йокнапатофский округ), и между Макондо и в с е м остальным миром можно поставить знак равенства. «Нам никто не нужен для исправления — говорит Хосе Аркадио присланному в Макондо коррехидору — исправнику, — у нас здесь нечего исправлять». И в самом деле, в Макондо есть все: бесконечный спектакль жизни с его неожиданными завязками и кульминациями разыгрывается перед нами; герои и негодяи, королевы и простушки, клоуны и колдуньи, соперницы, незаконнорожденные дети, — кого здесь только нет. Комедия, драма, война, смерть, верность, предательство, страсти низкие и высокие, — что вам нужно еще? Мало того, у Макондо есть р а з в и т и е, начало и конец. Замкнутый его мир сворачивается в конце концов, как змея, головой внутрь. Сто лет одиночества даром не проходят.
Маркес бесконечно любит свое Макондо, но, дитя нового мира и нового века, он понимает (и доказывает), что патриархальность иллюзорна, она обречена, она нелепа. Казалось бы, на Макондо, на его нравы не производит впечатления ни железная дорога, ни банановая лихорадка, ни война, ни забастовка, ни расстрел забастовщиков, — история будто бы понапрасну развевает над Макондо свои знамена. Но это только кажется.
Языческая вера в судьбу и предопределение недостаточны для объяснения в с е г о, что происходит с родом Буэндиа. Клеймо одиночества, «знак трагической обреченности», к сожалению, подтверждены тем, как устроена жизнь. Полковник Аурелиано, один из самых прекрасных и трагических образов Маркеса, еще «в животе у матери плакал и родился с открытыми глазами», будто предвидя, какая жизнь его ждет. Он становится национальным героем, главнокомандующим, поэтом, достигает высшей власти и славы, его именем назовут потом улицу в Макондо. Но что же дает это е м у? Он «поднял тридцать два вооруженных восстания и все тридцать два проиграл», «у него было семнадцать детей мужского пола от семнадцати разных женщин, и все его сыновья были убиты один за другим, в одну-единственную ночь». Он испытал великую любовь, но после смерти своей юной жены жил в «пассивном тоскливом ощущении обманутых надежд». Он «запутался в пустыне одиночества своей необъятной власти», и «только он один знал, что его безрассудное сердце осуждено на вечные муки неуверенности». И еще: «Он сделал последнее усилие, чтобы отыскать в своем сердце то место, где он сгноил все свои добрые чувства, и не смог его найти». Но почему, почему? И Маркес вынужден сказать, ссылаясь уже совсем не на судьбу: «Война все уничтожила». Даже если полковник был рожден для войны, е м у она не дала ничего. И умирает он в тот момент, когда «снова лицом к лицу встретился со своим жалким одиночеством».
Потом, в «Осени патриарха» мы прочтем о злодее, узурпаторе, безграмотном, темном правителе, вызывающем отвращение и насмешку, и узнаем в нем зачатки, черты Аурелиано (как в повести «Полковнику никто не пишет»), и даже испытаем к негодяю-правителю почти жалость за муки самого страшного наказания, которым он наказан: за тоску одиночества.
Одиночество есть производное индивидуализма, обособления и исключительности. На все лады исследуя и разглядывая сквозь свою спектральную призму это человеческое состояние, Маркес видит, что к нему могут привести свойства не только отрицательные, но и вполне замечательные: гордость, талант, воображение, красота. Отличие — вот, может быть, начало пути в одиночество. И трагедия индивидуума в том, что иным, чем он есть, он быть не может, а таков, как он есть, он не нужен. Или не нужен, или обречен на одиночество.
А одиночество — невыносимо. Цыган Мелькиадес, например, который «действительно побывал на том свете», «не смог вынести одиночества и возвратился назад». И точно так же у мертвого Пруденсио Агиляра «за долгие годы пребывания в стране мертвых тоска по живым стала такой сильной, необходимость в чьем-то обществе такой неотложной, а близость еще одной смерти, существующей внутри смерти, — такой устрашающей, что Пруденсио Агиляр возлюбил злейшего своего врага». Вот, оказывается, как! Вот он, может быть, самый близкий путь любви к ближнему!
Критики много говорили и писали о том, что Маркес — глубоко народный писатель. Да, его демократическая закваска неистребима, его герой — всегда народ, его повествование фольклорно, «материала» одной деревни ему вполне хватает для эпоса. Сам стиль Маркеса, столь поразивший читателя, эта безудержная фантазия, может быть, не что иное, как атмосфера сказки, которые в детстве он слышал от своей Арины Родионовны, бабушки Транкилины, — Маркес сам рассказывал об этом в одном из интервью. Все «чудеса» Маркеса, его знаменитые теперь струйки крови, бегущие через весь город от убитого сына к матери, или простыни, на которых улетает в небо Ремедиос, или желтые бабочки, спутницы любви Меме, — это е с т е с т в е н н о е продолжение человеческого изумления перед чудом жизни, преломление жизни в сказку.
Маркес идет к фантастике через быт, через замкнутый мир Макондо. Любопытно, но, может быть, ничто так не будит фантазию, как одиночество, как деревенская тоска. Миру, широко раскрытому, технически оснащенному, научно объясненному, социально организованному, как-то не идут сказочные объяснения необъяснимого. Необъяснимое вообще называется всего лишь непознанным. Солнечный свет или дождь не принадлежат у нас к числу чудес.
Зато уж когда дождь идет в Макондо, то он идет «четыре года, одиннадцать месяцев и два дня», опять же как библейский потоп. Между шестеренками «бесплодных механизмов» прорастают цветы, а в отсыревшем белье «заводятся водоросли шафранного цвета». Но мало того: в домах сидят «люди с остановившимся мертвым взглядом, они сидят, скрестив руки на груди, всем своим существом ощущая, как течет поток цельного, неукрощенного, неупорядоченного времени, ибо бесполезно делить его на месяцы и годы, на дни и часы, если нельзя заняться ничем, кроме созерцания дождя».
Маркес — народный писатель, и это дает ему право не только говорить от имени народа, но высказывать самому народу то, что писатель думает о нем. Маркес позволяет себе нарушить канонические литературные табу насчет народа: народ всегда прав, всегда безгрешен, всегда велик. Всегда ли?.. В «Осени патриарха», в фигуре самого героя, выходца из народа, сына рыночной птичницы, Маркес соберет не очень привлекательные, но тем не менее именно народу присущие черты: консерватизм, упрямство, слепую веру, долготерпение, тщеславие, страх и жестокость. Дождь порождает сон, сон отнимает разум, сон разума, как известно, порождает чудовищ.
В Макондо происходит «постоянно нарастающее ухудшение качества времени». «Вялые медлительные люди не могут противостоять ненасытной прожорливости забвения», а людей невялых, ярких и быстрых, которыми отличался, в частности, род Буэндиа, становится все меньше, — их, к сожалению, пожирают разные формы одиночества. «Дух лености, раскаленной пыли и тяжелого сна» после обеда приходит на смену прежним бурным годам. Народное в высоком смысле слова, историческом и героическом, уступает место обывательскому, пищеварительному, тупому. Когда-то старая Урсула говорила, что в этом году все повторяется, идет по кругу, — но в этом по крайней мере была надежда, что вместе с ничтожным или диким повторится и выдающееся, необычное. Но — увы. И другая женщина, как бы вторая «теневая» прародительница рода, блудница Пилар Тернера, знает и говорит иное, идет дальше: карты и собственный опыт открыли ей, что история этой семьи представляет собой цепь неминуемых повторений, вращающееся колесо, которое продолжало бы крутиться до бесконечности, если бы не все увеличивающийся и необратимый износ оси.
Печальные и прекрасные слова. И может быть, в них-то и заключен секрет, смысл всей этой книги. Бесстрашный реалист, смелый сказочник (что одно и то же) приводит себя и нас к выводу, который всем известен, но всегда неприятен: когда-нибудь колесо остановится. Износ оси необратим. Будь то ось одной жизни или семьи, рода, даже народа, и даже будь то ось земли. Износ необратим и неотвратим. Ничего не поделаешь. Но это н о р м а л ь н о. Как «жили-были». И ничего страшного в этом нет. Страшны не естественные концы, а другие, «смерть внутри смерти», смерть души, порыва, надежды, несовмещения. Ужасно то, что не осуществилось, не состоялось. Но все, что было живо, что жило, — то благословенно.
Человек смертен, говорит нам Маркес, и бессмертен. Прекрасна одна жизнь, полная бури и страсти, и прекрасна другая, иноческая и исступленная. Прекрасен полковник и прекрасен мальчик, женщина и бабочка, луч и дождь, явь и сон. Все н е п о в т о р и м о, говорит нам насмешник-автор, который на протяжении всей книги хотел уверить нас, мистифицировал нас, не раз повторяя, что все идет по кругу. Нет, не идет, все неповторимо, и, как бы ни были похожи все Хосе Аркадио между собой, а Аурелиано между собой, каждый — неповторим, каждый о д и н о к в лучшем смысле этого слова, и каждый слит с другим — как это было с близнецами.
Зачем жить, если все проходит, все пройдет?.. Затем, что наше «я» — неповторимо, что эта неповторимость уже, может быть, есть оправдание человеческого существования на земле. Мы родились, чтобы украсить и удивить собою этот мир. Так это сделали все Буэндиа.
Сказочный, магический метод Маркеса рожден внутренней потребностью, необходимостью говорить о мире и человеке удивленно и высоко. Подобно старику Мелькиадесу, зашифровавшему свои рукописи, Маркес «расположил события», о которых рассказывает, не в обычном, принятом у людей времени, а сосредоточил всю массу каждодневных эпизодов за целый век таким образом, что они все сосуществовали в одном-единственном мгновении. То есть, если перенести это на человека, то Маркес старался, чтобы в тот миг, когда он говорит об Аурелиано, или о Ребеке, или об Амаранте (надо отдельно и особо поговорить о женских образах Маркеса), — чтобы в тот миг мы знали бы о человеке все, от начала до конца, обо всей его жизни, — е г о жизни, включающей в себя и связывающейся с жизнями в с е х, кто есть рядом, кто был до него и будет после. Наверное, в этом гуманистический пафос этой книги, светлый и оптимистический ее заряд. На кого ни посмотрит Маркес, на какой, пусть самый темный, предмет ни наведет свою призму, все равно объект вспыхнет и загорится множеством разных красок. Разных, самых разных.
Современная литература грешна перед человеком: она много занята раздеванием его, разоблачением, принижением, тычет ему в глаза его пороки. Наверное, это нужно. Но писатели не могут, не имеют права делать это б е з л ю б в и к человеку. Есть писатели, которые знают это, но все равно пишут, хотя любви не испытывают. Но любовь — вещь такая: или она есть, или ее нет. Тут не обманешь.
Маркеса испепеляет любовь. К людям, к жизни, к дню, к ночи. Это жадная любовь живописца. Это страсть. Маркес любит человека высоко, вдохновенно. Он пишет об этом, и в нашем прекрасном русском переводе это звучит так, на этом мы и закончим, на этом любимом всеми отрывке: о том, как возносилась Ремедиос Прекрасная: «…окруженная ослепительно белым трепетанием поднимающихся вместе с ней простынь: вместе с ней они покинули слой воздуха, в котором летали жуки и цвели георгины, и пронеслись с ней через воздух, где уже не было четырех часов дня, и навсегда исчезли с нею в том дальнем воздухе, где ее не смогли бы догнать даже самые высоколетающие птицы памяти».
Три воздуха, а не один — вот призма Маркеса.
Писатель и время
К несчастью, нет больше с нами писателя Павла Филипповича Нилина. А он работал в литературе более полувека, занимал в ней заметное место, был любим читателем, и многие наверняка помнят, что П. Нилин — автор знаменитого фильма «Большая жизнь» и не менее знаменитых повестей «Жестокость», «Испытательный срок», «Через кладбище».
Всякий раз, как вспомнишь, что его уже нет, сердце на́свежо печалится этой утратой. Но вместе с тем яснее и острее понимаешь значение писателя, глубже можешь обобщить и оценить его труд.
Право читателя — взять у писателя все или только одно, то, что лежит на поверхности: сюжет, героя, который понравился, ловкое слово, мораль, юмор. И его может совершенно не интересовать и не касаться личность писателя и его жизнь, — часто многие и не знают, не помнят, «кто написал». А личность (как и безличие) о б я з а т е л ь н о проявляется в любом произведении, и хотим мы или не хотим, но всегда, читая книгу, узнаем всего писателя, читаем его самого, входим и вникаем в его мир. Стиль — это человек, индивидуальность, а нам и интересен прежде всего человек. Движение современной литературы от «сочинительства», беллетристики, искусственности к исповедальности, документальности, очерковости тоже, вероятно, в какой-то мере вызвано потребностью скорее выйти один на один с рассказчиком, заглянуть ему в глаза: кто ты? что ты можешь мне сказать?..
Но безусловно, мы читаем и думаем: что именно в жизни и в человеке занимало писателя и что он в ы б р а л, какие были его пристрастия, как именно э т о зеркало отразило мир?
Читаешь нилинские рассказы подряд и заново удивляешься: какое многообразие и какая последовательность. Смотрите, здесь вся эпоха, вся биография советского строя: и предреволюционная Россия, и революция, и гражданская война, и потом Отечественная, и годы нэпа и индустриализации, и даже международная тема.
Нетрудно увидеть и творческий рост писателя, движение его прозы от несколько намеренно упрощенной и лаконичной в тридцатые годы (такова тогда вообще была манера, ибо и в литературе бывает своя мода), к более глубокой, свободной, авторски раскованной в последний период.
И даже более того: можно заметить, как времена общественного подъема, светлых или трагических моментов нашей советской истории, влияя на художника, отражались также либо подъемом, либо упадком качества и его произведений.
Если же углубить анализ, можно увидеть и пробелы: ненаписанное и неосуществленное. То есть так и кажется, что, судя по всему, судя по общественному темпераменту писателя, по его страсти, он должен был бы вот тогда-то и тогда-то написать то-то и то-то. (Как разгадка таблицы элементов Менделеевым: если есть и такие элементы, то должны быть и такие). Но этого нет. Не написано.
Павел Филиппович Нилин в жизни был человек своеобразный, острослов и язвитель, особенно когда дело касалось литературы и братьев писателей, суд его бывал строг и нелицеприятен, но и себя частенько не щадил, поругивая за то, что вот это, дескать, не пишется, а о том-то надо бы непременно, и вот тако́й-то замысел возник, а когда успеть, неизвестно. И он сильно сокрушался и искренне мучился этим.
В литературе, в писательских судьбах особенно бывает видно неосуществленное. Люди знают, что делать, хотят, уже гордятся и хвастают своим замыслом как уже сделанным, и даже постепенно им самим начинает казаться, что несделанное существует как сделанное (так много они говорят об этом и думают), но… на самом деле нет ничего — одни мечты, прожекты, фантазии.
Но литература не химия, писательская жизнь, частная и творческая, весьма далека от логики таблицы Менделеева. Осуществиться писателю, состояться вообще нелегко, а осуществить все замыслы, наверное, не удавалось никому. И судят писателей по тому, что ими сделано.
Все так. И однако что-то есть в пробеле тоже. И пробел, наверное, может быть столь же выразителен, сколь пауза в театре. И как пауза, быть душераздирающим и трагическим, или ироническим, или просто многозначительным.
Павел Нилин был накрепко связан со своим временем, страной, народом. Жанр рассказа, наверное, больше всего близок к стихотворению, его природа эмоциональна, непосредственна: рассказ — это всплеск, его пространство невелико и время одномоментно (даже если рассказ вмещает в себя целую жизнь или эпоху), рассказ принадлежит к литературным войскам «быстрого реагирования». И наверное, поэтому в рассказе наиболее, как в стихотворении, проявляется, изливается душа писателя и видно все ее волнение: из-за чего, почему. И рассказ емок.
Наверное, поэтому в эпохи бурные, быстрые, переменчивые, «подъемные» так цветет обычно поэзия и так фонтанирует рассказ: достаточно вспомнить двадцатые-тридцатые годы и имена… впрочем, имен не перечислить, потому что, кажется, все писали рассказы, и все писали неплохо, а некоторые просто замечательно.
Но я вспоминаю об этом, собственно, вот для чего: чтобы увидеть, как л и ч н о с т ь писателя отражается в том, что он пишет, как жизнь его раскрывается перед нами и как именно это личное, накапливаясь и отбираясь годами, в конце концов, оказывается, может быть самым интересным. Вот ведь что любопытно!..
Писатель участвует, волнуется, наблюдает; его время, события, великие и малые перемены — все воздействует на него. И он пишет, конечно, свое время, его героев, его проблемы. Мы говорим: «певец своего времени». Конечно, своего, какого же еще!
Но писателей сотни, а время одно. И события одни и те же: революция, война, мирное время, опять война. Но как по-разному отражается та же, например, гражданская у Шолохова, или, скажем, у Булгакова, или у Артема Веселого и у Бабеля.
В наше время, к сожалению, бывает так, что хорошая, о р и г и н а л ь н а я книга, как ледокол, тянет за собой караван себе подобных, и это считается нормальным. Хотя литература зиждется на том, что в с я к а я книга должна быть оригинальна. Одна лишь тема не может быть критерием произведения. Но эпигонство, к сожалению, расцветает махровым цветом. Хотя в литературе нельзя что-либо воспевать хором и «певец своего времени» — это певец, а не хорист.
У каждого таланта свой взгляд, свое пристрастие, свое направление.
Все влияет на талант, первое свойство таланта — впечатлительность, он, как сахар или соль, впитывает в себя любую каплю влаги. Но — как сахар или — как соль.
Повествуя о жизни других, писатель повествует о себе, и мы ясно чувствуем привкус сахара или соли.
Посмотрите, какое влияние оказала на П. Нилина родная Сибирь, город Иркутск, его детские и отроческие, а потом юношеские впечатления.
Это рассыпано повсюду, и дело не только в деталях, не только в том, что Сибирь географически стала местом событий, происходящих во многих его повестях и рассказах, но, вероятно, Сибирь же повлияла и на то, что писателя Нилина стали особенно привлекать герои с «сибирскими» характерами: мужества, выносливости, отваги, прямоты, трудолюбия и самолюбия.
Все мы без конца возвращаемся и возвращаемся к своей юности, к своим первым опытам: работы, любви, дружбы, борьбы, войны. Писатель есть исследователь, и он упорно повторяет опыт, поставленный жизнью над ним самим: каким я был, как поступал, почему так, а не иначе? Что вообще было тогда? Где я сплоховал, где был молодцом? Опять же почему?
Все это очень важно, и это мучает каждого человека, пока он не найдет правды и не скажет наконец ее себе.
Думаю, из рассказов нетрудно вычитать, каков был жизненный путь самого писателя (П. Ф. Нилин родился в 1908-м, умер в 1982 году) — мальчишки из небогатой семьи, рано узнавшего и труд и горе; потом комсомольца, работника угрозыска, газетчика, строителя, писателя, военного корреспондента.
Нельзя писателя заставить писать о том, чего он не знает, не любит, не понимает или не принимает. То есть заставить, конечно, можно, но ничего хорошего из этого не выйдет. Всякий писатель пишет о с в о е м.
И вот Павел Нилин, например, стал писать о рабочих не только потому, что так требовала молодая страна рабочих, а потому что это было для него органично. Ему не требовалось подделываться или перестраиваться, он этих людей и знал, и любил, они всегда оставались объектом его внимания и пристрастия.
Нетрудно увидеть, как из рассказа в рассказ — от чахоточного жестянщика Павлюка до доктора Ермакова из африканского рассказа — движется г л а в н ы й герой писателя Нилина: человек труда, человек из народа. И некая одна черта, словно навязчивая идея, преследует в этих людях писателя, — черта, которая и ему самому особенно дорога.
Что же это?
Мы знаем, что «человек труда» — понятие расхожее и достаточно заштампованное. Что значит «человек труда»? Разные бывают «человеки труда». Но мы, разумеется, имеем под этим понятием подлинного человека труда, труженика, творца, воспевать которого и ставить в пример, как образец, требуют даже и государственные интересы.
Задача ясная.
Задача ясная, но понятие тоже довольно абстрактное и требует конкретизации.
Павел Нилин очень рано нащупал с в о е г о человека труда, выделил в этом понятии одну основную черту, ему самому наиболее близкую и дорогую. Вот его герои: Павлюк; Валя Лугина, работница; бесконечно занятой доктор Ермаков; американец-механик Тюлли, участник гражданской войны, «испорченный» русской революцией; старик Волков, который идет в швейцары, боясь помереть от сытой и бездельной жизни; обаятельная героиня рассказа «Впервые замужем», вечная труженица; супруги Полыхаевы из рассказа «У самой Волги», которые заняты послевоенным строительством. Все это люди труда. И все это разные, каждый со своим обликом персонажи.
Но что писателя-то занимает в этом собрании лиц? Насчет чего идет разговор? Зачем они все нам представлены?
Павлюк знает, что должен умереть, но работает до последнего, не суетится, делает свое дело; Варя Лугина расстается с мужем, которого она любила и от которого ждет ребенка, — только потому, что он попытался чуть-чуть закабалить ее; старика Волкова унижает и физически мучает безделье и т. д.
Пусть простит меня читатель, я не буду заниматься здесь подробным критическим «разбором», — мысль ясная: писатель выделяет в каждом своем «человеке труда» достоинство, честь. Вот что его интересует в тех, кто трудится, кто привык полагаться на себя и знает себе цену. Настоящий работник, рабочий, специалист — всегда гордый и независимый человек. И это есть его жизненное приобретение. Его не закабалишь. А закабалишь, он будет бороться и биться, хорошо сознавая — за что. Подневольный труд рождает рабскую психологию, труд свободный возвышает до понятия чести, незнакомого рабу.
Читаешь рассказы П. Ф. Нилина и видишь, как милы автору именно такие люди, простые и гордые, ясно глядящие, работящие, нравственно здоровые, то есть н о р м а л ь н ы е, люди, какими они и должны быть.
Но мир сложен и неласков, жизнь груба, борьба беспощадна. Автору хочется, чтобы мальчик, честно колющий чужие дрова в поте лица, был бы честно вознагражден, а не обманут, ибо это значит унижать достоинство человека. Но точно так же ему хочется в свою очередь, чтобы каждый человек с достоинством и понятием чести был увиден как человек, даже если это враг из рассказа «Загадочные миры».
Как само время, новые обстоятельства меняют взгляд на вещи! Можно, допустим, взять два рассказа П. Нилина — из дней войны и из дней мира (один написан четверть века спустя после первого) — и увидеть: жестокость войны заставляет молодого человека, мальчика, вчерашнего школьника, по натуре мягкого и доброго, застрелить своего лучшего друга, когда тот в неравном бою готов сдаться врагам («Линия жизни»). Чувствуется, как в самом авторе все противится такому финалу, как он изо всех сил производит этот «нажим», не строя при этом больших психологических лесов, какая для него мука, что такое вообще возможно между людьми на белом свете. Но — да, это возможно, и это необходимо.
При этом Павел Нилин не неженка, не голубых, как говорится, кровей, и он сам с наганом в руках бился за молодую Советскую власть в грозные годы. Видел всякое.
Но вот то-то и дорого, что можно не быть голубых кровей, навидаться всякого, умом понимать необходимость, скажем, расстрела врага, который только что стрелял в тебя, но при этом иметь человеческое сердце, а в нем и нежность, и печаль, и ужас от человеческой смерти, а не ликование по этому поводу.
Жестокость, жестокость, непримиримость, вражда, бой не могут быть н о р м о й человеческого существования. Непримиримость солдата в бою — это одно, но, например, непримиримость доктора Ермакова по отношению к другому русскому человеку, который по молодости, глупости, из-за страха и голода попал когда-то во власовскую армию, потерял навсегда родину и теперь мыкается по свету, живет где-то в Африке и дети у него чернокожие, — непримиримость доктора как бы и понятна автору, но все же горемыку ему тоже жаль. И ермаковская жестокость смягчается добротой жены Ермакова, которая говорит и понимает, что э т о г о конкретного человека можно бы теперь и простить.
Честь и гордость — это высокие моральные качества, и они обнаруживают в носителях их непременно и другую, высшую нравственную черту — человечность.
Человечность, я думаю, и есть главная особенность в творчестве писателя П. Нилина. И хоть не я первый отмечаю это, и хоть человечность, говоря по чести, есть или должна быть элементарным условием любой писательской личности и деятельности, основой любой писательской позиции, все же приходится отмечать эту особенность как достоинство, потому что было время, когда человечность вызывала почти осуждение и насмешки и именовалась попросту слюнтяйством.
Молодые люди не знают и не помнят, но те, кто постарше, знают и вспоминают с благодарностью нилинскую «Жестокость», — о, какой огромный был резонанс, какое откровение, когда на исходе самых суровых наших времен писатель пронзительно сказал именно о человечности, о цене человеческого достоинства, равного жизни.
Повлияло ли на писателя время, или он сам был столь самостоятельно мыслящ, независим, авторитетен, что, подобно Льву Толстому, потрясавшему общественное мнение из яснополянской цитадели, говорил то, чего не говорили другие?
Я думаю, здесь было счастливое движение друг навстречу другу: времени и писателя. У англичан есть поговорка: «Самое главное — готовность». Можно сказать, что у советских писателей это чувство развито особо. Оно есть безусловное достоинство, позволяющее в одну ночь написать «Вставай, страна огромная» или «Жди меня», и оно есть недостаток, но не будем сейчас говорить об этом.
Меняется время, оно требует от писателя новой, высшей степени правдивости, нового, яркого героя, нового слова, и вот… одним писателям есть что ответить на эти возросшие требования, а другим ответить нечего. П. Нилин обладал такой готовностью.
Он стал всматриваться в прошлое, в н е н а п и с а н н о е до той поры и нашел в нем, в себе, юном большевике первых послереволюционных лет, те черты, которые требовались герою шестидесятых: непоказную преданность своему делу, принципиальность, высокую нравственность, ненависть ко лжи и демагогии. Венька Малышев напомнил молодым людям (да и не только молодым), какими нужно быть.
Это еще одна особенность писателя Нилина: его молодость. Его герои обычно или молоды по возрасту, или их мироощущение молодо, свежо, как у чистого деревенского парня, без хитрости и суетности глядящего на мир. Его герои не рефлексируют, не психуют, они, как правило, цельны и мужественны. Это их естество.
И такова же их преданность и верность делу, которому они служат: они сломаются, но не погнутся.
Что это — закон времени или природа таланта, писательская мечта, которая воплощается порою в сильно преувеличенном, вымышленном (но все равно живом) образе или отталкивается, напротив, от очень конкретных случаев, прототипов, от самого автора и его жизненного опыта? Наверное, и то и другое.
Человеческое, естественное, правдивое, искреннее — вот главное, вот что надо искать и воспитывать в себе, чем руководствоваться в жизни. Быть молодым, быть непосредственным — и исполнять приказ. И — исполнять приказ и быть мыслящим, чувствующим, способным отличить добро от зла.
Это важные вещи. Важные в жизни любого человека.
И столь же важны они были в жизни и творчестве самого писателя.
Сначала интуитивно идя от себя, от своей биографии и особенности своего таланта, он все более осмысленно, все более глубоко исследует свое открытие — тонкую и сильную черту человечности, без которой человеку не прожить, — и настаивает на нем, отстаивает его. И тем самым — я не зря говорил об этом вначале — осуществляется.
Осуществляется потому, что, как и его герои, является ч е с т н ы м тружеником на ниве литературы, работником, который хочет сделать свое дело добротно, не в похвальбу, а на пользу, который нашел секрет, как мастер, и, верный этому секрету, в поте лица добивается совершенства.
Павел Филиппович Нилин был щепетильным, дотошным мастеровым в своем литературном деле, очень ищущим, нервным и тонким (он пришел к таким вещам, как «Дурь»). Но он не был высокомерен, не кичился, он умел признать силу другого таланта, и, бывало, его охватывало смятение перед напором нового, уже другого времени, которое, как он понимал, уже не дано освоить. И может быть, он не решался, или сильное волнение уже не давало ему выйти на ринг, чтобы схватиться с молодыми.
Он был человеком большого достоинства.
И он — я раскрою сейчас предположение (или утверждение), которое так и рвется все время у меня с языка (и это, я думаю, обязательно должен чувствовать каждый, кто волнуется, читая нилинские рассказы), — он был поэтом. Да, поэтом, и как только мы произнесем это слово, то сразу поймем природу его интонации, его индивидуальной формы. А также причину его взлетов и провалов, увлечений, разочарований, смятений. И природу его человечности. И его мягкости, душевной деликатности — какой бы формой ворчания и ироничности эта мягкость ни прикрывалась.
Мне хочется закончить словами самого Павла Филипповича Нилина: «Нет особого открытия в том, что нередко писатели, пишущие прозой, больше поэты по самой сути своих сочинений, чем те, что старательно нанизывают рифмованные строчки. Поэзия величественно и величаво способна входить и входит в каждый дом, касается сердца каждого из людей, наполняя нас предчувствием чего-то неожиданно-чудесного, равного надежде на счастье, на бессмертие жизни».
Да, именно «по самой сути своих сочинений»…
Юрий Казаков
Думаю, не ошибусь, если скажу, что писатель Юрий Казаков стал сегодня классиком русской советской литературы. Написав немного, уйдя из жизни рано и как-то рано почти вообще перестав писать, болея, перемучась самыми высокими и самыми мелкими муками жития, изменяясь к концу и внешне, он (и его авторитет писателя) крепли и крепли с каждым годом и теперь вот стали обретать уже оттенок бронзы. А ведь кажется, еще вчера были мы молоды, учились вместе в Литинституте, писали первые свои рассказы, и вчерашний джазист Казаков впервые открывал для себя Бунина, Платонова, Хемингуэя. Удивительно вдруг осознать это: как на твоих глазах сменяются одна другою эпохи, и уходящая уже принадлежит истории, а вчерашний твой товарищ, покидая «плен времени», ступает прямо в вечность.
Я снял с полки старые книжки Юры с дарственными его надписями и так остро ощутил: жив писатель, жив и всегда будет жив, и, в сущности, его физическая смерть ничто перед этой жизнью. В конце концов, читателю-то и всегда все равно, жив ты или уже умер, стар или молод, а вот есть твоя книга, берут за душу слова, слышен голос, и душа человеческая бьется на белой странице, радуется и плачет, трогая собою другие души, — это и есть бессмертие — о нем, кстати, всегда мучительно и много размышлял Казаков.
На нашу долю досталось вот какое время: мы поступали в институт и встретились все вместе в 1953-м, а заканчивали в 1958-м, — теперь уже нетрудно вычислить значение этого пятилетия для всей нашей истории. Буквально мы вошли в институтские двери с одними понятиями, а вышли с другими. То есть я имею в виду прежде всего наши отношения с современной литературой, с теми ошибочными и не имевшими к истинной литературе требованиями, которых тогда более чем хватало и которым многие литераторы, к сожалению, вынуждены были следовать, выдавая черное за белое. Но в восемнадцать, и в двадцать, и в двадцать пять лет, как было тогда Казакову, мы все, конечно, все-таки уже знали, где правда и где кривда и чего хочется нам самим.
Наши «новые» понятия о том, какою литература должна быть, ввергали нас в литературную борьбу, которая шла тогда, и мы, молодые, чаще всего терпели в ней поражение со значительно превосходящими силами противника. Что происходило тогда? Если сузить проблему до узкопрофессиональной, то можно сказать просто: наверху и в почете зачастую оказывались писатели, которые писали из рук вон плохо, кое-как, которым что газетное, что книжное слово было одно, которые сочиняли ходульных, глупых героев, всех на одну колодку. О слове, о поэзии, об оригинальности, а уж не дай бог какой странности и речи не шло. Мы же, школьники и студенты пятидесятых, оказались уже достаточно образованны, начитанны, ранний опыт (опыт военного детства и отрочества) тоже имел немалое значение в нашей оценке мира, а свои литературные требования мы сверяли по Чехову, Толстому и даже по полузапрещенному Достоевскому, — произошел возврат к классике, к Пушкину, к Гоголю, открылась опять западная литература, и в частности тот же Хемингуэй, Ремарк, Жюль Ренар.
Шла одна из первых «подписок» на Роллана, и «Жан-Кристоф» сводил нас с ума тоже. Была, наконец, эра итальянского кино, и я думаю, что ничто другое не оказало на наше поколение столь сильного влияния, как итальянский неореализм, где жизнь была увидена и показана ясно, жестко, до последней степени правдиво, но с такой пронзительной любовью к человеку, ко всем «малым сим», униженным и оскорбленным, бедным и обездоленным, но добрым и чистым сердцем, что, бывало, после каждого сеанса выходишь заплаканный, а душа кипит жаждой справедливости. О, это была великая наука, и я знаю, помню, как много значило это и для писателя Казакова, коренного москвича, арбатского парня, который жил в коммуналке, возле Вахтанговского театра, в доме, где зоомагазин, как раз напротив «Юного зрителя».
Мы все обожали Паустовского, потому что он был мастер и стилист, лирик и поэт, а не ортодокс и чинуша, сочинитель «производственных» романов, которые еще кое-как терпели читатели, но профессионалы уж никак воспринимать не могли. Писателю начинающему, молодому, как бы самобытен ни был его талант, все равно приходится с чего-то начинать, кого-то отбирать для себя, выбирать в герои, в учителя, в поводыри на первых шагах. Думаю, что и сам Константин Георгиевич Паустовский не подозревал, как много было у него в ту пору учеников и поклонников, сколь многим светило его доброе имя ч е с т н о г о писателя. Нынче, когда все так смелы и правдивы, о Паустовском если и вспомнят, то снисходительно, — что ж, у каждого времени свой счет. Но не надо быть и Иванами, родства не помнящими: было время, когда Паустовский оставался почти о д и н, и тяга к нему Казакова легко объяснима. Думаю, и Константин Георгиевич не случайно из всех выделил Казакова «для себя» особенно, учуял его силу, его уже заявившуюся индивидуальность. Между прочим, в молодые годы Юрий Казаков в большей степени, чем позже, казался неуклюжим и грубым, он сильно заикался и мучился этим, часто можно было слышать от него суждения (не говоря уж о выражениях) тоже грубые и циничные, и мало кто поверил бы, видя его и общаясь с ним, что это и есть автор «нежных, дымчатых рассказов», как назвал его когда-то Евтушенко.
Когда-нибудь я расскажу, если успею, поподробнее о тех наших и последующих годах товарищества, встречах, «случаях» и суждениях — но теперь только об одном: о том, какая в этом человеке сохранилась поразительная чувствительность, тонкость и точность ощущений, настроений, нежность и хрустальный звон. Какое одиночество и потребность в единомыслии и единоверовании. Какая тяга к скитальничеству и городская к у л ь т у р н а я потребность в прикосновении к земле, к у к л а д у, к к о р н ю, к пространству. В сущности случайно, л и т е р а т у р н о, Пришвиным ориентированный на Север (а другие в месяцы своей преддипломной практики подались кто на юг, кто в Сибирь, в Азию и на Дальний Восток), Казаков навсегда заболел Севером, — там его поразило и потрясло все: природа, люди, жизнь, столь далекая от бодрой газетной передовицы, дикость и красота, первобытность схватки рыбака и рыбы, охотника и зверя, человека и моря, человека и леса. Еще более поразило профессиональное писательское ухо первобытное, единое в своей утилитарности и поэзии с л о в о, тоже далекое от затертой информативной речи. И как ни хороша бывает, и точна, и богата московская речь тоже, которую Казаков, естественно, знал и любил, но ведь писателю всегда хочется чего-то особого и нового, о т к р ы т и я, и я представляю, как он радовался, и бормотал, и бурчал, обсмаковывая и обкатывая во рту, словно сладость, каждое новенькое словцо или речение, — одно дело у Даля прочесть, другое — услышать от мужика или старухи на ветру и дожде при д е л е, конкретно в потоке, под крики чаек.
Помню, он принес начало заметок о Севере в «Знамя», где я сидел тогда литредактором в отделе очерка, и мы долго искали с ним название, и все привычное никак не подходило для этой простой, безыскусной на первый взгляд, а на самом деле очень изысканно выстроенной прозы, которую мы по старинке все именуем очерком, дневником, бог знает чем, вместо того чтобы (если уж по-старинному) назвать прямо поэмой.
Но самое главное — там была горькая и щемящая правда об этих русских землях, когда-то полных жизни, а со временем оскудевших и брошенных. И думаю, никакая природа, никакое слово никогда так не поражают сердце такого писателя, каким был Юрий Казаков, как зрелище народной беды, оскудения, вымороченности (пусть и узкоместного значения, пусть и одной только деревни) и дикости нравов, жестокости, алкогольной дебильности и прочего в таком духе.
Отсюда — и так называемая очерковость, а лучше сказать, документальность, невозможность ничего сочинять и приспосабливать: передай по возможности точно, как оно есть, не выдумывай, и без тебя хватает выдуманного, а вот так, как увидел, как поразило — так и написать: как в письме, как в дневнике. И что сам чувствовал в ту минуту — вот и все, и больше ничего. И так он писал, и так стал Юрием Казаковым, и память о себе он выстрадал и заслужил.
Хозяин
Я могу рассказать немного: лишь об отношении Михаила Михайловича Яншина ко мне, молодому сравнительно литератору и драматургу, в ту пору, когда мы встретились. Был ли это интерес чисто человеческий, думаю я теперь, или подчиненный тому главному стремлению, главной идее, которой был охвачен МХАТ и которую особенно ярко, на мой взгляд, выражал Яншин?
Мы ворвались в святые стены МХАТа в своих кожаных пиджаках (1971 год), как конница в мирный город, как трубочисты в королевский дворец, как ватага первокурсников в университет, сами лестницы которого давно уже стали мемориальны. Можно говорить теперь что угодно, и сетовать, и судить, но ведь зеленое сукно театра, которое выстилало фойе, буквально пахло нафталином, я это помню. Величественный корабль стоял на мели, живая вода жизни тщетно билась о славную цитадель.
И вместе с тем все было не так просто и совсем не однозначно. Артисты сами не покидают сцену. Кто однажды испытал славу и честь, кто поднимался на самые вершины искусства, кто отдавал свою душу миллионам и получал взамен любовь миллионов сердец, тот всегда хочет остановить мгновенье, все вернуть, что уходит, удержаться на высоте. Разрушить старое — ужасно. Да и зачем? Но в карете прошлого, как известно, далеко не уедешь. Маленькие люди довольствуются малым, кого-то вполне устраивало жить прежними заслугами, в тени эмблем и традиций. Но большой талант всегда недоволен, он, ищет и хочет нового, он слышит звуки и ветер времени в ощущает, как летит оно. И знает: надо лететь вместе с ним.
Мирный город сам отворил ворота коннице, и король сам звал трубочистов во дворец. Идея перемен, жажда нового зрела внутри театра, а не вне его. И разве не сто попыток, снова и снова, сделал МХАТ за свою историю, чтобы быть ж и в ы м, с о в р е м е н н ы м театром, л у ч ш и м театром на деле, а не на словах?
Меня лично, сказать по правде, мало занимала судьба МХАТа, — извиняет меня, может быть, то, что я вообще стоял далеко от театра, мои первые пьесы рождались как чисто литературные, полупрозаические вещи. Отношение к МХАТу было почтительно-школьным, не более. Мы любили великих артистов, преклонялись перед историей, испытывали почтение к сединам, но мы не застали уже ни одного спектакля, который бы потрясал н а с, открывал бы н а м н а ш е, как это положено театру.
Пожалуй, первый человек, от которого я всерьез услышал, что МХАТ болен, что он требует перемен и возрождения, был с а м Яншин. Я удивился. Критике, насмешке, боли, надежде. Казалось, столь великие, всеизвестнейшие люди должны быть полны силы и самоуверенности в лучшем смысле этого слова, гордости и даже гордыни, — имеют право! Но видел я совсем иное: тревогу и простоту.
Я удивлялся всему: маленькой квартирке Яншиных на улице Горького, скромному ее убранству, легкости общения с хозяевами, озорству Михаила Михайловича и его горячности. Знаменитая иконография Яншина, его фотостена, где на десятках снимков Михаил Михайлович изображен, пожалуй, со всеми знаменитыми людьми нашего времени, от актеров до космонавтов, от писателей до наездников и вратарей, эта стена тоже удивляла незатейливостью «подачи»: простые рамки, простые любительские снимки, альбом для себя, а не для показа, личное собрание, в котором не разобраться чужаку без веселого комментария хозяина.
Как велика и как быстра жизнь. Сколько эпох вместилось в одну биографию, и каких разных. Сколько людей, костюмов, городов, театральных зданий, отелей и поездов. Прекрасные поэты, гениальные режиссеры, удивительные женщины, феноменальные ученые — дети XX века, революционировавшего все: общественный строй, музыку, технику, отношения мужчин и женщин, отцов и детей, все на свете. И театр — театр тоже.
О чем бы мы ни говорили, разговор в конце концов сводился к театру. Само собой. И не всегда обязательно ко МХАТу. Театральные дела вообще обстояли не очень весело. А ведь театральная Москва, в сущности, удивительно единый организм, это только кажется, что всяк дудит в свою дуду: все всё знают друг о друге, всё слышат, всё видят, и когда у кого-то успех — это всегда праздник, и новый талант — праздник, а уж новый театр — тем более. И подлинная критика, подлинная оценка талантов и личностей происходит именно в театральной среде.
Теперь я думаю: сколько у Яншина было театров? МХАТ, в который он пришел юношей и в котором сыграл Лариосика, — это был один театр. Затем «тот» МХАТ со временем превратился в нечто иное, совсем в другой театр. Приход Ефремова положил начало еще одному театру — все под той же достославной и многообъемной вывеской Московского Художественного. И были разные студии, и «Современник», который Яншин не оставлял без внимания, и, конечно, театр имени Станиславского, уже подлинное его детище, — здесь мы, кстати, и познакомились на каком-то неважном спектакле: я помню детски огорченную, а затем и гневную физиономию Михаила Михайловича. Разве не болела у него душа, не мучила его судьба молодых артистов и этого театра: заметных, талантливых, полных свежих сил и ищущих, где и как приложить эти силы, к какому делу, чтобы и дело обогатилось, и силы выявились, мечты осуществились? Но там лишь ели поедом режиссера за режиссером и помаленьку друг друга.
А время шло. Время текло, бежало, летело, уходило.
С режиссурой дело обстояло плохо, с драматургией плохо. Что же оставалось актерам?..
Беда, когда театральными делами занимаются люди неталантливые и малопрофессиональные. Но еще хуже, когда ими занимаются без любви к театру, к актеру, к литературе, к поэзии, когда тяжелые слова «отчетность» и «ответственность» ставятся впереди «свежести» и «радости».
Театр — игра, игрушка, коробка с оживающими куклами, мы становимся детьми, играя в театр, и уж безусловно детьми должны быть те, кто играет в эту игру на сцене. Не слишком ли мы стали серьезны? Пришли взрослые дяди, забрали у детей одних кукол, дали других, стали строго следить: так ли играете? в то ли играете? а ну, Петя, выйди вон! а ну, Маша, не кривляйся!.. Почему-то театральное дело сорганизовалось у нас в конце концов таким образом, что множество артистов не занято годами, разбухшие и неповоротливые труппы с дикими потугами рожают полудохлых мышат или великие «действа» на «верняковые» темы, от которых воротит даже тех, кому важнее всего отчетность. Приложить силы некуда, попробовать себя по-настоящему негде. Спасибо, есть еще кино и телевидение. Но ведь они — не театр! И никогда не заменят театра ни зрителю, ни тем более актеру.
«Старики», актеры и режиссеры, давно поняли, что если не они, то кто же будет поддерживать огонь в очаге? Руководящие органы могут помогать или мешать общему развитию театрального процесса, но огонь, дело, игру должны беречь сами актеры, люди театра, художники, поэты, мастера. Кто же, если не они?..
Я видел интерес Михаила Михайловича к себе как к человеку, который может быть вот сейчас, сию минуту нужен, полезен его театру, в с е м у его театру, но и его конкретному театру, его дому, МХАТу. Необходим был новый репертуар, новые пьесы, нужно было понять и в какой-то степени, видимо, проверить, что предлагают Ефремов, Володин, Вампилов, — это были новые для МХАТа имена. Опыт постановки «Валентина и Валентины», как ни много мы хлебнули с нею мучений, показывал: т а к а я пьеса в о з м о ж н а и даже нужна МХАТу. Надо только преодолеть барьер, приучить, доказать. Мне не забыть хлопот и забот Яншина, его поддержки, его каждодневного участия в той борьбе, которую театру пришлось вести за спектакль. Я мог лишь догадываться, какое напряжение приходилось испытывать ему (как и Алле Константиновне Тарасовой) внутри театра, где так много еще было противников нового, кто не мог или не хотел нового, не верил в перемены, не воспринимал, в частности, и моей драматургии. А в портфеле театра уже находился «Старый Новый год», и все понимали, что «пробивать» эту пьесу будет еще сложнее.
Мы встречались много: на худсоветах, спектаклях, на обсуждениях, на репетициях. Началась работа над пьесой Заградника, печальное «Соло» вспоминается теперь, как одно из пронзительных театральных переживаний: как ужасно и беспощадно исполнилось то, что приходило невольно в голову каждому, кто видел этот спектакль: что для многих исполнителей он может оказаться последним. Как тревожно, как бережно играл здесь Михаил Михайлович, как много говорил он со сцены (и мне, мне тоже!) того, что не мог сказать в жизни из-за деликатности или недостатка времени. Да и как говорить о стариковском, о надвигающемся, об остающемся, о несвершившемся, о непреходящей тоске по ИСКУССТВУ, ПО ТЕАТРУ, по живой переливающейся ЖИЗНИ?
Почему-то мне особенно запомнился один день, одно утро. Наверху, в мхатовских мастерских, куда так нелегко подниматься по неуютной каменной лестнице на третий этаж, мы смотрели и обсуждали макеты к новым спектаклям. Все ходили, стояли, говорили в конце огромного гулкого помещения; зимний серый день светил в высокие окна; рядом работали рабочие, красили декорации. Это была изнанка Игры, заготовки: так дети строгают чурки или собирают камешки, еще не играя, а лишь готовясь к игре… Михаил Михайлович сидел с кем-то на тесном диванчике, в пальто внаброску, вдруг устал, или задумался, губы совсем синие, прикрыл глаза. Кругом шумели и ходили молодые, быстрые, спорили, ругались, светили лампами на макет, разгоняя тусклый свет дня… Он не мог ничего оставить, ему надо было самому, самому увидеть (так же как прочесть, пощупать, послушать), лезть в третий этаж, в лестницу, тоже спорить, одобрять одних, возражать другим. Лицо его озарялось, когда он слушал тех, кого любил. И становилось хмурым, бранчливым, почти презрительным, когда дурак нес высокопарную чушь… Он сидел грузно, по-стариковски, по-хозяйски, а вокруг шумела и действовала впущенная им в хозяйство молодежь. Он смотрел: как они, что могут?.. Жизнь была прожита с одними, а теперь пришли другие. Это всегда нелегко, а надо у м е т ь быть живым, заинтересованным, придирчивым, доверяющим, исследующим, а не брюзжащим и все осуждающим.
Он усаживал рядом, обнимал, глядел с нежностью, хотел услышать (и чтобы подробно), что пишется, о чем, — его занимали и роли и концепции. Я отшучивался — он тут же принимал шутку, сам рассказывал побасенку. Или шепотом спрашивал про макет, который все еще обсуждался: «Неужели это хорошо?» Веря в главное, всегда хорошо испытать сомненьем детали. Он сомневался, он пробовал, он был внимателен и у ч и л с я — это было видно по его глазам.
Я знал, как он защищает меня без меня, хорошие говорит слова. Разумеется, я был благодарен ему. Но не это было главным. Я видел и понимал его одержимость, его боль и тревогу, — он не мог не чувствовать этого. Я ощущал его внимание, он — мое. И я думал: старик, который учится, — не старик. Человек, у которого на плечах хозяйство, держится до конца. Кто ведет за руку другого, тот мало думает о себе. Кто не перестает играть — тот ребенок.
Талант быть человеком
Мы шли как-то по улице Маяковского и говорили о Маяковском — Урбанский часто говорил о нем, любил его преданно, знал наизусть, и редко кто так читал, например, «Про это» или «Облако в штанах», как Урбанский. Мы шли по вечерней Москве, было мокро и ветрено, люди спешили, но все-таки улица Горького узнавала Урбанского — всюду его всегда узнавали, высокого и размашистого, узнавали по знакомой всем улыбке, по походке, немного косолапой, по голосу и той его особой стати и повадке, которая отличает людей красивых, феноменально здоровых и добрых. Бывают люди, которые никогда не сливаются с толпой, не исчезают среди других лиц. Дело не только в популярности — дело в обаянии, в масштабе личности, в индивидуальности.
Надо сказать, ему всегда нравилось, что его узнают и на него смотрят. Такая реакция, как известно, у одних вызывает скованность или чванство, заставляет стушевываться и мельтешить, другим же дает вдохновение и легкость — человек открывается и словно летит, живой и естественный, окрыленный общим вниманием. И человек остается живым, остается самим собой, спасительное чувство юмора не оставляет его. Я вспоминаю, как однажды в Баку мы стучались в магазин, только что закончивший торговлю. Женя остановился возле стекла так, чтобы изнутри его разглядели и узнали. Но кассирша, которая торопливо считала деньги, взглянув раз, другой, махнула рукой: мол, отвяжитесь. Тогда Женя пробасил почти обиженно: «В кино надо ходить, милая». И в этой шутливой фразе, в маленьком этом эпизоде для меня, например, содержится все веселое и талантливое отношение Урбанского к своей славе.
Но я хочу вернуться к тому памятному разговору о Маяковском. С каким азартом Урбанский говорил о том, как Маяковский ходил вот по этой же улице, постукивая пижонской тростью, мимо Тверского, мимо «Известий», ходил когда веселый, когда угрюмый, играл в бильярд в доме Герцена, где теперь Литинститут, покупал на лотках папиросы, слушал в ресторане за столиком чужие стихи и читал свои, и, может быть, «стрелял» трешку до завтрашнего гонорара, и торопился к началу репетиции к Мейерхольду — соскакивал вот здесь, у памятника Пушкину, на ходу с трамвая или наскоро расплачивался с извозчиком, давая ему гривенник на чай, как сегодня мы даем тот же гривенник таксисту… Ему нужен был весь Маяковский, со всей его жизнью, со стихами и славой, с его счастьем и трагедией.
Нетрудно понять причину его привязанности к поэту: быть может, не отдавая себе отчета, лишь чувствуя, Урбанский находил в личности Маяковского родственное себе, потому что был тоже человеком обостренной честности и искренности, был сильным и слабым одновременно, большим и незащищенным. Был как будто огромным, уверенным, удалым, а в сущности, если сказать банально, — ребенком с детской доверчивостью к миру и людям, с детской открытостью, с детской ранимостью и неумением обороняться.
Я не буду говорить об актерском таланте Урбанского, об этом скажут или сказали другие, — мне он дорог своим человеческим талантом, талантом доброты.
Как бывают талантливые и бездарные актеры и поэты, так бывают просто люди — бездарные или талантливые. Быть человеком можно бездарно. И можно талантливо. И жить можно талантливо. И разве, например, безумство подвига под силу бездарности?..
Урбанский жил крупно, полнокровно, жадно. Он загорался, входил в азарт и все забывал, не только играя или работая над ролью, но и всегда в жизни. Одержимость была, мне кажется, главной чертой его натуры. Спорил ли он о каком-нибудь пустяке или рассказывал о чем-либо серьезном, хвалил ли товарища-актера или, наоборот, ругал спектакль или фильм, любил или дружил — он отдавался этому весь, бросался одинаково щедро в глупый спор, в поздний московский кутеж или в мечту о сыне, в заботу о матери… Я пишу, а сам вижу, как мы сидим накануне его отлета в маленькой квартире на Балтийской, Женя в красно-черном свитере, вещи еще не собраны, но он ставит одну за другой пластинки Эдит Пиаф, заставляет нас слушать, переживает каждую песню, едва не со слезами на глазах. И ему уже не до нас, не до Бухары, куда он должен лететь, не до фильма, которым он так увлекся и сценарий которого лежит тут же на чемодане, — он уже весь в мелодиях, в режущем и исступленном голосе певицы, в этих горьких и страстных песнях.
И он говорит, что вот, мол, как нужно отдаваться искусству, вот так нужно выкладываться, — и начинается знакомый разговор о том, что еще ни одной роли он не сыграл по-настоящему, что все не так, не так, все неправильно, нужно совсем по-другому…
Он говорил об этом часто, и его всегда мучила неудовлетворенность, то недовольство собой, которое присуще настоящему таланту.
И это при том, что он работал бесконечно много — то съемки, то репетиции, то спектакли. Не знаю, когда у него оставалось время для отдыха, для себя, когда он успевал читать (а он успевал, в отличие от многих актеров). И те несколько раз, что я видел его за кулисами, я видел его в поту — он работал до исступления, с полной отдачей.
Наверное, это даже не очень разумно — так тратить себя. Но он иначе не умел.
Его как-то на все и на всех хватало. В нем было богатырство: он мог и работать сутками, и много выпить, и съесть сразу семь шашлыков или петь всю ночь — так петь, что, кажется, комната вот-вот лопнет, как шар, а с пальцев, разбитых о гитару, потечет кровь…
Не желаю я участи лучшей — Говори, говори, говори… Мне бы слышать твой голос певучий Целый день от зари до зари…Все, кто знал Женю Урбанского, помнят, наверное, как он пел эту песню. Как медлил он с каждой нотой, как протягивал каждый музыкальный слог, чтобы наполнить песню той нежностью и теплотой, которые хотелось вложить ему в слова. Он бережно склонялся над гитарой, как над младенцем, которому поют колыбельную, пел так тихо, как только мог: голос его поднимался из самой глубины, словно из сердца, и был чуть с хрипотцой, что подчеркивало нежность мелодии. Казалось, если бы можно было, он протянул бы одну фразу на час, на два, растворился бы в ней, исчез. И простенькая песенка вдруг начинала звучать глубоко и мудро, и какая-то неразрешимая, удивительная печаль разливалась вокруг, и в конце концов не было сил слушать — так становилось грустно.
Странно, когда думаешь теперь, то понимаешь ведь все, что пел Урбанский, даже то, что оралось почти во весь голос и звучало удало и лихо — было внутренне печально и даже трагично.
А как пел Женя Урбанский «Дороженьку», переняв ее у своего друга Сергея Ляхницкого. А как, наконец, читал он «Про это»!
Как удивительно чувствовал он и как верно мог передать смысл самой трагической поэмы Маяковского; слова падали тоже медленно, тяжело, как медные гири, герой исходил любовью и болью, не в силах справиться с собственной нежностью, не в силах побороть пошлость жизни..
Был вором-ветром мальчишка обыскан. Попала ветру мальчишки записка. Стал ветер Петровскому парку звонить: — Прощайте… Кончаю… Прошу не винить…Не знаю, чего больше было в этой декламации: актерского мастерства или глубины человеческого сопереживания, личной боли за боль близкого человека…
Да, теперь странно, но ведь ничего странного не было: если проанализировать те роли, что Урбанский сыграл, те, что хотел сыграть, то мы увидим, что почти все эти роли трагические. В «Большой руде» он, в сущности, сыграл свою смерть, — так Пушкин описал свою смерть в «Онегине», а Лермонтов свою в «Герое нашего времени»… Есть всегда что-то необъяснимое в бессмысленной гибели здорового, красивого, молодого человека, человека, который был сама жизнь.
Я говорил о незащищенности таких людей, как Женя Урбанский, об их открытости, доброте, о том, что трагическое почти обязательно, рано или поздно, настигает таких людей, — именно потому, что они не умеют хитрить с жизнью, прятаться от нее. И я хочу сказать, что надо беречь таких людей, надо очень беречь тех, кто не умеет беречь себя…
Удар Высоцкого
«Но песня — песнью все пребудет, — писал Блок, — в толпе все кто-нибудь поет…»
И дальше: «…вон голову певца на блюде царю певица подает…»
Моя мать, теперь уже тоже покойная, простая русская женщина, коренная москвичка, — простая, как природа и как Вселенная, русская в столь широком понятии, как Шаляпин, или Мусоргский, или Суворов, женщина в полном смысле этого слова, — женским типом и нравом походила на Аллу Константиновну Тарасову, — москвичка до мозга костей, перовская, а училась на радиокурсах в центре, час ехала трамваем, и в шестнадцать лет еще бегала по Мясницкой босиком; так вот моя мать, еще когда жили мы все в одной комнате и набивались молодой своей компанией в эту комнату выпить, «погудеть», посидеть с девчонками или сами, и это еще даже не называлось тогда «завалиться на хату», — просто мы все любили друг друга, никогда не могли расстаться, дружили упоительной своей, почти мальчишеской еще дружбой; так вот моя мать, Тарасовна, как все мы ее звали, сразу его выделила, отметила, хотя все мы были каждый вособь, талантливые и острые, показавшие свои первые зубы и уже получившие по этим зубам, — а он-то был помоложе, считай, пацан, ему еще надо было заявиться, — впрочем, нет, его приняли сразу, но у него, при его всегдашней скрытой деликатности и тонкости, был даже некоторый пиетет перед иными из нас, кто уже «держал банк». Так вот мать его выделила и приняла сразу, у с л ы ш а л а, п о н я л а. Он таким, как она, безмужним, работящим, выволокшим на плечах детей и войну, настоявшимся с барахлом по рынкам, не гулявшим с майорами за чулки и тушенку, — им и в подушку-то пореветь не было сил, — а вокруг тем более уже вскипала, пробулькивала, чтобы кипеть потом ключом, мачеха-ложь, требовала восторга, требовала «выглядеть», шагать парадно со звонкой песней и барабаном, как научены они были комсомолом тридцатых годов и своею «Синей блузой»: «Мы синеблузники, мы профсоюзники, мы все советская братва…» — вот таким, как она, он попадал, ударял сразу в самое сердце. «Вагончик тронется, перрон останется…» Мы свет выключали, сидели в обнимку по углам, уходили на кухню, на лестницу, — вижу его с гитарой, сидящим у матери в ногах, он поет, она слушает, бра на стенке горит, обернутое газетой. Мать то носом зашмыгает, прослезится над «жалостной» песней, то захохочет и просит повторить: «Как? Как?» И он опять споет, и раз, и два — пожалуйста: «Она ж хрипит, она заразная, и глаз подбит, и ноги разные, всегда одета, как уборщица. — А мне плевать, мне очень хочется».
Трагедия его смерти окрасила теперь все по-иному, личность переходит с годами в образ, легенда лепит этот образ уже не совсем таким, каким была личность, творчество художника, лирический его герой или тем более роли, сыгранные в кино и театре, соединяются, напластовываются, — выходит новый, строгий, трагический, «поздний» Высоцкий. А ведь был он — сама веселость и легкость. «Был я весел, толк веселым есть ли, если горе наше непролазно?» Это Маяковский, «Во весь голос». А он был весел и легок московской особой легкостью, повадкой, манерой, юмором, все умел, ничего не боялся: идти, прыгнуть, догнать, отшить, сказануть, врезать — хоть словом, хоть так, но все равно быть веселым, не злым, не подлым, — и в драке, и в песне, и в пьянке, и в подлестничной и в чердачной любви можно все равно быть благородным и сволочью, и всем это видно, и все это знают. А уж в своем-то дворе, в своей компании и подавно.
Лева Кочарян, Артур Макаров, Гриша Поженян учили нас «мужчинству»: не трусить никогда, защитить слабого, платить первым, в крови стоять за друга, жалеть детишек и баб. Но пуще всего — беречь свою честь, держать марку, не подличать ни ради чего. Мы и сами были с усами, дети послевоенной Москвы, ее дворов, рынков, очередей, сугробов, двухсменных школ, бань, пивных, киношек, парков, набережных, коммуналок, метро, ночных трамваев, электричек и вокзалов, — слепые нищие и мордастые инвалиды пели по вагонам «Прасковью» Исаковского, автора самой «Катюши»: «А на груди его светилась медаль за город Будапешт».
Ничто не возникает из ничего.
Была у нас школа и комсомол, неистовый патриотизм, — «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!» — радио и газеты, песни, военное дело, великие праздники, на которые выходила вся Москва, — «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля», и мы бежали счастливые, в белых навыпуск воротничках. Но был двор и быт, безотцовщина, дрова в чулане и капуста в кадке, вечно мокрые ноги и коленки в заплатках. Мы кончали школу, а наши вчерашние однокашники, карманники, «щипачи и скокари», друзья дворовые, успевали вернуться с первой отсидки, цыкали по-блатному сквозь зубы, дарили «шалавам» чулки и пели лагерное, тоже балладное, тоже жалостное: «Ты начальничек, ключик-чайничек, отпусти до дому…»
Так одна тема цеплялась за другую, одна выходила из другой, — все было повязано войной. И все больше расходились ножницы: как поется по радио и пишется, и как есть на самом деле. Особенно слова линяли и блекли, отчуждались от живого языка, «хлеб» называли «хлебобулочными изделиями», «снег» — «снежным покровом», «сегодня» — «сегодняшним днем». А потом и пуще того: кривду — правдой, черное — белым. А еще немецкий пленный, вчерашний зверь с плаката, в обед на стройке пиликал на губной гармонике, и вдруг жаль брала: тоскует «фриц».
Когда все чистенькие, аккуратные, послушные, когда ничего нельзя, надо ходить парами, то хочется, как Тому Сойеру, бежать к Геку Финну и быть, как Гек Финн: свободным. Грязным, неумытым и голодным, но свободным. «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы!» Бедный Пушкин! Счастливый Пушкин! Он был, как никто, свободен и потому так взвивался от всякой несвободы, так бился за волю свою. Интересно, почему аристократа и «француза» Пушкина, певца «младых Армид» и какого-то там разочарованного Онегина числим мы самым народным, и национальным, и великим? «И долго буду тем любезен я народу, / Что чувства добрые я лирой пробуждал, / Что в мой жестокий век восславил я свободу / И милость к падшим призывал». Вот и все. Вся программа. Пункт первый, пункт второй, пункт третий. Для любого поэта. Чтобы быть «долго любезным народу». И за что, как не за язык, живой и «уличный», обрушились на голову молодого автора «Руслана» первые критики? Потому что, когда все врет, один язык не врет. Живой и народный язык.
И еще: не зря вино, цыгане да разбойники. Цыган, казак да разбойник, каторжник вечно были героями крепостной Руси, ее песен и сказок. Они были свободны. И вино — хоть на час, а даст свободу. Кто не мечтал: пистолет за кушак, стать на лесной дороге и отомстить обидчикам. От Алеко Пушкин шел к Дубровскому, Гришке Отрепьеву и, наконец, к Пугачеву: он знал, что за свободу надо идти на бунт и на смерть, — у нас другой валюты свобода не берет. «Сколь, веревочка, ни вейся, а совьешься ты в петлю».
Высоцкий, а до него Окуджава и другие певцы вернули песне народную исконную систему: сюжет. Скажем, «Девочка плачет, а шарик летит», — сюжетная песня, баллада, целая история, вернее, история целой жизни. Точно такая же, как в песне: «А мы просо сеяли, сеяли… — А мы просо вытопчем, вытопчем». Нетрудно сделать малый литературоведческий розыск и увидеть, что все известнейшие русские народные песни, то есть любимые народом и век с ним живущие, несмотря ни на что, — это песни, сочиненные поэтами. Даже «Вечерний звон» сочинил Иван Козлов в 1827 году!.. А Иван Суриков «Рябину» и даже «Степь да степь кругом…».
Но просто сюжета мало — нужно, чтобы он был такой, один-единственный, который западает в душу и там навсегда остается. Если вложит певец в песню свою судьбу и свое сердце, тогда и выйдет настоящая песня.
А в русской песне всегда боль и грусть, тревога и тоска. Мы много лет делали вид, что наша новая, советская жизнь напрочь избавляет человека если не от боли, то уж от грусти и тоски наверняка, и песни поэтому сочинялись преимущественно бодрые и радостные. Но они не ударяли по сердцу. Они ударяли по барабанным перепонкам. То есть не будем сегодня говорить, что у нас не было хороших песен, — наоборот, были, и замечательные. Чего стоит одна «Война народная», которую так любил тот же Высоцкий. Но однако, потребность в песне душевной, в песне, говорящей «всю» правду, и вместе с тем в песне веселой или иронической была непомерно велика. Вот на какой спрос ответил Высоцкий. На н а р о д н у ю потребность в песне, полностью искренней и полностью правдивой. По времени, по герою, по стилю, по простоте, по сложности, по музыке (мотиву), по с л о в у. «Интеллигенция поет блатные песни», — скажет потом Евтушенко. Но это были уже не блатные, а в р о д е бы блатные песни, это уже была стилизация, форма, искусство, поэзия, Эзоп.
«Я московский озорной гуляка, по всему Тверскому околотку в переулках каждая собака знает мою легкую походку…» Их часто сравнивают, Есенина и Высоцкого, особенно теперь, после ранней смерти второго, — «Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов… отодвинулись на время». Но мне кажется, все непохоже, хоть и тот пил, и этот пил, и жена, и судьба, и известность, слава, слухи, народная любовь и официальная критика, — нет, Есенин представляется в сравнении с Высоцким изысканным, почти рафинированным поэтом, сразу веришь в его цилиндр и перчатки. И жизнь у Есенина еще была сравнительно «мирная»: ругали, но издавали, били, но не унижали, не принимали, но признавали, спорили, но в открытую. В энциклопедиях писали: «кулацкий поэт». Но писали! Но издавали! Но ругали! Но не замалчивали же! Не молчали! Не делали вид, что никакого Высоцкого вообще нет!.. «Каждая собака» знала наизусть, все пели, изо всех окон звучал, — дети, школьники, студенты, генералы, министры и секретари райкомов, все л ю б и л и, а вид делали, что нет его. Не напечатали ни с т р о ч к и, издали две пластинки. Кто виноват? Неужели никто? Конкретно?..
Сочетание реализма и серьезности приводит к отчаянию. Сочетание реализма и юмора — к сатире. Новое, «послекультовское» направление в литературе, кино, театре, живописи, музыке было борьбой реализма против псевдоромантического, искажающего жизнь искусства сороковых — пятидесятых. Больше невозможно было перекрашивать. Жизнь кричала: «Я вот такая, вот!»
Теперь переслушиваешь, перечитываешь — поражаешься: он написал обо всем! Просто «энциклопедия русской жизни»: работяги, шоферюги, студенты, врачи, ученые, спортсмены, солдаты, летчики, старики и старухи, дети, «зеки», «психи», начальники, артисты, егеря и капитаны — все есть, все здесь. А время? Все конкретны, все из сегодняшнего мира, не перепутаешь. Про космос, про холеру, про телевидение, про шахматы, про ученых на картошке, про Тюмень, про таможню, про Китай и так далее. Но не просто так — через героя, через своего лирического или через таких, еще от Зощенки идущих, «Вань» и «Зин», но тоже сегодняшних, до жути реальных, юморных. Кажется, можно сказать: Высоцкий бьет по мещанству. Да, бьет. Но тоже по-своему: бьет, а жалеет, смеется, а сам плачет. Потому что что-то не так. «Нет, ребята, все не так, все не так, как надо». И пьянь не виновата, что пьянь, и даже дрянь не виновата, что дрянь. Кому-то это надо… Помню, как пронзил нас всех сыгранный Роланом Быковым скоморох из «Рублева»: помню, что говорил Высоцкий про этот образ и про этот фильм, думаю, что они оказали на него немалое влияние, хотя к тому моменту он уже был самим собою. Попадало, совпадало. Шукшин снял «Живет такой парень», я сочинял «Старый Новый год», потом «Ремонт» (помню, как в кабинете своего режиссера Высоцкий, упав на колено, просил взять пьесу, дать ему сыграть Красную Кепку — есть в «Ремонте» такой персонаж, дворовый малый, хулиган, голубятник и любитель розыгрышей).
Однажды Высоцкого позвали, «куда надо», спросили: что уж он так резко, бывает, поет об иных событиях нашей жизни? Он ответил смело: «А думаете, все так проходит, так легко дается?» И гражданская тема, и лирика пронзены были и пробиты одним: «Сколько веры и лесу повалено, сколь изведано горя и трасс. / Как на левой груди профиль Сталина, а на правой — Маринка в анфас». Извера, измена, изгон, издолье — пережитые народом, или частью народа, или пусть немногими, хоть одним, — какое это имеет значение для поэта, его сердце болит и от малого — все более переполняли его песни. Но сколь же плакать? Надо же жить! И тогда явилась «Охота на волков» — гимн свободе и борьбе за нее. «Наши ноги и челюсти быстры. Почему же, — вожак, дай ответ, — мы затравленно мчимся на выстрел и не пробуем — через запрет?..»
Эта песня пришла, когда так думали в с е. И он сказал за в с е х. Все думали, а он сказал.
Поэты знают: песня рождается вмиг. Я видел, как он мог написать, подобрать на гитаре песню за два часа — в чужой грязной кухне, у зимнего окна, откуда дует, ночью, когда все повалились спать. «Сядь, послушай»…
Поэты знают: это, в конце концов, нетрудно. Нынче есть такие мастера, что катают любые тексты — в любом количестве — о чем хочешь — когда надо. Я не в осуждение, я для сравнения. У него тоже бывали и тексты и подтекстовки. Но его подтекст никогда не бывал мелок. Ну что, в конце концов, такое охота на волков? Охота и охота. Но он придумал этой охоте героя, волчонка, он придумал сюжет и судьбу, он взял в подтекст новое мироощущение.
Он был последователен. Он начал с того, одного, «который не стрелял», и кончил тем, который не хочет тупо «превращаться в живую мишень». Народ не выносит и не забывает злодейства. Он бывает вынужден покориться, но оценка злодейству и злодею всегда однозначна.
Поэты знают: дело не в словах. (Это говорю я, рыцарь словесности!) Да, в конце концов, не в словах. Слова приходят сами. Дело в облаке, которому они придают форму. В дыхании. В ветре. В вихре. В урагане. Поэзия — это страсть и неистовство. Можно бить газетой мух, а можно биться с самим Князем Тьмы. И если пусто — словом не обманешь.
Поэты знают: надо умирать, чтобы спеть, чтобы выложиться. Хлебников: «Когда умирают кони — дышат, когда умирают травы — сохнут, когда умирают солнца — они гаснут, когда умирают люди — поют песни».
В великий для московского народа день — похорон Высоцкого, моя мать, которую я по разгильдяйству и суматохе того дня не взял с собою в театр на панихиду, все хотела прорваться через кордоны, плакала, хлестала милиционера букетом, кричала, чтоб пустили, что он ей родня. И вся его родня, вся Москва (за исключением немногих) кричала о нем в тот день, как о павшем сыне. Кликушества, идолопоклонничества было и осталось много, но что теперь поделаешь, пусть: у немых, у лишившихся поющего горла и сердца своя благодарная песня, свои слезы.
Мне чудится: он сидит там у матери в ногах, смеется, поет ей «Нинку».
Примечания
1
«Седьмой подвиг Геракла» напечатан в № 1 журнала «Театр» за 1987 г.
(обратно)
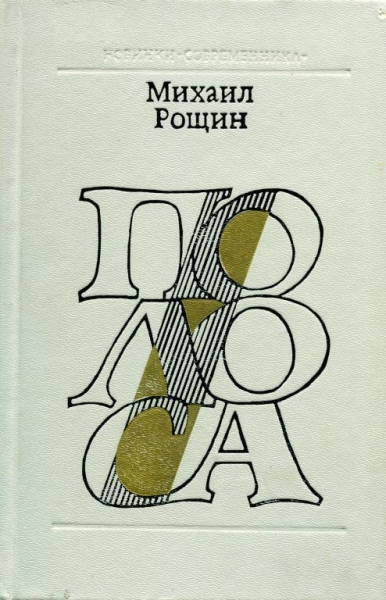

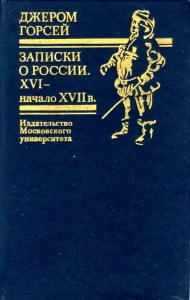

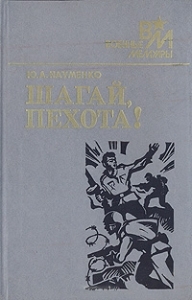


Комментарии к книге «Полоса», Михаил Михайлович Рощин
Всего 0 комментариев