РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Кунин Иосиф Филиппович
ГЛАВА I. НАЧАЛО
«С ПРИРОДОЙ ОДНОЮ ОН ЖИЗНЬЮ ДЫШАЛ…»
На своем веку Римский-Корсаков несколько раз испытывал прилив какого-то особенно восторженного преклонения перед красотой и мудростью природы. Так было в разгар увлечения сюжетом «Снегурочки», потом во время работы над оперой «Садко». Он готов был молиться кривому, вывороченному из земли пню, вековому дубу, лесному ручью, озеру и даже большому кочану капусты, черному барану, петушиному звонкому крику. Ему чудилось тогда, что животные, птицы, даже просто деревья и цветы более сведущи, чем люди, что им понятнее язык природы. В эти минуты восторга мир казался ему ближе.
Он был великим сказочником. Не только потому, что умел музыкой пересказывать смешные или грустные сказки, создавать музыкальные былины и сказания, строить небывалые чертоги. Римский-Корсаков был сказочником, потому что в сказке видел целый мир народной выдумки, в старинном обряде — забытый смысл, в забытом поверье — красоту. Он был поэтом и живописцем в звуках.
И еще одно поразительное явление: музыкальные тональности он воспринимал зрительно. Одна была темно-синей, сапфировой. Другая — розовой, цвета утренней зари. Третья приводила на память зеленый вешний наряд берез. Одна напоминала ясный свет дня, другая — багряный отсвет пожара. Были тональности мрачные, серо-свинцовые, были серовато-зеленые и серовато-фиолетовые. Определенные представления связывались с последовательностью аккордов. Река, лес, город имели как бы своих выразителей в мире звуков. «Все тональности, строи и аккорды для меня лично встречаются в самой природе», — однажды сказал он. В изменении цвета закатных облаков, в игре лучей и световых столбов северного сияния он слышал двойную музыку: звука и цвета. Невнятный для иных язык становился ему внятен. Как поэту и мыслителю Гёте, по слову Баратынского,
Была ему звездная книга ясна, И с ним говорила морская волна.ОТРАСЛЬ НОВГОРОДСКОГО КОРНЯ
Тихвин, где родился и провел детские годы Николай Андреевич Римский Корсаков, — город вольного русского Севера. К середине XIX века за его плечами лежит уже почти пятисотлетняя бурная и увлекательная история. Его строили и берегли смышленые, стойкие люди — предприимчивые купцы, мастеровитые ремесленники, властные и воинственные особы духовного звания. Тихвинцев жаловал сам царь Иван Васильевич Грозный, устроивший здесь Богородицкий (или Большой) монастырь, окруживший его крепкими стенами и отдавший ему в подчинение весь город. Таких монастырских городов, куда не имели доступа государевы воеводы, не много было на Руси. А Тихвин более двухсот лет находился под рукой у монастырских старцев. Не сказать, что рука была легкой. Восставали против старцев закрепощенные крестьяне, рвались из-под монастырского гнета посадские люди. В XVII–XVIII веках широкой волной разлилось в Тихвине и прилегающих местах старообрядчество, проникнутое лютой враждой к монастырским порядкам. Но и преимущества у тихвинцев были в своем роде немалые: меньше, чем в обычных посадах, приказной волокиты, раболепия и чванства, красочнее обряды, поэтичнее обычаи. Да и народ был здесь самостоятельный, бойкий на язык и скорый на расправу. С давних времен тихвинцы поддерживали сношения с Новгородом и Архангельском, с балтийским побережьем и Москвой, ездили даже в Стекольну (Стокгольм). С великой честью выдержали они войну со Швецией в начале XVII века. Память о шведском разорении и об осаде, успешно отбитой тихвинским Большим монастырем, долго жила в народной памяти.
При Петре I в Тихвине появился в качестве полномочного начальника отпрыск старинного, чешско-литовского по происхождению, рода Корсаковых, одна из ветвей которого получила наименование Римских Корсаковых. Некоторое время спустя малолетний племянник тихвинского коменданта Воин Яковлевич Римский-Корсаков был послан Петром во Францию в порт Тулон учиться военно-морскому делу. Возвращение в Петербург и столкновение юного франтика с суровой прозой большой государственной стройки забавно и не без яда изображены в пушкинском «Арапе Петра Великого», где вертопрашеству Корсакова противопоставлена сила чувства и дельность Ибрагима Ганнибала Таким образом, прадед Пушкина сведен в романе с прадедом композитора[1]. Дальнейшая судьба щеголя была, впрочем, весьма счастлива То ли благодаря энергии, проявленной в морском деле, то ли благодаря светской обходительности и приятной внешности, привлекшей внимание императрицы Елизаветы Петровны, Воин Яковлевич без труда дослужился до адмиральского чина и открыл своим потомкам доступ на военно-морское поприще.
В первой половине XIX века завершено было строительство Тихвинской судоходной системы. С открытием навигации стали теперь появляться на Тихвинке сотни груженых барж, шедших из Кронштадта и Петербурга в Нижний Новгород. Тихвин приосанился. «Жили там… бойкой широкой жизнью. Строились лодки, нагружались и перегружались суда, торговали в постоялых дворах и лавках… — вспоминал позднее один из горожан. — У всякого почти мещанина была резвая лошадка-«шведка», которыми тихвинцы щеголяли и в праздники ездили наперегонки по главным улицам города… Еще более бойкой жизнью жили, конечно, помещики. Судоходные и красивые реки Тихвинка и Сясь, при близком их расстоянии от Петербурга, послужили к водворению на них целого ряда дворянских гнезд старинных фамилий… По большим дорогам, ведущим в город… днем и ночью следовали вереницы экипажей и ямских троек, обозы подвод».
Но по-прежнему центром местной жизни остается мужской монастырь с нарядными башнями и мощами крепостными стенами, со златоверхим Успенским собором, со звучными хорами певчих внутри и хорами нищих на паперти, с разнообразными звонами — благовестом и набатом, праздничным веселым трезвоном, искусным «малиновым» и унылым похоронным Летний праздник Тихвинской божьей матери, «покровительницы земли русской», ежегодно собирал чуть ли не со всего русского Севера досужих странников и усердных богомольцев. Зоркому глазу было тут на что насмотреться, чуткому уху — наслушаться.
В сенокосную пору монахи разъезжали верхами по городу, сзывая народ себе на подмогу, с упоением выводя характерный напев клича:
Тетушки, матушки, красные девицы! Пожалуйте сенца пограбить для божьей матери!Древняя языческая старина была жива и сплеталась с христианским обрядом.
Масленица — мокрохвостка, Поезжай долой со двора,—пели тихвинцы, провожая весной соломенное чучело Масленицы, и мотив был на удивление схож с напевом панихидного пения.
Под красочной внешностью устойчивого народного быта, за резными наличниками и расписными ставнями таились тревоги, темные страсти, брожение умов. Россия шла к катастрофе Крымской войны и глубокому кризису строя. И здесь, на северной окраине, веяло неблагополучием. Множились тайные раскольничьи скиты. В селе Колодне случайно вырыли гроб с останками неведомой девушки. Поползли слухи, что она была замучена помещиком, а по смерти удостоилась святости и нетления. Говорили, что, не удовлетворившись этим, покойница стала являться в снах окрестным крестьянам и предрекать скорую волю. К праху новой «святой», получившей в народе имя «Настасья-пастушка коров пасла», началось паломничество. Встревоженная полиция приказала зарыть гроб под церковью. Жажда чуда разливалась в народе, глухо ропщущем и нетерпеливо ждущем перемены.
СЕМЬЯ
Обо всем этом и многом другом оживленно толкуют посетители гостеприимного городского дома Андрея Петровича Римского-Корсакова. Хозяин, побывавший в Новгороде вице-губернатором и на Волыни губернатором, сейчас в опале. Отец его, по свидетельству современника, был «великий весельчак, едун и любодей», на весь Тихвинский уезд славный пирами, чадо бурной екатерининской эпохи. А сам Андрей Петрович — человек редкой порядочности и доброты, в свои зрелые годы — скромник, бессребреник, книгочий, склонный к самоуглублению и философическим размышлениям на старинный лад. Он помог декабристам деньгами при проезде их в сибирскую ссылку. Отпустил на волю своих дворовых (отпустил бы и крестьян, но поместий у него по малой практичности уже не осталось). И все это вовсе не из каких-либо дерзких противуправительственных намерений.
Но согласить нравственные убеждения со службой по гражданскому ведомству при царе Николае Павловиче нелегко. Дело кончилось ссылкой в родной Тихвин, с запрещением въезда в столицы.
Круг людей, с которыми Андрей Петрович общался в Тихвине, узок Но это люди с умом и сердцем. Меж них ученый-самоучка Яков Иванович Бередников, знаток и страстный любитель древностей, один из основателей русской археографии[2]. Он объехал половину России, собирая летописи, превосходно знал архив Богородицкого монастыря. При его частых наездах в Тихвин можно было услышать немало любопытного о русской старине. Иными глазами смотрелась потом слушателям на крепостные стены — безмолвные свидетели подвигов и бедствий, на девичий Введенский монастырь, где когда-то пятьдесят два года томилась насильно постриженная в монахини четвертая жена Ивана Грозного, Анна Колтовская; на Царицыно озеро, где она скрывалась в землянке от шведов…
Дом Римских-Корсаковых стоял на высоком берегу Тихвинки насупротив мужского монастыря. За большим садом начинались поля. Не надо было далеко идти, чтобы услышать песню жаворонка днем, соловьиные трели ночью. Все привлекало внимание мальчика. Сперва предметы и звуки детской комнаты в мезонине. Потом цветы в саду, растения в огороде, звезды на небе, голоса птиц, песни, бубенцы. Ника родился 6 марта 1844 года, когда отцу было почти шестьдесят лет. Говорят, дети пожилых родителей физически слабее, а умственно сильнее, словно опыт и усталость, накопленные за жизнь, передаются потомкам Физической слабости мальчик не унаследовал. В его жилах текла, смешавшись с кровью Корсаковых, здоровая кровь: бабушка по отцу была дочерью священника, бабушка по материнской линии — крепостной девушкой орловского помещика Скарятина. Но рано проявляются у Ники черты какой-то недетской разумности и рассудительности.
Старший брат, Воин Андреевич, уже плавает в 1852–1857 годах в морях Дальнего Востока. Его увлекательные письма о Китае, Японии, Сахалине зажигают детское воображение. И сейчас же игра в моряки сливается с увлечением морской терминологией. Ника принимается «коллекционировать» названия корабельных снастей. Одиннадцатилетний мальчик свободно разбирается в карте звездного неба, знает названия созвездий. Мать, Софья Васильевна, разделяет с ним это увлечение. Даже ручным канарейкам дают здесь «космические» имена, потчуют общую любимицу Вегу и отгоняют от кормушки прожорливых маленьких Мицара и Алькора. Канареек много. Они живут в отведенной для птиц комнате и поют очень звонко.
Ученье дается Нике легко. Память у него завидная, любознательность ненасытная. Старший брат, которого он в каждом письме осыпает все новыми и новыми расспросами по части мореходства, дает малышу шутливое прозвище «Вопросительный знак». Мальчик послушен, деятелен, но крайне впечатлителен. Запачкав руки, он способен заплакать от чувства отвращения. Воин называет это изнеженностью, отец приписывает раздражительному нраву. Хрупкость нервной системы сказывается и во вспышках «капризов» с неудержимым плачем и катаньем по полу, в мучительных припадках заикания. Мать, при учившая ребенка говорить плавно и нараспев, по счастью, сумела изгладить эти припадки без следа. Размеренно течет жизнь в доме Корсаковых. Когда отец занят — читает, пишет рассудительные философические письма друзьям юности или размышляет, домашние говорят вполголоса и ходят осторожно, чтобы не помешать. Мало общаясь с детьми, Ника привыкает целыми часами играть один, строит машины и роет каналы во дворе, разыгрывает без слушателей целые сцены, совершает, не покидая детской, увлекательные походы. Он рано начинает рисовать и обнаруживает значительную зоркость глаза.
Свои трудности приносит переходный возраст. Мальчик делается нетерпелив, при неудаче чего-либо им затеянного легко впадает в отчаянье, с трудом принимает замечания, порой оказывается невнимателен и рассеян, будто прислушивается к неясному ходу мыслей и ощущений. Музыка звучит вокруг него и в нем самом, но не выделяется в нечто первостепенно важное. Это игра среди игр.
Музыкальными способностями судьба не обделила Корсаковых. Старший брат отца, Павел Петрович, не зная нот, по слуху играл целые увертюры. Прекрасно пел старинные народные песни другой брат, Петр Петрович («дядя Пипос»), Хороший слух был и у матери Ники. В молодости она прекрасно играла на фортепиано, но потом бросила. Пела же она охотно, всегда несколько замедляя темп, отчего песня делалась задушевнее. Читал ноты с листа и легко запоминал пьесы наизусть Воин Андреевич. Может быть, именно потому, что музыкальность и любовь к музыке были в семье привычны, малозамеченной осталась одаренность Ники. «Еще мне не было двух лет, как я уже хорошо различал все мелодии, которые мне пела мать, — вспоминал Корсаков; — затем трех или четырех лет я отлично бил в игрушечный барабан в такт, когда отец играл на фортепиано. Отец часто нарочно внезапно менял темп и ритм, и я сейчас же за ним следовал. Вскоре потом я стал очень верно напевать все, что играл отец, и часто певал с ним вместе; затем и сам начал подбирать на фортепиано слышанные от него пьесы с гармонией; вскоре я, узнав название нот, мог из другой комнаты отличить и назвать любой из тонов фортепиано». Щепетильная строгость к самому себе, какую проявлял Николай Андреевич на протяжении всей жизни, позволяет нам отнестись к этим показаниям с полным доверием.
Он берет уроки у тихвинских преподавательниц музыки, но их педагогические приемы и салонный репертуар как-то мало ему подходят. Ника был с большой ленцой, вспоминала потом одна из них. Во время уроков, играя пьесы, он иногда прибавлял что-то свое или не заканчивал пьесы, говоря: «Это лишнее», или: «Так красивее». Сам композитор этого не запомнил. По собственному признанию, он играл плохо, неаккуратно и даже был слаб в счете. Успехи он делает независимо от уроков или даже вопреки им. Менее трудоспособную и одаренную натуру это непременно привело бы к разболтанности и верхоглядству.
ПЕТЕРБУРГ
Двенадцати лет мальчик расстается с Тихвином. Он увозит с собой, сам того не зная, богатый запас впечатлений, понятий, полезных привычек. Нежный облик матери, участницы всех его интересов, и спокойная прямота отца, за которой чувствуется нравственное бесстрашие, оставили в его сердце и уме глубокий след. Всю жизнь, и чем дальше, тем больше, будут ему вспоминаться пенье птиц и колокольные звоны, северные леса и озера, тихвинские обычаи и тихвинские предания.
А пока вместо старинного городка блистательный, суровый, военно-чиновничий Петербург. Вместо тишины и пенья канареек — резкие звуки сигнальной дудки по утрам, адский шум в коридорах во время переменок и отрывистые «Здра… жла… ваше… ство!» при обходе фрунта начальством Морского кадетского корпуса, куда определили Нику. Николая I уже не было на свете. Нравы закрытых военно-учебных заведений понемногу смягчались. Не настолько, однако, чтобы стать человечными. По субботам, перед «отпуском» домой, младших воспитанников выстраивали в огромной столовой зале и в соответствии с отметками, полученными за неделю, «прилежных» одаряли яблоками, «ленивых» пороли. Еще страшнее было для новичков фрунтовое ученье, на котором унтер-офицеры (тоже из кадет) немилосердно били обучаемых чем попало и по чему попало. Тон задавали великовозрастные и физически сильные, носившие имя «старикашек». Они нюхали табак, который носили в тавлинках за обшлагом мундира, басили и перед новичками потрусливее и послабее — «рябчиками» — разыгрывали из себя повелителей, облагая их данью, награждая при случае оплеухами и зуботычинами.
Как вошел в корпусный быт маленький тихвинец? Судить об этом нелегко. В письмах к родителям он молчит о трудностях. Позднее ограничивается кратким: «В корпусе я поставил себя недурно между товарищами, дав отпор пристававшим ко мне, как к новичку, вследствие чего меня оставили в покое. # ни с кем, однако, не ссорился, и товарищи меня любили». Эту чрезмерную краткость можно с одинаковым основанием считать признаком безразличия, как и признаком глубоко затаенного в душе волнения. Зная крайнюю сдержанность в излиянии чувств, характерную для Николая Андреевича, и его нетерпимость к любой подлости, мы готовы остановиться на втором объяснении. Добавим еще одно его признание: «Со второго или третьего года моего пребывания в училище характер мой стал как-то не в меру мягок и робок, и однажды я не ответил товарищу М., ударившему меня ни с того ни с сего, в силу лишь злой воли, в лицо». И снова: «Тем не менее вообще меня любили; я чужд был ссорам и во всем держался товарищеских узаконений. Вел себя Вообще исправно, хотя начальства не боялся». Формула характерная. Как и многое в душевном облике подростка Корсакова, она почти без изменений может быть отнесена также к взрослому, немало бурь житейских прошедшему художнику.
Среди новых наук встретилась подростку и хорошо знакомая астрономия. Кадеты учились наблюдать звездное небо, определять местонахождение корабля по солнцу и звездам, ездили целым классом в Пулково, где притихших ребят водил по обсерватории и показывал телескоп сам знаменитый астроном Василий Яковлевич Струве.
Важную сторону обучения составляли практические занятия по военно-морскому делу. Ника стреляет из пушки, храбро пачкается в сале при смазке днища и механизмов, в смоле при конопатке швов корабля, с удовольствием лазает на мачты и бегает по реям.
Ему даже случилось свалиться с мачты в море во время поднятия парусов. «Этот случай поможет ему вылечиться от рассеянности», — рассудительно замечает в письме к родителям Воин Андреевич, внимательно наблюдавший за развитием и ученьем младшего брата. Ника сносно гребет и хорошо плавает. Его не страшат утренние обливания ледяной водой. До последних лет жизни он не будет знать, что такое простуда.
Лето 1858–1859 годов Корсаков проводит на так называемом «артиллерийском корабле» «Прохор», командиром которого по возращении из дальнего плавания был назначен Воин Андреевич. Новый командир полон добрых намерений. Он в эти годы энергично и плодотворно работает над вопросами морского воспитания, но изменить сложившиеся на корабле порядки не может. «Когда по воскресеньям привозили пьяную команду с берега, — вспоминал тридцать пять лет спустя Николай Андреевич, — лейтенант Дек, стоя у входной лестницы, встречал каждого пьяного матроса ударами кулака в зубы. В котором из двух — в пьяном матросе или бившем его по зубам, из любви к искусству, лейтенанте — было больше скотского, решить нетрудно в пользу лейтенанта. Командиры и офицеры, командуя работами, ругались виртуозно-изысканно, и отборная ругань наполняла воздух густым смрадом…»
От таких впечатлений не было лекарства. Оставалось, как выражался мальчик, не пускать в голову язвящую мысль, ставить против нее, точно против томительно звенящего комара, «сетку из других мыслей». Но существовало — еще нечто, помогавшее подростку не терять самого себя и не обезличиваться в условиях неблагоприятных. Этим «нечто» была музыка.
Правда, учитель и в Петербурге попался неудачный — заурядный артист театрального оркестра, да еще не пианист, а виолончелист по специальности Зато возникли яркие музыкальные впечатления, Впервые мальчик услышал оперные спектакли и был покорен. Из пестрых впечатлений, из первых полудетски. х восторгов начинает складываться определенное влечение к серьезной музыке, не только оперной, но и симфонической. Вторая и Шестая (Пасторальная) симфонии Бетховена, увертюра к «Сну в летнюю ночь» Мендельсона, «Арагонская хота» Глинки не просто нравятся — Ника наслаждается ими. Слушая оперу «Роберт-Дьявол» Мейербера, он испытывает ни с чем не сравнимое обаяние инструментальных тембров: впечатление от таинственного звука валторн в начале одного из номеров (романса Алисы) он запоминает на всю жизнь. В совершенное восхищение приводит его «Жизнь за царя», как тогда называли «Ивана Сусанина» Глинки. Еще больше увлекает его опера, которую многие в то время считали слишком «ученой», — «Руслан и Людмила». «Я, кажется, в первый раз ощутил непосредственную красоту гармонии… — вспоминал Николай Андреевич. — В Глинку я был влюблен». Брат, хорошо зная, что мальчику дороже всего, дарит ему переложение «Руслана» для фортепиано. На свои карманные деньги Ника, «не вытерпев», покупает такое же переложение «Сусанина».
Музыкальное созревание идет стремительно. Ничего не зная в теории музыки, он пробует сочинять. Не зная техники струнных и духовых инструментов, пробует «оркестровать» симфонические антракты «Сусанина», перекладывает «Камаринскую» Глинки для скрипки с фортепиано.
Этот музыкальный хаос начинает проясняться с момента, когда Ника встречает понимание, сочувствие и помощь настоящего музыканта. Осенью 1859 года дал ему первый урок даровитый пианист и убежденный поклонник русской музыки Федор Андреевич Канилле. Очень скоро эти уроки превратились в дружеские беседы за фортепиано. Техника игры от этого, пожалуй, не усовершенствовалась, но общее музыкальное развитие Ники сделало за последующие два года громадный шаг вперед. Римский-Корсаков узнал Шумана и Баха, квартеты и фортепианные сонаты Бетховена, новые для себя сочинения Глинки. Его вкусы и пристрастия становились убеждениями. Канилле был от своего ученика в восторге. В угловатом и застенчивом морском кадете он угадал крупное композиторское дарование. Чтобы как должно руководить его формированием, самому Канилле (он это прекрасно сознавал) недоставало многого. И он сделал самое большое, что только мог сделать для своего питомца: сохранив дружбу, отказался от руководительства. 26 ноября 1861 года Канилле привел Римского-Корсакова к музыканту, которому предстояло сыграть исключительную роль в жизни Николая Андреевича. В этот воскресный день произошла первая встреча — Корсакова с Милием Алексеевичем Балакиревым.
ГЛАВА II. НА СУШЕ И НА МОРЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРУЖОК
В истории России 1861 год — переломный. В истории русской музыки — это канун больших событий. Пройдут немногие месяцы, и Антон Рубинштейн откроет в Петербурге консерваторию, а Милий Балакирев — Бесплатную музыкальную школу. Уже создано, действует, вызывает нарекания и хвалы Русское музыкальное общество. Все области художественной жизни вовлекаются в процесс глубоких и быстрых изменений. Новая эпоха вызывает к деятельности поколение новых людей.
Поздней осенью 1861 года молодой чиновник министерства юстиции Чайковский поступает в музыкальные классы. Годом позже химик и любитель музыки Бородин начинает писать свою первую симфонию. Пробуют силы в симфоническом роде Балакирев, Цезарь Кюи, Мусоргский. Пришла пора появиться на свет русской симфонической школе.
Со своими наивными композиторскими попытками, необыкновенной восприимчивостью и юношеской влюбленностью в музыку Римский-Корсаков, едва переступив порог Балакирева, оказался в самом средоточии музыкальной «молодой России». Народа в кружке было немного: кроме самого Милия Алексеевича, только Мусоргский и Кюи, да еще два любителя, дипломат Лодыженский и почвовед Гуссаковский; оба внезапно появлялись у Балакирева и еще внезапнее исчезали, много обещали и мало делали. Зато жизнь здесь кипела. Без обиняков обсуждались старые и новые произведения. Суд был скорый, приговоры выносились решительные. Были тут и односторонность, и свежесть чувства, и мальчишеский задор. Была огромная, еще искавшая выхода и форм одаренность. Была гениальная чуткость к новым задачам искусства.
Рутина, школярство, посредственность высмеивались жестоко. Дружным презрением встречалось все, что казалось похожим на сентиментальность или отзывалось дешевой красивостью. На оперных сценах царила в то время мелодичная и виртуозная итальянская опера, приводившая в безграничный восторг петербургских меломанов. Для балакиревцев слово «итальянщина» означало предел пошлости. Антон Рубинштейн, человек бурной энергии и музыкальный деятель первого ранга, стремился укоренить у нас первые начатки музыкального образования и новые для русских композиторов элементы сонатно-симфонической формы. Немецкой формы, ибо она в конце XVIII века сложилась в странах немецкой культуры. В концертных программах руководимого им Русского музыкального общества видное место заняли Гайдн, Моцарт, Вебер, Мендельсон. К симфонической форме на свой лад тянулись и балакиревцы. Однако эти воинственные музыканты немедленно окрестили Русское музыкальное общество «немецким музыкальным департаментом», а его главу «Тупинштейном» и «Дубинштейном». Была та любопытная пора, когда веселее, интереснее, нужнее было говорить «нет», чем «да». Весело было наперекор знатокам считать Баха — педантом, Моцарта — деревянным и пустым, Шопена — салонным и сладким, Мендельсона — кислым, Вагнера — бесталанным, Даргомыжского — нескладным. Избытком почтительности балакиревцы не грешили. У своих любимых композиторов — Бетховена, Шумана, Берлиоза, даже у восторженно ценимого Глинки — они охотно находили слабости самые непростительные, подлинные или мнимые. Таково было характерное веянье эпохи, бросившей смелый вызов авторитетам и легко доводившей этот вызов до преувеличения.
По кружку и вождь. «Молодой, с чудесными подвижными, огненными глазами, с красивой бородой, говорящий решительно… и прямо; каждую минуту готовый к прекрасной импровизации за фортепиано, помнящий каждый известный ему такт, запоминающий мгновенно играемые ему сочинения…» таким на всю жизнь остался в памяти Корсакова Балакирев шестидесятых годов. «Технический критик, — подчеркивает Корсаков, — он был удивительный. Он сразу чувствовал техническую недоделанность или погрешность, он сразу схватывал недостаток формы… и тотчас, садясь за фортепиано, импровизировал, показывая, как следует исправить или переделать сочинение».
Принесенные Корсаковым с собою музыкальные наброски получили неожиданное одобрение. Что-то сразу расположило к нему Балакирева, обладавшего счастливым даром с первого взгляда горячо и глубоко привязываться к симпатичным ему людям. Уже очень скоро отцовская нежность и забота стали сквозить в его дружбе с пытливым и застенчиво-восторженным морским кадетом.
Занятия с Канилле продолжались, но уже неясно было, кто кого учит: даровитый пианист — способного ученика или молодой композитор — даровитого пианиста. Из отрывочных набросков оркестровой пьесы, показанных Балакиреву, Корсаков по решительному требованию Милия Алексеевича развивал и вырабатывал теперь «форменную» симфонию. Каждый новый кусок он приносил Балакиреву, выслушивал энергичную критику и дельные советы, переделывал по нескольку раз, пока, наконец, все не становилось на место. И с каждым шагом вперед рос опыт юного композитора и росла его вера в свои силы.
На встречах у Балакирева исполняли в четыре руки поздние квартеты Бетховена, симфонии Шумана, играли музыкальные новинки. Участники кружка честно показывали друг другу все наработанное ими за неделю. Критика бывала резкой и нелицеприятной. Обижаться не полагалось. В кружке господствовала чудесная творческая атмосфера доверия, требовательности и доброжелательства. Младшие по силе таланта, пожалуй, даже превышали старших, но безоговорочно принимали превосходство их опыта, знаний и вкуса. Старшие, даже рубя сплеча, с горячей заинтересованностью относились ко всему, что приносили на суд Мусоргский, Гуссаковский, Корсаков, Лодыженский. Счастливая мысль, интересный замысел, удачный сюжет легко делались общим достоянием, их дарили без сожалений и принимали без обиды.
Встречи у Балакирева хоть и держались музыкой, но ею не ограничивались. Живой интерес привлекала литература. Известный художественный критик Владимир Васильевич Стасов выразительно читал вслух отрывки из «Одиссеи» Гомера. Как-то художник Мясоедов прочел «Вия» Гоголя. Впечатления, как семена, западали в душу, чтобы когда-нибудь взойти и всколоситься.
Тем временем состоялось назначение Воина Андреевича начальником Морского корпуса. Готовились серьезные преобразования в либеральном духе. Впрочем, младший из братьев был так увлечен музыкой, что уже как-то мало вникал во все это. Перед ним открывался путь ясный и счастливый. В следующем музыкальном сезоне Балакирев твердо обещал найти случай исполнить его близившуюся к окончанию симфонию.
Вдруг все переменилось. Тяжело заболел отец. Ника, поехавший вместе с Воином лошадьми в Тихвин, уже не застал его в живых. Осталась только память о чрезвычайно спокойном, кротком и правдивом человеке, о его бескорыстии и справедливости. В последний раз юноша увидел старинные стены Большого монастыря и кладбище, где прибавилась к прежним новая могила. Простился с домом и садом. Софья Васильевна переехала в Петербург к Воину, ставшему отныне главой семьи, «отца вместо».
Свою власть ему пришлось проявить очень скоро. Весною Ника кончил корпус и был выпущен во флот гардемарином. Ему предстояло (в числе лучших по успехам воспитанников) длительное заграничное плавание. Столкнулись две воли. Столкнулись два жизненных идеала. Младший боялся прервать свое музыкальное развитие, предпочитая немедленный выход в отставку без чина и скудный заработок человека без специальности. Старший решительно воспротивился. Он не верил ни в исключительность дарования Ники, ни в реальную возможность жить в России на музыкальные заработки.
Еще осенью 1860 года он запретил брату продолжать уроки у Канилле, но потом смягчился. Теперь он, несомненно, жалел о допущенной слабости. Из приятного развлечения музыка грозила превратиться в цель всей жизни Ники. Это внушало брату глубокую тревогу. Взгляды Воина Андреевича, человека, несомненно, выдающегося, океанографа, просветителя, педагога, одного из лучших представителей «эпохи реформ», сложились давно и были продуманы до конца. «Специальность, очерчивая с самого начала предел карьеры человека, умеряет его честолюбие. Отдаляя от его воображения все помыслы о случайном и, следовательно, редко вероятном возвышении, — писал он еще в 1851 году, словно предвидя соблазны, встающие на пути молодых людей вроде Ники, — она примиряет человека с его судьбой и, исцеляя от бесполезных мечтаний и воздушных замков, направляет весь ум, все способности его к практической существенности… Специальный человек[3] стремится к тому только, чтобы дарованный талант не зарыть в землю, а извлечь из него все, что может служить к лучшему исполнению обязанности и к устроению своего личного благосостояния». Музыкальный талант не мог служить к лучшему исполнению обязанностей, скорее он был поводом для бесполезных мечтаний. Мать вполне согласилась с доводами Воина.
Напрасно встревоженный Балакирев предлагал хлопотать об оставлении гардемарина Римского-Корсакова в Петербурге. Против определенно выраженного требования семьи Ника не пошел. 19 октября 1862 года на пристани в Петербурге он простился с пришедшими проводить его Балакиревым, Кюи и Канилле. Двумя днями позже клипер «Алмаз» поднял паруса и покинул внешний рейд Кронштадта. Глубокая трещина пролегла в отношениях Николая Андреевича к брату и матери. Кажется, что изгладиться вполне она уже не смогла никогда.
В ПЛАВАНИИ
Ушел в плавание мальчик, вернулся взрослый. Пережито, передумано было за два с половиной года больше, чем за все восемнадцать лет перед тем.
Ушел музыкант, вернулся моряк. Правда, командира из Ники не получилось. Он так и не выучился приказывать по-военному, покрикивать, ругаться, ободрять И взыскивать. А между тем нравы на флоте были жестокие. «То время было — время линьков и битья по морде, — вспоминал Николай Андреевич. — Мне несколько раз, волею-неволею, приходилось присутствовать при наказании матросов 200–300 ударами линьков по обнаженной спине в присутствии всей команды и слушать, как наказуемый умоляющим голосом выкрикивал: «Ваше высокоблагородие, пощадите!» Отвратителен стал Корсакову капитан «Алмаза» П. А. Зеленой — ханжа, грубый с офицерами, жестокий с матросами, елейный перед начальством; страшен и гадок — адмирал С. С. Лесовский, как-то в приступе бешеного гнева откусивший провинившемуся матросу ухо. Среди офицеров, даже молодых, значительную часть составляли откровенные крепостники, дурно воспитанные тупицы, чванящиеся своим невежеством и своим дворянством.
Борозда врезалась в сознание навсегда. Сорок три года спустя, узнав о восстании на броненосце «Князь Потемкин», он немедленно откликнулся в письме к жене: «А все это плоды мордобития, сечения, расстреляний и повешений».
На многое открылись у юноши глаза. Привычный заурядный офицерский и чиновничий быт показался постыдным. Кто повел Корсакова по пути познания? Белинский? Шекспир? Шиллер? Их он читал усиленно в годы плавания. Нет, прежде надо назвать здесь Гоголя и Герцена. Первый показал жалкую пошлость «существователей» и «приобретателей», подарил будущему композитору драгоценное оружие юмора со всеми оттенками и переходами от легкой шутки и насмешливого понимания до гневной иронии и скорбного, страдальческого смеха. Второй сорвал покров лицемерия с трагедии русской истории, бросил резкий свет-обличитель на государственную и частную жизнь. «Мы хотим быть протестом России, ее криком освобождения, ее криком боли», — писал Герцен.
Когда в письме к брату мы находим строки «одного русского писателя» и узнаем пламенное перо издателя «Колокола», становится понятно, как вырос недавний кадет Римский-Корсаков. «…От всего склада жизни народной дворянство упорно сохранило все дурные ее стороны, — писал Герцен; — бросая за борт вместе с предрассудками строгий чин и строй народного быта, оно осталось при всех грубо барских привычках и при всем татарском неуважении к себе и к другим. Тесная обычная нравственность прежнего времени не заменилась ни аристократическим понятием чести, ни гражданским понятием доблести, самобытности; она заменилась гораздо проще немецкой казарменной дисциплиной во фрунте, подлым унижением, подобострастным клиентизмом в канцелярии и ничем вне службы»[4]. Переписывал с величайшим одобрением эту тираду отпрыск старинного дворянского рода — черта, характерная для шестидесятых годов прошлого века. А сейчас же за беспощадным осуждением дворянства в статье Герцена следовало восторженное слово о декабристах.
Вожаком молодых вольнодумцев на «Алмазе» был штурманский кондуктор П. А. Мордовин — горячий герценист, усердный читатель и распространитель «Колокола». «Все симпатии мои были к Мордовину», — вспоминал Римский-Корсаков. Вольная газета, издаваемая Герценом, посвящала довольно много заметок флотским делам и безобразиям. Читали «Колокол» на флоте с жадностью даже люди весьма далекие от радикальных политических взглядов его издателя.
С началом польского восстания положение изменилось. Герцен решительно стал на сторону повстанцев, спас этим, как он сам потом говорил, честь русского имени, но зато сразу оттолкнул от себя всех патриотов по привычке и демократов по недоразумению. В марте 1863 года клипер «Алмаз» был спешно направлен в крейсерское плавание между Либавой и Полангеном[5], дабы пресечь возможный подвоз оружия восставшим. Споры на «Алмазе» между «прогрессистами» и «ретроградами» доходили теперь до открытых ссор. Но по-прежнему дорого и свято было Корсакову дело польской революции, или, как он написал в воспоминаниях, «дело свободы самостоятельной и родственной национальности, притесняемой ее родной сестрой — Россией». Год-два назад вольномыслие могло казаться модой, сейчас, в разгар шовинистической реакции, когда Чернышевский был в каземате, а Герцен почти одинок, оно становилось пробой чистоты. Эти настроения и веяния еще более отдаляют Корсакова от родных.
«С матерью и братом у меня стало так мало общих интересов, — писал он Балакиреву 23 ноября 1863 года; — мать для меня стара, а брат очень мало может мне дать, как я вижу из его писем; это служащий, деловой человек. Мать мне пишет боговдохновенные письма, жалеет об упадке молодого поколенья, просит молиться богу, не говорить с вольнодумцами и проч. Если б она взглянула мне в душу, то не перенесла бы. Бедная мама! А брат, да что брат?..»
Беда, что даже увлечение музыкой с течением времени начало как-то тускнеть. Первые месяцы в самых неблагоприятных условиях морского плавания и портовых стоянок он продолжал жить музыкальными интересами. Написана и оркестрована была третья часть симфонии и оказалась ее лучшей частью. Роились в голове музыкальные темы, планировались, как любил выражаться Балакирев, новые симфонии и симфонические пьесы. При малейшей возможности, на более длительных стоянках, Корсаков спешит в концерт и оперный театр, покупает и с упоением читает партитуры Бетховена. В частых письмах Балакиреву и Кюи делится впечатлениями, чутко ловит вести о музыкальных новинках Петербурга, замыслах членов балакиревского кружка. Но время идет. Из-за нередких перемен почтового адреса слабеет связь с петербургскими друзьями. Глохнет источник музыкального творчества. Воспоминания смешиваются с раскаянием. «Зачем я не- остался в Питере; извольте видеть: убоялся скудости материальных средств! — пишет он Балакиреву. — Нет, нужно было бросить службу и жить кое-как, пока не выучился бы порядочно играть; для такого дела, как быть композитором, нужно жертвовать всем, а то ничего не выйдет».
Но и боль становится привычной, следовательно, притупляется. А между тем кругосветное плавание возобновляется. После подавления польского восстания клипер покидает Балтику и берет курс на Нью-Йорк. Впервые Корсаков видит океан. Путь «Алмаза» лежит к берегам Северной, а потом и Южной Америки. Громадное, ни с чем не сравнимое впечатление осталось от Ниагары. На всю жизнь сохранился в памяти морской переход в Рио-де-Жанейро.
Он стоит на мостике, спокойный и зоркий — недавно произведенный мичман. Ночная вахта только началась. Воздух чист и мягок. Светящиеся голубоватые полосы за кормой струятся и переплетаются, как пряди шелковистых волос. Темная синева неба сбрызнута крупными алмазами и запорошена звездной пылью. Поскрипывают, покачиваются снасти, упруго несут ветер паруса. Корабль скользит, стремительно раздвигая форштевнем твердь океана. Безмолвный восторг охватывает вахтенного. Ему странно близка эта сияющая южная ночь, ему томяще сладостна колыбельная волн и снастей. Ничто не ускользает от него. Какой-то таинственный процесс совершается в нем, бесценные сокровища ложатся в память. Придет срок, и сверканье звезд взойдет в его музыке, раскинется во всю ширь влажная пустыня океана, волны и ритмически покачивающиеся мачты запоют свою песню. А пока худощавый мичман с внимательным, чуть замкнутым выражением лица, не допускающим фамильярности, исправно несет вахту. На клипере все в порядке.
«Чудные дни и чудные ночи! Дивный, темно-лазоревый днем цвет океана сменялся фантастическим фосфорическим свечением ночью. С приближением к югу сумерки становились все короче и короче, а южное небо с новыми созвездиями все более и более открывалось. Какое сияние Млечного Пути с созвездием Южного Креста, какая чудная звезда Канопус… Сириус, известный нам по зимним ночам, казался здесь вдвое больше и ярче… Свет ныряющего среди кучевых облаков месяца в полнолуние просто ослепителен. Чудесен тропический океан со своей лазурью и фосфорическим светом, чудесны тропическое солнце и облака, но ночное тропическое небо на океане чудеснее всего на свете…» — писал потом Николай Андреевич. Как сильны были впечатления, чтобы так ярко вылиться тридцать лет спустя!
С восторгом вспоминал он Бразилию, далекие прогулки в окрестностях Рио-де-Жанейро, пальмовые и бамбуковые аллеи, диковины Ботанического сада. Предстоял поход к мысу Горн и заманчивое возвращение через Тихий и Индийский океаны, вокруг Африки, обратно в Европу. Но, как поговаривали в офицерской кают-компании, не этого хотел капитан. Умышленно вызванная им во время двухдневной бури течь вынудила «Алмаз» вернуться в док для починки. Вслед за тем Зеленой, ссылаясь на ненадежность судна, добился приказа об отзыве клипера. 21 мая 1865 года «Алмаз» бросил якорь в Кронштадте, пробыв в плавании два года и семь месяцев.
Сам Николай Андреевич так подвел итоги своему путешествию: «Много неизгладимых воспоминаний о чудной природе далеких стран и далекого моря; много низких, грубых и отталкивающих впечатлений морской службы… А что сказать о музыке и моем влеченье к ней? Музыка была забыта, и влеченье к художественной деятельности заглушено…. Я сам стал офицером-дилетантом, который не прочь иногда поиграть или послушать музыку; мечты же о художественной деятельности разлетелись совершенно, и не было мне жаль тех разлетевшихся мечтаний».
ГЛАВА III. МОГУЧЕЕ СОДРУЖЕСТВО
ТРИ ОТЗЫВА
Первый: «С тех пор как мне случается по временам говорить о явлениях музыкальной жизни Петербурга, я в первый раз берусь за перо с таким удовольствием, как сегодня. Сегодня мне выпала действительно завидная доля писать о молодом, начинающем русском композиторе, явившемся впервые перед публикой со своим крайне талантливым произведением, с первой русской симфонией[6]. Публика слушала симфонию с возрастающим интересом… И когда на эстраде явился автор, офицер морской службы, юноша лет двадцати двух… все встали, как один человек, и громкое единодушное приветствие начинающему композитору наполнило залу…»
Второй: «Эта музыка действительно переносит нас в глубь волн — это что-то «водяное», «подводное» _ настолько, что никакими словами нельзя бы выразить ничего подобного… Это произведение принадлежит таланту громадному в своей специальности — живописать при помощи музыки. Вот «музыкальная картина», которая действительно заслуживает свое название…»
Третий: «Можно смело сказать, что во всех отношениях наш молодой композитор в течение двух лет, протекших между появлением его симфонии и исполнением в Москве «Сербской фантазии», значительно подвинулся вперед… Вспомним, что г. Римский-Корсаков еще юноша, что пред ним целая будущность, и нет сомнения, что этому замечательно даровитому человеку суждено сделаться одним из лучших украшений нашего искусства».
Три оркестровых произведения Римского-Корсакова, вызвавшие столь живой отклик, — Первая симфония, музыкальная картина «Садко» и «Фантазия на сербские темы». Три рецензента — Кюи, Серов, Чайковский. Еще раз все переменилось: молодой Римский-Корсаков вопреки благоразумию вступил на тернистое поприще сочинителя.
Он не оставил флота, не снял формы. Но зимняя береговая служба не отнимала много времени, а в летние учебные плавания его вскоре перестали назначать. С осени 1865 года возобновились встречи с Милием Алексеевичем, Кюи, Мусоргским. Постоянным, неизменным их участником был Стасов. Все в нем отзывалось щедростью природы, не пожалевшей на Владимира Васильевича ни роста, ни дородства, ни безграничной, чисто юношеской восторженности и отзывчивости, ни задора, торопящегося каждое теоретическое положение довести до крайнего предела. Знания Стасова были так же велики, как его страстное желание обратить их на службу молодому искусству. Он лично знал Глинку, дружил, а потом раздружился с А. Н. Серовым, оказал влияние на Балакирева, бесил Тургенева, обожал Толстого.
С ним на сборищах кружка было празднично, определения «бесподобно», «тузово», «капитально» так и гудели в воздухе, то попадая в цель без промаха, то шумно проносясь мимо. Без него становилось как-то пусто. Корсаков сперва дичился Владимира Васильевича (Стасову было уже за сорок, и зеленой молодежи он казался стариком), потом привык и оценил его — смелого вожака и верного друга художников.
За время отсутствия Николая Андреевича появился в кружке совсем новый и на редкость симпатичный собрат — молодой профессор химии Александр Порфирьевич Бородин, человек большого ума и спокойного, почти никогда и ничем не колеблемого добродушия. Корсаков стал захаживать к нему в лабораторию, где Александр Порфирьевич колдовал над колбами и ретортами, не прерывая беседы на музыкальные темы. Его мягкие, чуть восточные глаза, его неторопливые движения, его богатая одаренность, светящаяся в разговоре и ощутимая даже в молчании, производили неотразимое впечатление.
Иногда беседы заканчивались запоздно, уже не в лаборатории, а на квартире Бородина, расположенной в том же здании. Извлекались из футляров флейта и гобой, на которых наигрывал хозяин, показывая гостю, какие тут приемы могут быть пущены, в дело. Присаживалась за рояль приветливая хозяйка. Домовито кипел самовар; на колени Корсакову тяжело вспрыгивал кот Васенька и располагался поудобнее. На минутку отлучившийся в лабораторию Бородин возвращался, оглашая коридор причудливыми последованиями звуков, благо соседей не было. Незаметно наступала глубокая ночь.
Совсем иным был второй из друзей Корсакова, заменивших ему в эти годы семью, увлечения, заморские страны — все на свете. Модест Петрович Мусоргский — молодой гвардейский офицер в отставке, самобытный пианист и певец-любитель, твердо обещавший стать столь же самобытным композитором. Ни в ком из балакиревцев не давала себя знать с такой силой свобода от штампов, от готовых художественных решений, от условной, благообразной красоты. «Мусоргский и в самом своем безобразии говорит языком новым. Оно некрасиво, да свежо», — признавал Чайковский, весьма далекий по своим художественным идеалам от автора «Годунова» и «Хованщины». «Мусоргский был враг всякой рутины и обыденности не только в музыке, но и во всех проявлениях жизни, даже до мелочей», — писала одна из постоянных участниц музыкальных сборищ кружка.
Раз увидев, невозможно было его забыть. Все в нем было необычно — манера говорить вполголоса, странно переиначенные словечки, острые замысловатые шутки, порою ставившие в тупик. Его ненависть к рутинерству, школярству, к «немецкой музыкальной партии» доходила до предела. Как и Балакирева, его сильно коснулась мутноватая волна вражды к полякам (она оставила след в польских сценах «Бориса Годунова»), А рядом жили в нем глубокое сочувствие к обездоленным и любовь к «могучему и бессильному» русскому народу. Доверчивый, мучительно обидчивый, самоуверенный, робкий, это был подлинный самородок, весь из золота и кварца, металла и глины, весь из острых углов, твердый и хрупкий. Беречь его хрупкость было некому, да и никто, кажется, не понимал, что надо беречь. Близость со Стасовым пришла позже, но и тогда осталась скорее творческим и горячим содружеством, чем дружбой равных. Пока же Мусорянина, как он сам себя называл, считали в кружке, с легкой руки Балакирева, необыкновенно талантливым недотепой, относились к нему, что касается старших, доброжелательно, но несколько свысока.
Одним из таких старших в кружке был или считался офицер инженерных войск, талантливый, но неглубокий композитор, насмешливый, любезный и слегка себе на уме Цезарь Антонович Кюи. Бойкий, язвительный полемист, зоркий, хотя не всегда дельный критик, он стал начиная с 1864 года признанным глашатаем идей и оценок, созревавших в балакиревском кружке и благодаря Кюи получивших выход на страницы газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Отчасти в силу его личных особенностей кружок быстро встал в резко враждебные отношения к большинству русских музыкальных деятелей. Особенной пользы это обособление никому не принесло. Самому же Кюи выпало на долю пережить и почетную роль глашатая, и свою известность, и всех без исключения членов кружка: он умер в марте 1918 года.
Другим, и на этот раз безоговорочно старшим, был Балакирев. Прирожденный вождь и воитель, он увлек за собой на новые пути национального искусства весь кружок. Первостатейный композитор, отмеченный и как бы благословленный на подвиг самим Глинкой, деятельный дирижер, пианист, организатор. Балакирев в те годы являлся единственным музыкантом-профессионалом среди своих друзей, еще не сбросивших скорлупку любительства. Его страстная убежденность и непоколебимая уверенность безотчетно передавались окружающим и создавали совершенно особую, магнетическую атмосферу доверия и подчинения. «Он поражал смелостью своих независимых суждений и образа действий и очарованием своей необыкновенной личности… Он был беспощаден и иногда очень резок в спорах, не допуская пи в чем никаких компромиссов, но это не мешало его необыкновенной доброте сердца проявляться везде, где к тому представлялся случай», — писал его любимый ученик и друг С. М. Ляпунов. Добавим все же, что, как у многих горячих и крутых людей, доброта Милия Алексеевича уживалась со злобой, убежденность в своей правоте — с неумением уважать чужое мнение и чужую личность. Он был пристрастен. И Корсакову привелось полной чашей испить сперва сладость, потом горечь этого пристрастия. «Если Балакирев любил меня, как сына и ученика, то я был просто влюблен в него, — вспоминал Римский-Корсаков. — Талант его в моих глазах превосходил всякую границу возможного, а каждое его слово и суждение были для меня безусловной истиной». Множество музыкальных пристрастий и навыков, художественных притяжений и отталкиваний, вплоть до излюбленных гармонических ходов и отдельных приемов оркестровки, пришло к ученику от учителя, вплелось в ткань музыки Корсакова, стало ее неотделимой частью, как перешедшие от отца к сыну цвет глаз, привычный жест, привычное присловье.
Балакирев, Бородин, Кюи, Мусоргский. Римский-Корсаков был последним в алфавитном порядке и младшим по возрасту. Их было пять. «Пятеркой» их и стали называть во Франции и Германии, когда они получили там известность. Кюи предпочитал тактически удобное, гибкое наименование — Новая русская школа. Но подлинным именем композиторов балакиревского кружка стало почетное — «Могучая кучка». Так сказал о них в 1867 году Стасов, верный друг, вдохновитель и защитник в газетной перепалке. Крылатое слово подхватил А. Н. Серов, превратил его в издевку, в ироническую кличку, но ирония отпала, а кличка обернулась именем.
После польского восстания 1863 года, подавленного беспощадно, после одинокого, как крик, выстрела Каракозова и запрещения некрасовского «Современника» атмосфера русской жизни существенно меняется. Постепенно спадает, так и не смыв до конца крепостнических порядков, волна преобразований. Реакция переходит в наступление, успешно используя и подогревая враждебные полякам националистические настроения, отвлекая внимание полуобразованной массы от коренных вопросов жизнеустройства и настоящих бед. А меж тем идет распад устойчивого дореформенного быта, неотвратимо разоряется и нищает деревня, ограбленная при «освобождении». Аудитории университетов, галерки театров, дешевые места в концертных залах заполняет разночинная молодежь обоего пола, жадно ищущая ответа на «проклятые вопросы», настороженно чуткая ко всякой новизне, ко всякому горячему и убежденному слову. Кое-кто в порыве увлечения отвергает музыку как праздную барскую забаву. Зато для других она становится правдой в звуках, неподкупным голосом народного страданья и народных чаяний, могучим резонатором чувств, глубокой душевной потребностью. Из тесного круга музыка выходит на простор.
РУССКАЯ СИМФОНИЧЕСКАЯ ШКОЛА
Во второй половине шестидесятых годов многое меняется в деятельности и складе балакиревского кружка. Полудомашнее объединение любителей превращается в общественную силу, оспаривающую влияние у Русского музыкального общества или вступающую с ним в дружеские отношения, как равный с равным. Кюи и Стасов на газетных столбцах, Балакирев за дирижерским пультом словом и делом воюют за новую музыку, свободную от школьных правил, открытую живым идеям и впечатлениям.
Место Моцарта, Гайдна, Мендельсона в концертах, руководимых Балакиревым и пропагандируемых Кюи, занимает гениальный романтик, тончайший психолог Шуман и «властители дум» молодой Европы — Берлиоз и Лист. Оба без сожалений откинули испытанную форму четырехчастной симфонии ради вдохновенно-свободных инструментальных драм и оркестровых поэм. Картины народной жизни и народной фантазии, образы Данте, Шекспира, Гёте, Байрона стали под их пером доступны музыке, ранее только в лице Бетховена дерзавшей проникать в этот мир. Музыкантам нового поколения стал подвластен обширный диапазон чувств и картин: от просветленной нежности до ядовитого сарказма, от блаженства влюбленных до безграничного отчаяния одинокой души, от воздушного танца крохотных сильфов до бешенства разъяренной стихии. Ясная в своей определенности и простоте гармония XVIII века, аскетическая инструментовка классиков оказались тут не к месту. Живописность, выразительность, богатые оркестровые краски новой музыки с неожиданной стороны осветили творчество Глинки. Рядом с новаторами он оказался величайшим новатором, из передовых — передовым. И не только в оперной сфере. В могучей интродукции, «Марше Черномора» и лезгинке из «Руслана и Людмилы», в «Камаринской» и испанских увертюрах Глинки балакиревцы справедливо усмотрели великое открытие, отомкнувшее врата в будущее русской инструментальной музыки. Вместе с этими пьесами и оркестровыми эпизодами в нее вошло небывалое в таких масштабах народно-эпическое начало. Отсюда протянулись нити чуть ли не ко всем важнейшим произведениям мастеров «Могучей кучки».
Путь в будущее оказался нелегким. Надо было, впитав, усвоив гигантский опыт ближайших предшественников, глубоко вникнув в склад русской песни, создать нечто вполне самобытное: русскую симфонию, русскую оркестровую фантазию или поэму. Надо было в небывалой, новой форме выразить новые мысли и чувства, пройти свежей бороздой, взрытой плугом истории. Каждый шаг вперед давался дорогой ценой труда и вдохновения.
Балакирев в это десятилетие задумал, а частично и начал, множество интересных сочинений. Но мысль далеко опережала выполнение, острое критическое чутье разъедало творческий порыв. Одни из сочинений так никогда и не были написаны, другие завершены годами и даже десятилетиями позже, когда в большой степени был утрачен драгоценный элемент новизны, им в свое время естественно присущий. В шестидесятых годах из всего задуманного Балакиревым на симфоническую эстраду вышли только музыкальная картина «Тысяча лет» да Чешская увертюра[7].
Не много создал, если говорить об оркестровой музыке, и Мусоргский: небольшое интермеццо в классическом роде и фантазию «Ночь на Лысой горе». Последнюю Балакирев тут же забраковал, и она была отложена в ожидании лучших времен. Это обстоятельство, надо думать, не способствовало повышению интереса автора к симфоническим жанрам. Оркестровых пьес он более не писал до конца своих дней, ограничившись симфоническими эпизодами в операх. После первых полуудач надолго отступился от опытов в этом роде Кюи.
И тем не менее русская симфоническая музыка интенсивно развивалась. Прекрасную симфонию, несколько в шумановском роде, полную жизни, спокойной силы и поэтических эпизодов, создал Бородин. Молодой московский композитор Чайковский после «Зимних грез» — симфонии, в Петербурге не исполнявшейся, — написал по замыслу и даже плану Балакирева увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта». Произведение оказалось действительно выдающимся. Кюи с торжеством засчитал увертюру в актив Новой русской школы. Наконец, все эти годы упорно работал в симфоническом жанре самый младший из композиторов «Могучей кучки» — Римский-Корсаков. Плодом его трудов были две симфонии, «Увертюра на русские темы», «Фантазия на сербские темы» и музыкальная картина «Садко». Для двадцатипятилетнего композитора, состоящего притом на службе в морском ведомстве, не так уж мало.
КОРСАКОВ-СИМФОНИСТ
Что сделало возможным этот необыкновенный подъем творческих сил? Задача и характер. Иначе говоря, перспективность вставшей в порядок дня проблемы русской программной музыки и редкое сочетание качеств, нужных для ее решения, в личности композитора. Человек с острой зрительной памятью, повышенным ощущением цвета, интенсивной отзывчивостью на явления природы — грозные и тихие — не столь уж часто встречается среди музыкантов. Бородин, например, признавал листовские «Ночное шествие» и «Вальс Мефистофеля»[8] верхом совершенства с точки зрения программности и особенно восхищался рельефностью, с какой музыка в «Ночном шествии» передает «не только общее настроение, но и все частности». Тем не менее в своих симфониях Бородин с покоряющей убедительностью воплощал именно общее настроение, обобщенную картину, чаще всего не воспроизводя в звуках ни подробностей, ни зримых образов. Другой великий симфонист, Чайковский, обычно и не ставил перед собой таких задач, всю силу дарования направляя на раскрытие душевной драмы, а не внешней ее обстановки, воспринимая жизнь природы не как вереницу картин, а слитно.
Корсаков принес в свое творчество память о зеленых тихвинских лесах, дождях и радугах, о старинном русском укладе, о сверкающих в тропическом ночной небе звездах, темно-сапфировом океане и неуклонном ходе корабля. Все это, однако, спало бы бесплодным сном в его сознании, когда бы не Глинка и Лист, создавшие превосходные образцы музыкальной живописи, когда бы не Стасов и Балакирев, неустанно наводившие молодого композитора на сродные ему темы.
Было еще одно, быть может, наиболее важное условие, действовавшее помимо воли художника: окружавшая его русская жизнь во всей своей красоте и безобразии. Она просилась в музыку поэзией народных песен, обрядов, игр. И она же настоятельно побеждала композитора искать противовеса безобразию в игре свободной фантазии, в исстари дорогом народу мире сказки. Сочетание того и другого стало основой программного творчества Римского-Корсакова.
Еще полный обаяния и отголосков чужой музыки — Глинки, Балакирева, Листа, Даргомыжского, Кюи, Серова, — он искал и находил необходимые ему звуки и краски, ароматные, пряные гармонии, завораживающие чистые тембры оркестровых инструментов. Еще в Первой симфонии, талантливой, но ученической, Корсаков поразил чуткого Чайковского медленной частью, построенной на старинной народной песне «Про татарский полон». Чайковский мгновенно схватил новизну формы и, как он выразился, «свежесть чисто русских поворотов гармонии». Новым крупным шагом на пути к самому себе была для молодого композитора музыкальная картина «Садко», написанная летом 1867 года.
Когда-то сюжет новгородской былины о смелом, удачливом мореходе и славном гусляре Садко предложил Балакиреву Стасов. Потом заинтересовался им Мусоргский. Но его бурному воображению оказался ближе шабаш ведьм на Лысой горе, а стасовская программа приглянулась Корсакову. Тут было море и был элемент фантастики. «Для музыки это элемент всегда прекрасный и благодарный», — писал Корсаков. Образ Садко, спустившегося в подводное Царство и вновь поднявшегося на свет, приводил на память Орфея, смело сошедшего живым в царство мертвых: оба музыкой очаровали и покорили враждебные человеку силы. А всего привлекательнее был общий склад северорусской былины — яркий, раздольный, поэтический и удалой. Не овладев колоритом русской музыкальной сказки, за нее не стоило и приниматься.
В музыкальной картине «Садко» Корсаков обнаружил живое поэтическое воображение и в то же время редкую в молодом художнике сдержанность. Опасаясь многословия, он даже несколько злоупотребил краткостью. Корсаков создал — и это было подлинным открытием — новый музыкальный образ моря, дивную в своей простоте ритмическую формулу волн, бегущих на бескрайном просторе. Смены гармоний и оркестровых тембров, усиление и ослабление звучности окрашивают музыку «Садко» в лазурно-светлый или свинцовый тон, создают звуковой облик океана, покоящегося или бурного, вызывают эффект кажущегося приближения или удаления всей картины. Но неизменен остается ритм — величавый, уравновешенный, преображающий слепую, беззаконную стихию в стройную систему, хаос — в космос. Этот ритм сам подобен Садко, победителю хляби.
Вполне удались в музыкальной картине все изобразительные детали. Стремительное погружение гусляра в сказочное подводное царство композитор передал, применив особенную гамму, получившую в дальнейшем название гаммы Римского-Корсакова. Ее эффект в должной мере причудлив и фантастичен. Как мимолетный девичий облик, скользит и скрывается напев удивительной задушевности. Пройдет много лет, и в опере «Садко», вобравшей весь материал музыкальной картины, на этой теме прозвучит признание Морской царевны, открывшей свое сердце молодому гусляру. Смело ввел Корсаков в свое произведение бойкий, разымчивый трепачок, под который Садко пустил в неудержимый пляс все подводное царство. От сочетания с величальной песней, славящей Водяного царя, от соседства с рассыпающей искры музыкой золотых рыбок простодушно-грубоватый мотив утратил нежелательную в волшебной сказке бытовую определенность; в то же время синее море, золотые рыбки и морские чуда получили незабываемый, характерно русский оттенок.
Мечта о красоте большей, чем красота обыденного, угаданная композитором в новгородской былине, еще полнее раскрылась в следующем произведении Корсакова, в программной симфонии «Антар» по арабской сказке О. И. Сенковского. Снова рамой послужил музыкальный пейзаж, на этот раз картина безбрежной пустыни. Легкий бег газели, тяжелый лет гигантской птицы, стрела Антара, поразившая хищника, и вслед за тем вереница волшебных приключений. Спасенная от гибели газель обертывается пери Гюль-Назар. Благодарная фея одаряет Антара тремя блаженствами: сладостью мести, сладостью власти, сладостью любви. В совершенно свободной форме (много позже он даже переименовал свою симфонию в сюиту) композитор рассказал на языке музыки живописную восточную сказку. Подлинные арабские мелодии зазвучали в драгоценной оправе прозрачной инструментовки и прихотливой, изысканной гармонизации. Со времени лезгинки и персидского хора в «Руслане» русская музыка не знала такого Востока.
Балакирев, даже не думая о том, подготовил своего ученика и друга к решению этой задачи. «Вы не поверите, — рассказывал потом Корсаков, — какое громадное и важное воспитательное значение для нас всех имел энергичный, юный Балакирев, только что вернувшийся с Кавказа и игравший нам слышанные там восточные песенки!.. Эти новые звуки для нас в то время являлись своего рода откровением, мы все буквально переродились». Их характер отмечал сам Милий Алексеевич: «нега, идеальность, легкость, грация, иногда сила…»
В музыкальном, только складывающемся мире Корсакова, начиная с «Антара» или даже несколько раньше, начиная с романсов 1866 года, кристаллизуется особая сфера. Красота, но более зыбкая и недоступная, чем осязательная красота природы; мечта, но проникнутая томлением и негой; образ любви, но потаенный и тревожащий. Раз очерченный, этот круг музыкальных видений не оставит композитора до самого конца, всплывет в симфонической сюите «Шехеразада», в опере-балете «Млада», в отдельных романсах, а в последней его опере отзовется своим самым ярким, почти мучительно острым воплощением — образом Шемаханской царицы.
ГЛАВА IV. «ПСКОВИТЯНКА»
АВТОР
«Милейшее адмиралтейство… — писал Николаю Андреевичу обожавший всевозможные прозвища Стасов, — мне, когда я проснулся сегодня, ужасно вдруг захотелось сказать Вам тотчас же, как Вы все более и более растете на моих глазах, становитесь и серьезнее и глубже. Знаете ли, из всей компании Вы самый мыслящий… Кюи — страстный, но вовсе, не думающий и ровно ни об чем не способный думать… да притом же при всем таланте ему ровно ни до чего нет дела. Мусорянин — просто выходит из всех пазов вон, по свойству своего таланта, но головою довольно ограничен, критики никакой… Балакирев — орел во всем музыкальном, и мне нечего прибавлять к тому, что всякий из нас чувствует до корней души, и такого другого человека мы на своем веке, конечно, не увидим; но его ахиллесова пята — это прозаичность и кривизна головы во всем немузыкальном…
Ну, а Вы: никто больше Вашего не предан своему делу, никто больше Вашего не сидит вечно на своей университетской скамье. Как я ни посмотрю, Вы никогда не перестаете учиться, никогда не развлекаетесь ничем, поминутно возвращаетесь к своему прямому делу: то музыку учите, то оркестровку следите, то разговор возвращаете от посторонних предметов, (часто вздоров) на ту же музыку; наконец, постоянно все наблюдаете и разбираете, все взвешиваете и оцениваете. Этакое постоянное настроение не остается без следов и результатов, да еще глубоких. Знаете ли, чего (по-моему) одного Вам недостает? Это страстности. Но это приходит от обстоятельств: стоит прийти той минуте, когда Вас кто-то и что-то завертит и окунет в омут, и тогда Вы запоете петухом. Этого не может не случиться раз, и в виде сильного пожара. Что у Вас достаточно для него есть пороха — в том я не сомневаюсь, видя, с какою страстью Вы любите Милия. До ужо, до свидания».
Это письмо требует существенной поправки: пожаром, который предрекал Стасов, Римский-Корсаков в то время, весной 1870 года, уже был охвачен. Только пожар этот был на корсаковский лад, снаружи почти незаметный. Он встретил кого-то, с кем ему было хорошо и день ото дня все лучше. Он еще не знал, что любит, а она не знала, что любима. Она была серьезная девушка, совсем не кокетка и в ночные часы рассуждала сама с собою, может ли кого-нибудь когда-нибудь сильно полюбить. Выходило, что не может, такая уж у нее несчастная, бездарная, рассудочная натура. И в то же время она начинала смутно сознавать, что есть один только человек среди знакомых, а может быть, и на всем свете, которому она могла бы рассказать, какая она нехорошая. Для каждого балакиревца она вместе со старшей сестрой придумала прозвание. Кюи был Едкостью, Балакирев — Силой, Мусоргский — Юмором. Корсаков звался Искренностью. А все балакиревцы за буйный нрав и решительность художественных оценок именовались Разбойниками. Ее самое, верно, следовало бы назвать Вдумчивость. Она хотела все понять и все точно определить. Ей было уже двадцать два года. Звали ее Надежда Николаевна Пургольд.
Знакомство началось в 1868 году, весною, в доме Даргомыжского. Он коротко знал всю семью Пургольдов, ценил музыкальный талант и любил редкую восприимчивость обеих барышень — певицы Саши и музыкантши Нади. С их участием исполнялись появлявшиеся одна за другой на свет сцены из «Каменного гостя», стали теперь исполняться и сочинения балакиревцев: старые и новые, печатные и рукописные, удачные и неудачные. «Донна Анна-Лаура» называл Мусоргский живую и кокетливую Александру, все схватывавшую мгновенно, с равным успехом певшую обе женские партии в опере Даргомыжского. «Наш милый оркестр» звал он Надежду, свободно игравшую с листа партию оркестра или фортепианное сопровождение. Корсаков, мучительно стеснявшийся несовершенства своей фортепианной техники, втайне восхищался, видя, как она садилась с Балакиревым или Мусоргским исполнять в четыре руки все что угодно — симфонии, симфонические поэмы и картины, Бетховена, Шумана, Листа, Бородина, Балакирева, Римского-Корсакова. И Балакирев не раздражался, не делал язвительных замечаний, если что-либо не получалось.
Летом Петербург пустеет. Балакирев нынче пьет воды на Кавказе. Мусоргский варит варенье и солит грибы в именье своего брата в Тульской губернии, недалеко от железнодорожной станции с непритязательным названием Лаптево. Семья Воина Андреевича — на даче в Финляндии, сам он ушел в учебное плавание. В большой квартире брата пусто. На летние месяцы Николай Андреевич переезжает сюда из меблированной комнаты и чувствует себя затерянным в просторном, светлом кабинете, где ему стелют постель на широком диване. Служба идет своим порядком, сменяются дежурства и караулы, подаются рапорты, поступают начальственные резолюции. Китель пребывает в белоснежной накрахмаленной красе, начищенные до зеркального блеска пуговицы кидают вокруг беглые отсветы. Но все это не более как существование. Жизнь идет утрами, за роялем и столом, да вечерами — на даче Пургольдов близ Лесного института. Странное, непривычное ощущение, войдя в сад, увидеть оживление на лицах двух девушек, услышать их «Корсинька приехал!» и сердечное «Милости прошу!» Владимира Федоровича Пургольда, за восторженность прозванного в семье «Дядя О!». Как привольно во время общей прогулки вдыхать влажный лесной аромат, точно и не бывало на свете жары, пыли, городского зловония и злоречия.
Надежда Николаевна садится за фортепиано. На пюпитре переписанный утром хор. Тяжело и мерно прогудел под ее руками колокол в басу. Тревожно откликнулись женские голоса в дискантах. Из гомона толпы сплелась песня — негромкая, сдержанная, точно скованная в своем движении. Слова испуганные, отчаянные: «Не повинны мы пред тобой ни в чем, ты помилуй нас, царь… И супротив тебя никогда мы не шли! Царь наш, государь, помилуй нас…» А в басах торжественно гудит большой колокол. И, словно знать не зная о горе людском, сверкают и гремят переборы оркестра.
Каким непостижимым, шестым чувством поняла эта петербургская барышня из полурусской семьи народную муку и народную надежду, как сумела оттенить контраст между окаменелой скованностью интонаций песни и ликующим великолепием оркестровых красок? Она повертывает к автору внимательное, чуть усталое от напряжения лицо.
— Что это, Николай Андреевич?! Хор замечательный, небывало новый. Но кто поет? О чем поют?
— Право, не знаю, как и сказать вам… Это народ встречает Ивана Грозного. Поют, стоя на коленях. Хор из оперы, которой еще нет. Из «Псковитянки». Знаете драму Мея? Ну вот. И пребольшое вам спасибо! Отлично сыграли!
Вот он стоит, высокий, худой, пощипывает негустые рыжеватые бакенбарды. Он повзрослел и помолодел одновременно. Глаза близорукие, серьезные и даже строгие, но их голубизна стала доброй, а застенчивый взгляд — милым. Он более не одинок. Он счастлив.
В корпусе он порою проявлял недетскую серьезность. Даже Балакирев находил в его лице и почерке нечто старческое. После плавания появилась физическая возмужалость, а в манере себя держать — смесь застенчивости с чуть грубоватой повадкой бывалого моряка. Сейчас он достиг зрелости. Первой зрелости настоящего человека и настоящего художника. Без этого, надо полагать, не зародилась бы под его пером музыкальная повесть о безмерно трудных судьбах русского народа, о царе Ибане, о любви и смерти Ольги-псковитянки. «Садко» и «Антар» этой зрелости еще не требовали, их вспоила юношеская мечтательность.
ОПЕРА
Не было у передовой России большего врага, чем самодержавный порядок — оплот крепостничества, столп и утверждение всяческой отсталости. Не было большей беды, чем народная вера в царя-батюшку. Не было иной надежды, чем надежда на богатырскую народную силу, которая все вынесет и все превозможет. И художники с волнением открывали в прошлых эпохах, в годах великих потрясений и невзгод тот же тяжкий гнет, ту же немоту народную, те же заревые отсветы народного восстания, не знающего ни своих неисчислимых сил, ни прямых путей к победе.
Эту близость эпох и преемственность задач полнее и лучше всех выразил Мусоргский: «Ушли вперед!» — врешь, там же!.. — писал он в 1872 году. — Пока народ не может проверить воочию, что из него стряпают, пока не захочет сам, чтобы то или то с ним состряпалось — там же!» И горьким презрением по адресу превозносимых полулиберальной печатью деятелей полуреформ шестидесятых годов, начиная с самого «царя-освободителя», звучало уничтожающее: «Всякие благодетели горазды прославиться, документами закрепить препрославление, а народ стонет, а чтобы не стонать, лих упивается и пуще стонет? там же!» Не сетование, не простое сочувствие муке народной звучат в этих словах. Для композитора уясняется его место в борьбе: «Прошедшее в настоящем — вот моя задача». Мусоргский любил играть оборотами речи. Мы не погрешим против мысли, оборотив слова: «Настоящее в прошедшем!» Его он искал и находил в «Годунове», в «Хованщине», в неосуществленной, только задуманной «Пугачевщине».
Наиболее чутких композиторов потянуло в эту пору к русской народной опере. Над ней начинают работать Серов, Чайковский, Балакирев, Бородин. И хотя «Жар-птица» Балакирева и «Царская невеста» Бородина остались ненаписанными, а «Князь Игорь» был закончен много лет спустя, возникло плодотворное, мощное движение. Горячо стали приниматься слушателями «Руслан» и «Русалка», еще за десять-двенадцать лет до того не привлекавшие внимания. На оперную сцену пришло новое поколение даровитых певиц и певцов. В своем большинстве вновь написанные оперы были историческими или историко-бытовыми. Оказалось, что для художников и слушателей история, освобожденная от казенных формул николаевской эпохи, полна жизни. Передовые и насущные задачи — уничтожение пережитков крепостничества в политической жизни, общественном строе и семейном быту — неожиданно нашли ярчайшее отражение в операх на сюжеты из русского прошлого.
Автора драмы «Псковитянка», талантливого поэта и переводчика Льва Александровича Мея, уже не было в живых, когда Корсаков начал работать над своей первой оперой. Мей не получил полного признания при жизни, не стал популярным и в последующие сто лет (он умер в 1862 году). Причиной этому были, как кажется, не только его недостатки, но и достоинства — художественная индивидуальность, скорее глубокая, чем яркая; сдержанность в выражении чувств, слишком часто принимаемая за холодность; наконец, объективный, своего рода эпический, склад творчества. Но как раз эти особенности оказались близкими и привлекательными для Римского-Корсакова. На сюжеты Мея он написал немало: оперы «Псковитянка», «Боярыня Вера Шелога», «Царская невеста», «Сервилия», романсы, кантату. К «Псковитянке» композитора привлек, по-видимому, кроме темы пьесы, ее правдивый, подлинно народный колорит и превосходный язык — естественный и красочный. Вероятно, многое в сюжете и обстановке оживило у Корсакова память о Тихвине, о слышанных там песнях и старинных преданиях, о колокольных звонах, о северных лесах, о своеобразно-красивом укладе жизни древнего города.
Все это разом нахлынуло, наполнило его каким-то восторгом и вдохновением в летний день 1868 года, когда он узнал о предстоящей поездке в деревенскую глушь Тверской губернии. Любовь к России, к ее былому, боль и гордость за нее стеснились в его душе. Он присел к фортепиано. Набатный колокол ударил в басу. Откликнулись высокие голоса. Сам собой, чудом сложился хор псковичей, встречающих Грозного, — «встречный хор».
Кажется, еще ни одно произведение не было в такой степени общим детищем всего «якобинского клуба», как шутливо называл в эту пору балакиревцев Чайковский. «Дорогому мне музыкальному кружку» посвятил свою оперу благодарный автор. Мысль предложена Балакиревым и Мусоргским. План обсужден со всеми вместе; единодушно решено, что начинать оперу надо сразу со второго действия пьесы, а первое, вводное, — отложить в сторону. Тексты для двух девичьих хоров сочинил Мусоргский. И, разумеется, все проходит через критику и одобрение друзей. Их влияние очевидно и благотворно. При всем этом в каждом такте оперы слышится Корсаков.
Первое, что привлекает внимание в «Псковитянке», — образ народа. Как и в «Борисе Годунове», он, в сущности, главное действующее лицо музыкальной драмы. Но у Мусоргского народ представлен в своих полярных состояниях — смирения или ярости — и соответственно этому краски положены энергично, густо, экспрессивно. Кисть Корсакова несравненно мягче.
Игра в горелки, которой открывается опера, беседа мамушек, девичьи хоры, то задорные, то задумчивые, вводят в мирную атмосферу старинного устойчивого быта. Обычаи и обряды — словно яхонты из древнего рассыпавшегося убора. Пленившая Стасова своеобразием «Сказка про царевну Ладу» — драгоценный залог будущих открытий Корсакова в заповедной области чисто русской, глубоко народной оперной фантастики. Иной, тяжелый и горестный, момент. народной жизни раскрыл композитор во «встречном хоре» псковичей и в потрясающем по силе хоре-причитании «Грозен царь идет с злой опричиной»[9]. Такое чувство общенародной неминучей беды возникнет в музыке Корсакова только один еще раз: в сцене татарского нашествия в опере «Сказание о невидимом граде Китеже», написанной уже на закате его жизни.
Однако пассивные, созерцательные или страдательные, состояния не заняли. главного места в музыкальной характеристике народа. Композитор — в этом он совершенно оригинален — показал и народ деятельный, самостоятельный, не ходивший ни под татарским игом, ни под московским ярмом, — вольный народ русского Севера. Сцена псковского веча с зажигательными или успокоительными речами, с бурной сменой настроений общегородской сходки проникнута высоким драматизмом. Это последнее псковское, более того — последнее русское вече. Здесь, говоря словами Мусоргского, народ еще сам проверял, что из него стряпают, сам решал, чего он хочет, чтобы с ним состряпалось. Но открасовалась псковская свобода. Песня вольницы, оставляющей родной город, чтобы не покориться царю Ивану, — это героическое прощание с прошлым, уже невозвратным. В основу хора вольницы легла раздольная хороводная песня «Как под лесом». Композитор придал ей могучее маршеобразное движение. И такой молодой удалью, такой беззаветной готовностью «сложить буйны головы» зазвучала она, что революционная молодежь семидесятых годов почуяла здесь родную стихию. В насмешливо гневных словах «Али не на чем точить ни мечей, ни топоров?» она признала голос революции.
И еще раз встает музыкальный образ народа, торжественно завершая оперу. Нет более ни Ольги, ни ее любимого, вожака вольницы Михайлы Тучи. Ярко вспыхнул и погас живой человеческий порыв царя Ивана. И, в суровой горести отпевая заодно былую свободу и любимое детище свое, псковитянку Ольгу, хор выступает уже не как сторона в борьбе. Его призыв к забвению старой распри Москвы и Пскова ничего общего не имеет с подневольной покорностью. Торжественный, размеренный хор — выразитель вековой народной мудрости. Преходят цари и царства, войны и мятежи, бедствия и преступления, а народ остается, величавый и долготерпеливый, как терпелива и величава сама природа, как неизменен круговорот времен года.
Музыкальный образ народа определил весь эпический по своему существу склад «Псковитянки». Крестьянский и посадский старинный быт, крестьянская песня стали выражением народного характера. Свои чувства Ольга или Михаила выражают языком народной песни или близких к ней музыкальных форм, созданных художником. Ольга ни на кого не похожа своей необычайной судьбой, но вместе с тем это собирательный образ: образ беззаветно любящей и целомудренно скромной русской девушка, как Михайла Туча — облагороженный и одухотворенный «удалой добрый молодец» хороводных песен. Резкой рельефностью выделяется в опере один лишь Иван Грозный. Характер его сложен. Временами он внушает отвращение или ужас, временами — сострадание. Сквозь вспышки ярости, слепой подозрительности, безграничной жестокости в Грозном проглядывает величие. Музыкальная тема, близкая к старинным церковным тихвинским напевам и суровым иконописным ликам, выразительно передает эту значительность. Есть у Белинского одно суждение о Грозном: «Из всех жертв его свирепства он сам наиболее заслуживает соболезнования». Едва ли Корсаков так щедро переносил свое «соболезнование» от жертв «свирепства» на его носителя, но мысль Белинского была ему, несомненно, знакома.
«ПСКОВИТЯНКА» ИДЕТ В ЛЮДИ
«Ну, скажу тебе, — писал Бородин жене, услышав в авторском исполнении первые эпизоды «Псковитянки», — это такое благоуханье, такая молодость, свежесть, красота… я просто раскис от удовольствия. Экая громада таланта… И что за легкость творчества!»
Впервые «Псковитянка» исполняется у Пургольдов 23 октября 1871 года. Мусоргский с гениальным пониманием каждой нотки, каждого оттенка речи поет Грозного и князя Токмакова, названого отца Ольги. Он сильно спал с голоса, но до самого конца XIX века, до Шаляпина, никто больше такого Грозного не услышит. Ольгу и ее нянюшку Власьевну поет Александра Пургольд. Ее голос гибок, то обаятельно нежен и ласков, то полон тихого достоинства, то по-старушечьи заботлив или ворчливо добродушен. Все оркестровое сопровождение и хоры исполняет Надежда Николаевна; автор только подыгрывает на другом рояле в трудных местах, только держит аккорды в басах. Молодая девушка ведет свою партию с блеском, вкладывая в нее всю душу. Нет для нее на свете человека ближе, чем автор «Псковитянки», нет оперы любимее, чем его первая опера.
Тишина. Отшумели аплодисменты, смешались со слушателями исполнители. Отлетают чары. Легкое недоумение, даже растерянность примешиваются к восхищению. Какая все же странная опера! Дело не в изобилии диссонансов, не в суховатости речитативов, даже не в отрывочности эпизодов. Ко всему этому здесь привыкли. Но музыкальное повествование так непостижимо спокойно при всем трагизме содержания. Но любовная драма так решительно подчинена чему-то иному, более широкому и более важному. Так странен, в сущности, весь дух, весь пошиб «Псковитянки», что даже в кругу смелых новаторов опера не вызывает дружного одобрения. Балакирева, к великому сожалению Корсакова, нет в этот вечер у Пургольдов. Кюи хвалит, но сдержанно. «Индивидуальные чувства в звуках народной песни изливаться' не могут!» — выносит он свой приговор. Драматические и лирические сцены слабее прочего. Это неудивительно: ведь Корсинька по натуре симфонист, а не оперный композитор. И Стасов того же мнения. Даже Бородин находит, что музыка «невообразимой красоты, но… холодноватая, бесстрастная». Один Мусоргский доволен вполне: опера — первый сорт! Правьте, адмирал, к берегам неведомым!
В следующем году «Псковитянку» показали театральному воротиле Н. А. Лукашевичу. Пришел и молодой капельмейстер Мариинской сцены Эдуард Францевич Направник. За два-три года до того Римский-Корсаков жестоко разнес его первую оперу в газете. Направник вежлив, но сух. Лукашевич благосклонен, но уклончив. Не видать «Псковитянке» света рампы, если бы не счастливый случай. По существовавшим положениям, на оперную сцену нельзя было выводить особ, царствовавших до династии Романовых. И тут на помощь поднялось морское ведомство во всей своей славе и силе. Узнав о затруднениях и прослушав у себя на дому оперу небезызвестного ему лейтенанта Римского-Корсакова, морской министр вызвался поговорить с великим князем Константином Николаевичем, генерал-адмиралом и верховным покровителем флота. Слывший либералом, генерал-адмирал постарался оправдать свою репутацию. Да и почему бы, собственно, Ивану Грозному не спеть что-либо подходящее и благозвучное? Спустя некоторое время пришло монаршее разрешение допустить царя Ивана на оперную сцену. В дирекции императорских театров ахнули: сам государь разрешил! Тут уж было не до диссонансов, не до вокальных нескладностей, не до подозрительного и даже в известной мере возмутительного содержания. Никому не пришло в голову вспомнить, что пьеса Мея, по которой писана опера, до последнего сезона театральной цензурой на сцену не допускалась. Все было откинуто и забыто: сам государь! Цензурные вымарки были минимальными. 1 января 1873 года «Псковитянка» была представлена на Мариинском театре. Она прошла с яростными спорами в фойе, ироническими усмешками в партере и бешеными аплодисментами публики верхних ярусов. Это и был настоящий успех.
ГЛАВА V. ПЕРЕМЕНЫ
КОНЦЫ И НАЧАЛА
Умер Воин Андреевич. В ноябре 1871 года из Италии, куда незадолго до того врачи послали его отдыхать, пришла короткая печальная телеграмма.
В сущности, за карьерой контр-адмирала В. А. Римского-Корсакова всю жизнь стояло внутреннее усилие. Все далось ему, и все далось трудно: служба, практическое проведение взлелеянного им идеала морского воспитания, преобразование кадетского корпуса в подлинное Морское училище, даже брак с пустенькой светской девушкой, даже отношения с младшим братом. Все далось трудно, одна смерть (паралич сердца) — легко. И хоть далеко отошли друг от друга братья за последние десять лет, удар для оставшегося был тяжел. Воин был беспристрастным и прямым человеком, превосходным моряком и при всем несходстве — кровно близким. С его смертью что-то умерло в самом Нике.
Живому деятелю и реформатору — палки в колеса, мертвому — почести. Николай Андреевич был откомандирован морским министерством в Пизу со значительной суммой денег за семьей брата и прахом его.
В эти дни Корсаков узнал то, о чем раньше только догадывался. Надя Пургольд была его истинным другом. Год назад она потеряла мать и осталась круглой сиротой. Теперь она всем сердцем делила с ним его горе. Никогда разлука не была ему так трудна.
«Придя в последний вечер от Вас домой, я расстроился так, что себя не помнил, и почти в состоянии лихорадки торопливо написал Вам, и теперь мне письмо это представляется в каком-то тумане, но одно скажу, что не отрекаюсь ни от одного слова из этого письма. На другой день я уехал из Петербурга с крайне болезненным чувством… Я думаю много о- Вас всю дорогу, думаю о том, какая Вы все это время? Такая ли хорошая, как обещали быть? А когда по дороге случалось видеть что-либо хорошее, то всегда хотелось посмотреть на это вместе».
Так произошло их полупризнание в любви.
Все месяцы перед несчастьем они вдвоем инструментовали «Псковитянку» и перекладывали ее для фортепиано. Собственно, перекладывала Надежда Николаевна, а Корсаков только проглядывал и с радостью отмечал, что его композиторские намерения поняты и гармоническая ткань в пределах возможного сохранена. Музыкальные познания молодой музыкантши росли не по дням, а по часам. Исключительно даровит был руководитель, но и ученица достойна его. «А какова Надежда Пургольд?.. — восторгался Бородин. — Корсинька наиграл ей антракт из «Псковитянки»; она на память написала его, да не на фортепиано, а прямо на оркестр — со всеми тонкостями гармоническими и контрапунктическими… Молодец барышня! Ей-богу, молодец!»
Пургольд и сама пробовала писать музыку — симфоническую. Она точно под парусами летела. Музыкальная картина «Заколдованное место» по Гоголю, замыслы симфонии — все возникло в эти месяцы растущего взаимного доверия и согласия. Бородин и Корсаков с радостью приветствовали ее опыты. Пятеро кучкистов готовы были расступиться, чтобы впустить в свой круг шестую. Стасова особенно восхищала мысль, что Россия даст миру первую женщину-композитора. Сочинения этой зимы казались залогом прекрасного будущего.
В декабре 1871 года они стали женихом и невестой. Теперь уж все вечера сплошь проходили у Пургольдов. Молчаливая беседа сменялась музыкой, музыка — совместной работой над партитурой и чтением. Обдумывались сюжеты для следующей оперы Николая Андреевича. Поздней ночью Корсаков возвращался домой. Мусоргский, с которым они эту осень и зиму жили вместе, обычно уже спал, богатырски раскидав по столу и стульям партитурные листы «Бориса Годунова».
А ранним утром, случалось, появлялся Стасов, поднимал с постелей заспавшихся, наполнял комнату зычным голосом и веселой суетой. «Одеваться! Умываться!» — гремел Стасов. Из принесенного гостем баульчика появлялся всеми любимый сыр, вспоминалось к случаю, что любителей сыра зовут сыроежками.
Среди раскатов хохота бесследно исчезали бутерброд за бутербродом, стол пустел, и наступал черед музыки.
Играл и пел Мусоргский. Хотя «Псковитянка» начата была раньше и раньше пришла к завершению, она выглядела младшей сестрой оперы Мусоргского. «Годунов» ошеломлял своей силой и самобытностью. От только что написанной сцены под Кромами — угловатой, свободной по форме — веяло стихийной яростью поднявшейся на бояр голытьбы. Вчуже страшно и радостно становилось.
Запала в память случившаяся как-то у них в комнате встреча Стасова с московским музыкальным критиком, ныне перебравшимся в Петербург, Германом Ларошем. Это был худощавый, очень начитанный и очень остроумный человек. Кюи в беседе обычно язвил, Ларош пошучивал. Стасов крепко держал за хвост жар-птицу Истину (или по меньшей мере полагал, что держит); скептический Ларош только издали любовался ее блеском и сверканием и более чем на перо-другое не уповал. Сцена под Кромами, немедленно ему сыгранная, и на него подействовала сокрушающе. Его громадный эстетический опыт не помогал тут нисколько, все было неслыханно ново. В этот миг Ларош мог стать пламенным, на всю жизнь, поклонником Мусоргского, безраздельно уверовать в его гений или, опираясь на мудрость прошлых веков, отказать этой беззаконной, варварской силе в праве называться музыкой.
Стасов, почуяв колебание, бросился в бой.
— Что, Герман Августович, или не по вкусу пришлось? Это вам не деревянный ваш Моцарт, не бездушный Бах!
И Ларош заслонился от кипящей лавы иронией, от стасовской колючей насмешки — добрыми советами. Глядя на Мусоргского, он заговорил о необходимости для композитора свободно владеть разнообразной техникой, чего он не видит в «Годунове», что величайшая опасность, грозящая художнику-новатору, — самоповторение. Это было разумно, но решительно не к месту, а после сцены под Кромами даже и постыдно не к месту. Болезненно чувствуя фальшь положения, Ларош переменил тему разговора.
В эпизодах из «Псковитянки», наоборот, все казалось ему ясно, хвалить или осуждать их было нетрудно. Оборотившись к Корсакову, он охотно отдал должное таланту, красоте, изяществу творений Николая Андреевича, а впрочем, предостерег его от одностороннего влияния Глинки или Шумана.
— Вам надобно выйти из привычной рамки, испытать себя во всех родах, ближе узнать пренебрегаемых у нас Баха, Генделя, Палестрину. Музыкант должен быть хозяином своего ремесла, а не его подневольным слугой, как это неизбежно у даровитого дилетанта. И не бойтесь, Глинка и Лист, которые сейчас так чувствуются у вас, останутся вашими вожаками, даже если вы на время расстанетесь с ними. Право же, напрасно Владимир Васильевич так не доверяет вам и Модесту Петровичу, что хочет весь век продержать на двух-трех одобряемых им авторах. Вот, например, Чайковский…
Но больше он ничего не успел сказать. Владимир Васильевич выложил ему все, что он думает о ловких софистах, тупых рутинерах и консерваторах. После короткой схватки в молчаливом присутствии несколько озадаченных Модеста и Корсиньки Ларош удалился. Одним сильным врагом у «Могучей кучки» стало больше.
А времена для кружка наставали нелегкие. Пришел конец молодой дружбе балакиревцев. Птенцы оперились и стали разлетаться в разные стороны. Завершился целый исторический период — музыкальное «шестидесятничество», с его светлыми упованиями, с его юношеским задором и плодотворными иллюзиями. Раньше все собирало и сводило вместе передовых музыкантов, сейчас любой повод готов был стать причиной расхождения. Начинался разброд. Первым покинул боевой пост Балакирев.
БАЛАКИРЕВЦЫ БЕЗ БАЛАКИРЕВА
Глубокий надлом почувствовался в нем уже тогда, когда он был грубо отстранен от дирижирования концертами Русского музыкального общества. Антона Рубинштейна, по инициативе которого Балакирева вопреки всем их разногласиям пригласили руководить этими концертами, не было в России. Да он в это время и не пользовался у влиятельных лиц фавором. Даргомыжский, очень сблизившийся с кружком в последние годы жизни, Даргомыжский, чье слово и сейчас имело бы немалый вес, умер. Горячий печатный протест, заявленный Чайковским от лица московских музыкантов, и деятельная поддержка руководителя Московской консерватории Николая Рубинштейна ничего не могли изменить.
Балакирев кинулся в борьбу с «немецкой музыкальной партией», с ее вдохновительницей и покровительницей великой княгиней Еленой Павловной — и был разбит. Он пытался возбудить энтузиазм к новой русской музыке, вооружаясь против цехового консерватизма и цехового равнодушия, думал опереться на первые начатки общественного мнения против канцелярской машины, на художников против чиновников и, разумеется, по всем пунктам потерпел полное поражение. Для продолжения концертной деятельности ему не хватило прежде всего капиталов. Не оказалось и необходимой в таких случаях способности к длительному, устойчивому напряжению воли, преодолевающей временные трудности и неудачи.
Главный враг Милия Алексеевича — умеренно-либеральная великая княгиня умерла довольно скоро. Но он не дождался благоприятного, быть может, поворота фортуны. Напрасно взывал к нему Стасов, заклиная вернуться к друзьям и музыке. Балакирев пал духом. Трезвый, насмешливый ум его, склонный к вызову и протесту против земных и небесных авторитетов, смирился и пригнулся. Невер стал суевером, свободомыслящий, а то и богохульник, — богомольным ханжой. Побуждать к творчеству других, руководить ими было ему раньше едва ли не дороже, чем творить самому. Теперь он надолго утрачивает интерес к работам Бородина, Мусоргского, даже Корсакова, самого любимого изо всех. Видимо, он не побывал даже на «Псковитянке» в Мариинском театре.
Его отход не сыграл бы столь большой роли в жизни повзрослевшего кружка, не будь иных, еще более веских причин для ослабления недавних связей. Смелые надежды поколения шестидесятых годов XIX столетия не осуществились. Не произошло ни революционной ломки крепостного строя, ни коренных изменений в условиях художественной деятельности. Грандиозный идеал всенародного музыкального просвещения постепенно разменялся на полезную мелочь. Бесплатная музыкальная школа перестала играть заметную роль в пропаганде новой музыки. Творчество, искавшее выхода на кипящие народом площади, замкнулось в узком кругу. Оперная сцена в столицах была одна — императорская, и сочинения деятелей «Могучей кучки» могли попадать на нее только по недоразумению. «Псковитянке» помог генерал-адмирал, «Годунову» покровительствовала артистка Платонова, которой, в свой черед, покровительствовал Лукашевич. Все это было похоже на дурную шутку. Из общественной силы «Могучая кучка» постепенно вновь обращалась в домашнее содружество музыкантов. Оставались еще музыкальные заметки Кюи в газетах, но без направляющей воли Балакирева и это стало ненадежным. «Светло прошлое кружка, — пасмурно его настоящее: хмурые дни настали», — писал Мусоргский.
Последний толчок к расколу кружка дала статья Кюи о постановке «Бориса Годунова» в Мариинском театре 27 января 1874 года. То, что должно было стать красным днем, стало началом конца. Насмешливо и свысока, похваливая и браня, писал Цезарь об опере, которую до того весьма одобрял. Теперь он усмотрел в «Годунове» незрелость автора, а недостатки вывел из «неразборчивого, самодовольного, спешного сочинительства». Возможно, что критик исходил из своих оперных идеалов, которым музыкальная драма Модеста, как оказалось при ее сценическом воплощении, не отвечала. Возможно, он руководился дипломатическими соображениями, побудившими его отмежеваться от произведения во всех отношениях бунтарского. Все равно привкус предательства был неотделим от его выступления. К несчастью, никто, даже Стасов, не счел необходимым выступить в печати с контротзывом, как то сделал в свое время Чайковский, когда московский журнал посмел презрительно отнестись к «Сербской фантазии» Корсакова. Нет также следов энергичного осуждения поступка Кюи внутри кружка. «На Мариинской сцене поставлен был «Борис Годунов» с большим успехом. Мы все торжествовали», — лаконично сообщает Римский-Корсаков в своих воспоминаниях. Нет сомнения, что человек, написавший эти строки, продолжал высоко ценить оперу Мусоргского. Но Модест в лихорадке этих дней, меж бурных оваций в театре и единодушно злобных отзывов в газетах (умнее и злее всех писал Ларош), ежеминутно ожидая снятия крамольной оперы с репертуара, не спокойного одобрения жаждал.
В феврале — марте 1874 года кружок перестал существовать. Утерялось еще недавно столь сильное чувство общности судеб. И одновременно разошлись пути Римского-Корсакова и Мусоргского, самых друг другу нужных именно потому, что друг на друга не похожих. Разошлись врозь «Глинка эстетики» (то есть столп художественности), как еще недавно называл Модест Корсакова, и автор «Годунова» — могучий выразитель неприкрашенной натуры. Разошлись упорный труд и вулканический порыв, логика ясной мысли и тот творческий беспорядок, который старше всякой логики.
В эти годы сам Римский-Корсаков встал в оппозицию к важным сторонам своей и своих товарищей музыкальной деятельности. «Балакиревский кружок, — записал он на исходе жизни, — состоял из слабых по технике музыкантов, почти любителей, прокладывавших дорогу вперед исключительно силой творческих талантов, силой, иногда заменявшей им технику, а иногда, как зачастую у Мусоргского, недостаточной для того, чтобы скрыть ее недочеты». Таким видел кружок его участник, уже с самого начала 1870-х годов почувствовавший, что, умея и зная, пожалуй, даже больше своих товарищей, умеет и знает недостаточно. Все, дальнейшие годы он учился — неутомимо, сосредоточенно, невесело.
ТЯЖЕЛЫЙ ПЕРЕВАЛ
В подгородном Шувалове, в полупустой дачной церкви обвенчались 30 июня 1872 года Надежда Пургольд и Николай Римский-Корсаков. Дружкой был Мусоргский, тогда еще самый близкий из друзей.
Возникла новая семья. Как свежий побег над усохшими и отмершими, зазеленела новая жизнь. У Надежды Николаевны был твердый характер, определенные взгляды, с детства сложившаяся привычка к скромному, но упорядоченному быту. Таким упорядоченным бытом и зажили молодые. Летом — выезды на дачу, по возможности в помещичьи усадьбы средней руки, подальше от Петербурга; такие, чтобы лес, поле, река, озеро были рядом, чтобы воздух был чист, чтобы продукты были дешевы и гости не одолевали. Зимой — работа и общение с друзьями. Были раньше музыкальные собрания у Пургольдов, Стасовых. Теперь — у Римских-Корсаковых. Появлялся здесь при наездах в Петербург Чайковский, бывал, хоть и нечасто, Мусоргский, осторожно помалкивал или восторженно гудел Стасов. По-прежнему украшением вечеров была игра хозяйки на фортепиано.
Еще летом 1871 года к Римскому-Корсакову обратился новый управляющий Петербургской консерваторией, М. П. Азанчевский, с предложением взять на себя преподавание инструментовки и сочинения, а также руководство оркестровым классом. Товарищи благословили его. Они обнаружили тем самым не совсем продуманный характер своей вражды к консерваториям и сильно преувеличенное представление о знаниях автора «Псковитянки». Николай Андреевич согласился. Предложение давало возможность, как он писал матери, «поставить себя окончательно на музыкальном поприще и развязаться со службою, которую продолжать долгое время не считаю делом вполне честным и благовидным».
Но, только начав занятия, Римский-Корсаков понял, что не знает, в сущности, ничего из того, что необходимо консерваторскому преподавателю. Покойный советский музыковед А. А. Альшванг говаривал, что лучший способ основательно изучить предмет — взяться за его преподавание. К Николаю Андреевичу эта шутка подошла как нельзя лучше. Автор «Антара» и «Псковитянки» сел за школьную парту. Говорили, что он даже приходил в класс гармонии Ю. И. Иогансена и там решал задачи вместе со всеми, но это, пожалуй, сомнительно. «Мне помогало то, — признавался Корсаков, как всегда беспощадный к себе, — что никто из учеников моих на первых порах не мог себе представить, чтобы я ничего не знал, а к тому времени, когда они могли начать меня раскусывать, я уже кое-чему понаучился».
Одни знания дались музыканту-практику без труда. Другие потребовали от него длительных упражнений и серьезного знакомства с композиторами XVI–XVIII веков, которых он до того знал слабовато или даже понаслышке. Не раз и не два мог бы он теперь вспомнить советы Лароша. Новый, величественный мир открылся перед ним. Беда в том, что нахлынувшие на него новые знания на первых порах не развязали, а стеснили его творчество. Раньше он писал, теперь в значительной мере применял к письму свои новые технические сведения.
Между тем художественная его практика разрасталась стремительно. В мае 1873 года благоволивший к нему в память Воина Андреевича министр учредил должность инспектора музыкантских хоров[10] морского ведомства. Став инспектором, Николай Андреевич получил статский чин и с душевной радостью облачился в партикулярный костюм. Он не любил формы и мундира. С этого мига он впервые почувствовал себя музыкантом, и только музыкантом. Должность инспектора не казалась Корсакову созданной для безделья. Музыкальный уровень военно-морских оркестров стал неуклонно подыматься. Николай Андреевич быстро разобрался в особенностях инструментовки для скромного состава духовых оркестров и снабдил их своими образцовыми по качеству переложениями классических произведений.
Он дирижирует в оркестровом классе консерватории, организует публичный концерт под своим управлением в пользу голодающих крестьян Самарской губернии. Принимает на себя управление концертами Бесплатной музыкальной школы, заглохшей без Балакирева и теперь вернувшейся к некоторому подобию жизни. Немало сил берет у него подготовка большого концерта в Кронштадте, с участием сводного оркестра морского ведомства.
Мысль Римского-Корсакова работает неустанно. Единственный из композиторов балакиревского кружка, он становится теоретиком. Мало знать, надо знания свести в систему, внести в них порядок и определенность. Уже задуман всеобъемлющий курс оркестровки (работы над ним хватит на всю остальную жизнь).
А он учит и учится, читает, переделывает старое, пробует себя в новых жанрах, не зная отдыха. Среди этих занятий, неприметно откладывающих в сознании и памяти Римского-Корсакова все новые навыки, умения и знания, можно выделить круг важнее прочих: работу над сборниками русских народных песен. Он записывает теперь песни, слышанные в детстве от матери и дяди Пипоса, песни, напетые знатоком и любителем русской старины Тертием Ивановичем Филипповым, Мусоргским, женой Бородина, его прислугой Дуняшей Виноградовой и другими. Любой фольклорист осудил бы подобный способ собирания. Довольно сказать, что хоровые песни записывались с одного голоса и гармонизовались по догадке. Тем не менее сборник «Сто русских народных песен» получился превосходным. Сказался крупный музыкант и ученик Балакирева. Подобно балакиревскому сборнику 1866 года, оставившему глубокий след в русском искусстве, новый, корсаковский сборник бережно раскрывал малозамечавшиеся до того стороны русского народного творчества: сдержанность и строгость в выражении чувства, мягкое изящество напева, чрезвычайное богатство ритма. Однако в отличие от Балакирева Корсаков ввел в сборник немало песен игровых и обрядовых, расположив их в порядке годового цикла народных праздников.
«…Я увлекся поэтической стороной культа поклонения солнцу и искал его остатков и отзвуков в мелодиях и текстах песен, — писал сам композитор о своей работе почти двадцать лет спустя. — Картины древнего языческого времени и дух его представлялись мне, как тогда казалось, с большой ясностью и манили прелестью старины. Эти занятия оказали впоследствии огромное влияние на направление моей композиторской деятельности».
Но это впереди, а пока — труд, труд и труд. Самый образ его жизни становится укором Кюи, который занимается музыкой между прочим, в досужие часы, Бородину с его безалаберным бытом, Мусоргскому, все реже и реже заглядывающему в листы нотной бумаги.
Круг знакомых Римского-Корсакова ширится. Появляются новые люди — сослуживцы. Старые друзья отходят в сторону. Мусоргский временами не различает его от Кюи, обоих считая бездушными изменниками. «…Неужели воспоминание о былом не пробудит сурковую спячку; хотя бы по мозговой оболочке (кого следует) скользнула живая мысль да проняла до пяток (кого следует)!» — пишет он в отчаянии Стасову в октябре 1875 года. Холодно-насмешлив Кюи. Мрачен Стасов, видящий в усиленных занятиях Корсакова музыкальной техникой жалкое и безнадежное падение. Пройдет время, и Мусоргский будет приветствовать работу Римского-Корсакова над сборниками русских народных песен, пользоваться его помощью при оркестровке, советоваться о том, как лучше устроить трудный вокальный ансамбль в «Хованщине». Стасов, даже не примирившись до конца с теориями Корсакова, со всей силой своего любящего сердца будет восхищаться сильными сторонами его творчества и личности. Но этого еще надо дождаться.
Факты словно подкрепляют пессимизм друзей. Новые сочинения Римского-Корсакова суховаты, деланны. О самом значительном из них — Третьей симфонии — Чайковский написал, что выработанность деталей замещает в ней вдохновение и порыв. Бородин хвалит и все же не может удержаться от шутки скорее грустной: Корсаков представляется ему этаким немецким профессором в очках, сочиняющим истинно профессорскую Большую симфонию в до мажоре. «Техника еще не вошла в мою плоть и кровь, и я не мог еще писать контрапункта, оставаясь самим собой…» — признавался потом Корсаков[11].
Временами среди усиленных занятий и бесчисленных дел его охватывают сомнения. Неужели он ошибся и загубил свое дарование? Или и дарования никогда не было, а была одна переимчивость? Путь кажется уводящим в тупик. Он оглядывается вокруг, не видя друга, с которым мог бы посоветоваться. Надежда Николаевна? Она молчит, не решаясь вынести приговор. Стасов? У него есть ответы на все недоумения, но эти ответы наизусть знает и Корсаков. Бородин? Мусоргский?
Есть, пожалуй, только один человек, которому можно, не стыдясь, послать на просмотр написанные летом 1875 года фуги. Он оценит их дельно как музыкант и как педагог. С ним полезно поделиться планами на будущее, рассказать о задуманном теперь постепенном переходе от технических упражнений к творческим работам. Письмо написано и отправлено в Москву. Ответ не заставляет себя ждать.
«Добрейший Николай Андреевич!.. — пишет Чайковский. — Знаете ли, что я просто преклоняюсь и благоговею перед Вашей благородной артистической скромностью и изумительно сильным характером! Все эти бесчисленные контрапункты, которые Вы проделали, эти 60 фуг и множество других музыкальных хитростей, — все это такой подвиг для человека, уже восемь лет назад написавшего «Садко», что мне хотелось бы прокричать о нем целому миру… Я часто ремесленник в композиции, Вы будете артист, художник в самом полном смысле слова… При Вашем громадном даровании в соединении с тою идеальною добросовестностью, с которою Вы относитесь к делу, из-под пера Вашего должны выйти сочинения, которые далеко оставят за собою все, что до сих пор было написано в России».
ГЛАВА VI. «СНЕГУРОЧКА»
СТЕЛЁВО
Лето выдалось жаркое, обильное грозами. После сенокоса, кажется, дня не проходило без великого грома. Солнце, гневное и ликующее, обливало розовые поля гречихи и заголубевшие всходы льна. А по ночам беззвучные зарницы гуляли меж облаков, справляя грозно-веселый пир во славу Перуна.
Римские-Корсаковы жили нынче в Стелёве, за Лугой. Воздух здесь был полевой, медовый, не то что в подгородных Лигове и Парголове. Гостей не предвиделось. Дети — их трое — целый день блаженствуют в саду. Смородина, крыжовник, вишня собрали сюда множество певчих птиц; среди ветвей совершают короткие перелеты славки, дрозды, малиновки. Ешь — не хочу. Пой и свиристи, сколько нравится.
Все здесь веселит, трогает и тешит Николая Андреевича: ранние купанья в быстрой, закипающей ключами речке, синие просторы озера Врево, семейные прогулки — по грибы, по ягоды. Вокруг Стелёва разбежались на стороны деревеньки с причудливыми именами — Копытец, Дремяч, Хвошня. Роща называется Заказница, огромный темный лес — Волчинец. Кажется, что Петербург отодвинулся не на полтораста верст, а на тысячи лет. Совсем близко лежит невидимая страна берендеев. С необыкновенным подъемом, со счастливым чувством власти над темной стихией творчества Римский-Корсаков писал в Стелёве «Снегурочку».
Год 1880-й. Позади блуждания, технические упражнения, усилия не быть собою. Все нужное впиталось в плоть и кровь, все лишнее вытеснилось из памяти деятельной в память пассивно-механическую, на склад. Пусть лежит там «до востребования». Зато всплыло позабытое детство. Вспомнился бойкий напев монахов, созывавших молодиц грести сено для божьей матери. Вспомнился — и стал речитативом бирючей, скликающих народ в палаты царя Берендея «суд судить, ряд рядить». Наигрыш тихвинского пастуха подошел Лелю. Пригодились и веселые проводы Масленицы.
Говорят, свежесть и цельность восприятия составляют одно из самых драгоценных преимуществ детства перед зрелым возрастом. Вымысел для ребенка полон значения, воображение кипит, игра неотделима от жизни. Образ мира не раздробился на прозаические подробности и обстоятельства, он подобен светящейся туманности, из которой только возникают очертания быта. Еще открыт простор для сказки. В «Снегурочке», как ни в одной другой опере, торжествует поэзия доверчивого детского восприятия. Но художник оживил в ней детство не одного человека, а целого народа.
«МИРОМ КРАСКА БЕРЕНДЕЯ ДЕРЖАВА»
Прекрасная страна берендеев предшествует в своем бытии историческому прошлому русского народа. Это живая реальность, восходящая к временам доклассового общества, оставившим глубокий след в народной памяти и народном искусстве. Но это же и мечта о красоте и социальной гармонии. Берендеи не ведают вражды с природой, равно близкой им в своих грозных, радостных и величественных проявлениях.
Они включены в ее ритм и отмечают праздничными игрищами и песнями каждый поворот годового круга: не проводишь Масленицу, может запоздать Весна, не перевенчаешь девушек с парнями в Ярилин день, и лето будет холодным, неурожайным. Бесхитростен обиход земли берендеев. Не знают они ни ужасов войны, ни казней, ни коренных несогласий, нарушающих прочный уклад. Хранит этот уклад в постоянном совете с народом царь Берендей, «как бы олицетворение какого-то мудрого образа правления», — писал потом сам Корсаков.
Отблеск чисто русского «золотого века» лежит на событиях и лицах сказки. В пореформенные годы, когда на поток и разграбление были отданы самые основы русского крестьянского быта и культуры (со всем темным и со всем прекрасным, что в них было), царство берендеев получило глубокое символическое значение. Хор слепых гусляров пел славу невозвратному прошлому и тому светлому будущему, на которое можно было уповать, зная прошлое… Тем хуже для безотрадного и безобразного настоящего!
На этом фоне А. Н. Островский мастерски развил несложную фабулу. Детище Мороза и Весны, девушка Снегурочка, лишь до той поры может жить у берендеев, пока сердце ее не согрето любовью, а жгучие лучи солнца не упали на нее. Условие нарушено, и Снегурочка тает. Жаркое лето вступает в свои права. Этот созданный им миф драматург расцветил живыми бытовыми и психологическими красками. Из толпы берендеев выступили вперед и стали действующими лицами носитель сильных, грубоватых страстей купец Мизгирь (диалектное словечко, обозначающее паука), покинутая им простодушная Купава, беспечный пастушок Лель и не чуждый лукавого подхалимства боярин Бермята.
При появлении пьесы в печати и на сцене критика не затруднила себя пониманием ее содержания и самобытной формы. Не заметили и того, что драматург, стремясь создать пьесу для народного театра, свободно применил в «Снегурочке» приемы масленичного представления, хороводных игр и обрядов, оставшихся от языческих времен. Островскому объяснили, что он отошел от жизненных тем из купеческого быта, прекрасно ему удавшихся в «Грозе», и что его сказка о девочке Снегурочке лишена правдоподобия. Не понял пьесу и Корсаков, впервые прочтя ее в 1873 году. «Царство берендеев мне показалось странным», — признавался он потом. Постижение пришло позже, зато захватило его целиком.
В туманный февральский день 1880 года, вернувшись после утомительных консерваторских занятий, он позволил себе раскрыть том сочинений Островского.
Конец зиме; пропели петухи, Весна-Красна спускается на землю… Отсторожил, — ныряй в дупло и спи!Корсакова поразила сжатая энергия и картинность, с какой выразил писатель перелом от зимы к весне, сильный, на слух ощущаемый контраст мертвенного белого покрова снегов и веселого, суетливого движения птичьих стай. Он вдруг услышал журавлиные клики, звонкие трубы лебедей, приветливое кукование. Все шире стала развертываться перед ним упоительная панорама. Свеж и напевен был язык, сердечная любовь к берендеям одушевляла страницы «Снегурочки». Уже далеко-далеко за полночь, полный звуков и картин, он очнулся за столом, страшась выпустить из рук свое сокровище. Подобного потрясения он еще не знавал. Память о нем запала глубоко, как об одном из счастливейших мгновений жизни.
ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА
Мотивы, темы, аккорды и их ходы стали возникать сами собой среди посторонних занятий. В толстой книге из нотной бумаги появились первые черновые наброски — хор во славу Ярилы, хор цветов, монолог Мизгиря. Еще не было самой Снегурки. В апреле, съездив в Москву продирижировать концертом в Большом театре, Николай Андреевич посетил Островского.
Нетрудно представить себе эту встречу. Двухэтажный, старого строения дом. Кабинет с массивным столом и прочными стульями. Рыжеватый, неторопливый хозяин. Композитор после первых же слов приветствия признается в намерении писать оперу на покорившую его «Снегурочку». Взгляд Островского теплеет. С музыкой Корсакова он почти не знаком, но его сборник русских народных песен, вышедший не так давно, знает и одобряет.
— Да отчего же и не попробовать? Мы с Чайковским раз пробовали, да ведь там совсем другая задача была. Откровенно скажу: в опере музыка сама себе барыня, а в драматическом спектакле — служанка. Мы тогда самое Снегурочку вовсе без музыки вывели, благо она по пьесе не поет, не пляшет. А вам, верно, тут колоратуры понадобятся?
— Возможно, Александр Николаевич, и понадобятся. Не зарекаюсь.
— Вот видите — колоратуры! Не потерять бы ей лицо… Мне, если уж на то пошло, о многом тогда думалось. Хотелось нашим берендеям не чужаков, а их самих на сцене показать и, главное, не в затрапезный, а в светлый, так сказать, воскресный час их бытия. Более того. Царь Берендей говорит — чай, читали?
В сердцах людей заметил я остуду. Исчезло в них служенье красоте, А видятся совсем иные страсти. И Бермята ему в ответ: Я горю пособить не вижу средств.Шалишь, думаю, боярин. Есть средства: театр-то на что?! Ан вышло, что Бермята свое дело знал. Не прижилась «Снегурочка» на сцене. А впрочем — что ж! Не подумайте, что отговариваю. Музыка имеет в себе великую силу. Первый рад буду вашей удаче.
С этим благословением и поехал Корсаков в Стелёво. Уже в те годы его композиторская работа чаще всего приходилась на летние месяцы. Осенью и зимой возникали замыслы, накапливались наброски или же, наоборот, шла инструментовка уже написанного, доработка его, изготовление клавира. Появление первых зеленых листьев и побегов травы неизменно вызывало тоску по лесному и полевому приволью. Порой она достигала такой мучительной остроты, что, проходя улицами Петербурга, Корсаков отворачивался, чтобы не видеть зелени. Тяга к творчеству без отвлечений сливалась с огромной, все возраставшей любовью к природе, питавшей и поившей это творчество.
Стелёво не обмануло. «Приехав летом на дачу, — писал он Островскому несколько месяцев спустя, — я попробовал заняться прологом[12] и так увлекся «Снегурочкой», что вскоре принялся за музыку, и, сверх всякого ожиданья, к 23 июня пролог был уже совершенно готов… Затем я решил остановиться, но не вытерпел и принялся за дальнейшее сочиненье, и, представьте, к 15 августа вся пятиактная опера была готова в наброске. Скажу Вам, что никогда ничего не сочинял с таким увлечением, как эту оперу… Огромная и сложная вещь написана в два с половиной месяца…»
Сказалось не только редкое совпадение сюжета, языка и духа пьесы с глубокими потребностями художественной натуры композитора. Уже во время работы над сборником «Сто русских народных песен» в 1875–1877 годах его потянуло к самым древним, первозданным напевам. До этого они мало привлекали знатоков. В их выразительности было нечто строгое, исполненное достоинства и той высшей естественности, какую зовут благородством. Все эти закликания весны, русальные, купальские песни, зимние колядки и прощания с зимой были сложены людьми, которые не состояли в рабах ни у бога, ни у людей. Долгие века феодального гнета обрядовые песни жили в народе как смутная, но бесценная память об ином, справедливом порядке вещей. Была в них еще одна важная черта — гармоническое слияние поэзии и знания (потому что самое представление о неизменном круговороте времен года и полевых работ было своего рода художественной и философской концепцией). Труд еще не отделился, не отшнуровался от обряда, пляски, игры. Миф был формой мышления, сказка — не забавой только, а поэтическим выражением мечты.
На переломе от крепостнического строя к пореформенным порядкам давно уже подрытые временем устои крестьянского мировоззрения неудержимо разрушались. Но их роль для русского общества оказалась важной. Начиная с Пушкина и Глинки художественные сокровища, накопленные русским крестьянством, стали одним из мощных источников передового искусства. Наследие мировой гуманистической культуры плодотворно соединялось с древней культурной традицией восточнославянских хлебопашцев и звероловов. В этом процессе синтеза и претворения былых ценностей Римскому-Корсакову принадлежит выдающееся место. С того мига, когда он открыл для себя подлинное значение старинных обрядовых песен, дав им почетное положение в своем сборнике, он, в сущности, уже заложил прочную основу для своей дальнейшей художественной деятельности и прежде всего для «Снегурочки».
Путь творчества редко бывает прост и прям. Ступенью к «Снегурочке» стала «Майская ночь», законченная годом раньше и при всех своих немалых достоинствах не столь значительная. Давно облюбованная гоголевская тема, бесподобный юмор, гротеск и поэзия повести Гоголя воплотились в музыке мелодичной, мягко окрашенной украинским колоритом. Мир сказки и мир быта лежали в ней рядом, не сливаясь. Иное дело «Снегурочка». Уже сама судьба героини крепко связывала мир людей с миром сказки. Картины одушевленной, очеловеченной природы, хоры птиц и цветов, лесные чудеса, неуклонное нарастание тепла, от последних метелей пролога до торжества Ярилы-солнца в финале, стали подлинной стихией оперы.
Музыка не обезличила пьесу Островского, как того можно было опасаться, не подогнала ее образы и сценические положения к испытанным, стершимся от частого употребления оперным образцам. Она углубила и прояснила замысел Островского. Народные песни и попевки, широко введенные в оперу, подверглись столь совершенной в своем роде обработке и так непринужденно легли на голоса и оркестр, что возникло нечто вполне новое и цельное. Вошло в оперу и то, что сам композитор называл голосами природы, — рассветный крик петуха, пенье птиц, летний гром, — и, шире, многообразная жизнь, поддающаяся воплощению в звуках. Корсаков нашел музыкальные краски для выражения белизны снега и зелени весеннего леса, для ночной прохлады и свеченья светляков, для глухой чащи заповедного бора и для добродушно-величавого шествия царя Берендея. Цветное и образное восприятие тональностей и аккордов, начавшее складываться еще в пору «Садко» и «Антара», получило в «Снегурочке» сильнейшее развитие.
В известной мере стали рельефнее и выросли персонажи первого плана — премудрый царь Берендей, пастух Лель, которого Корсаков определит позднее как олицетворение вечного искусства музыки. Каватина царя Берендея («Полна, полна чудес могучая природа!») с ее волшебным, таинственно зыбким сопровождением струнных, коснулась еще не тронутых искусством пластов сознания. От звуков повеяло лесной тишиной, чуть слышным ароматом цветов, благоговейным раздумьем, светлым любованием девичьей красотой. Песни и речитатив Леля полно выразили его натуру верного исповедника заповедей Ярилы, зазвенели свирельными полевками, окрасились теплым тоном. Мизгирь мало затронул душевные струны композитора и в общем остался оперной условностью. Зато Снегурочка от первого звонкого «ау!» в лесной чаще до последнего изнеможенья, до истаивающего «О милый мой, твоя, твоя! Последний взгляд тебе, мой милый» живее всех живых. Искрящаяся, как снежинка, и, как снежинка, хрупкая, овеянная ледяным ветерком флейтовых пассажей — в начале. Согретая сердечным теплом — в конце, когда даже колоратурные переливы голоса окрашиваются светлым человеческим чувством. Ласковая и любопытная, охваченная ревностью, еще не зная любви, она воплощение первого робкого девичества. Снегурочка — утро жизни, пробуждение женственности в девочке-подростке. Детство Снегурочки кончается в те мгновения, когда Весна-Красна, склонившись на ее мольбы, венчает девушку цветами. Пока Весна один за другим называет бесценные дары юности, оркестр, поминутно меняя окраску, переливается, как огромный самоцветный камень. Все глубже и горячее тон, и вот великой грозной силой возникает в басу тема Ярилы-солнца. На смену утру приходит жаркий день. На смену обещанью счастья должно прийти само счастье. Ранняя пора любви бывает лишь раз в жизни. Не она ли тает под легкий перезвон капели, под журчанье ручейков в корсаковском оркестре? Тайна Снегурочки — одна из тех, где слова бессильны, где поэзия умолкает и передает скипетр своей старшей сестре — музыке. «Это именно весенняя сказка — со всею красотою, поэзиею весны, всей теплотой, всем благоуханием», — писал Бородин автору уже после исполнения оперы в Мариинском театре.
Постановка оперы в Петербурге не сыграла никакой роли в жизни русской едены. Критика встретила ее прохладно, публика нашла скучноватой и для сказки слишком ученой и сложной. Но через три года «Снегурочка» появилась в Москве, и на этот раз с большим успехом. Поставил ее в своем театре даровитый меценат, певец, скульптор и друг художников Савва Иванович Мамонтов[13]. Декорации и костюмы выполнялись по эскизам В. М. Васнецова и для своего времени были явлением выдающимся. С 1885 года, когда «Снегурочку» впервые увидели москвичи, начинается новая эра в истории русского оперного театра — эра тесного союза музыки и живописи. Именно в этой постановке услышал «Снегурочку» Чайковский. Поэтический мир корсаковской оперы оказался ему, по-видимому, чужд, но композиторское мастерство он оценил очень высоко. Для самого же автора опера надолго, если не навсегда, стала любимым произведением, вершиной его творчества, его «Девятой симфонией», как он однажды выразился.
«Кончая «Снегурочку», я почувствовал себя созревшим музыкантом и оперным композитором, ставшим окончательно на ноги», — отметил много лет спустя Корсаков. А в 1902 году сказал своему доброму знакомому В. В. Ястребцеву: «Все мои оперы… я думаю, имеют лишь временный интерес, затем они совершенно и окончательно сойдут со сцены, и останется связанной с моим именем одна лишь «Снегурочка».
Римский-Корсаков ошибся. Есть у него сочинения, не уступающие «Снегурочке» силой мысли, совершенством и красотой выполнения, не уступающие, следовательно, и в праве на память потомков. Но музыка «Снегурочки» действительно неповторима. Она так же неповторима, как олицетворенное в ней утро — утро любви, утро года, чуть брезжущее утро судьбы народной. Недаром опера начинается отдаленным петушиным пеньем, возвещающим зарю, и кончается могучим и победным восходом солнца. Торжественный гимн Яриле — музыкальный итог оперы, подготовленный всем ее ходом, в частности — психологически любопытным родством нежной темы Весны с грозной темой солнца. Разнородные элементы сочетаются в «Снегурочке», образуя сложное единство. Хороводные песни, звучащие светло и поэтично, и многообразная музыка природы, сказочная Снегурочка и реально-бытовая Купава, таинственные гармонии, навеянные Шуманом и Листом, и старинные-народные лады, философский замысел и незатейливая простота — все участвует в органическом росте, все формирует одно из прекраснейших созданий русского искусства. И все полно родниковой свежести. Такой непосредственности выражения более не встретится на пути Римского-Корсакова.
ГЛАВА VII. НОВЫЕ ПТИЦЫ, НОВЫЕ ПЕСНИ
ПАУЗА
История искусства знает плодотворные неудачи и, наоборот, блистательные успехи, не открывающие, однако, путей для быстрого движения вперед. «Снегурочка» так полно выразила все, что мог и хотел к этому времени сказать автор в оперной форме, что область оперы надолго оказалась для него исчерпанной. Начиная с марта 1881 года, когда была завершена инструментовка «Снегурочки», и до весны 1895 года, когда Корсаков начал «Садко», его оперное творчество находится в полосе относительного упадка: он пишет мало и, в сущности, не совсем по-оперному. Лучшими эпизодами новых опер оказываются хоровые и оркестровые. Зато в эти четырнадцать лет созданы самые известные симфонические пьесы Римского-Корсакова — «Испанское каприччио» и «Шехеразада». Именно в эти годы критики закрепили за композитором репутацию симфониста по преимуществу, возникшую еще в балакиревском кружке.
В те же годы сложилось и представление о Римском-Корсакове как о человеке сухом, требовательном и холодном. Представление поверхностное, неполное, неточное, а если пойти дальше и вывести из этого представления образ бездушного, угрюмого формалиста, то и чудовищно неверное. Но, просматривая фотографии Николая Андреевича восьмидесятых годов или вглядываясь в известные живописные портреты работы Репина и Серова, несколько более поздние, начинаешь понимать, что дыма без огня не было. Сурово глядит с этих портретов и фотографий аккуратный профессор консерватории. Нет и следа душевной отзывчивости молодых лет. Не угадывается и та умудренность, та просветленность, какой веет от фотоснимков и зарисовок более позднего времени. Что-то упрямое и замкнутое чудится в выражении глаз, в застывшей, принужденной посадке головы и корпуса. Видно, нелегко дались композитору житейские и художественные передряги, веяния времени и невознаградимые утраты.
НЕВОЗНАГРАДИМЫЕ УТРАТЫ
16 марта 1881 года умер в Николаевском военном госпитале Мусоргский. На столике стояли цветы, к окнам большой пустой палаты приладили занавески. Больного навещали разные люди, Корсаковы в том числе. И со всем тем Мусоргский умирал нищим и одиноким, как только может быть одинок человек и артист.
В ночь на 16 марта пришли к концу исполненные горечи отношения между прежними друзьями. Начался посмертный спор. На похоронах Мусоргского Корсаков сказал Стасову, что пересмотрит и проредактирует все оставшееся после покойного и все, что только возможно, будет выпущено в свет. «Такое заявление для музыкантов было дороже многих и многих речей», — замечает случайный свидетель разговора, удивленный тем, что речей на могиле не было. С этого дня начался вызывающий по сей день серьезные разногласия труд Римского-Корсакова над музыкальным наследием Мусоргского.
Корсаков не ставил перед собой научных, текстологических задач. Он хотел сделать возможным исполнение ярко талантливых произведений, оставшихся незаконченными или неизданными. Но рукописи оказались в своей значительной части черновыми, оперы (кроме уже шедшего на сцене «Годунова») — не приведенными к окончательному виду и не оркестрованными[14]. Готовить к исполнению и печати значило дописывать, оркестровать, исправлять, приводить в порядок. Многое, что раньше восхищало, теперь, на уровне новых знаний и в свете новых понятий, казалось беспомощным и неряшливым, требующим переделки. В эту кропотливую и, по существу, неблагодарную работу Корсаков ушел с головой, отложив в сторону собственное творчество или, вернее, отнесясь к ней как к собственному творчеству, не задумываясь о пределах своих редакторских прав. Так ведь было и при жизни Мусоргского, так и вообще велось дело в балакиревском кружке.
«Все его сочинения я уже пересмотрел, — писал Корсаков своему молодому московскому другу, музыкальному критику Семену Николаевичу Кругликову, через две недели с небольшим после похорон. — «Хованщину» можно было бы инструментовать, предварительно почистив, но, боже, что за сюжет! Никакой логики и связи; местами вовсе не сценично… Ужасно подумать, как это Модест Петрович загубил свой огромный талант».
«Вчера я окончил партитуру… первого акта «Хованщины»: много пришлось переделать и досочинить; сверх того, делаю клавираусцуг, — пишет Корсаков ему же год спустя. — Я готовлю к изданию также шесть романсов Мусоргского… Вообще Мусоргский и Мусоргский; мне кажется, что меня даже зовут Модестом Петровичем, а не Николаем Андреевичем и что я сочинил «Хованщину» и, пожалуй, даже «Бориса». А относительно «Хованщины» тут есть и доля правды».
Через десять лет доходит очередь и до «Бориса», к этому времени давно сошедшего со сцены. С той же энергией и решительностью, с какой он переделывал, исправлял или портил свою «Псковитянку» (что проделывалось уже дважды), Первую симфонию и «Антара», Римский-Корсаков заново инструментует оперу Мусоргского и при этом очищает ее от всего нарушающего, на его взгляд, музыкальную и драматургическую логику. В 1896 году опера начинает новую жизнь в редакции Римского-Корсакова. Жизнь эта исполнена громких успехов, но также и остро драматических обстоятельств. Завоевывает сцену, хоть не сразу, и «Хованщина». И, однако, на всей работе сказывается глубокое различие творческих натур двух композиторов. Исправляя, Корсаков почти всегда изменяет. Иногда на пользу, иногда во вред. Чаще же всего возникает нечто прекрасное, но чуждое манере и духу Мусоргского, нечто более благозвучное, чем ему следует быть.
Корсаков страстно борется с Мусоргским ради Мусоргского; он восхищается его талантом и сердится на него, любит и ненавидит; сам того не замечая, впитывает элементы его творчества и все снова и снова возвращается к музыкальной квадратуре круга — «исправить не изменив». С годами уверенность в правоте уменьшается. «Но ведь дав новую обработку «Бориса», я не уничтожил первоначального вида, я не закрасил навсегда старые фрески, — пишет он уже в конце жизни. — Если когда-нибудь придут к тому, что оригинал лучше, ценнее моей обработки, то обработку мою бросят и будут давать «Бориса» по оригинальной партитуре». И в том же 1906 году, прослушав в Вене несколько опер Вагнера, он замечает: «Из русских композиторов, конечно, впереди всех идет Мусоргский, прочие же точно пятьдесят лет ранее Вагнера сочиняли — и в том числе я». Невеселый, хоть едва ли справедливый, итог жаркого почти тридцатилетнего спора.
Если музыкальное наследие Мусоргского даже в опытных руках Римского-Корсакова дымилось и обжигало, то спокойно и мирно довершилось дело жизни Бородина. Еще задолго до смерти автора опера «Князь Игорь» была предметом заботы и попечения Корсакова. «Если Вы теперь за лето довольно много насочините… то Вы имеете вероятность кончить всю Вашу оперу к великому посту и представить ее в театре, чтобы она пошла в сезон 1880–1881 г., а я берусь Вам в Вашей работе помогать, перекладывать, переписывать, транспонировать, инструментовать по Вашему указанию… а Вы совеститься не извольте, ибо, поверьте, мне хочется, чтобы Ваша опера пошла на сцене чуть ли не больше Вашего, так что я с удовольствием буду помогать, как бы работая над своей собственной вещью», — писал он Бородину в августе 1879 года, обещая менять что-либо только с его согласия. Шли годы, опера по тысяче причин двигалась еле-еле. Напрашивался безотрадный вывод: «…Ежели его переживу, то придется мне кончать его «Игоря», а если ранее его отправлюсь в места злачные и покойные, то, пожалуй, что его опера никогда не окончится. Печально!» — сетует Корсаков в письме к Кругликову. И вот роковой день настал.
Рано утром 16 февраля 1887 года у дверей Корсакова позвонил Стасов, сам не свой. Бородин умер накануне, скоропостижно, мгновенно, в отсутствие жены, проводившей зиму в Москве. Вместе со Стасовым Николай Андреевич немедленно поехал на квартиру Бородина и взял к себе все его музыкальные рукописи. Всю ночь он не спал, припоминая последние желания, намерения и слова покойного относительно музыки «Игоря», тут же набрасывая эпизоды, которые не раз наигрывал, но так и не записал Бородин. На панихиде несколько человек обратились к Корсакову с теми же горькими словами: «Ну, теперь «Игорь» будет окончен…»
В ходе подготовки к печати были и дописывания, и доинструментовка, и «очищение» гармонии, и приведение в порядок голосоведения, были улучшения более и менее удачные. Но никого это не волновало и не волнует. Не произошло столкновения двух художественных натур, не возникло спора с Бородиным.
Большое участие в доработке «Князя Игоря» принял совсем еще молодой композитор, ученик Римского-Корсакова Александр Константинович Глазунов. В конце 1879 года Корсаков начал давать частные уроки юному музыканту, сыну крупного книгоиздателя Глазунова. Бывали у Николая Андреевича способные ученики, бывали и даровитые, но такой необыкновенной, из ряда вон выходящей талантливости не встречалось. И при том ничего болезненного или скороспелого: милый четырнадцатилетний мальчик с прекрасными спокойными глазами и неторопливыми манерами. Трудно было не привязаться к нему, не полюбить его, не увлечься его поразительными музыкальными успехами. Через два года шестнадцатилетний музыкант был уже автором симфонии и довольно значительного количества романсов, фортепианных и других пьес. Писал он легко, без видимого напряжения, но серьезно и не разбрасываясь. Вернувшийся к музыкальной деятельности Балакирев принимал в нем большое участие, активно вмешивался в работу над симфонией и с большим успехом продирижировал ее первым исполнением. Стасов относился к Глазунову восторженно, называл «Александр Великий» и «Орел Константинович». После пяти композиторов старшего призыва и талантливого, но малопродуктивного Лядова Глазунов явился первой великой надеждой новейшей русской музыки.
У Римского-Корсакова установилось к нему особенное отношение. Молодой Глазунов стал для своего учителя и друга как бы идеалом нормально развивающегося композитора. Он сопоставлял свое собственное прошлое под деспотическим и; в сущности, кустарным, теоретически слабым руководством Балакирева с тем основательным музыкальным образованием, какое сам давал теперь Глазунову. Горькое чувство все сильнее овладевало Корсаковым. Он приходил к убеждению, что непоправимо и неразумно растрачена была молодость, что самообучение запоздало и впереди нет ничего отрадного. Тем сердечнее он любил Глазунова и в нем — свои неосуществившиеся возможности, свою собственную юность. Эту пристрастную любовь Корсаков сохранил до конца жизни.
С 1885 года в прямой связи с личностью Глазунова возникают два крупных начинания, которым предстояло сыграть заметную роль в русской музыкальной жизни. Богатый лесопромышленник Митрофан Петрович Беляев, большой любитель музыки и восторженный почитатель талантов Глазунова, основывает первоклассное нотоиздательство и специальную концертную организацию, под названием «Русские симфонические концерты». По сути дела, то и другое задумано было для издания и популяризации сочинений Глазунова. Римский-Корсаков, к которому за советом и содействием обратился Беляев, направил мысль купца-мецената в более широкое русло. Издавать, исполнять в симфонических и иных концертах, а также награждать премиями стали не одного Глазунова, а русских композиторов вообще. На плечи Корсакова легла громадная работа по музыкальному руководству новым делом, ибо, к чести Беляева будь сказано, он на себя решений по чисто художественным вопросам, как правило, не брал. Безденежье и кустарщина, от которых хронически погибала Бесплатная музыкальная школа, делу Беляева не грозили. Все было поставлено на широкую ногу и прочное основание.
Не обладая качествами, необходимыми вождю, Римский-Корсаков тем не менее силою событий оказался наиболее авторитетным музыкантом в кругу беляевцев. Вместе с Глазуновым и Лядовым он принял деятельное участие в дирижировании концертами, отборе музыкальных сочинений для издания, исполнения и премирования, стал непременным участником хлебосольных беляевских пятниц, стал у Беляева почти своим человеком и музыкальным главой пестрого, а во многом и чуждого ему беляевского кружка. По части музыкальных сведений, широты вкусов и владения сочинительской техникой здесь все обстояло благополучнее, чем в кружке Балакирева шестидесятых годов. Восстановлены были в своих правах великие контрапунктисты во главе с Бахом и светлые гении XVIII века, скрывавшие, начиная с Моцарта, в своей гармонической соразмерности и глубину чувств и смелость выдумки. Снята была опала не только с гениального Шопена, коего уже и Балакирев стал жаловать, но и с талантливого Мендельсона. Беляевцы, среди которых имелось немало бывших учеников Римского-Корсакова, не впадая в особенные заблуждения и запальчивость, были вполне терпимы. Да им и не во имя чего было проявлять запальчивость и нетерпимость. У этой хорошо организованной армии не было ни яркого знамени, ни. особо увлекательной цели. Шли концерты, слабо посещавшиеся публикой. Издавались очень тщательно ноты. Эффект всего этого был несомненен, но трудно уловим. Заметно упал у молодых композиторов интерес к оперному творчеству, появилось влечение к пьесам для фортепиано, струнным квартетам, вообще к камерной музыке. Героический период русской музыки кончился. Бурный поток присмирел и улегся в берега. Смягчилась острота недавних противоречий между балакиревским и консерваторским направлением, между петербургской и московской школой. Жизнь сняла одни спорные вопросы, приглушила значение других, выдвинула новые.
К началу девяностых годов колоссально возросло влияние Чайковского. Миновало время, когда Кругликов, рецензируя его новые сочинения, мог писать: «Жалости подобно, на что теперь Чайковский разменивает свой большой и прекрасный талант», а «Итальянское каприччио» называть «позорным». Мировая слава Чайковского была в своем апогее. Исполнение в Петербурге Третьей сюиты, симфонии «Манфред», оперы «Пиковая дама», музыки к балету «Щелкунчик» было каждый раз настоящим событием. Не было причин обходить Чайковского при составлении программ Русских симфонических концертов. 12 декабря 1888 год а он сам в одном из них продирижировал своей оркестровой фантазией «Буря». Возобновилось знакомство с Корсаковым, завязалась дружба с Глазуновым.
В чуть застоявшуюся, чуть грубоватую атмосферу беляевского содружества он внес свежую струю непринужденного дружелюбия и мягкого изящества.
Недаром профессор Петербургской консерватории, прославленный скрипач Л. С. Ауэр называл его маркизом XVIII века. Еще более пленяла непредвзятость и свобода его музыкальных вкусов. Молодежь, воспитанная в строгих балакиревских и корсаковских традициях, от всей души восхищалась безбоязненным отношением Чайковского ко всему легкому, доступному и даже тривиальному. Довольно скоро Петр Ильич перешел на «ты» с Глазуновым и Лядовым (Корсаков говорил «ты» только членам семьи, товарищам времен Морского корпуса и Ф. А. Канилле).
Восхищение личностью и музыкой московского композитора имело и оборотную сторону. «Начиная с этого времени, — писал Корсаков в своих воспоминаниях, имея в виду самый конец 1880-х и начало 1890-х годов, — замечается в беляевском кружке значительное охлаждение и даже немного враждебное отношение к памяти «Могучей кучки» балакиревского периода. Обожание Чайковского и склонность к эклектизму[15], напротив, все более растут». «Новые времена — новые птицы… новые птицы — новые песни. Хорошо это сказано! Но птицы у нас не все новые, а поют новые песни хуже старых», — жалуется он Кругликову в мае 1890 года. С болью и негодованием говорил он позднее: «…Новая русская школа, как таковая, совершенно распалась, и даже слово «кучкист», некогда бранное в устах врагов, стало чуть ли что не бранным в глазах тех лиц, которых эта школа, что говорится, вскормила и вспоила, как, например, Лядов и Глазунов». Для Римского-Корсакова этот поворот его ближайших музыкальных друзей был одним из самых тяжелых ударов, какие ему выпадали на долю. Почва уходила у него из-под ног, дело всей жизни лишалось смысла.
В конце 1892 года получило широкую огласку намерение Чайковского поселиться в Петербурге. Короткое время спустя Римский-Корсаков принимает решение перебраться в Москву. Ни то, ни другое не осуществилось: Чайковский скончался в самом начале концертного сезона 1893/94 года, Корсаков еще ранее свое решение отменил. Отношения их до самого конца оставались дружескими. Петр Ильич в этих нелегких условиях вел себя безукоризненно, не скрывая глубокой симпатии к собрату, которого искренне уважал. И все же глубокая тень легла на все, связанное в памяти Корсакова с Чайковским. Он был слишком художник, чтобы не воздать дани высокого уважения Шестой симфонии, а потом «Пиковой даме» и другим произведениям покойного композитора, когда собственное музыкальное развитие Корсакова привело его к новому соприкосновению с ними. Он был в достаточной мере рыцарем долга, чтобы последовательно включать в программы Русских симфонических концертов не только все посмертные произведения Чайковского, но и незаслуженно редко исполняемые его пьесы. Труднее расходилась горечь. Прошли годы, прежде чем она смягчилась. След, ею оставленный в воспоминаниях композитора, заметен сильно.
Последним в списке утрат стоит имя Балакирева. Их разлучила не смерть: Милий Алексеевич пережил Корсакова. Но то, что произошло, было страшнее смерти. Н. Д. Кашкин, видный московский критик, вспоминая о своей встрече с Балакиревым в 1906 году, в концерте памяти Глинки, писал: «…В то время, когда я разговаривал с Балакиревым, Римский-Корсаков, увидев меня издалека, направился ко мне с дружеской улыбкой, но когда он подошел почти вплоть и увидел, что я разговариваю с Балакиревым, то выражение его лица вдруг изменилось на гневное и он круто повернул в сторону, очевидно чтобы не встречаться с Балакиревым; отношения прежних друзей очевидно совершенно изменились». Вероятно, это была последняя встреча двух людей, так тесно связанных между собой в прошлом.
Причин для такой размолвки было немало, решающую роль сыграла все же совместная служба в Придворной капелле, где они, постепенно все труднее перенося друг друга и все менее друг от друга скрывая свою неприязнь, прослужили бок о бок с 1883 по 1894 год. Вместе они переустроили быт и обучение малолетних воспитанников капеллы, внесли в их жизнь светлое, осмысленное начало. Вместе — и в непрестанном внутреннем, пусть мелочном, несогласии. Терпеть деспотизм, вздорность, капризность можно, пока любишь. Милия Алексеевича было за что любить, даже в его ущербную вторую половину жизни. Но Корсаков не любил и не прощал. Он ненавидел теперь в Балакиреве смесь елейного смирения с жестокостью и злоязычием, мелочной уязвленности со злобным шовинизмом. Вероятно не вполне отдавая себе в этом отчет, Римский-Корсаков ненавидел в нем весь тяжелый дух официального лицемерия и ханжества, сгустившийся над Россией в восьмидесятые годы, в темное царствование Александра III.
Оба они по долгу службы были в Москве на коронации нового императора. Празднично разукрашенная первопрестольная пестрела военными и придворными мундирами, гремела полковыми оркестрами, церковными и сиротскими хорами, из конца в конец гудела колокольным звоном. Все было аляповато, помпезно, лживо и высокоторжественно. Облаченные в шитые золотом мундиры придворного ведомства Балакирев и Римский-Корсаков присутствовали при обряде коронования в кремлевском Успенском соборе. От всей этой роскоши, от золота и фольги, кумача и алого бархата, от медно-красного лица помазанника, протодьяконских возглашений и жандармских «осади!» оставалось гнетущее впечатление грандиозного, не в меру затянувшегося маскарада.
В последние годы службы Корсакова в капелле отношения с Балакиревым колебались между ледяной официальной вежливостью и вулканическими взрывами, в пылу которых о справедливости уже не думали и друг друга не жалели. Балакирев даже был порою терпеливее и мягче. Сколько все это отняло у обоих сил и жизни, нельзя и счесть.
«ЛЕТОПИСЬ»
Все трудности, все горести творческой и семейной жизни Римского-Корсакова стянулись узлом в начале девяностых годов. Умерла мать, умер одиннадцатилетний сын, тяжело захворала младшая дочь. Неожиданно обнаружилось беспечное равнодушие Глазунова, Лядова и Беляева. Запомнилась дикая, в холодном гневе брошенная фраза Балакирева: «Мне до вашего семейства дела нет». Один Стасов оставался верным, заботливым другом. Над всем простиралась безмерная усталость человека, почти не знавшего, что такое отдых или перерыв в работе.
В 1891 году возникает у Корсакова состояние нервного возбуждения, искавшее исхода в лихорадочной работе мысли. Он начинает писать книгу с необъятно расплывчатым содержанием. В ней должны были найти место, общие вопросы эстетики, проблемы эстетики музыкальной, далее — мысли о композиторах «Могучей кучки» и обстоятельный разбор собственных сочинений. Набросав некоторые разделы, композитор обратил свое беспокойное внимание к темам философским, принялся за чтение «Истории философии» Дж. Льюиса, а потом и трудов Спенсера, Спинозы, торопливо занося на поля книг свои соображения, уже не умея остановить все ускоряющийся ход испортившихся часов. Появились навязчивые мысли о религии, о примирении с Балакиревым — признаки переутомления психики. Забывчивость и рассеянность временами доходили до мучительной остроты. Доктора настойчиво рекомендовали отдых.
По счастью, это состояние не препятствовало Николаю Андреевичу вести занятия в консерватории и капелле. Понемногу оно начало рассеиваться и к 1894–1895 годам прошло бесследно. Значительную часть своих эстетических набросков композитор уничтожил; сохранившиеся, несомненно, интересны, хотя изложение действительно страдает сбивчивостью.
В эти мучительные годы мысль художника обращается к прошлому. Начатая им еще ранее музыкальная автобиография значительно подвигается вперед в 1893 году, когда возбуждение уступило место упадку и подавленности. За лето этого года было написано около трети всей «Летописи моей музыкальной жизни», как назвал композитор свои воспоминания.
Интерес их очень велик. Искренность и нелицеприятная правдивость делают «Летопись» выдающимся исключением среди массы артистических и художественных мемуаров. Но многие суждения несут печать тяжелых лет, когда эта книга обдумывалась и писалась. Мы имеем в виду не только 1893 год, но и лето 1906 года, когда, спеша и опуская многое, композитор дописывал воспоминания. «Летопись» — документ, запечатлевший не только мужественную, презирающую все полуправды личность Римского-Корсакова, но и сумрачное, горькое настроение, в каком он находился в начале девяностых годов и снова на последнем этапе своей жизни, перед «Золотым петушком».
При своем появлении в печати в 1909 году «Летопись» вызвала и злорадные попреки врагов и малодушные отречения иных друзей. Тем дороже оценка, какую дал ей прямодушный и взыскательный судья Танеев. «Я считаю «Летопись», — писал Сергей Иванович, — за одно из самых интересных и поучительных автобиографических сочинений, какие мне приходилось читать. Чрезвычайно ценными являются для меня и многие мысли, специально относящиеся к вопросам чисто музыкальным, высказанные простым, ясным и определенным языком и обильно рассыпанные по всей книге».
ГЛАВА VIII. ВОСТОК И ЗАПАД
ПАРИЖСКОЕ ЛЕТО
Всемирная выставка. Над Парижем простерлось летнее голубовато-сиреневое небо. Аллеи выставочного городка пестреют жадной до новинок, веселой, насмешливой толпой. Многочисленные любители музыки раздираемы музыкально-политическими страстями. Руководитель Национальных концертов Э. Колонн — признанный друг русской музыки, уже знакомивший парижан с произведениями Чайковского. Другой вождь оркестра, Ш. Ламуре, — энергичный пропагандист Вагнера. В Париже это имя звучит как смелый призыв к чему-то великому, туманно-грандиозному, как протест против умеренного, измельчавшего искусства. Беда, что рядовому посетителю театров и концертных зал как раз это измельчавшее, никого и ничего не тревожащее искусство дороже всего. Та же общедоступная красивость, тот же культ «хорошенького» и «нарядного» царят и на выставке, хотя она приурочена к столетию могучей и кровавой французской революции 1789 года. Повсюду кокетливо улыбаются гигантские гипсовые красавицы — аллегории республики, промышленности, искусства, городов, рек и торговых предприятий. Повсюду легкая позолота. Привлекательнее других — турецкие киоски, алжирские кафе, индокитайские пагоды. За ними высятся псевдомавританские замки, норвежские деревянные домики, греко-латинские портики. И над всем пестрым скопищем взлетает к небу Парижа трехсотметровая стальная башня Эйфеля, только что скинувшая леса и представшая во всем своем суховатом инженерном великолепии. Точно архитектура грядущего бросает дерзкий вызов разливанному морю подражаний и прикрас, архитектурной косметике конца века. За кем останется победа? Куда устремится поток живого искусства?
Небольшое репетиционное помещение. Оркестр готовит программу из произведений русских композиторов. Посторонних — никого. Только у дверей примостился на шатком стуле Глазунов да изредка заглянет Беляев. На его средства, по его настоятельному желанию организованы русские концерты на парижской Всемирной выставке 1889 года. Жарко. Высокий дирижер в узком жилете, с засученными по локоть рукавами рубашки сосредоточенно отрабатывает увертюру к «Руслану и Людмиле». Объясняться с оркестром ему не так-то легко: Николай Андреевич не силен во французском языке. Однако по мере необходимости он разъясняет свои намерения и требования при посредстве стука палочки и немногих общепонятных слов. Очень скоро оркестранты приходят к заключению, что имеют дело с художником не только спокойно-требовательным, но и выдающимся. Оттенки и темпы схватываются с намека. Несмотря на духоту, оркестр работает без положенного перерыва и дружным постукиванием по пюпитрам выражает одобрение автору «Антара». Хуже идет дело у стеснительного Глазунова, когда он сменяет Корсакова для разучивания своего «Стеньки Разина». Но Римский-Корсаков умеет вовремя подсказать молодому дирижеру все нужное. Программа двух концертов выучена твердо и сравнительно быстро.
Теперь все это — произведения Глинки, Бородина, Мусоргского, Балакирева и других — надо перенести на публику. Завоевав уважение оркестра, завоевать любовь этой таинственной особы.
Громадный, вмещающий более пяти тысяч слушателей зал выставочного дворца Трокадеро наполовину пуст: большинству слова «русская музыка» мало что говорят, а на рекламу гордый Беляев не израсходовал и гроша. Отсутствуют и праздношатающиеся русские парижане, не угадывающие, что отечественная музыка станет со временем величайшей гордостью русской земли. Зато налицо передовые музыканты, все, кому противна рутина, кто ищет возрождения музыки у незамутненных ключей, у глубоких корней народного искусства. Под управлением Корсакова одна за другой исполняются оркестровые пьесы, в большинстве своем еще никогда не звучавшие в Париже. Особенный успех имеют произведения восточного характера: «Половецкие пляски» и «В Средней Азии» Бородина, «Антар» Римского-Корсакова. Жаль, нет среди живых Сальвадор-Даниеля: он расстрелян версальцами вместе с другими участниками Парижской коммуны в мае 1871 года. Мелодия, когда-то записанная им в Алжире, вернулась теперь во Францию в новом наряде — как музыкальный образ сказочно-прекрасной пери Гюль-Назар, подруги Антара. В этой светлой неге, в этой свободной грации танца по-иному, чем в первобытной мощи и диком одушевлении половецких плясок, воплотилось нечто гораздо большее, чем пряная экзотика. Молодые французские композиторы, с энтузиазмом аплодировавшие «Антару», хорошо почувствовали органическую враждебность музыки Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова прозе буржуазного быта и пошлости буржуазного искусства. Здесь пробились из земли источники, которые утоляли их жгучую жажду.
«Молодая французская школа и Новая русская школа сразу узнали друг друга и побратались», — писал выдающийся музыковед, тогда еще молодой критик, Жюльен Тьерсо. «Я думаю, — проницательно добавлял он, — что той и другой принадлежит будущее». Еще никому не ведомый, присутствовал в зале Клод Дебюсси. Затерянный в толпе, впервые слушал русскую музыку четырнадцатилетний Морис Равель. Каждый из них отозвался годы спустя на эти впечатления.
«Это не дебют русской музыки, а ее торжество!» — заявил с глубоким удовлетворением постоянно живший в Париже славный ваятель М. М. Антокольский. Отзывы в печати были почти единодушно восторженны. При отсутствии кассового успеха налицо был успех художественный. Э. Колонн пригласил Корсакова продирижировать двумя концертами весной будущего года. И хотя намерение Колонна не осуществилось, зато в следующем году под управлением русского композитора состоялся концерт в Брюсселе почти с той же программой, имевший решительный успех. Медленнее, чем литература, но не менее глубоко русская музыка входила в культурный обиход Франции и стран ее «сферы притяжения». Парижские концерты 1889 года были в этом отношении событием исторического значения.
СКАЗКИ ШЕХЕРАЗАДЫ
Среди сочинений, показанных в 1889 и 1890 годах, не было того, которому в дальнейшем предстояло стать самым известным и любимым из оркестровых произведений Корсакова. Не было «Шехеразады». Сейчас она не сходит с концертных эстрад Франции, Арабского Востока, Англии, Германии и Америки. А между тем ко времени концертов в Трокадеро она уже существовала, исполнялась и даже одобрялась Глазуновым, хотя не совсем одобрялась тем, кому была посвящена, — Стасовым.
Первая мысль о ней, по-видимому, возникла у композитора еще зимой 1887/88 года, среди работ над «Князем Игорем» Бородина. Вполне возможно, что заунывно-чарующие напевы половецкой девушки, так полно выразившие томительную прелесть бескрайной, солнцем выжженной степи, пробудили в его сознании образ иной музыки, более утонченной и узорчатой, образ Востока арабских сказок, уже раз пленивший композитора. Много воды утекло за эти двадцать лет после «Антара», прибавилось мастерства и опыта, убыло веры в свои силы.
Летом 1888 года в Нежговицах под Лугой зимние мысли оттаяли и пошли в рост. Корсаков был невесел. Писать он себя заставлял и ничего особенно хорошего от «Шехеразады» не ждал. «Сначала шло туго, — признавался он Глазунову, — но потом пошло довольно скоро и, во всяком случае, хотя бы и призрачно, но наполнило мою скудную музыкальную жизнь». Смутное стеснительное чувство шевелилось в нем. Ему не захотелось показывать свое произведение даже самым близким друзьям, даже Глазунову. Они услышали «Шехеразаду» только на репетициях Русских симфонических концертов.
Ромен Роллан как-то заметил, что искусство не всегда отражает жизнь художника, нередко оно восполняет то, чего не хватает в действительности. К сказкам Шехеразады это имеет прямое отношение. Уже в караван-сараях и кофейнях Каира или Дамаска волшебные рассказы о диковинах южных морей, о потаенных сокровищах, девушках дивной красоты, таинственных дворцах и могущественных духах — джиннах уносили воображение слушателей далеко от невзгод и тревог повседневного бытия. Их сказители были не только поэтами и несравненными повествователями. Они были зодчими и живописцами. Они воздвигали великолепные здания, украшали их бесценными мозаиками и коврами, населяли их отважными молодыми красавцами и коварными искусителями. Появившись в начале XVIII века во Франции в свободном переложении А. Галлана, переведенном затем на главные европейские языки, сказки «1001 ночи» стали для Запада выражением самого духа восточной фантазии и поэзии. Ирвинг и По, Гауфф и Гюго, Сенковский и Уайльд пленили новых читателей отблесками и переливами огня, зажженного легендарной рассказчицей, прекрасной и мудрой Шехеразадой. Но еще ближе, чем стихам и романтической прозе, этот дух был родствен музыке. Летом 1888 года, в пыльной атмосфере российской действительности, отображенной и заклейменной Чеховым, под пером усталого, обремененного заботами профессора консерватории возникло творение, благоуханное и сверкающее, как росинка на лепестке розы, — симфоническая сюита по сказкам «1001 ночи».
С «Шехеразадой» соединялись у композитора глубоко личные переживания. Согрет теплом сердца и несет частицу авторской души мотив сказительницы, пронизавший и скрепивший все четыре части. Чуть печальный, задумчивый ее напев звучит в светлом высоком регистре скрипки, всегда одной, всегда одинокой. И тем же чувством окрашены незабываемые картины теплого моря, то любовно покачивающего корабль на волнах, то грозно-взмятенного. Они возникают сразу после вступления. Вся первая часть — морская, и теми же солеными брызгами окроплен заключительный раздел финала. Ослепительно синими, темно-сапфировыми маринами окаймил композитор всю пьесу. Юношеское воспоминание о плавании под южными звездами сгустилось в музыкальный образ. Но таково волшебство гармонии, такова сила филигранно тонкой игры тембрами, что морской пейзаж «Шехеразады» и скользяще-легкое движение корабля в голубую даль стали таинственными и необычайными, стали первым из чудес старинной сказки.
Вторая часть вносит в повествование иной, тревожный и горестный оттенок. Корсаков думал назвать ее «Рассказом». От певучих интонаций веет покорностью судьбе. Намеком на роковые события, похоронившие былое великолепие, звучат яростные возгласы труб — не то воинские сигналы полчищ, сошедшихся для кровавой встречи, не то перекличка злых духов, мчащихся в песчаных ураганах Аравийской пустыни.
«Грезой» хотел назвать третью часть художник. О чем грезили тысячи слушателей восточных сказок и даже сам казнелюбивый деспот, султан Шахриар, внимавший нежному голосу Шехеразады? О красивейшем цветке на древе человеческих чувств, о прекрасной розе без шипов… Негромкая песня влюбленного, нежная истома восточной девичьей пляски; бубен, чуть слышный; хрустальный всплеск фонтана. Не пожирающий огонь страсти, а лучезарное тепло, не самозабвение, а любование. Словно пройдя грань волшебного кристалла, обаяние чувственной любви утратило вес и тяжесть.
Контрастом к этому уголку земного рая, к этой тишине, напоенной дыханием цветов, возникает в последней части бурное ликование народного праздника. «Багдадский карнавал», — шутливо пишет композитор в одном письме, очевидно намекая на родство этой части с известным «Римским карнавалом» Берлиоза. Но в отличие от всех музыкальных карнавалов багдадский праздник на вершине стихийного веселья срывается в стихию бедствия. Среди завывания ветров и разгула морских валов гибнет, разбиваясь о волшебную магнитную скалу, на мгновения появившийся утлый корабль. И снова бегут волны, стирая следы катастрофы, восстанавливая своим умиротворяющим ритмом великий порядок мироздания. И снова звучит сладостный голос, уже не раз звучавший в сюите, внося в нее покой, печаль и созерцательную ясность, — голос юной сказительницы, смягчившей жестокое сердце Шахриара.
В творчестве русских композиторов Восток занимает выдающееся место. От Алябьева и Глинки до наших современников. У Бородина он исполнен мощи и простодушного лукавства, у Мусоргского трагичен, у Чайковского времени «Щелкунчика» и «Иоланты» изысканно тонок, напоен ароматом древней мудрости. В русскую музыку, по тонкому наблюдению музыковеда Т. И. Соколовой, восточные интонации, восточные попевки вошли не только в своем прямом значении, для обрисовки Востока, но и как выражение известного душевного состояния: сладостной задумчивости, неги, любовного томления, полета мечты. «Шехеразада» Римского-Корсакова счастливым образом соединяет оба значения. Характерные черты восточной мелодии и напевного говора, характерные сложные ритмы танца, типичные звучания инструментов восточного оркестра претворены в «Шехеразаде» с чуткостью изумительной. И одновременно «Шехеразада» — произведение истинно лирическое, сообщающее нам с силой непосредственного вдохновения ту мечту, ту тоску, тот властный порыв к недостижимому, какие владели композитором не в одно только лето 1888 года, но во всю его жизнь.
Римский-Корсаков уклонился от иллюстрирования отдельных сказок. Музыкальные темы, являясь, как он сам потом писал, при различном освещении, выражая различные настроения, соответствуют не одним и тем же образам, а разным. Программность музыки приняла в «Шехеразаде» гораздо более субъективный характер, не требуя и даже не допуская распространенного литературного изложения. Форма, оставаясь совершенно своеобразной, сближалась в то же время с традиционной, эмоционально стройной и уравновешенной формой симфонии. В ряду оркестровых произведений Корсакова «Шехеразада» — сочинение наиболее симфоничное.
Быть может, живо ощутимый лиризм, непривычная открытость чувств стесняли автора и мешали ему оценить свое создание, как должно. Вероятно, такова причина, почему до Парижа и Брюсселя оно дошло с многолетним опозданием. «Шехеразада» и в Петербурге за все двенадцать лет до конца века была исполнена четыре раза.
ВСТРЕЧА С ВАГНЕРИЗМОМ
Парижскому июню в жизни Корсакова предшествовал петербургский март. 27 февраля 1889 года спектаклем «Золото Рейна» открыла гастроли в Мариинском театре пражская труппа А. Неймана. Впервые в России исполнялся цикл из четырех опер Вагнера «Кольцо Нибелунга» — дело всей его жизни, посильный ответ музыканта на трудные вопросы общественного и чисто художественного порядка.
Рихард Вагнер умер в 1883 году. Постепенно отодвинулось личное, иногда странное и недостойное, что осложняло для современников оценку художника. Яснее делались масштаб и многогранность самого явления. Смелое новаторство и широкий размах неотразимо действовали на молодых композиторов. С Вагнером можно и нужно было спорить. Нельзя было не замечать его. Когда-то, окруженный ореолом изгнанничества, Вагнер приезжал в Россию и дирижировал в симфонических концертах отрывками из своих опер. Корсаков был тогда в плавании. Позднее авторитет Балакирева, язвительное остроумие Кюи, негибкая убежденность Стасова наглухо перегородили кучкистам дороги и пути к Вагнеру. Теперь пришло время все проверить. Впервые Корсаков встретился лицом к лицу с «Нибелунгами».
Впечатление оказалось ошеломляющим. Сильнее, чем новая оперная форма, новая гармония (Корсаков определил ее как «монотонию роскоши») и текучая, избегающая законченности и расчлененности «бесконечная мелодия», его внимание привлек массивный вагнеровский оркестр. Римский-Корсаков, только что достигший в «Шехеразаде» и «Испанском каприччио» вершин тонко артистической, прозрачной оркестровки, был изумлен, погрузившись в этот мощный, мутный моток. Насыщенный, чувственный тон виолончелей и альтов был сгущен до последних пределов, скрипки витали в бесплотном высочайшем регистре, медь дышала и гремела, а главное — краски клались на звуковое полотно не порознь, а разом, громадной массой. Оркестр был значительно увеличен против обычного состава, отяжелен и «упитан», как выражался Ларош. Не приняв вагнеровской трактовки человеческого голоса как элемента в опере подчиненного, Корсаков, подобно многим западным и русским композиторам, был захвачен красотой вагнеровского оркестра. Невозможно было устоять перед соблазном использовать эти приемы оркестровки, казавшиеся варварскими после изысканной манеры Глинки и самого Корсакова, но именно в силу своей новизны привлекательные для художника.
В «Каприччио», как и в «Шехеразаде», оркестровые тутти (все инструменты) применялись лишь в необходимых случаях. Гораздо чаще отдельные инструменты и группы инструментов солировали, выделяясь отчетливо на мягко намеченном фоне. Мелодия или ее часть, попевка, переходила от флейты к гобою или кларнету, ускользала к струнным и вновь возвращалась в царство деревянных духовых инструментов, этих внуков и правнуков пастушьей дудочки. Они пели-выговаривали инструментальные арии и речитативы, перекликались, дополняли друг друга, и раздельно положенные звуковые мазки сливались в светлую по тону, почти акварельную по легкости музыкальную живопись.
«Каприччио», — писал сам автор, — это… сочинение для оркестра. Смена тембров, удачный выбор мелодических рисунков и фигурационных узоров, соответствующий каждому роду инструментов, небольшие виртуозные каденции для инструментов соло, ритм ударных и прочее составляют здесь самую суть сочинения, а не его наряд, то есть оркестровку… Испанские темы, преимущественно танцевального характера, дали мне богатый материал для применения разнообразных оркестровых эффектов». Характерно для воззрений и требований Римского-Корсакова, что эта как будто весьма лестная авторецензия заканчивается суровой оценкой: «В общем «Каприччио», несомненно, пьеса чисто внешняя…» Слушатель, менее строгий, чем автор, слышит в пьесе и огненную жизнерадостность, и глубокую задумчивость, видит ослепительно сияющее южное небо, смуглые лица и самозабвенную, упоительную' пляску… Так или иначе, на «Каприччио» и «Шехеразаде» учились целые поколения композиторов у нас и за рубежом: во Франции, Испании, Италии. Но сам Корсаков на долгие годы ушел из своего, прочно им завоеванного круга мастерства и принялся учиться тому, чем еще не владел.
Колоссальным учебным этюдом была опера-балет «Млада» на довольно слабый текст В. А. Крылова. Тут был простор для симфонических картин и оркестровых эффектов. Композитор пережил горячее увлечение новой задачей, потом разочарование. Из громадной партитуры, в высшей степени интересной для специалиста, сохранили репертуарное значение отдельные эпизоды. Таковы оркестровое вступление, блестящее Шествие князей, литовская и индийская пляски и даже, целое действие, вполне фантастическое, — Ночь на горе Триглаве. Симфоническое начало господствует в опере над началом драматическим. Оркестр массивен, и оркестровка густа до вязкости.
Вторым, уже более свободным этюдом стала следующая опера Корсакова — «Ночь перед Рождеством». Не найдя в гоголевском сюжете достаточного повода для своих симфонических стремлений, композитор единственный раз в жизни пошел- на явное нарушение замысла писателя. Скромные эпизоды полета кузнеца Вакулы из Диканьки в Петербург и обратно он развернул в обширные балетно-симфонические картины с участием славянских божеств Коляды и Овсеня, звезд, ведьм и ведунов. Свежесть морозного воздуха, сказочная красота зимнего звездного неба, холодное сиянье месяца, сверканье снега — в музыкальных пейзажах, юмор и мягкая напевность украинских песен — в поэтичных хорах, — такова «Ночь перед Рождеством», по-своему истолкованная композитором.
Многое наметившееся здесь — музыкальные образы, приемы воплощения и даже холодноватое великолепие красок нашло развитие и многообразное применение в дальнейшем творчестве Корсакова, особенно в его операх-сказках. Но ближайшим итогом оказалась опера иного склада — «Садко». Вместе с ней композитор вернулся на большую дорогу оперного творчества. Окончилась полоса прямого и скрытого перевеса симфонического начала. Кончилась и первая встреча с вагнеризмом.
ГЛАВА IX. ОПЕРА-БЫЛИНА
ВЕЧАША
Недалеко от станции Плюсса Лужского уезда лежит большое озеро со старинным, не совсем понятным именем Песно. Деревня за ним зовется на псковский лад Запесенье. Берега здесь низкие, заросшие тростником. Для купанья проложены длинные мостки, уходящие поверх мелководья к чистой воде. На них любит сидеть Римский-Корсаков, слушать голоса водяной и болотной твари, поглядывать на седые ветлы и на ясное зеркало вод, отражающее днем облака, а ночью — звезды. Тут приходят ему в голову счастливые музыкальные мысли и немедленно попадают в записную книжку; память стала ненадежной, не то что прежде.
Раскинувшееся над самым озером именье Вечаша, где Корсаковы снимают барский дом с большим садом, необыкновенно по душе композитору. Много раз он будет приезжать сюда на летние месяцы; пять опер, целиком или частично, здесь напишет. Неподалеку лежит еще одно сразу приглянувшееся Корсакову место — Любенск, где ему суждено провести последние два лета своей жизни.
Есть у композитора причина особенно любить эти уголки озерного северного края. В Вечаше отомкнулись его уста. После долгих лет скованности он вновь заговорил на своем родном оперном языке. Здесь, летом 1894 года, написал он в наброске «Ночь перед Рождеством», положив начало последующей, уже непрерывной оперной деятельности.
В те же месяцы в записной книжке композитора появились первые эскизы оперы «Садко». Музыка симфонической картины на тему новгородской былины должна была дать ему основу для всех «водяных» и «подводных» сцен. Трудность заключалась в том, чтобы перевести музыку в совсем иной — вокальный и сценический — план.
То, что не получалось в «Младе» и не совсем получилось в «Ночи перед Рождеством», осуществилось в «Садко». Исключительно полезны оказались советы и сценарные варианты Стасова, позволившие Корсакову преодолеть инерцию чисто оркестровой картинности. И еще два человека помогли рождению новой оперы. Василий Васильевич Ястребцев помогал главным образом своим безграничным энтузиазмом к его сочинениям и сердечной любовью к нему самому. В том и другом Корсаков, несомненно, нуждался, а в ту пору — особенно. Ястребцеву мы обязаны сверх того несколько наивными, но в высшей степени ценными по материалу, обширными воспоминаниями о Римском-Корсакове. Другой — Владимир Иванович Вельский, человек большой культуры, любитель и знаток русской старины и новой русской музыки, — принял участие в работе над либретто «Садко». В нем неожиданно обнаружились задатки превосходного либреттиста. «…Вам, а не кому другому, я обязан, что «Садко» таков, каков он есть», — написал композитор Вельскому в 1898 году, а в своих воспоминаниях отметил: «В этом скромном, застенчивом и честнейшем человеке с виду невозможно было и предположить тех знаний и того ума, которые выступали наружу при ближайшем с ним знакомстве». Работа над крупной по размерам оперой стала быстро подвигаться вперед.
«Вы удивляетесь, что я оперы, как блины, пеку. Рубинштейн, Чайковский Вам вспоминаются. Может быть, и так; но прежде послушайте, а потом судите, — делится Римский-Корсаков раздумьями с Кругликовым. — Я чувствую себя в роли ленивого ученика, зубрящего изо всех сил перед экзаменами. А экзамен этот есть возможность отправиться на тот свет, когда идет шестой десяток от роду. Мало делал, много ленился, много потерял времени по-пустому, пора подумать о душе, то есть написать побольше, что можешь и к чему способен. Ну вот я и пишу».
Со времен «Снегурочки» он не знал еще такого восторженного чувства, такого, что ли, вдохновения (он не любил этого слова). После светлых жарких дней прохладные туманы окутывали берега озера и неслышно плыли, задевая тростники и прибрежные кусты. Их клочья сбивались там и сям в неясные фигуры. Темнели сумерки, начинали бесшумный полет летучие мыши, огромный красный серп месяца казал сквозь облако острые рожки. Композитор ловил легкий шепот набегающего порывами ветра. В его сознании начинала смутно вырисовываться гибко скользящая мелодия. Она плавно покачивалась, как ладья на волне.
Светят росою медвяною косы твои, Словно жемчужным убором блестят!Такой увидал молодой гусляр Морскую царевну, вышедшую из Ильмень-озера. Такой слышит сейчас царевну Николай Андреевич, полузакрыв глаза, боясь неосторожным движеньем спугнуть очарование.
Утром нетерпенье гнало его к письменному столу. Размерный напев былинного сказа, жалобно-певучие причитания олонецких или архангелогородских воплениц, жаркое сверканье оркестра в момент превращенья улова в золотые слитки, ровное, величавое движение волн, упоительные зовы Морской царевны, могучие хоры вольных новгородцев — все теснилось в его воображении, прояснялось, получало внутреннюю связь и, покорное власти художника, ложилось на нотные страницы.
Приходила осень, а с ней — Петербург, привычные городские заботы, затяжные дожди и пронизывающий до костей ветер с финского залива. Но вечерами в кабинете на Загородном проспекте весело трещали дрова в печке и спорилась работа. Сочиненное летом принимало окончательную форму, округлялось, в ходе инструментовки все яснее обозначалось целое. Автор перелистывал свою юношескую музыкальную картину «Садко», строго сличал заново сочиненную музыку со старой, ища и не находя швов, и, удовлетворенный, опять брался за перо. И вот поставлена последняя точка. Он мог быть доволен собою. Сказано новое веское слово в русской музыке.
А между тем с постановкой оперы возникли трудности. Еще в 1895 году неблагополучно прошла на Мариинской сцене «Ночь перед Рождеством». Причина, в сущности, была пустяковой. Молодой царь, Николай II, сперва разрешил вывести на оперную сцену царицу, в которой было трудно не узнать Екатерину II, потом под давлением возмущенных великих князей легко взял свое слово назад. Пришлось наскоро заменять в либретто царицу князем Потемкиным и меццо-сопрано — баритоном. Простить композитору этот конфуз директор императорских театров был неспособен. Представленная ему опера «Садко» была встречена с той ледяной вежливостью и той уклончивостью, какие не сулили ничего хорошего.
После Нового года волокита и оттяжки кончились: на очередном докладе директора театров Ивана Александровича Всеволожского государь император не соизволил утвердить к постановке на казенной сцене оперу господина Римского-Корсакова.
«Пусть вместо этой оперы дирекция подыщет что-нибудь повеселее», — сказал монарх.
Из дирекции театров композитор вышел хмурый и гневный. Что-то исконно корсаковское, прямое и непоклонное, поднималось в нем. Что-то, от чего брови чуть сдвигались и спина выпрямлялась, как натянутая струна. «Ну, это еще посмотрим! Последнее слово не сказано и, верно, еще не скоро скажется, но будет оно за мною».
Вечером следующего дня появился на Загородном Стасов.
— Ну, вот вам, Владимир Васильевич, и вся история. Возвращаться к ней не будем, — закончил короткий рассказ Римский-Корсаков. — Одно могу сказать с уверенностью: больше я опер в дирекцию не ношу. Захотят ставить, пусть просят. Не захотят — как хотят. А пока нашему «Садко» жребий — лежнем лежать в ящике письменного стола.
— Лежнем? Ни в коем случае! — немедленно взорвался Стасов. — Да и не может того статься! Капитальную оперу написали, за нее вам в ножки поклониться надо бы. У вас тут дух вечевой вольности, дух наших северных народоправств веет не менее, чем в «Псковитянке». Глядите, мол, на что русский человек способен без приказной избы и казенной опеки, какие дива дивные на дне океана сыщет, какие пути в заморские страны проложит!
И Стасов стал перед Николаем Андреевичем, задумчиво постукивавшим длинными пальцами по деревянному подлокотнику кресла.
— Стыдно вам, Корсинька, нос вешать. Ей-богу, стыдно. Не то ново, что тузовую русскую оперу пустоголовые проказники на сцену не пускают. Эта быль уже сто раз сказывалась и еще сто раз будет сказана, пока быльем порастет. А то ново, что русский композитор взял да и взбунтовался. Ни Глинка, ни Мусоргский на горькие обиды не смели обидеться, на оскорбления не позволяли себе оскорбиться — вы первый! Честь и хвала вам за это!
«ПОЭТ» И «ПРОРОК»
Весна и лето прошли в неустанной работе. Словно открылись затворы, сдерживавшие творчество, и с силой хлынула неиссякающая ключевая струя. За считанные месяцы написаны были опера о вдохновенном творце Моцарте и завистнике Сальери (на пушкинский текст), дуэты, сорок романсов и еще сверх того кое-что. Без заранее принятого решения, без ясно определившегося намерения Римский-Корсаков выработал новую для себя вокальную манеру. Это было настолько важно, перемена так существенна, что сам композитор с лета 1897 года датировал свой последний период творчества (первый, по его ощущению, кончался «Псковитянкой», второй замыкался оперой «Садко»).
Раньше он сочинял, слыша внутренним слухом гармонию еще прежде, чем успела сложиться мелодия, и вторую прилаживал к первой. Теперь мелодия шла впереди, она возникала в прямой зависимости от словесного текста.
Романсы сочинялись легко, складываясь порой в отдельные циклы. Чаще всего в напевах звучал голос раздумья, светлой печали. Страданье или горечь преодолевались, выше страстей вставал образ величавой природы, и жар непосредственного переживания охлаждался холодком мудрости. В цикле «Поэту» особенно ощутима главенствующая мысль. Недаром на экземпляре нот, подаренном Кругликову, значилось: «На память о взгляде на искусство автора музыки». Симпатии композитора к художникам объективного склада, к прекрасной уравновешенности ясно сказались в подборе стихотворений: «Эхо» Пушкина, «Искусство» Майкова. В четвертом романсе цикла — «Октава», также на слова Майкова, поэт называет прообразом «гармонии стиха» голоса самой природы. Романс удивительным образом воспроизводит таинственное рождение музыки из «шептанья тростников» и говора дубравы.
Но и совсем иная сторона искусства, не созерцательная, а пламенно-волевая, была глубоко пережита Корсаковым в эти месяцы. Свидетельством тому — завершение начатого еще в давнее время скорбного и гневного «Анчара» и создание монументального «Пророка» (на гениальные пушкинские тексты). Образ бесстрашного и мудрого обличителя, вестника правды дан в «Пророке» с потрясающей силой, музыка в заключительном разделе звучит гимном великому назначению художника. Посвятил его Римский-Корсаков Стасову.
А в середине лета прилетела негаданно-нежданно добрая весть из Москвы. Семен Николаевич Кругликов сообщал, что Частная опера Мамонтова хочет ставить «Садко», что сам Савва Иванович просит, умоляет дать авторское разрешение, обещая сделать все возможное для достойного исполнения оперы высокочтимого им композитора.
МОРСКАЯ ЦАРЕВНА
На Большой Дмитровке, у Солодовниковского театра, где дает спектакли Русская частная опера, нынче большое оживление. Афиши возвещают: «30 декабря 1897 года. Опера-былина «Садко». Содержание заимствовано из русского народного эпоса. Музыка Н. А. Римского-Корсакова». То и дело от Петровских ворот, от Страстного монастыря, от Охотного ряда повертывают на Дмитровку щегольские сани записных московских театралов и ценителей, а переулками гуще обычного движутся зеленые студенческие шинели от Тверской, от излюбленных малоимущими студентами Козихинских переулков. К сегодняшнему представлению ждут из Петербурга автора, и это ожидание магнетическим током разбегается по толпе, по оркестрантам, по всей мамонтовской труппе.
Сам Савва Иванович волнуется больше всех и скрывает волнение удвоенной деятельностью. Спектакль выпущен с недоделками, прорехи, как нарочно, лезут сегодня в глаза, а ударить в грязь лицом перед, как слышно, невероятно строгим
Николаем Андреевичем, ох, как не хочется! Ну да ничего!
— Костенька, голубчик, — на ходу останавливает он Коровина, только-только собравшегося поболтать за кулисами со знакомой хористкой, — вообрази, твой чудесный лес из сцены у Ильмень-озера изрядно поцарапали наши дуроломы. Беги сейчас с кистями, там угол подмалевать надо. Да Врубеля, Врубеля попроси помочь — один не успеешь, времени в обрез.
— Иван Григорьевич, — кидается Мамонтов к машинисту сцены, — вы один можете выручить нас! На вашего кита в подводном царстве все надежды. Блесните! Покажите петербургским гостям, на что Москва способна!
— Блеснем по силе возможности, — добродушно посмеиваясь, отвечает машинист. — Не тревожьтесь, Савва Иванович, не впервой.
— Феденька, Феденька! — снизу вверх заглядывает Савва Иванович в глаза тощему, с коломенскую версту вытянувшемуся басу. — Ради бога, помни, как я тебе показал. Обопрись о секиру вот так и, ни на кого не глядя, хмуро начинай:
О скалы грозные дробятся с ревом волны…Получится дивно, божественно…
А уже бежит к Мамонтову взъерошенный хормейстер и в полном отчаянии докладывает, что мужской хор опять нетвердо знает свою партию, а ему вот сейчас, в первой же картине, петь пирующих новгородцев.
— Вздор! Споют! Положите на столы между блюдами нотные листки, пусть на них поглядывают. Никто из зала не заметит, а заметят — подумают, что это вроде меню пиршества.
И сам не выдержал, захохотал заразительно, с катаральным хрипом, кашлем и слезами, навернувшимися на молодые веселые глаза.
— Ну-ка, как это Садко поет?
Кабы была у меня золота казна, Кабы была дружинушка хоробрая…Есть золота казна! Есть и дружинушка хоробрая. Не робейте, милые!
В зале темно. Стихают звуки настраиваемых инструментов. Слышны среди тишины отдельные всплески торопливого шепота: «Автор! Вон, вон там, в директорской ложе!» И вот зал стих, смолк — от роскошных лож бенуара до последнего ряда галерки. Чуть прикрыв глаза ладонью, весь обратившись в слух, оперся о барьер Римский-Корсаков. Короткий стук дирижерской палочки. Взмах руки. И вместе с плавным шелковистым звуком скрипок начинается оркестровое вступление «Окиан-море синее».
Нет больше театра, нет оркестра. На великом просторе ходят, дышат, поют свою вечную песню морские валы. Перекликаются издали неведомые голоса — птицы ли перед бурей кличут или морские дива играют на приволье? Надвинулись темные тучи, громче и угрюмей рев океана. Снова проглянуло солнце. Бегут, ластятся друг ко другу волны, глуше их умильный шепот, дальше и дальше тихое журчанье. И вот уже скрылось виденье.
Занавес открывает сцену. Шумит стародавний почестный пир, гремит раздольный хор. Тяжеловесно веселье новгородских именитых людей. Осушающие чару вина за единый дых, простодушно-хвастливые богатыри без богатырского подвига, они напоминают массивные, округленные веками гранитные валуны, полузарывшиеся в землю озерного края. Что стронет их с места? Что нарушит их неподвижный покой?
Кабы была у меня золота казна, Кабы была дружинушка хоробрая, — Я не сидел бы сиднем в Новегороде, Не стал бы жить по старине, по пошлине, Не пировал бы день и ночь, не бражничал…На сцене среди разнохарактерной, оживленной толпы, пирующей за широкими столами, — молодой гусляр. Распевный говор его свободно переходит в песню, и мерный плеск морских валов, возникающий в оркестре, дает живой образ заветной мечте Садко:
Пробегали б мои бусы[16] корабли, Объезжали б моря, моря синие. Погулял бы в странах я неслыханных, Насмотрелся б чудес я невиданных… По далеким морям, по раздолью земли Пронеслася бы слава Новгорода! А и вы бы тогда, гости знатные, За то во пояс мне поклонилися.А ведь гусляр этот — плоть от плоти пирующих новгородцев! В его песне их горделивая сила, их наивная похвальба слышится! Но песня его летит, как птица, и зовет в манящее приволье, где гуляют ветры и плещут валы.
Восторженно встречает зал начало второй картины. Художник в самом деле отличился. В сизой дымке неясно светится Ильмень-озеро. Чуть колышется тростник, смутно чернеют прибрежные кусты, могучие дубы широко раскинули ветви. Летняя ночь все одела благодатным покровом. Но тоскует присевший на камень гусляр: осмеяли, обидели его именитые купцы, поглумились над ним скоморохи. Из неприветливого города потянуло его на берег просторного Ильменя… Пробежал в арфах мелодичный звонкий ветерок, разошлись белесые полосы тумана, цепляясь за кусты, шире открывая озерный простор. А музыка все таинственнее, все значительнее, точно близится великое событие.
Ой ты, темная дубравушка! Расступись, дай мне дороженьку… Людям стали уж ненадобны Мои гусельки яровчаты.И на заунывную песню откликается родная гусляру стихия природы. По озерной глади скользнула лебединая стая, мгновенно обернувшаяся вереницей девушек. Всех краше, всех приветнее вышла на берег Морская царевна, ласковая Волхова. Жемчуг и гибкие водоросли вплетены в косы, по плечам и груди струится мерцающий зеленью наряд, нежные руки еще хранят тайну лебединой гибкости. С первыми же кристально чистыми звуками, вылетающими из ее груди, странное чувство овладевает слушателями: на сцене не артистка, на сцене — живая царевна Волхова.
Светят росою медвяною косы твои, —поет Садко, не сводя с Волховы восхищенных глаз.
Звончаты струны, искусны персты у тебя… —вторит царевна. Мелодия любовного объяснения покачивается, как ладья на волне, веет от нее ароматом медуницы и кашки, и сладко кружится голова…
Летняя ночь коротка. Идет к концу таинственное свиданье. Похолодели краски, брезжит свет.
Дарю тебе я на прощанье Три рыбки — перья золотые. Закинешь сеть, поймаешь их. Богат ты будешь и счастлив, Объедешь синие моря, Увидишь дальние края. А я, царевна Волхова, Подруга вещая твоя, Тебя я стану поджидать… Люби меня, будь верен мне, Придет пора — и свидимся…—звенит хрустальный голос Морской царевны, и в ее странной, похожей на заклинание песне настороженный слух ловит отзвук немолчной песни океана. Вот сейчас обернется Волхова снова белым лебедем. Конец ночи и конец ночному очарованию…
Бурно вздымаются волны в Ильмень-озере, дико звучат тревожные голоса в оркестре. Многоликая стихия природы являет человеку иную свою сторону. Грозный Царь морской скликает дочерей…
В антракте автор прошел за кулисы. На вопрос Мамонтова, как он находит спектакль, композитор ответил честно:
— У меня много замечаний, особенно по части хора и оркестра. Но есть нечто более важное, чем отделанность деталей. Мне нравится.
Прежде чем Савва Иванович успел вымолвить словечко, их окружили тесным кольцом артисты.
— Благодарю, — сказал композитор и поклонился.
— Вас особенно, — он крепко пожал руку Секар-Рожанскому, исполнителю роли Садко.
Чей-то взгляд заставил его обернуться. Перед ним была Волхова, с робким вопросом в чуть косящих глазах, с неуловимой русалочьей улыбкой. Композитор хотел сказать, что счастлив, что впервые в жизни встретил идеальное воплощение своего замысла, что у него в ушах все еще звучит ее удивительный голос. Но кругом стояли люди. Рабочие быстро и сноровисто тюкали деревянными молотками, устанавливая задник.
— Надежда Ивановна Забела, — раздался негромкий голос, и Волхова, все так же робко глядя ему в глаза, протянула руку. — Я училась в Петербургской консерватории. У Ирецкой.
— Да, да. Припоминаю…
— Мой муж, Михаил Александрович Врубель. Ваш горячий поклонник.
— Очень рад. — Корсаков сжал руку молодому художнику.
— И я очень рад.
Наступило короткое молчание.
— Простите. Мне пора. Поете вы превосходно. Вполне хорошо, — глуховато выговорил композитор и скрылся. Он не помнил, чтобы когда-либо так волновался.
Четвертая картина — на новгородской пристани — ошеломила мощью и красотой. Великолепны были декорации и костюмы. Густая киноварь кораблей на кубовой синеве неба, буйная красочность панев, сарафанов, кафтанов и причудливых головных уборов нигде не переходила в пестроту: Коровин задумал их в одной радостной гамме.
На этом бурном цветовом фоне победа гусляра над убогим здравым смыслом новгородских богатеев прозвучала вдохновенно. Голос Волховы, долетевший до Садко из прозрачной озерной глубины, был исполнен необыкновенной прелести. Зал притих, охваченный почти благоговейным чувством.
Властно, ни на кого не глядя, Варяжский гость начинает рассказ:
О скалы грозные дробятся с ревом волны…Могучий викинг возвещает о людях суровой северной страны, об их угрюмой отваге. Холодное, бурливое море гневно бьется в оркестре, орошая серые утесы бессильными брызгами.
Шаляпин, браво! Браво, браво, Шаляпин! — прокатывается по театру.
И снова глубокая тишина. От музыки повеяло теплом. Лениво качнулась лазурная ширь южного моря.
Не счесть алмазов в каменных пещерах… —разливается сладостная песня Индийского гостя. Гордая мечта Садко близится к осуществлению. Она овладела воображением новгородцев, подняла новгородский люд на подвиг: в далекое плавание уходит Садко с вольной дружиной. Готовы корабли, подняты паруса.
Высота ли, высота поднебесная, —запевает бесстрашный гусляр. Песню подхватывает дружина. Паруса наполняются ветром, лучи заходящего солнца озаряют их. Занавес медленно опускается. Гремит торжественный хор:
Высота ли, высота поднебесная, Глубота, глубота — окиан-море, Широко раздолье по всей земле…Двенадцать лет плавал по морям Садко, наконец потребовал его к себе Царь морской, женит его на любимой дочери, царевне Волхове. Вместе с новгородским гусляром проникает зритель в сказочное подводное царство. Струятся, переливаются хрустальные стены лазоревого терема, мерцают, светятся одежды его удивительных обитателей. Сыграли свадьбу, пируют пир. Взялся за гусли молодой новгородец. Все быстрее, стремительнее движенье. От неистового пляса подводных чудищ вздымается буря, словно фантазия Садко вызвала к жизни силы, с которыми сама не может справиться. И пришел неподобному, гибельному для людей веселью конец. Уходит навсегда в темень темную подводное царство. Волхове и Садко путь в Новгород — туда понесет их свадебный поезд, помчатся они в раковине, запряженной касатками и лебедями. Рокочут в оркестре быстрые волны, рассекает прозрачную толщу вод праздничный поезд, и долетают из сгустившейся темноты полные счастья и неги голоса новобрачных…
Сказка кончается там же, где начиналась, — на берегу Ильмень-озера. В предрассветном сумраке можно различить фигуру спящего Садко. Не сновидением ли гусляра было все, что с ним случилось? Не привиделась ли ему вещая морская дева? Нет, мы все еще в царстве сказки. Вот и Волхова склоняется над спящим, баюкая своего дружка нежной, невыразимо грустной колыбельной:
Сон по бережку ходил, Дрема по лугу… Баю-бай, баю-бай!Не бывать Волхове счастливой женой гусляра, не бывать счастливой матерью. Первую свою и последнюю колыбельную поет она на раннем рассвете, навсегда прощаясь с Садко.
В ее пении слились русалочья прелесть и человеческое тепло, любовь и печаль. Таинственный ритм бегущей волны проступает даже в ласковом «баю-бай», сообщая ему странный колдовской оттенок. Голос крепнет, властная сила появляется в нем. Не скорбной жертвой — гордой девой, ведающей судьбу и вольно отдающейся великому предназначенью, принимает она свой жребий. Снова, как некогда, ее песня становится похожей на заклинанье, и снова слышится в ней отзвук немолчной песни океана:
Заря взошла на небеса… Будь славен и счастлив. Садко! А я, царевна Волхова, Подруга вещая твоя, Туманом легким растекусь И быстрой речкой обернусь…И Волховы нет. Только алый утренний туман скользит по лугу да в оркестре расходится, ширится какое-то светлое воздушное движение…
Финал звучен, как и подобает финалу. Ликуют новгородцы, увидевшие с восходом солнца судоходную реку, чудом проложившую за ночь путь через город. Гремит слава певцу Садко и тому, кто повыше его, — Великому Новгороду.
Москвичи с юношеским энтузиазмом вызывают автора и артистов. Бесчисленное множество маленьких лавровых венков, огромные цветочные венки с лентами, бурные, словно от вызова к вызову нарастающие овации и — конец. Гаснет свет, пустеет театр…
За кулисами Кругликов крепко обнимает композитора.
— Ну, Николай Андреевич, вы отомщены!
Произведение, созданное дружными усилиями Римского-Корсакова и мамонтовской оперы, вошло в историю русской культуры. Облеклись живой плотью почерпнутые из родников русского былевого эпоса образы смелого новгородского гусляра и вещей дочери Морского царя. Поднялся на свет громадный пласт народного музыкального и поэтического творчества.
Среди опер Римского-Корсакова «Садко» занял выдающееся место. В нем художник вновь нашел себя. Из темного лабиринта поисков он вышел на свет более зрелым, более мудрым, чем был прежде.
ГЛАВА X. САВВА ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
СПОР ОБ ИСКУССТВЕ
А другой день в том же мамонтовском театре шла утренним спектаклем «Псковитянка» с Шаляпиным в роли Ивана Грозного. Его Варяжский гость был великолепно кинутым на полотно мазком, Грозный — гениальным портретом. Жестокость, нежность, скрывающая себя под личиной шутки, больная подозрительность, сила мысли и отцовская скорбь, то мешаясь, то выступая по отдельности, окрашивали малейший изгиб его голоса и лепили пугающе страшный и странно обаятельный образ. Такого Грозного не знала еще ни русская сцена, ни русская живопись. Художественное наслаждение вырастало здесь во что-то безмерное, почти невыносимое по своей полноте и тяжести. Даже Забела — трогательная, до последней нотки верная своей натуре Ольга, истинная дочь вольнолюбивого и кроткого Пскова — отходила в присутствии Шаляпина куда-то на задний план.
Второго января, в самый день своего семидесятичетырехлетия, приехал Стасов. Он приехал слушать и смотреть «Садко», но были у него еще и другие, тайные, далеко идущие замыслы. Чуть не с поезда раскатился в Долго-Хамовнический переулок, бодро взбежал на второй этаж деревянного дома в глубине двора, вогнал в краску графинюшку Софью Андреевну, крепко расцеловав ее по праву возраста, и прошел прямо к Льву Николаевичу. Открыто любуясь на его побледневшее и осунувшееся после болезни, но бесконечно одушевленное лицо, он о чем-то серьезно толковал с ним и притом, что было совсем на Стасова не похоже, тихо, почти вполголоса. Мысль, давно запавшая ему в голову и не дававшая покоя, близилась к осуществлению. Он даже мысленно подарил эту живо предвкушаемую радость себе ко дню рождения и уже на улице, возвращаясь в гостиницу, все удерживался, чтобы не крикнуть во всеуслышание что-то ликующе-победительное.
Вечером Владимир Васильевич был на «Садко», упивался музыкой, Варяжским гостем и огромным успехом оперы, богатырски аплодировал, высясь в партере величавым монументом на голову выше всех москвичей, вопиявших: «Шаляпин!», «Забела!», «Секар!», «Римский-Корсаков!», «Римский-Корсаков!» и снова «Шаляпин!», «Шаляпин!», «Шаляпин!» А на другой день, ближе к вечеру, кое о чем келейно договорившись с Корсаковым и поборов его слабое сопротивление, вновь отправился в Долго-Хамовнический.
К девяти часам, после званого обеда у директора консерватории Сафонова, легкие санки примчали по глубоким московским снегам к Толстому Николая Андреевича и Надежду Николаевну. Сбывалось тайное горячее желание Стасова. Он примолк и блаженно, с доброй фамильярностью оглядывал Толстого в его рабочей блузе и сапогах, маленького, кряжистого, с огоньками в серых колючих глазах, и высокого серьезного Римского-Корсакова в длинном старомодном сюртуке. Разговор постепенно наладился. Нашлись общие знакомые, Николай Андреевич вспомнил занятный случай из времен заокеанского плавания, Лев Николаевич оживился и отменно рассказал о жизни в Башкирии, где он лечился кумысом от чахотки. У слушателей даже на языке появился кисловатый вкус кумыса, и словно дохнуло в лицо жарким степным ветром. Посмотреть со стороны — никто бы не догадался, что за столом сидят величайший русский писатель с величайшим из ныне живущих русских композиторов. Просто пьют кофе и дружелюбно разговаривают обо всем, а больше — ни о чем, славные, вполне свойские люди. Вон у Льва Николаевича после кофе щеки порозовели. Софья Андреевна потчует гостей печеньем.
А между тем все это было не более как тонкая корочка на неостывшем потоке лавы. Всего несколько дней, как вышел московский журнал с началом большой статьи Льва Николаевича, спешные поправки вносилась в последние, пошедшие в набор главы, и мысль автора не умела и не хотела покинуть мучившую его тему. «Что такое искусство?» — сурово спрашивал Толстой самим названием статьи и, яростно откидывая все, что ему казалось пустым и ложным, уверенный, что истина у него в руках, что она проста и самоочевидна, обрушивал удар разом на пошлые понятия об искусстве так называемого «образованного общества», такие же лицемерные, как породивший их общественный порядок, и на здравые художественные идеи и бесценные ценности, рожденные в борьбе с этим порядком, отразившие вековое художественное развитие человечества. Толстой отказал в своем признании, в частности, почти всей музыке, начиная с Бетховена.
Идиллия кончилась, когда встали из-за стола. Ненароком затронутая тема «искусство» мгновенно расширилась, заполнила все пространство разговора и, как грозная туча, нависла над участниками, сверкая еще далекими, но близящимися молниями, погромыхивая бедой и гневом. Изменился ход времени, лихорадочно ускорившись и получив черты едва ли не стихийной катастрофы. Двадцать с небольшим лет назад Лев Толстой объявил Чайковскому, что превозносимый всеми Бетховен не что иное, как бездарность, и Петр Ильич, растерянно и виновато улыбаясь, начал объяснять бесстрашному собеседнику, что тот не совсем прав. До конца жизни Чайковский не мог себе простить проявленного им тогда слабодушия.
Теперь с великолепной, веселой и яростной прямотой, сияя восторгом первого открытия, так что нельзя было не любоваться им, даже очень сердясь на него, Лев Николаевич заявил, что величайшей бедой искусства является красота, дурацкое стремление услаждать зрение и слух. Что музыка, не понятная неграмотному мужику, уже не искусство, не нужна, вредна, отвратительна, позорна. Что Вагнер, на опере которого он прошлой весной не мог высидеть более одного акта, — шарлатан, а его поклонники просто лгут из боязни прослыть отсталыми.
Корсаков, удивленный и раздосадованный, пробовал ссылаться на «Войну и мир», сочинение тоже мужику не доступное, но исполненное красоты и поднимающее своего читателя, однако встретил жестокий отпор. «Война и мир» и «Анна Каренина» были отвергнуты безо всякого снисхождения. Оказалось, что Толстой глубоко презирает себя за эти романы, а также за свое непреодолимое пристрастие к музыке Шопена. «Ну, а я так страшно счастлив, — сердито крикнул Корсаков, — что не только Шопена, но и Бетховена боготворю!» Владимир Васильевич ни жив ни мертв следил за ходом спора, изредка пытаясь вставить умиротворяющее слово. Куда там! Лев Николаевич горячился, даже за руки хватал гостя, требуя внимания и перебивая. А Николай Андреевич не уступал. Речь шла о слишком для него дорогом и важном. Изложение правильных положений, даже увлекательное и заразительно действующее на чувство, еще не составляет искусства. Нет искусства без поэзии, воображения, короче говоря, без красоты. И не вровень с читателем или слушателем должно оно становиться, а быть выше его и именно потому возвышать его.
Стасов, побледнев, поднялся и заторопился уходить. Грозовая туча надвинулась вплотную, молнии сверкали поминутно. Софья Андреевна с худо сдерживаемым отчаянием смотрела на мужа. Надежда Николаевна, не принимая прямого участия в схватке, радовалась прямым и ясным ответам Николая Андреевича, разделяла его волнение и негодование.
Уже был час ночи, когда Корсаковы вышли в переднюю. На сожаления Надежды Николаевны, что они утомили и обеспокоили Льва Николаевича, непреклонный и все еще разгневанный хозяин ответил неожиданно: «Полноте, мне было очень интересно сегодня лицом к лицу увидеть мрак». Воплощение мрака, Николай Андреевич, в этот миг с покорностью судьбе надевал огромную, для него слишком просторную стасовскую шубу: Владимир Васильевич в своем поспешном отступлении перепутал шубы.
Недовольный собой, вернулся Толстой в кабинет. Он молчал, медленно успокаиваясь и стихая. Потом лег. Наутро в дневнике появилась новая запись: «Нынче уже четвертое. Мне немного лучше. Хочется работать. Вчера Стасов и Р., кофе, глупый разговор об искусстве. Когда я буду исполнять то, что много баить — не подобаить?»
МАМОНТОВЦЫ В ПЕТЕРБУРГЕ
От снегов и крепкого московского морозца — в петербургскую студеную слякоть. От шумных и веселых сборищ, от талантливой мамонтовской бестолковщины — в размеренный консерваторский, вицмундирно-музыкальный, казенно-художественный быт. Словно и не было поездки. Однако не совсем так. После «Садко» тлеет в груди какой-то уголек. Вот бы летние романсы послушать в исполнении Забелы! Должно получиться. Хоть «Не ветер, вея с высоты» или «Редеет облаков летучая гряда»… Надо писать новую оперу, где раздолье было бы пению и оркестр не выходил бы на главное место. Есть еще одна искорка в памяти: Грозный. Работу, пожалуй, следует начать с давно, еще с 1877 году, написанного, но в оперу в ее окончательном виде невключенного пролога к «Псковитянке». А потом — «Царская невеста» того же Мея.
Вести из Москвы приходили пестрые. Сергей Иванович Танеев три раза кряду был на «Садко» и назвал его в письме к Николаю Андреевичу «чудным произведением», посетовав, однако, на возрастающие от раза к разу неурядицы в исполнении. Затем прилетела ошеломляющая новость: после очередного спектакля «Садко» Солодовниковский театр поздней ночью загорелся и сгорел. Оперная труппа перешла в маленький и неудобный театр на Никитской. Здесь в конце месяца показали публике торопливо, наспех разученную «Майскую ночь» с поэтической Забелой — Панночкой и Шаляпиным — Головой.
В середине февраля, как раз когда что-то начало образовываться с прологом к «Псковитянке» — одноактной «Верой Шелогой», — на Загородный проспект сверх ожиданий явился самолично Савва Мамонтов. После неизбежных московских объятий и лобызаний Савва объявил, что послезавтра в Петербург приезжает его труппа, спектакли будут в консерваторском зале (разрешение получено, афиши заказаны), и хорошо бы открыть гастроли оперой «Садко» под управлением автора.
С двадцатого февраля в жизни Николая Андреевича началось нечто небывалое. «Садко» он, правда, не дирижировал, но за считанные часы репетиций подтянул и хор и оркестр, выровнял звучность, разучил трудные места, выправил оттенки, показал правильные темпы. Несмотря на то, что Шаляпин в первом спектакле не участвовал, успех был огромный. Музыкальный Петербург понял, чего он лишился по милости хозяев Мариинской сцены. Скоро оказалось, что «Садко» — настоящий гвоздь сезона. Ни одна из привезенных Мамонтовым опер не привлекала столько публики. Даже притягательная новинка — вагнеровский цикл с немецкими артистами, перед которыми гостеприимно распахнул двери императорский театр, — не могла ослабить успех «Садко».
За «Садко» — «Псковитянка» с Шаляпиным. Театр неполон, но успех подавляющий. Стасов откликнулся громовой статьей «Радость безмерная», воздав исполнителю роли Грозного заслуженную хвалу. За «Псковитянкой» пришел черед «Снегурочки».
Николай Андреевич, по собственным словам, дневал и ночевал в опере, даже консерваторские занятия, сколько было возможно, забросил. Кажется, никогда и нигде еще не чувствовал он себя так хорошо и свободно, как с мамонтовцами. Никто не понимал его так, как мгновенно, с полуслова понимали Шаляпин. Забела, Секар-Рожанский, дирижер Эспозито, Врубель, неразлучные Серов и Коровин — «Коров и Серовин», как шутливо называл их Савва Иванович, благодушно, а бывало, и властно, чутко, а то и норовисто правивший своим суматошным оперным царством. На мудрого и благостного царя Берендея он был мало похож. Но кто бы мог подумать, что черты царя-философа из земли берендеев нашлись в самом Римском-Корсакове? И нашел их Михаил Александрович Врубель. Слушая, как Корсаков разучивает с Надеждой Ивановной партию Снегурочки, наслаждаясь простыми, ясными указаниями композитора, вдруг по-новому освещавшими артистке задачу или музыкальный смысл эпизода, Врубель нет-нет да и чертил что-то мягким карандашом на листе бумаги. Минутная задумчивость Николая Андреевича, касавшегося на какое-то мгновение бороды длинными худыми пальцами, его крупные черты, дышавшие сейчас умиротворенностью и лаской, оставались жить в лаконичном узоре зарисовки, своего рода стенограмме. Придет время, художник расшифрует ее, и образ мудрого наставника явится в ином обличье, укрытый старинным цветным плащом, в высокой шапке киевских или новгородских князей, с посохом в руке. И в майолике «Царь Берендей» никто не угадает сурового петербургского композитора. Разве что сам Врубель расскажет.
Чудо, мелькнувшее в Москве, на спектакле «Садко», повторилось. Жила на свете певица, у которой в голосе, в облике было все, о чем только мог мечтать Римский-Корсаков. То самое «лирическо-фиоритурно-драматическое» сопрано, которое было необходимо для Волховы и которого, строго говоря, не бывает, почему в письме к Кругликову он в свое время и снабдил это определение двумя вопросительными и двумя восклицательными знаками. Та артистка, которая была поэтична и невыразимо трогательна в реальной роли Ольги и человечна в сказочных образах Снегурочки, Панночки, Волховы. А уж музыкальна! Она была так близорука, что не видела со сцены палочку дирижера, но вступала безошибочно. Ведь она вся пела в это время, и музыка, как кровь, бежала по ее жилам.
Сменялись репетиции, спевки, спектакли, дружеские беседы с Врубелем, внимательно слушавшим композитора, деловые встречи с Мамонтовым, как всегда веселым и энергичным. Впервые Корсаков чувствовал себя в театре не чужаком, не просителем, которого могут третировать каждый по-своему: Направник, директор, костюмер, — а участником общего дела. Его композиторский дар, его опыт, знания, художественное чутье были нужны, его взыскательность полезна и даже необходима при общей в театре непривычке к строгому порядку. Это был теперь его театр, которому он с радостью отдавал силы, для которого стоило сочинять.
Его театр? Какое непростительное заблуждение! При первом подходящем случае ему показали, кто в театре хозяин и кто гость. Заботливо взлелеянная Забелой роль Снегурочки была внезапно передана молоденькой и совсем еще неопытной певице.
— Как же так? — спрашивал Римский-Корсаков. — Ведь я с Забелой прошел всю партию и могу заверить, что она поет ее поистине прелестно.
— Что вы, Николай Андреевич, какая же она Снегурочка? — суховато отвечал Мамонтов. — Ей девочка Снегурочка и не по возрасту и не по фигуре. Пасхалова худышка, молода и притом очень хороша собой. Как их можно равнять? У Надежды Ивановны просто голова вскружилась от похвал, а то бы она и не вздумала просить эту роль.
— Вы меня, видно, не поняли, — молвил Корсаков. — Это я прошу вас дать Забеле роль Снегурочки на первом спектакле. А дальше что ж, пусть и Пасхалова себя испытает. Поет она — как вам сказать? — довольно мило.
Савва Иванович медленно поднялся с кресла. Глаза, скулы, челюсти его словно отяжелели, налились чугуном.
— Я сердечно вам признателен, Николай Андреевич, за попечение. Сердечно. Но решать уж позвольте мне. Не обессудьте.
Дирижировать вторым спектаклем Корсаков отказался. «С Саввой Ивановичем был разговор по душе, — писал композитор Кругликову. — Я ему высказал, что у него в опере музыка не на первом плане, а у меня на первом… Мы расстались хорошими знакомыми, но делать мне у него в опере нечего. Согласитесь сами… Я во всей этой истории наделал непредвиденных бестактностей, ибо вел дело в простоте душевной, а встретился с самолюбием самодура».
Девятнадцатого апреля спектаклем «Садко» закрылись гастроли Московской частной оперы. Жизнь вошла в колею. А все же четыре оперы Римского-Корсакова были на протяжении этих неполных двух месяцев показаны в Петербурге, многократно собирали публику, радовали слушателей. Скучный композитор, ученый музыкант, каким его считали популярные тенора и завсегдатаи абонементных лож Мариинского театра, потрясал в «Псковитянке», смешил в прелестных комических эпизодах «Майской ночи», чаровал «Снегурочкой», выводил в «Садко» на неоглядный простор фантазии. Вместе с его операми взошло весной 1898 года на тускловатое небо театрального Петербурга целое созвездие артистов и художников. Осуществилось праздничное сочетание музыки и живописи, пения и естественной, выразительной игры. Пристрастие Мамонтова к зрительным впечатлениям освежало после унылой казенщины и однообразной роскоши императорской оперной сцены.
ИТОГИ
Для композитора эти недели небывало близкого общения с людьми театра, недели искреннего увлечения и досадного разочарования остались навсегда памятны и принесли богатые плоды. А ближайшим результатом было то, что вопреки всему досадному и мелкому существовал отныне оперный театр, для которого ему стоило писать. Существовал театр, готовый с усердием ставить любую новую оперу Римского-Корсакова. Правда, неровен его артистический состав, слаб оркестр, еще того слабее хор, но есть в нем первоклассные исполнители, сильна художественно-декоративная часть и во главе стоит хоть и взбалмошный любитель, да не равнодушный чиновник.
Ближайшей «корсаковской» постановкой Частной русской оперы был «Моцарт и Сальери». Партию Сальери пел Шаляпин. Он прошел ее с Сергеем Васильевичем Рахманиновым, и это сотрудничество двух музыкантов первого ранга было необычайно плодотворным. В галерею оперных образов вошел вылепленный рукой мастера драматический образ художника-преступника, мыслящего и терзаемого совестью убийцы. Появилась на московской сцене «Боярыня Вера Шелога», шедшая в один вечер с «Псковитянкой». В то время как на императорской сцене создания Корсакова и редактированные им оперы Мусоргского почти не появлялись или появлялись редкими и нежеланными гостями, Московская частная опера ими и держалась и славилась. «Снегурочка», «Годунов», «Хованщина», «Псковитянка», «Садко» входили в ее основной репертуар.
Лето 1898 года композитор, все в той же излюбленной Вечаше, написал новую оперу — «Царскую невесту» по драме Мея. Первое представление состоялось в Москве, в Частной опере, в октябре 1899 года. За это время много воды утекло. Покинул ее многим обязанный Мамонтову Константин Коровин. Ушел артист, которого Савва любил, наверно, сильнее и восторженнее всего, — Шаляпин. А главное, ко дню постановки «Царской невесты» мамонтовская опера перестала быть мамонтовской: Савва Иванович был арестован по нелепому обвинению в растрате и сидел в тюрьме. Суд оправдал его. Но тот, кто, подобно флорентинскому герцогу XV века Лоренцо, по прозвищу Великолепный, стал признанным другом и покровителем художников, московский первой гильдии Купец Савва Иванович Мамонтов, строитель Ярославской и Северо-Донецкой железных дорог, владетель усадьбы «Абрамцево» и душа Абрамцевского кружка, создатель Московской частной оперы и прочая, и прочая, и прочая, был бесповоротно разорен. От всего наследственного и благоприобретенного осталась у него гончарная мастерская у Бутырской заставы.
Здесь, в пасхальное воскресенье 1900 года, когда он, освобожденный из тюрьмы, но еще под строгим домашним арестом, ожидал суда, стыдился людей и то с мукой, то с гордостью вспоминал недавнее прошлое, застало Мамонтова письмо группы художников. Прокурор не разрешил передать это письмо, но кто-то из семьи прочел его Савве Ивановичу вслух. «Все мы, твои друзья, помня светлые прошлые времена, когда нам жилось так дружно, сплоченно и радостно в художественной атмосфере приветливого, родного круга твоей семьи, близ тебя, — все мы в эти тяжкие дни твоей невзгоды хотим хоть чем-нибудь выразить тебе наше участие, — писали художники. — Твоя чуткая художественная душа всегда отзывалась на наши творческие порывы… Ты как прирожденный артист именно сцены начал на ней создавать новый мир истинно прекрасного… После «Снегурочки», «Садко», «Царя Грозного»[17], «Орфея» и других всем эстетически чутким людям уже трудно стало переносить шаблонные чудеса бутафорного искусства… И роль твоя для нашей русской сцены является неоспоримо общественной и должна быть закреплена за тобою исторически. Мы, художники, для которых без высокого искусства нет жизни, провозглашаем тебе честь и славу за все хорошее, внесенное тобою в родное искусство, и крепко жмем тебе руку… Твои друзья».
Среди подписавшихся Поленов, Репин, Антокольский, Суриков, Левитан, В. и А. Васнецовы, Серов, Врубель, Коровин. Замыкает этот ряд художников подпись Н. А. Римского-Корсакова.
ГЛАВА XI. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА
ДОВОЛЬНО «КАМЕННОГО ГОСТЯ»!
Кончается XIX век, век великих противоречий, которые померкнут только перед лицом еще более резких противоречий следующего столетия. Век глубоких, подземным гулом отзывающихся общественных сдвигов. Колеблются троны, тысячами ходов изгрызли их деревянные опоры неутомимые древоточцы, но снаружи все то же великолепие, резьба и щедрая позолота. Та же невыносимая тяжесть лежит на плечах и склоненных спинах российских тружеников, та же духота душит правдоискателей, та же клейкая пелена пошлости окутывает сонные будни прозябающих. И над всем — в сизых облаках кадильного дыма благочестивейший, самодержавнейший.
Кончается XIX век. Век Бетховена и Глинки, Вагнера и Мусоргского. Век безвременно замолкших певцов и других, упорно идущих тернистой дорогой труда и чести.
Римский-Корсаков проводил его двумя операми: реально-бытовой «Царской невестой» и лубочной, почти балаганной «Сказкой о царе Салтане». Автор относился к ним пристрастно: не очень любил «Салтана» и сильно, постоянной и ревнивой любовью любил «Царскую невесту».
Для Николая Андреевича эта опера стала чем-то вроде знамени, под которое он надеялся собрать музыкальных единомышленников. Ему давно не по себе становилось от стремительного разлива вагнеризма, провозглашавшего себя единственно современным направлением. А рядом с этим аристократически надменным, хотя после смерти самого Вагнера почти бесплодным, направлением пожинало обильные лавры искусство, куда более доступное толпе театральных зрителей. «Сельская честь» Пьетро Масканьи и «Паяцы» Руджеро Леонкавалло, написанные на сильно драматические, «кровавые» сюжеты из повседневной жизни, трактовавшие их грубовато, но бойко и талантливо, прямо били па элементарную отзывчивость слушателя. После крупно посоленных эффектов, после задыхающегося говорка, рыданий и трагических выкриков вперемежку с обаятельно чувственной итальянской кантиленой всякая оперная музыка могла показаться пресной и вялой. Даже на исполнении опер Чайковского сказалось это огрубление сценических и вокальных приемов. Многочисленные Германы вдохновенно шептали «Прости, небесное созданье» и устрашающе катались по пыльному театральному полу в сцене с призраком. А на музыкальном горизонте уже обозначались новые устремления: туманный символизм, стилизация, сверхсложность гармонии, сверхбедность мелодии, неряшливость голосоведения… Обидно было думать, что истоки этого не совсем еще понятного направления, декадентства, что ли, уходили в музыку Берлиоза и Листа, в поразительно талантливые, хоть и не вооруженные твердой техникой, оперные опыты Даргомыжского и Мусоргского. Именно там начиналось художественное своеволие, оттуда пошли отрывочность, мелкая мелодичность, изобилие диссонансов. Значит, музыке следовало вернуться к Глинке и Моцарту, к прочным классическим основам? Значит, вне этих фундаментальных устоев могут быть только интересные подробности и отдельные приемы, только гармонические и ритмические выходки, а в целом дело неизбежно идет к упадку, к музыкальной чепухе?
Такие мысли, тревожные и невеселые, с особенной силой стали преследовать композитора после «Моцарта и Сальери», где он с любовью искал примирения между свободной от общепринятых оперных форм поздней манерой Даргомыжского и логикой связного музыкального развития. Усовершенствовав свою технику речитатива — певучего и выразительного, доказав себе и другим, что вполне может справиться с трудностями, для Даргомыжского непосильными, в то же время убедившись, что дальше идти по этой дороге ему не для чего, Римский-Корсаков круто повернул к совсем иной задаче. «Довольно «Каменного гостя»! Надо и музыки», — писал он в разгар работы над новой оперой, подтрунивая над собой и над запорошенными пылью истории святынями конца шестидесятых годов. «Музыки» — то есть пения во всех видах, свободного и широкого, не заглушаемого и не заслоняемого оркестром, сольного и ансамблевого, арий, дуэтов, трио, квартетов, квинтетов и даже секстета с хором. «Довольно «Каменного гостя»!» значило вернуться к осмеянной вагнеристами и отечественными передовыми критиками системе законченных, округленных оперных «номеров», к традиционному и условному, по захватывающему оперному драматизму, основанному на замысловатой интриге и неожиданных поворотах сюжета. Короче говоря, следовало поставить на самом разливе реки, подмывающей устои оперного искусства, крепкую плотину. Такой плотиной должна была стать «Царская невеста».
ТЕМНОЕ ЦАРСТВО
Благоприятно сказался на новой опере короткий, но плодотворный период общения композитора с мамонтовской труппой во время ее гастролей в Петербурге. Петь в «Царской невесте» оказалось для артистов не только трудом, но и прямым удовольствием — так удобно ложилась мелодия на голос, так рельефно выделялись отдельные голоса в трудных ансамблях. Это значило, что Корсаков овладел техникой вокального письма, ранее не вполне ему дававшейся и даже не всем композиторам до конца доступной.
Но еще больше нового было в самом строе оперы. Напрасно Кюи написал весной 1898 года, как раз когда Римский-Корсаков обдумывал будущую оперу: «Изображением сильных драматических, потрясающих сцен, изображением глубокой страсти, нравственных мучений он не увлекается». Глубокая страсть, ломающая жизнь человека, как сухую соломину, нравственные мучения неукротимых, сильных натур, шаг за шагом приведенных к гибели болезненной логикой этой страсти, составили неотъемлемую часть мира «Царской невесты». Рядом с этим миром, от которого на слушателя пахнуло жарко натопленной печью и дубленым полушубком, выцвели юношески незрелые книжные страсти «Ратклифа» и «Анджело», с любовью взлелеянные Кюи.
Виновники и возбудители драмы — опричник Григорий Грязной, низкий клеветник, убийца, забрызганный кровью своих жертв, и оставленная им Любаша, на все готовая, только бы его вернуть, — развращены, изуродованы смрадным бытом государевой Александровской слободы, куда перенес из крамольной Москвы свое местопребывание Иван Грозный. В ночную пору мирные улицы оглашаются здесь разбойничьей песней пьяной ватаги:
На потеху добры молодцы сбирались… Ретиво свое Сёрдечко потешали. Гои!.. Супротивников конем они давили. Никому-то нет от молодцев защиты. Все их вороги кругом лежат побиты. Такова живет у молодцев расправа, За расправу ль эту до веку им слава!Слава ли? Народ, торопливо скидывающий шапки и боязливо кланяющийся при словах «опричина идет», судом своей совести давно осудил их:
Зовут себя царевыми слугами, А хуже псов!Первые слова робко, вполголоса, на одной ноте, потом — сильнее, потом гневно, во всю мощь — «А хуже псов!»[18].
Гнева хватает ненадолго. Берет страх перед собственной смелостью. И голоса спадают:
Потише вы! Смотрите! Давайте лучше говорить Про царскую про свадьбу…Только какова же будет свадьба в логове кромешников? Какого ждать от нее добра?
Этих эпизодов не было совсем в пьесе Мея, легшей в основу оперы. Они введены И. Ф. Тюменевым, деятельно помогавшим композитору в составлении либретто, введены по прямому поручению Римского-Корсакова. Уже в ходе сочинения текст дорабатывался. Елейно-благородная фраза хора опричников, готовящихся к ночному набегу на вотчину опального боярина, — «Даст господь, послужим нынче, верой-правдою послужим. Безо лжи и без корысти верой-правдою послужим» — была зачеркнута Николаем Андреевичем. Вместо нее явился откровенно разбойничий порыв:
Точно кречеты лихие, Мы на вотчину нагрянем, И ни спуска, ни пощады Никому от нас не будет.У Александровской слободы есть полновластный хозяин. На краткий срок появляется он на сцене, молча вглядывается в Марфу, и кровь стынет в жилах у девушки от этого неподвижного взгляда, хоть и не угадала, бедная, в знатном всаднике своего будущего жениха, царя и повелителя. В опере царь Иван — лицо без речей. Зато полным голосом говорит о нем оркестр. Гигантская тень Грозного легла через всю оперу. Не раз звучит в «Царской невесте» торжественная «Слава» — своего рода музыкальный символ простодушной народной веры в могучего и мудрого правителя. Всю энергию страдания, всю тоску по патриархальной власти вложил народ в легенду о батюшке-царе, земном боге. Светлым и солнечным рисуется он в величальной песне челядинцев Григория Грязного на пирушке. Еще лучезарнее — в рассказе словоохотливой Домны Сабуровой о «смотрах» девушек, во множестве свезенных со всей России, чтобы перешагнувший за сорок лет сластолюбец, уже схоронивший двух жен (а впереди у него еще пять!) мог выбрать себе невесту по вкусу. Как многие, Домна видит не то, что есть, а что быть должно, не рынок рабынь, а царственную идиллию. О смотрах еще раньше с умилением и восторгом говорили женщины, расходясь из церкви: «А девок, бают, сорок сороков. Вот тут и выбирай. И выберет небойсь! Не промахнется наш кормилец». В лад этому ведет рассказ и Домна: «Вот, батюшка, впустили нас в хоромы, поставили всех девок в ряд… Ну уж и девки! Нечего сказать: все на подбор, одна другой красивей. И как же все разряжены!.. Что жемчугу на Колтовской одной! Сгодя маленько, ан идут бояре: «Царь, царь идет!» Мы наземь повалились, а как уж встали, видим: царь идет, а с ним царевич. Кругом бояре. Как взглянет государь, что ясный сокол, в хоромах словно посветлело. Вот мимо раз прошел, другой и третий. С Колтовской шутить изволил, что жемчуг, чай, ей руки оттянул… Расспрашивал, а сам все улыбался…»
Улыбался! Не гневался, не казнил, не рвал на части! Ну, как тут не умилиться на кормильца? И ликующая, звонкая, точно красным сукном и червонным золотом оправленная, катится в оркестре «Слава».
Но дважды обертывается светлая «Слава» своей темной стороной, будто из-под благостного, праздничного лика выглянуло на миг страшное лицо. В первый раз — при встрече царя с Марфой, когда суровый мотив Грозного, сложившийся еще в «Псковитянке» и повторенный в «Шелоге», внезапно проступает сквозь торжественную «Славу» как ее минорный укороченный вариант. В другой раз, теперь вполне отчетливо и безнадежно, с убийственной мощью звучит он в заключении третьего действия. Мерный, бесстрастный басовый речитатив Малюты Скуратова, самого лютого из опричников, возвещает «царское слово», навеки отрывающее Марфу от любимого жениха, разуму и совести вопреки превращающее невесту Ивана Лыкова в царскую невесту. И в оркестре идут, сплетаясь, две темы: тяжелая, грозная на сей раз «Слава» и мрачно-отчужденная, нечеловечески окаменелая — царя Ивана. Всплеском горя замыкает оркестр немую сцену. Композитор особенно дорожил этим эпизодом и, проигрывая «Царскую невесту» Тюменеву, специально обратил внимание своего либреттиста на появление темы Грозного в контрапункте со «Славой».
Следующая картина оперы. Лыкова оклеветал и по приказу царя убил Григорий Грязной. Весть об этом довершает помешательство бедной «царской невесты», сломленной непосильным горем. Гибнет отравившая Марфу проклятым зельем Любаша. Уходит на муки и казнь Грязной, из жестокого, залубеневшего сердца которого страдания Марфы исторгли первое в жизни сознание глубокой, ничем не замолимой вины.
Оперный, картонно-кровавый финал? Посмотрим, что происходит за пределами оперы. Пройдет десять лет, и Грозный «из своих рук» убьет царевича, с которым вместе был на смотрах. Гораздо раньше, через считанные месяцы после смерти Марфы, царь женится на Анне Колтовской, той, которой «жемчуг руки оттянул». Очень скоро разлюбит ее, при живой жене женится на Марье Долгорукой, но наутро после первой же брачной ночи прикажет утопить молодую. Недолго спустя сойдет окончательно со сцены и Колтовская: муж насильно пострижет царицу всея Руси в монахини и сошлет в далекий тихвинский монастырь. Сказания о ее горькой участи слышал Римский-Корсаков еще в детстве, как и старинные церковные напевы, легшие в основу музыкальной темы Грозного.
Рассказывая как-то Ястребцеву о своем отношении к Петру I, Николай Андреевич сказал, что «окончательно его возненавидел за невероятную жестокость к сыну», и добавил: «По-моему, Петр как человек был хуже даже царя Ивана Грозного».
По господину и слуги. Для сильной, но огрубелой и одичавшей натуры Грязного любовь к Марфе — великое несчастье. Она не поднимает, а гнетет душу. Сватался честью — отказано. Нет покоя и не будет, пока желанная не полюбит. Любой ценой. Ценой колдовства или преступления…
Давно ли Малюта Скуратов, помогая своему дружку выкрасть из родительского дома приглянувшуюся Грязному Любашу, наотмашь крестил каширских жителей тяжелым шестопером? Давно ли прилепилась Любаша к своему похитителю всей болью унижения, всей мучительной силой первой страсти, позабыла и стыд, и родную семью, и тихую Каширу? Нет ей теперь ни ласкового слова, ни заботы. Грязному не до нее. Уныло-беспокойная тема, как неотвязная мысль, не оставит его до конца, разнообразно окрашиваясь в зависимости от обстоятельств, вплоть до горестного прощания с Марфой: «Страдалица невинная, прости! Прости меня!»
ДВЕ ДЕВУШКИ
Скорбная эмоция, привносящая нечто человеческое в душу опричника, несравненно полнее раскрыта в музыкальном облике Любаши. Ее песня на разгульной пирушке звучит как предельное выражение отчаяния. Сколько невыплаканных, жгущих грудь слез слилось в темный ручей этой мелодии! Сколько загубленных надежд развеялось, сколько обид вынесено!
Нет в русской опере отчаянья страшнее, чем песня Любаши. Еще из дохристианских верований пришедшая параллель свадьба — смерть обертывается здесь мучительной, язвящей усмешкой:
Снаряжай скорей, матушка родимая. Под венец свое дитятко любимое, Я гневить тебя нынче зарекалася, От сердечного друга отказалася. Расплетай же мне косыньку шелковую, Положи меня на кровать тесовую. Пелену набрось мне на груди белые И скрести под ней руки помертвелые. В головах зажги свечи воску ярова И зови ко мне жениха-то старова. Пусть старик войдет, смотрит да дивуется, На красу ль мою девичью любуется.Не верится, что слова этой песни — высшего, быть может, создания Мея — существовали когда-то отдельно от томительно безнадежной мелодии, какую дал им композитор. Стон, ставший песнью, веками отшлифованное искусство плакальщиц, причитальщиц и воплениц — все сошлось и совокупилось здесь. Песня Любаши могла бы, в сущности, стать музыкальным эпиграфом ко всей опере. Да и сложилась эта мелодия у Римского-Корсакова в числе самых первых мыслей-образов, связанных с «Царской невестой». Только тогда она была задумана для самой невесты, Марфы многострадальной. Однако чем яснее вырисовывалась перед художником даль его оперы, тем очевиднее становилось, что прямое выражение горя не идет к доверчиво-кроткому образу Марфы. Оно спугнет ее мягкое очарование. Так случилось, что. мелодия, предназначенная Марфе, стала песней Любаши. Две драматические сцены — одна с Григорием, после ухода отпировавших пир гостей, другая — на сырой осенней улице, под окном соперницы и на пороге жилья Бомелия, — завершают выразительно наметившийся в песне образ. Образ неукротимо волевой натуры, страшной в отчаянье. Темен и глух был Грязной, не понял он, на краю какой пропасти стала его подруга, какая угроза таится в ее исступленном возгласе: «Не погуби души моей, Григорий!..»
Напев «Снаряжай скорей…» снова возникает в оркестровом интермеццо, сопровождающем выход Любаши во втором действии. Психологическая выразительность оркестровой музыки достигает небывалой выпуклости. Стремительно-быстрые переходы Любаши от горя к надежде и снова к отчаянью, смена оскорбленной женственности и отчаянной решимости — этот вихрь чувств воплощен на уровне, едва ли уступающем прославленным эпизодам «Онегина» и «Пиковой дамы».
Для той же, на чьей судьбе скрестились и страсть удалого опричника, и слепая месть его полюбовницы, и всесокрушающая воля грозного царя, — для царской невесты композитор нашел совсем иные музыкальные краски. Мей видел в Марфе робкую, застенчивую девушку, покорную своему жребию, безотчетно любившую и безропотно склонившую голову под ярмо горя. У Римского-Корсакова с того мгновения, как первоначальная песенная тема отошла к Любаше, музыкальный образ Марфы отделился от своего бытового прототипа. Древние философы сказали бы, что в нем стало меньше элемента земли, больше — огня и воздуха. Оставаясь образом простой русской девушки, он стал чем-то неизмеримо большим — поэтическим воплощением девичества.
Римский-Корсаков говорил, что предпочитает «Царскую невесту» и «Снегурочку» своим другим операм, подчеркивая, что обе они весьма человечны и душевны. Между их образами есть и музыкальное родство. Вспомним пастушеский свирельный напев, предваряющий фразу Марфы: «Целый божий день мы с ним бегали», и самую эту фразу, дышащую безмятежной радостью жизни. Этой мелодии предстоит играть важную роль и в дальнейшем. Как сходно звучит быстрый «флейтовый» пассаж «…Милей Снегурочке твоей, без песен жизнь не в радость ей» из пролога оперы! Как близко к рассказу Марфы нежно-ласковое обращение Снегурочки к Мизгирю «О милый мой, твоя, твоя…» в последней картине! Еще значительнее общность колорита — просветленно-чистого, хрустально-родникового. Он бесплотнее, воздушнее в «Снегурочке», теплее, сочнее в «Царской невесте».
Для музыкальной характеристики существ фантастических, будь то Морская царевна или пери Гюльназар, Корсаков обычно использует особый звукоряд со скользящим мелодическим движением по полутонам (некоторое подобие этого хроматического звукоряда образует завывание ветра в печной трубе). То, что в музыке Марфы среди чисто народных русских попевок временами возникают эти странные последования звуков, еще заметнее уводит ее образ из сферы, в какой живут и дышат остальные действующие лица оперы.
Есть еще одна черта, на этот раз совершенно оригинальная, чуждая и Снегурочке и Волхове: вокруг Марфы бушует разрушительный вихрь страстей, но сама она пребывает в каком-то светлом покое. Даже когда разум Марфы меркнет под тяжестью непосильного горя, ее безумие исполнено кротости и тишины. Она так и остается вечной невестой, поток жизни для нее останавливается навсегда на том поэтическом кануне счастья, который для натур подобного склада значительнее, быть может, самого счастья. Необыкновенно устойчивое благостное состояние духа среди катастроф и бедствий, детская открытость впечатлениям, оттенок восторженного любования природой вызывают в памяти еще один образ, вероятно самый прекрасный из созданных Римским-Корсаковым, — образ девы Февронии из оперы «Сказание о граде Китеже».
Сам композитор с особенной любовью относился к последней картине «Царской невесты». Эта картина «всегда останется наряду с лучшими моими вещами, причем не представляет повторения чего-нибудь прежнего». — писал он жене 18 октября 1900 года. Вершиной последней картины является, вне сомнения, ария Марфы. По сравнению с арией безмятежного счастья из второго действия в этой «арии безумия» почти нет нового музыкального материала. Нет здесь и тех филигранно тонких изменений, какие превратили шаловливый напев Снегурочки пролога в проникнутое негой и мукой признание финальной сцены таяния. Но вторая ария Марфы относится к ее первой, по меткому замечанию Н. Д. Кашкина, как негатив к позитиву: то, что было пением, ушло в оркестр, оркестровые темы стали пением. Весь аромат, вся поэзия доверчивого излияния души остались прежними. Изменилось окружающее. Реальность счастья стала миражем.
Забела-Врубель пела Марфу необыкновенно. Обаятельно-теплый звук голоса, безупречно чистое и отчетливое пианиссимо на верхних нотах, мягкость и высокая простота, с какой она проводила самые трогательные эпизоды своей роли, были незабываемы. Правда, композитор, отметив в своей «Летописи» ее прекрасное пение, нашел все же, что новая партия в общем менее подходила Забеле, чем партия Морской царевны. Но то было через несколько лет, когда, как это не раз у него (и у других мемуаристов) бывало, на первоначальное впечатление налегли дымкой более поздние и менее благоприятные. В те дни, в октябре 1899 года, он, как и все, был растроган и восхищен.
Успех спектакля был грандиозен. Вечер за вечером восторженные москвичи заполняли огромный зал вновь отстроенного Солодовниковского театра. Частная опера, оказавшаяся без денег и на краю гибели после ареста и фактического устранения Мамонтова от театральных дел, была спасена. Создателя прекрасных декораций и костюмов к «Царской невесте», Врубеля, тут же пригласили заведовать художественно-постановочной частью товарищества Частной русской оперы.
Спектакль, чудом миновавший цензурные препоны, получил широкое признание. Вслед за Москвой оперу поставили в Харькове, в Саратове. Весной «Царскую невесту» привезла в Петербург харьковская оперная труппа, затем последовали спектакли в Киеве, Одессе, Нижнем Новгороде и других крупных городах Поволжья, в Ростове-на-Дону, Тифлисе, Перми, Иркутске. В стремительно выросшей за эти годы известности Римского-Корсакова «Царская невеста» сыграла, по-видимому, исключительную роль наряду со «Снегурочкой».
И, однако, в этом торжестве художника таилась своя теневая сторона. Высокую оценку дали опере критики получужие или совсем чужие; своим, даже самым близким, она решительно не понравилась. Демонстративный поворот к старым оперным формам и некоторые действительные слабости «Царской невесты» заслонили ее огромные достоинства от Стасова, Кругликова, Кюи. Совершенно неудачной назвал ее Балакирев. Вежливо промолчали Глазунов и Лядов. С несколько растерянным доброжелательным недоумением встретили оперу молодые друзья композитора.
Не нашла она отклика и в семейном кругу Корсакова. «Во всех газетах хвалят оперу и исполнение, — писал композитор сыну 25 октября 1899 года. — Мама, как ты уже знаешь, уехала в Петербург на другой день после первого представления… «Царская невеста» ей положительно не нравится (она даже готова в ней усмотреть приспособление мое ко вкусам публики, ход вспять и т. п.)… И как бы я сам ни был уверен в ее достоинствах и как бы ее ни превозносили самые развитые и искренние почитатели, у меня остается в глубине души некоторое щемящее чувство…»
ГЛАВА XII. ЦАРЕВНА ЛЕБЕДЬ
Необыкновенная квартира. Переступив порог, забываешь улицу, по которой подъехал к дому, Москву, где находится эта улица, хмурый октябрь и сумрачный год — первый год нового века. Войдя в квартиру Врубелей на Пречистенке, оказываешься в царстве цвета и света. Малиновые, сиреневые, нежно-зеленые, золотистые ткани застилают низкие диваны, свободно свешиваются со стен, укрывают окна. Похоже на пещеру Аладдина или дворец джиннов, вознесенный на льдистую вершину Казбека.
Наряд Забелы дымчат и розов, янтарная брошь светится на груди, большие темно-синие глаза смотрят на дорогого гостя открыто и задушевно. Голос грудной, теплого альтового тембра. Его можно слушать, не слыша слов. Недавно она была Морской царевной, девочкой Снегурочкой, Марфой. Кто она теперь? Кем будет завтра? И что с ней самой будет завтра? Ее руки сиротливо лежат на коленях. Как защитить ее от потерь и несчастий?
Михаил Александрович Врубель, создатель и добрый дух этого искусственного рая, живет какой-то не совсем реальной жизнью. Мгновенно, не думая о средствах, он меняет по настроению все драпировки и наряды. Мгновенно переходит от упоения творчеством к сомнениям и снова к великим надеждам и титаническим задачам. Он знавал Мусоргского, встречался с ним в трактире «Малоярославец», где все, от постоянных посетителей до буфетчика, насвистывали или мурлыкали под нос «Как во городе было во Казани;» и «Селезня». И что-то неуловимо схожее чудится Николаю Андреевичу в этой широкой разбросанности, в началах без концов, в полете воображения, свободно покидающего область возможного и осуществимого. Художник хочет непременно расписать внутри все здание оперного театра — потолки, огромные стены фойе, лестницы. Пусть искусство овладеет вниманием посетителя с самого входа и незаметно поведет его за собой, зачарует, приготовит к восприятию музыки. Мысль прекрасная, думает Корсаков, но несколько фантастическая. Да и где найти мецената, который не был бы вдобавок самодуром?
С подкупающей доверчивостью Врубель делится планами, спрашивает совета. Еще в мае 1898 года он писал Римскому-Корсакову, что благодаря его доброму влиянию решил посвятить себя исключительно русскому сказочному роду. Время показало, что то не был мимолетный порыв. С той памятной зимы он творит под непрестанным воздействием оперной музыки Корсакова. В ее созвучиях, в безупречных по чистоте сопоставлениях оркестровых тембров, во всем ее складе он нашел нечто важное для себя. «Садко» он слушал около девяноста раз. «Салтана» Врубель полюбил глубоко. Совсем иное, чем в «Садко», море этой оперы дало ему перламутровые краски для декораций, для его акварельных «Жемчужин».
Если собрать картины Врубеля, в которых преломились сюжеты и музыка корсаковских опер, эскизы к их постановкам, майоликовые фигуры с плавно скользящими объемами и подвижными отблесками мерцающей поливы, то можно составить изумительный по разнообразию и красоте «музыкальный зал».
На почетной стене зала поместили бы большой холст с изображением девушки-птицы. Холодный ветер одел зыбью синее море близ скалистого острова Буяна. Дело к ночи. Меркнет узкая полоска зари на горизонте, но последние отблески окрасили розовым светом снежно-голубое лебяжье оперенье, заиграли на жемчугах и самоцветных камнях венца, на серебряном шитье подвенечной фаты, осветили хрупкие очертания девичьей руки и огромные печальные глаза сказочной царевны. Она похожа на Забелу и странно не похожа на нее — не ее глаза, не ее рот. От картины веет щемящим обаянием красоты — беззащитной, зовущей, тревожащей и недоступной. В музыке «Салтана» это настроение не сразу почувствуешь. Оно присутствует в опере, как и в сказке Пушкина, лишь как возможность; так мысль о предсмертной лебединой песне возникает в представлении о гордой лебединой красе.
21 октября 1900 года москвичи услышали и увидели оперу «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди». Могучего богатыря пел Секар-Рожанский, прекрасную царевну — Забела. Декорации и костюмы сказочной красоты создал Врубель. Спектакль стал праздником русского искусства. Пушкинская сказка, со вкусом и остроумием прилаженная к требованиям сцены Вельским, заблистала новыми красками. Появились и заняли значительное место, особенно в первом действии, не предусмотренные Пушкиным народные хоры, скоморохи, Старый дед. Царевна Лебедь в конце пьесы выступила, как шутил композитор, с «лекцией по эстетике» и призналась, продолжая за автора спор со Львом Толстым, что она не что иное, как олицетворение поэзии и красоты, и «сошла с небес для живых чудес». В год пушкинского юбилея (1899) Корсаков положил к подножию памятника поэту благоуханный венок, в котором цветы добродушного юмора переплетались с полынью народной мудрости. И над всем царил светлый пушкинский колорит.
В сущности, в опере еще не бывало ничего подобного. Словно по щучьему велению возник народный масленичный театр с яркими масками. Вот толстый и глупый старый царь. Вот его молодая жена — невинная жертва людской злобы — и коварные завистницы-сестры. А вот преславный и премогучий царевич, впрочем, шагу неспособный ступить без помощи царевны Лебедь. Дивно прекрасен благоутешный город Леденец с его чудесами, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Разве что музыкой да врубелевской волшебной кистью. Вот зазывалы. Они трубят в трубы перед каждой картиной оперы, приглашая честной народ посмотреть представление. Чудный, пестро раскрашенный, как карусельная лошадка, мир — детям на загляденье, взрослым на умное веселье, а кому и на благое размышление.
Если присмотреться, окажется, что в этом мирке, как в пузатой округлости медного самовара или выпуклой пленке мыльного пузыря, забавно, шутейно отражен целый мир русской жизни, не столь уж далекий от мира Александровской слободы. Чем не «царская невеста» горемычная Милитриса, взятая за старого царя и кинутая с младенцем «в бездну вод»? Чем уступят Бомелию сватья Бабариха и злые сестрицы-клеветницы? И разве не пародией на «царское слово», принесенное Малютой в дом Собакиных, звучит унисонное, по складам чтение-выпевание дьяками подложного указа, обрекающего на смерть царицу и Гвидона? А как живо и знакомо робкое заступничество народа, мгновенно пресекаемое окриком Бабарихи:
Аль вы все с ума сошли? Бунт-крамолу завели?.. Вот пождите, царь вернется, На орехи всем придется!Ответа ей не приходится долго ждать:
Что ж, мы, право, ничего, Мы ж старались для него…Зато звуки истинного горя и обездоленности слышатся в народном плаче над молодой матерью, на глазах у всех предаваемой бессмысленной лютой казни. Драматизм достигает здесь вершины, события принимают совсем не шуточный оборот. Недаром, узнав в ноябре 1905 года о запрещении ставить на сцене Народного дома в Москве «Опричника» Чайковского и «Псковитянку», Николай Андреевич не выдержал: «Ну, уж раз пошла такая цензура на музыку, так мой «Салтан» много хуже их всех!..»
От народных хоров первого действия, насыщенных глубокой правдой и предельной подлинностью музыкальной интонации, путь ведет к чему-то более серьезному, чем сказка, — к легенде. В ответ на обращение Милитрисы к вольной волне, которая плещет, где захочет, в оркестре появляется свободно скользящий напев виолончели, перебрасывающийся к скрипке и замирающий на высоких звуках. Напев этот следовало бы назвать «темой спасения». Завершение действия величаво: в причитание народа («Охохонюшки, ох!») врывается могучее, свободное движение морской стихии, принимающей в свое лоно беспомощные существа, которым не нашлось места в царстве Салтана, в баснословной Тмутаракани.
Но сказка на то и сказка, чтобы на смену печальному и страшному пришли чередой чудеса, смягчили боль и обещали хороший, счастливый конец. На то и добрый народный юмор. На то и красота, чтобы поднимать из мрака к свету, усыплять слепое отчаянье, будить веру в человека.
И все это богатство стало музыкой. С первых звонких фанфар, открывающих действие, до заключительного хора катится щедрый сверкающий поток звуков. Все здесь послушно воле художника: ласковая колыбельная и «Ладушки», бойкая «Во саду ли, в огороде», задумчивая «На море утушка», уморительно гудящий полет шмеля и человеческий говор. Таких красок, как в изысканно звучном игрушечном марше царя Салтана или в симфонических картинах «Море и звезды» и «Три чуда», кажется, не было на палитре композитора.
Особенно вступление ко второму действию «Море и звезды» дало ясно почувствовать, что Римский-Корсаков переступил порог небывалых художественных открытий. С давних времен ставший его специальностью морской пейзаж получил здесь новый облик, более тонкий и одухотворенный, чем в маринах «Шехеразады» и «Садко». Звуковые краски стали прозрачнее и легче, рисунок свободнее и проще. Такой пейзаж нарисовал бы шекспировский Ариэль, дух воздуха, или Маленький принц Сент-Экзюпери, будь он композитором.
Художественный диапазон «Сказки о царе Салтане» обширен. Фантазия, быт, драма и балаганное представление переплетаются в нем без усилия. Правдой и новизной изумил трагический по сути, комический по форме диалог Старого деда со скоморохом. Ослепительно колоратурная партия царевны Лебедь — инструментальная и холодноватая вначале, бесконечно задушевная позднее — стала высшим торжеством и лебединой песнью Забелы-Врубель.
Оперой, задуманной Корсаковым почти одновременно с «Салтаном», было «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Не замедли тогда с либретто даровитый и вдумчивый В. И. Вельский, «Китеж» стал бы следующим произведением Николая Андреевича. При громадной разности задач можно различить жанровую и даже чисто музыкальную связь двух опер. Элементы сказочности и легендарности, хотя и в совершенно различных пропорциях, есть в обеих. Музыкальный образ Леденца подготовляет образ града Китежа. Можно предполагать, что, появись новая опера в 1900 или 1901 году, Забеле и Врубелю было бы суждено сыграть выдающуюся роль при их постановке. Партия Февронии могла бы стать одним из лучших созданий Забелы.
Почти каждое выступление в операх Корсакова приносило ей художественный триумф. В глазах строго взыскательного композитора лучше воплотить его замыслы было нельзя. «Конечно, Вы тем самым сочинили Морскую царевну, что создали в пении и на сцене ее образ, который так за Вами навсегда и останется в моем воображении», — писал он Надежде Ивановне после «Садко». «Я рад, коли Вам угодил партией Марфы, но зато и Вы поете ее для меня идеально… Когда я вспоминаю представление «Царской невесты», то на первом месте представляетесь Вы, Ваш голос и удивительное пение, которого я впредь ни от кого не дождусь… Постараюсь всеми силами, чтобы партия Лебеди была для Вас хороша…» Таких сердечных и исполненных восхищения писем никто из артистов от него еще не получал. «Какая Вы чудесная и поэтическая Лебедь-птица», — вспоминал он после постановки «Салтана», невольно восстанавливая в мыслях всю «красивую и совершенно невероятную обстановку» спектакля. А центральная женская партия в новой опере обещала исполнительнице чрезвычайно много.
Еще больше почерпнул бы в «Китеже» художник. Если уже «Садко» и «Салтан» вызвали целый радужный сноп откликов, реплик, вариаций на корсаковские темы, то работа над сценическим воплощением «Сказания» с его высокой поэзией и духом героической народной легенды могла внести в жизнь Врубеля так недостававшее художнику гармоническое начало.
Но «Китеж» не был написан ни в 1900, ни в ближайшие годы. Решающим событием в ходе творчества Врубеля стал не светлый «Китеж», а трагический бунт и катастрофа Демона. Под непосильным бременем сверхчеловеческого дерзания, в попытке воплотить невоплотимое Врубель сломился. Сознание его, и ранее не вполне устойчивое, помрачилось. Временами только музыка пролагала путь к его памяти. Савву Мамонтова он узнал по песне тореадора из «Кармен», которую тот находчиво запел при посещении Врубеля в больнице. Слышали, как больной напевал песню Варяжского гостя. Между тем товарищество Частной русской оперы, где Забела так недавно занимала видное место, не одолело финансовых трудностей и распалось. «Положение ужасное!..» — записал Николай Андреевич на одной из последних страниц «Летописи», кратко передав случившееся с Забелой и Врубелем. Попытки Корсакова помочь ей поступить в Мариинский театр были неудачны. Значительно успешнее действовала ее консерваторская преподавательница Н. А. Ирецкая, имевшая связи в придворных кругах. Но чужая среди интриг и звезд большой сцены Забела померкла, стушевалась. Под влиянием пережитого голос ее заметно ослабел. В 1907 году, когда «Китеж», наконец, вышел на оперную сцену, ей досталось петь не Февронию, а крохотную партию райской птицы Сирина…
Давно нет в живых ни певицы, ни художника, ни композитора. Лишь на краткий срок соприкоснулись пути двух русских сказочников, двух великих поэтов: живописца и музыканта. Но удивительным памятником дружбы остались работы Врубеля 1898–1900 годов. Легко отметить, что разнит их с музыкой Римского-Корсакова: хрупкость, а порою и надломленность настроений, субъективизм, зашифрованность смыслов (то, что Римский-Корсаков называл работами «в загадочном роде»). Интересно, однако, подумать и о сближавшем. Зоркие наблюдения над некоторыми физическими явлениями лежали, как живой строительный материал, в основе художественных видений Врубеля. Природа была обращена к художнику совершенными по форме и окраске кристаллами, узорами инея на стекле, зелеными сумерками лесов, синевой и литой лазурью озер и морей, пленяла его лепестками цветов и перьями птиц. Подобно этому сказочно-фантастические музыкальные образы Корсакова коренились в элементах реального, как бы преодолевших первичную аморфность, получивших признаки художественной формы. То были завораживающие ритмы морского прибоя, голоса птиц и насекомых, таинственные звуки леса, блеск звезд и свеченье светляков. Как и Врубель, но гораздо больше, чем Врубель, Корсаков был обязан народному творчеству многим. Сказка, миф, легенда всегда были для него основными формами художественного претворения жизни, народные песни и инструментальные наигрыши — исходным материалом и вдохновляющим прообразом его собственной работы. Такими они остались и на самом сложном и трудном, заключительном этапе его пути.
ГЛАВА XIII. В НОВОМ ВЕКЕ
ПОЗДНЕЕ ПРИЗНАНИЕ
Случилось то, чего он ждал долгие годы, на что надеялся и не позволял себе надеяться, во что приказывал себе не верить: его признали. Не в кружке энтузиастов, а в обширном кругу людей, любящих музыку. Возраставший от оперы к опере успех в Москве «Псковитянки», «Садко», «Царской невесты», «Сказки о царе Салтане» оказался только началом. Еще триумф «Псковитянки» был, в сущности, триумфом Шаляпина в «Псковитянке». Победа «Садко» неотделима от Забелы и Секара. Теперь «Снегурочка» и «Царская невеста», «Майская ночь» и «Салтан» шли на разных сценах, при пестром артистическом составе, и публика тепло откликалась на самую музыку Римского-Корсакова, легко мирясь с кажущимися длиннотами, с погрешностями постановки и несовершенством исполнения. Так, более полувека она мирилась с неряшливым исполнением опер Глинки — ради музыки Глинки… Вдруг поняли, что среди русских музыкантов, пишущих музыку, живет великий композитор.
В том весьма неотчетливом общественном слое, который носил тогда название образованного общества, признание получило характер лавинного процесса.
Резко изменился тон отзывов и суждений. «Еще со времен «Снегурочки» мы… научились понимать, кто Вы для русского искусства…», — писали композитору на заре нового века артисты Московской частной оперы. Из Минеральных Вод неожиданно пришла на Загородный, 28 телеграмма от Сафонова: «Всю ночь, ожидая поезда, читал «Салтана». Умилялся, восхищался гением автора». Первые представления новых опёр Корсакова (начиная с 1897 года они даются почти ежегодно) сопровождаются теперь восторженными овациями, бесчисленными вызовами автора. «Такого горячего и торжественного приема у нас в Петербурге по крайней мере не удостаивался ни один артист», — отмечает Ястребцев, побывав на представлении «Салтана» в Москве.
После нескольких лет бойкота опальных опер театральный временщик уходящей в прошлое эпохи И. А. Всеволожский возобновил давно не шедшую на Мариинской сцене «Снегурочку». Возобновил в своем «французско-мифологическом» вкусе, с Дедом Морозом, похожим на Нептуна, и Лелем, одетым не то цирковой наездницей, не то Парисом из оперетты Оффенбаха. Но и такая «Снегурочка» имеет неоспоримый успех. Преемник Всеволожского несравненно более культурный и следящий за веяниями времени князь С. М. Волконский при вступлении в должность объявляет артистам: «…У нас, русских, кроме Глинки, есть такие гениальные композиторы, как Бородин, Чайковский и Римский-Корсаков, которыми мы можем, мы должны гордиться». На императорской сцене таких слов еще не слыхивали.
За словами — дела: заказ Корсакову балета специально для придворного Эрмитажного театра (и отказ Корсакова), просьба написать оперу специально для Мариинского театра (и отказ Корсакова), безумно смелое предложение — поставить на той же сцене высочайше забракованного «Садко» (и неожиданная удача: автор не возражал, царь приказал). И вот на первом представлении оперы-былины в Мариинском театре присутствуют, но не встречаются Николай Андреевич, композитор, которым «мы должны гордиться», и Николай Александрович, государь император, которым гордиться никак невозможно. Эта капитуляция монарха перед музыкантом превышает всякое вероятие, она почти неправдоподобна. Сделан важный шаг: оперы Римского-Корсакова возвращаются в новом веке на императорскую сцену. «Думаю, что мой московско-частно-оперный… период кончился. И если наступит какой-либо новый период, то он будет казенный…» — пишет композитор Забеле-Врубель в мае 1901 года. А меж тем все шире расходятся оперы Корсакова по сценам русской провинции, входят в постоянный, привычный репертуар.
Их устойчивый успех вносит изменения и в быт композитора. Правильное поступление поспектакльных сумм впервые дает ему непривычное ощущение достатка, хотя бы и скромного. О серьезных переменах, разумеется, нет и речи. Прежней остается квартира на Загородном проспекте. Как и раньше, большая семья Корсаковых, где почти все поют или играют, довольствуется одним роялем. Да и стоит он не в кабинете Николая Андреевича и Надежды Николаевны, а в зале, где им свободнее могут пользоваться дети, их приятели и приятельницы. Однако появляется возможность послать среднего сына, Андрея, замешанного в студенческих волнениях, продолжать университетское образование в Страсбурге. Летом можно с женой съездить в Германию к сыну, а потом пожить в Швейцарии, а в другое лето и в Италии, насладиться природой, такой непохожей на природу севера. Меняется год от году и состав семьи. Кто женится, кто выходит замуж. В квартире делается просторнее и пустее. Возраст напоминает о себе не только досадным ослаблением памяти, приступами усталости, густеющей сединой, но и непостижимым понятием «взрослые дети».
Гранью, заметно отделившей Корсакова просто от Корсакова маститого, стало празднование тридцатипятилетия его художественной деятельности. Юбилейные торжества захватили Петербург и Москву, начались почти за месяц до 19 декабря 1900 года, вовлекли в свою орбиту всевозможные музыкальные организации и продолжались еще и в январе следующего года. Было несколько глубоко волнующих эпизодов: горячая, короткая речь Стасова на Русском симфоническом концерте; адрес артистов Московской частной русской оперы, украшенный рисунком Врубеля: Садко на берегу Ильмень-озера (композитор повесил адрес над диваном у себя в гостиной). Но было и много внешнего, досадного, утомительного. Его скромность оскорблялась неумеренными хвалами, беспощадная честность — их полуискренностью. От лица петербургской дирекции Музыкального общества подносил адрес, жал руку и пытался напечатлеть на его бороде начальственный поцелуй тупица П. Н. Черемисинов (через несколько лет тот же Черемисинов вместе с великим князем Константином Константиновичем скрепит подписью иную бумагу — увольнение Римского-Корсакова из Петербургской консерватории). Сладко улыбались критики, зевавшие на премьерах его опер и не удостаивавшие своим присутствием концерты, которыми он дирижировал. Хлопало, шумело, восхищалось странное многоголовое существо, именуемое публикой; в тайну ее помышлений и вкусов было немыслимо проникнуть, верить ей казалось опасным. У юбиляра накипали ирония и горечь… Дразня Стасова, как рыба в воде плававшего в наэлектризованной атмосфере торжественных обедов, тостов, монументальных венков, Николай Андреевич заявляет, что до того привык к юбилеям, что может отныне наниматься куда угодно для изображения юбиляра всех сортов: без речей, с речами и, наконец, с речами, слезою и жестами. «Не пожелаю никому такого юбилея», — напишет он в «Летописи» несколько лет спустя. Его угнетенное состояние мало понятно окружающим. Посреди славословий он чувствует себя одиноким и лишенным подлинной душевной поддержки. Признание в этом вырывается невзначай: на память о днях своего торжества он дарит неугомонному Ястребцеву нотный автограф, вдобавок к десяткам уже подаренных, — музыку, сопровождающую фразу Весны в «Снегурочке»: «И все лишь свет да блеск холодный, и нет тепла…»
НА РАСПУТЬЕ
Глубокое чувство неудовлетворенности владеет им. Празднества застигают его на великом перепутье, к которому он вышел после «Царской невесты» и «Сказки о царе Салтане». В эти годы он пишет, и даже довольно много, но словно не в полную силу или нехотя. Он пробует себя в непривычных, не вполне близких темах — опера из времен древнего Рима и раннего христианства («Сервилия»), опера из старинного польского быта («Пан воевода»). Начинает еще более далекую от мира русской песни и сказки оперу «Навзикая»[19]. В каждой есть удачи, великолепные куски, задатки новых открытий. Но это не лучшие его создания. Композитор ищет, теряет и находит. С величайшим интересом вслушивается он в новые произведения своих учеников и товарищей по ремеслу, стремясь усвоить драгоценные, быть может, элементы, в них заключенные. Он готов вновь сесть на школьную скамью. Все неясно, все зыбко. Расти всегда трудно, а на склоне дней тем паче. Внутренний подъем перемежается полосами сомнений, минутами отчаяния и жгучего разочарования в себе. В такие мгновения особенно дорого сердечное внимание. К сожалению, то, что тревожит и радует художника, отчаливающего от знакомых берегов, чтобы пуститься по неведомому морю, не привлекает ни внимания петербургских критиков, ни сочувственного уважения соратников.
«Нынешние сочинения Римлянина уже мало представляют интереса. Много пишет, и насильно!» — сообщает в письме к брату Стасовв 1901 году. «Царская невеста», «Салтан», «Сервилия» оставляют холодной Надежду Николаевну, которая всем существом откликалась на ранние оперы мужа. Как всегда, вял в своем добром расположении Лядов. «Острого интереса моя музыка не представляет ни для кого, — подытоживает Корсаков невеселую беседу с Ястребцевым в 1902 году. — Впрочем, к этому я уже давно привык…»
Горше, чем осуждение, воспринимает он действительное или кажущееся невнимание Глазунова к его художественным исканиям. На страницах «Воспоминаний» Ястребцева эта тема возникает многократно.
«Охлаждение музыкальных друзей», — записывает Римский-Корсаков в плане-конспекте своей «Летописи». Эта тема появляется на первых же страницах его «Дневника» за 1904 год. Она становится отправной точкой серьезных размышлений. Может быть, глубокое течение музыкального развития переменило русло, и новые поколения русских композиторов, им воспитанные, поглощены задачами, ему чуждыми или недоступными? Не сыграл ли тут роли поворот к музыке чисто симфонической, свободной от литературных сюжетов?
Глазунов уверенно идет этой дорогой. Он пишет превосходные по мастерству симфонии, скрипичный концерт, балеты, фортепианные сонаты. Избегая гармонической остроты и оркестровой красочности (столь свойственной музыке Римского-Корсакова), Глазунов возвращается к прочной основательности конструкций и густому многоголосию музыкантов XVII–XVIII веков, к строгой уравновешенности тембров, уподобляющей, по словам самого Глазунова, оркестр идеальному фортепиано под руками идеального пианиста.
Творчество Глазунова по временам совершенно завораживает его старшего друга. «Нет, знаете, надо учиться инструментовать у Александра Константиновича: у него всегда все звучит», — говорит он в январе 1907 года своему молодому ученику Б. В. Асафьеву. И добавляет: «Собираюсь переинструментовать свою «Снегурочку».
Умонастроение Римского-Корсакова нашло концентрированное и сильное выражение в письме Глазунову от 27 июля 1901 года:
«…Уехал от Вас с впечатлением от Вашей сонаты[20] такого роду, что несколько дней не мог и не хотел приняться за что-либо свое. Это превосходное произведение и по содержанию и по виртуозной законченности формы и техники. Кроме того, это чистая музыка, а таковая выше прикладной. Вы не поверите, какая меня зависть и печаль берет, что я не способен ни к чему подобному, а если и был когда-нибудь способен, то заглушил это в себе, а теперь уж поздно. За что я ни берусь в области чистой музыки, все у меня выходит и несовершенно и несовременно, и это меня удручает. Если б я засел и написал предвари-тельно несколько фуг, а потом квартета три струнных, то, может быть, четвертый квартет у меня вышел бы поинтереснее и современнее; то же и с симфониями и т. п. А на такой подвиг в мои годы я уже не способен. Я один раз в жизни себя переделал, а вторично уж не удастся… А «Серенада трубадура» — тоже милая, виртуозная (в смысле сочинения) и чрезвычайно современная вещь. Желаю Вам на долгие годы продления того подъема Вашего таланта, на котором Вы теперь находитесь со времени «Раймонды».
Чтобы правильно оценить это письмо, необходимо ясно представить себе, что для Корсакова современность стиля Глазунова есть только часть гораздо более общей проблемы современного музыкального стиля в целом. Письмо приоткрывает «тайное тайных» композитора: с глазу на глаз со своей художественной совестью он решает, как ему должно писать, если писать должно, каким из путей следовать.
ВРЕМЯ И ИСКУССТВО
Что привело художника на распутье? Почему получил для него такое исключительное значение пример Глазунова? Короче говоря, что случилось в искусстве?
Серьезные перемены происходят в мире в начале XX века. Возникает непривычный термин «империализм» и быстро становится необходимым. Гигантские бронированные империи, подмяв или пожрав мелюзгу, как большие хищные рыбы бесшумно скользящие в тесном водоеме, только и ждут случая, чтобы кинуться друг на друга. Тяжелые тучи, слабо озаряемые зарницами, непроницаемо затягивают горизонт, чтобы уже более не оставлять его. То там, то здесь вспыхивают ожесточенные классовые схватки. Народные массы выходят из усыпления. Идея тихого прогресса, владевшая умами миллионов в последние десятилетия XIX века, постепенно обнаруживает свою полную и законченную несостоятельность. Человечество с некоторым опозданием узнает, что оно вступило в период войн и революций. Первой входит в эту эпоху Россия, где противоречия накалены жарче, чем где-либо.
Новые идеи, новые понятия носятся в воздухе, обнаруживаясь из ряда вон выходящими проявлениями. В 1901–1902 годах из необозримого опыта рабочего движения и народных восстаний Ленин впервые выделяет кристаллы идей, ставших потом движущей силой коммунистической революции. В скромной лаборатории-сарае, пренебрегая еще никому не известными правилами безопасности, трудолюбивые обожженные руки супругов Кюри впервые выделяют из чешской урановой руды химический элемент, получивший короткое звонкое имя «радий» — «лучистый». Хорошо известный в тесном дружеском кругу скрипач-любитель, рассеянный молодой ученый Эйнштейн кладет основы новой теории, опрокинувшей классические представления о материи, энергии, времени и пространстве. Глухой учитель физики Циолковский принципиально обосновывает осуществимость космических полетов. Первые радиоприемники из хаоса шумов вылавливают сигналы: «Точка — тире, точка — точка — тире, точка — тире». Взлетают в воздух самолеты. Открываются кинотеатры. Входят в быт телефоны.
В новую полосу существования вступает искусство. Густая дымка застилает от подавляющего большинства художников истинный смысл происходящего. Но трепещут чуткие мембраны восприятия. Тысячами способов пытается искусство отразить, охватить, осмыслить новый, еще далекий от завершения исторический опыт человечества.
Впечатлительному наблюдателю всего заметнее разрушение привычной картины мира. В музыке, литературе, живописи это сказывается стремительным ростом дисгармонических начал. Широкий доступ в искусство получают крайние, предельные состояния сознания: экстаз, упоение, кошмар. Для их воплощения требуются столь же исключительные, «крайние» средства. Падают былые правила и запреты. Открывается дорога безграничному субъективизму. Чем дальше, тем больше отдельные приемы, отдельные элементы художественной формы получают блистательное, но гипертрофированное развитие, убийственное для логики целого. Слабеет представление об устойчивости явлений. Художника привлекают зыбкие, калейдоскопически сменяющие друг друга впечатления, ощущения, настроения. Отразить их может только искусство повышенной чувствительности. Восприятие крайне истончается. Подробность становится богом. И в противовес этой хрупкости и разрозненности ювелирно выточенных деталей обнаруживается мощная тяга к возрождению конструктивно прочных, угловатых, сурово-архаических форм.
История искусства, кажется, не знала таких взаимоисключающих стремлений. Рядом с порывом к микроскопически точному воспроизведению реальной жизни во всей ее изменчивости повышается интерес к наиболее общим проблемам бытия: любви, смерти, добру и злу. В особенности идея красоты занимает умы, разрастаясь в нечто поистине универсальное, способное, как кажется ее апостолам, вытеснить и заместить все остальные идеалы. Трактуются эти проблемы чаще всего с расплывчато-идеалистических позиций, облекаются в поэтическую ткань неясных символов. Другое противоречие: никогда еще так не уважали классику и никогда не были от нее так далеки. Исчезли общественные предпосылки самых основ классического соответствия формы содержанию. Слабеет, нарушается связь художника с народом. И как результат вырисовывается еще одно противоречие, самое страшное. Художник, мечтающий создать новую красоту и открыть на нее глаза людям, оказывается в реальных условиях общества начала XX века всего лишь обойщиком и декоратором самодовольного купца. Полеты над мистическими безднами финансируются и приходуются расчетливым предпринимателем. Поэт или композитор, возжелавшие повести за собой страждущее человечество, преобразить и одухотворить целый мир, уже в силу одной только изысканности и крайней утонченности своей речи остаются не услышанными теми, к кому речь обращена, и вынуждены довольствоваться хвалами тесного кружка знатоков и покровителей. Тени чередуются со светом. Пестрота общей картины слепит. Достижения имеют своей неизбежной оборотной стороной утраты и потери. Бесспорно, это искусство упадка, но упадка относительного и не всестороннего. Это время появления плеяды блестящих талантов, расширивших круг эстетических понятий и средств искусства, время интенсивного подъема художественной деятельности, но подъема, купленного дорогой ценой.
«Римский-Корсаков чрезвычайно волновался и интересовался всеми новыми течениями, которые возникали в России и на Западе», — вспоминал один из учеников. Его письма начальных лет XX века, беседы, сохранившиеся в памяти студентов консерватории или попавшие в записи Ястребцева, дышат тревогой, гневом, страстным интересом. «Декадентство», — лаконично пишет он в плане «Летописи», приурочивая запись к событиям зимы 1900/01 года. Но ни тут, ни в ином месте воспоминаний тема не раскрывается. «О Скрябине поговорю когда-нибудь потом», — читаем в главе XXV «Летописи». Это «когда-нибудь» не наступает никогда. Художник выжидает момента, когда мысли и впечатления отстоятся и он сможет сказать о Скрябине свое слово. Годы бегут, сложное явление повертывается к нему все новыми гранями, а ясного ответа не возникает. В концертах, на музыкальных вечерах у себя дома, наедине с роялем Римский-Корсаков с настойчивым, острым интересом вслушивается в сочинения молодых, стараясь не пропустить ничего нового, повторно возвращаясь к уже знакомому.
От нового искусства его отталкивает демонстративность, неуравновешенность, болезненность. Он сожалеет, что в музыке Скрябина нет счастья, нет беззаботности и веселья. «Всего каких-то полтора на- строения, да и то оно больное, мятущееся», — говорит Николай Андреевич Ястребцеву. Но в канун революции, когда народные массы не хотят жить по-старому, а господствующие классы уже не могут, в самой жизни не слишком много беззаботности и веселья. Россия разбужена порывами близкого революционного вихря и встрепенулась каждым живым листком. Еще не написана «Поэма огня» — «Прометей», но страстным прометеевским порывом дышат скрябинские сочинения этих лет. «Великий талант», — коротко отмечает Корсаков, говоря о Скрябине в 1902 году. «Безупречен как гармонист, нет чепухи, не то что у Регера или же Штрауса…» Но «нет ни одной нотки спроста». Это конец 1905 года. В те же дни, на репетиции перед исполнением Третьей симфонии Скрябина он ворчит и сердится на ненужное увеличение состава оркестра: «Зачем восемь валторн?!. Во всем этом самомнение!» — «А как Вы оценивает самую музыку?» — спрашивают у него. «Что тут говорить: музыка — на грани гениального!» Впечатления не хотят приводиться к единому знаменателю. «Поэма экстаза»? «Пожалуй, оно даже и сильно, но все же это какой-то музыкальный квадратный корень из минус единицы».
6 марта 1904 года на семейном сборище в день шестидесятилетия Николая Андреевича исполняются фортепианные «Эстампы» Дебюсси. Корсаков непроницаемо молчит. Через три дня в его «Дневнике» появляется яростная запись: «Нахальный декадент — прозевал всю музыку, сочинявшуюся до него…»
Но гнев длится недолго. Уже очень скоро Корсаков приносит пьесы «нахального декадента» в консерваторию, играет их своим ученикам и объявляет: «Это музыка талантливая, очень талантливая, но в ней есть черты несомненной болезненности. Да и как не быть им, — продолжает Николай Андреевич, имеющий довольно смутные понятия о личности Дебюсси, — когда она возникает в нездоровой среде парижской богемы». И совершенно так же Корсаков знакомит своих учеников с осуждаемыми им за гармоническую жесткость фугами Регера, с ненавистными ему сочинениями Р. Штрауса. «А как бесконечно интересно, что будет дальше с искусством!» — вспоминает один из учеников его возглас после проигрывания в классе новинок.
Как же понять в таком случае восторженную оценку сочинений Глазунова, весьма далеких от духа новейшей музыки? Не странно ли назвать в беседе с Ястребцевым «Серенаду трубадура», выдержанную в характерно угловатом стиле музыки XIII века, «последним словом современного искусства»? Нисколько. Мощная тяга к архаическим, конструктивно устойчивым художественным формам, как уже говорилось, образует такую же характерную сторону нового искусства, как и бунтарский порыв к нарушению привычных художественных условий. Она только менее кидается в глаза. Вот откуда восхищение музыкой Глазунова, переводящее меру и нарушающее истинный масштаб явлений. Это не только преклонение перед стихийной силой таланта и даже не зависть художника, всегда ставившего перед собой предельно трудные задачи, к превосходному мастеру, выбирающему себе труд по плечу. Это восторженное уважение к методу, позволяющему преодолеть пугающий Корсакова распад формы. Сам Корсаков ни симфоний, ни балетов, ни сонат и концертов не напишет. Решения задач современного искусства он будет искать в своей природной области — в области русской сказочной оперы. Не Бах и не Гендель послужат ему образцами и путеводителями. Его путь ведет в совсем иные края. И ближайшим образом этот путь снова приводит его к Вагнеру и капитальной проблеме усвоения и преодоления вагнеровского музыкального наследия.
От Вагнера и отчасти от Листа ведут свой род крупнейшие деятели новой музыки. В XX веке оперы Вагнера воспринимаются как остро современное искусство; их постановки на русской сцене вызывают бурную реакцию — восторженную у одних, гневную у других. «Подумать только, до чего и Лист и Вагнер в свое время были передовыми музыкантами! — восклицает Корсаков во время одной из бесед с Ястребцевым в 1902 году. — Ведь все эти «Дихтунги» и «Нибелунги»[21] писались в 50-х годах, а гениальная, ослепительно инструментованная увертюра к «Тангейзеру» даже и раньше… Между тем до чего все это еще ново и оригинально!» И в то же время в сознании композитора крепнет мысль, что «современная музыкальная нескладица», нарочитость и болезненность, безграничное злоупотребление диссонансами, какофония, грубые эффекты оркестровки — все идет от Вагнера.
Еще раз, по-иному, чем в «Царской невесте», Корсаков вступает в героическое единоборство с вагнеризмом. Тогда он пробовал противопоставить бесформенности и неоправданному засилью оркестра законченные оперные формы и рельефные вокальные мелодии. Теперь он выбирает иную дорогу. «Я нарочно хожу на «Тристана», — говорит он в феврале 1900 года, — и, слушая эту крайне сложную и запутанную, хотя по временам и превосходную, музыку, все время учусь, как следует и как ни в коем случае нельзя писать».
Если новые гармонические обороты и оркестровые средства, введенные Листом и особенно Вагнером, драгоценны, то нельзя ли применить их, не впадая при этом в злоупотребления? Если бесформенность и гармонические «безобразия» не составляют неотъемлемого элемента музыки Вагнера, то нельзя ли соединить в высшем единстве изумительное богатство и пряную красоту новой гармонии, выразительность и свободу новой музыкальной формы, всю мощь послевагнеровского оркестра с трезвой логикой и безупречной правильностью музыки классической? И не является ли такой синтез, если только он возможен, важнейшей задачей, какую может перед собою поставить художник, осознавший грозную опасность музыкального декаданса?
В 1901–1902 годах он делает крупный шаг в избранном им направлении: композитор выступает с принципиально новым решением проблемы в небольшой, но выдающейся по своему идейному и художественному значению опере «Кащей бессмертный»,
ГЛАВА XIV. КЛАСС РИМСКОГО-КОРСАКОВА
В первом дне учебного года всегда есть что-то праздничное и тревожно-счастливое. Раннее солнечное утро. По лестнице Петербургской консерватории взбегают учащиеся, солидно поднимаются профессора в длинных синих вицмундирах. С третьего этажа доносится до них грубоватый, хорошо знакомый бас. Слышно, как Римский-Корсаков рассказывает что-то о курлыканье ручного журавля, о кукушке, упорно державшейся необычного для ее подруг интервала кварты.
Николай Андреевич сидит в коридоре за столом помощника инспектора, отхлебывает из стакана чай и ведет оживленную беседу с толпящейся вокруг молодежью. Никому не ведомый студент, смотря на него испуганно влюбленными глазами, признается, кинувшись, как в омут, в первую паузу, что хотел бы знать, каковы, собственно, признаки композиторского дара.
— Выдающиеся музыкальные способности — условие совершенно необходимое, — отвечает Корсаков. — Необходимое, но, знаете, недостаточное. Спросите себя сами, что возбуждает в вас музыкальные мысли? Наталкивают ли вас на творчество ваши душевные переживания и впечатления, природа, чтение хороших книг? Если это так, то можно надеяться, при наличии уже известного вам условия, что толк будет. Если же увлекает только умение, только технический интерес, навряд ли разовьется у вас и в дальнейшем художественное чувство. Допускаю, что отличить настоящее от поддельного будет нелегко, но рано или поздно это выйдет наружу, поверьте мне.
Он взглядывает на часы, докуривает папиросу и поднимается. Только теперь становится видно, какой он высокий и как прямо, по-военному, держится. Что-то неуловимо меняется в выражении его. лица. Доброта голубых глаз, живая, одушевленная мимика куда-то прячутся. Брови сдвигаются над энергичной линией, очерчивающей нижнюю границу лба. Разговоры смолкают. Он отворяет двери в класс и входит, ученики — за ним. Бьет девять.
Первый час идет деловито и быстро. Николай Андреевич прослушивает и просматривает летние работы, готовый порадоваться успеху, помочь советом в затруднении и сурово укорить за неряшливость или бестолковость. Давно позади время, когда он не умел соразмерить свои требования с возможностями ученика, годы преждевременных увлечений талантами и преждевременных приговоров неспособным. Все это дорого стоило и учащимся и педагогу. Он изгнал когда-то из консерватории Лядова за леность и (чего потом не мог себе простить) отказал ему в обратном приеме, когда тот обещал исправиться. Правда, позднее, ближе узнав его исключительную одаренность, Корсаков сам помог, молодому композитору сдать выпускной экзамен. «Он мог делать только то, что ему сильно хотелось», — терпеливо отмечал Николай Андреевич коренное свойство своего ученика, Корсакову чуждое и даже не совсем понятное. Уж он-то мог делать все, что было нужно, не справляясь с хотением. Анатолий Константинович теперь давно уже сам преподает в Петербургской консерватории, требует с учеников довольно строго, но пишет по-прежнему мало и урывками. С этим даже Стасов — неутомимый побудитель к творчеству, самого Глинку доезжавший попреками, — раз и навсегда примирился. Далее осторожных просьб написать «настоящую русскую сказочную оперу» не идет и Корсаков. Что поделать, Лядов — такой человек.
И каждый из учеников в своем роде Лядов. «Что же такое педагог?» — спрашивает себя Римский-Корсаков. И отвечает самому себе: «Друг, отец, нянька и даже слуга своего ученика». Кто выдумал, что ученик — раб, нижний чин или кусок мрамора, из которого профессор — рабовладелец, военачальник или скульптор — делает, что ему заблагорассудится?! Каждый талантливый ученик берет от своего профессора лишь то, что ему нужно и что согласно с его талантом и его стремлением. Предположим, ученика тянет к камерной музыке. Не надо мешать ему и делать из него композитора опер и симфоний.
Конечно, это все в теории и в идеале. Практически класс не состоит сплошь из первоклассных талантов, да и мало кто из учеников знает, что ему действительно на потребу. Надо каждому помочь найти себя. Легко сказать! Молодые композиторы должны знать много, чтобы выбрать свое. Им следует владеть разнообразной техникой, чтобы не приходилось подгонять свой дар к своему же ограниченному умению. Надо работать. Надо во что бы то ни стало развивать логику, складность музыкального мышления… Без чувства пропорций и формы нет композитора, разве только он гений.
— Повторите-ка еще раз это место. Скажите, вы сознательно употребили здесь этот ход? Гм, сознательно…
Он вслушивается, машинально подергивая седеющую бороду и тихонько напевая тему, которую так причудливо разукрасил ученик.
— Нет, это хорошо! — решительно заключает он, как бы окончив спор с самим собой и сняв возражения. — Попробуйте к следующему уроку приготовить нечто в этом же духе, но более развитое по форме. Дайте себе больше воли, не комкайте мысль. Вы, как говаривает Сергей Иванович Танеев, не кончаете, а прекращаете пьесу. Позвольте!
Он присаживается к роялю.
— Что, если попробовать сделать вот так? Или совсем иначе, вот этак. У вас прошлой зимой был вполне удачный кусок из маленькой сюиты. Пристройте его сюда или, еще лучше, напишите новый, в том же характере.
Возможно, если бы Балакирев мог зайти в класс Римского-Корсакова, он порадовался бы, что его давние уроки пошли впрок, что в новизне Корсакова и его старина слышится. Но Балакирев не зайдет и не узнает.
К концу второго часа занятий все устали. Сейчас дороже всего хорошая шутка.
Вечно сомневающийся в себе и вечно ловящий самого себя на заимствованиях, юный талант, только начав играть сочиненное им, останавливается в отчаянии.
— Николай Андреевич, это, кажется, на что-то похоже!
— Ну и отлично, если на что-то похоже. Гораздо хуже, знаете, если ни на что не похоже!
Молодой смех прокатывается по классу. Сразу становится легче думать и слушать.
— А это у вас что за чудасия? — ловит Корсаков неуклюжее и неприятное для слуха звукосочетание в пьесе другого ученика. — Дайте-ка я вам это сыграю повразумительнее.
И звуковой уродец с беспощадной отчетливостью вырисовывается под пальцами профессора.
— Николай Андреевич! Николай Андреевич! Зачем же вы это место играете громко? Там обозначено «рianо». А если сыграть тише, будет гораздо лучше.
И Римский-Корсаков послушно играет тише, подтверждая, что так действительно лучше. В следующее мгновение он снимает руки с клавиатуры и подводит итог опыту:
— А так совсем хорошо!
И снова взрыв смеха. Громче всех хохочет сам виновник общего веселья. Обидеться на Николая Андреевича невозможно.
Обидеться нельзя, но огорчиться и даже отчаяться на какое-то время можно. Сдвинулись брови, точно затвердели удлиненные черты лица, глаза за толстыми стеклами очков смотрят хмуро.
Иногда это значит, что принесенная в класс работа выполнена кое-как, только бы с плеч свалить. Неуважения к искусству Корсаков не прощает никому. И когда из-за плотно прикрытых двойных дверей класса в коридор вылетают властные «военно-морские» интонации, не по себе делается даже совсем посторонним. Помощник инспектора, добрейший Николай Иванович Абрамычев, зябко поводит плечами и торопливо меняет местами чернильницу и пресс-папье на своем столике. Пролаза и чинодрал правитель дел консерватории Владимир Антонович Тур, по давней привычке украдкой крестится — не приведи бог попасть сейчас под руку Николаю Андреевичу, не посмотрит, что ты правитель… Римского-Корсакова в консерватории не только любят, но и не любят; не только уважают, но и боятся.
Хуже, если дело не в лени и не в легкомыслии, не в школьном промахе и даже не в дурном вкусе. Плохо, если ученик, на взгляд Корсакова, сбился с пути и забрел в декадентские дебри. Чаще всего, как нарочно, сбиваются талантливые. Тут флотские гневные интонации не помогут. В классе тихо, даже тише обычного. Брови сдвинуты, и глубокая черта врезалась между ними. На пюпитре рояля — новая пьеса М. Ф. Гнесина.
В ней есть какая-то органическая неправильность, какая-то бесформенность от избытка художественных намерений и непомерной взвинченности. Автор, молодой музыкант с резкими; точно из дуба выточенными чертами, огромным упрямым лбом и ясными, чистыми глазами, критики не принимает. Каждое замечание Корсакова вызывает его сдержанно-яростный отпор. Лядов в таких случаях выходит из себя. «Не понимаю, зачем вы у меня учитесь? — восклицает он, обдавая дерзкого презрением из узких щелочек глаз. — Поезжайте вы к Рихарду Штраусу! Ступайте… к Дебюсси!» Или: «Скажите на милость! Почему это вы все хотите быть Скрябиными?!» Корсаков только хмурится, но это страшнее крика. Класс замер.
— Да погодите вы сердиться! Вы сейчас увидите, что я совершенно прав, — переламывая себя, он касается рукой плеча своего сурового ученика. — Попробуйте на время переменить жанр. Напишите танцевальную вещицу без гармонических премудростей. Вы вернетесь потом к сложному, обогатившись простотой.
Гнесин встает из-за рояля с мрачным выражением лица. Навряд ли поможет ему танцевальная пьеса… Но как пособить тому, кто отвергает помощь? Или все они — Гнесин, молодой Стравинский и этот мальчик, Сережа Прокофьев, — знают что-то, чего не знает он, Корсаков?
Десятки, сотни учеников прошли через его класс. Талантливых и посредственных, усердных и ленивых. Одни стали дирижерами, другие композиторами, третьи музыкантами-исполнителями. Все они — кто лучше, кто хуже — усваивали не слишком сложные положения теории музыки и одновременно учились науке гораздо более трудной, истинному уважению к художественному труду, к своему высокому ремеслу. В этом смысле душевный склад Римского-Корсакова продолжал жить в безвестных тружениках, как и в музыкантах, известных всему свету. Ларош назвал его как-то музыкальным просветителем России. Обычный для критика шутливый оборот речи не мешает этому определению быть близким к истине.
ГЛАВА XV. ЦАРСТВО КАЩЕЯ
МАКИ И БЕЛЕНА
Пасмурно. Время остановилось или же прикинулось остановившимся. Ветхие бревенчатые хоромы поросли бледным мхом, накренились, вросли в землю. Листва побурела и пожухла. Человеческие черепа на острых кольях, оцепивших двор. Последний кол зловеще пуст: ждет гостя… Вечная осень своим дрожащим влажным крылом приукрыла землю вечного увядания. На старую тощую корягу похож царь этих мест, Кащей. Радость движения, счастье новизны и перемены отдал он за чахлое бессмертие. Серы краски, туманны звуки. И среди этих сумерек жизни — неубитая человеческая душа, пленница Кащея, царевна Ненаглядная краса. Живой укор, живой протест. Плачет — значит, существует. Тоскует по жениху-освободителю — значит, не покорилась.
Таков зачин «осенней сказочки» «Кащей бессмертный». Такой, сквозь призму сказочной символики, увидел композитор свою Россию на пороге великих перемен. Глубоко несчастливой и бесконечно прекрасной.
События, определившие на заре XX века новую фазу русской жизни, хорошо известны. Нарастающая волна крестьянских и студенческих волнений, демонстрация у Казанского собора в Петербурге, Обуховская оборона показали, что революция выходит из подполья на простор. В среде рабочей и демократической интеллигенции начинается ускоренное формирование политических партий, среди них той, которой предстоит через полтора десятка лет стать костяком новой государственности, организатором мировой державы на развалинах царской России. Процесс политического самоопределения захватывает все более широкие круги.
Среди музыкантов этот процесс политического роста идет небыстро. В конце 90-х годов, даже после острого конфликта с императорской сценой и ее хозяином, Николай Андреевич, в сущности, еще весьма далек от политики. Его оставляет спокойным дело капитана Дрейфуса, волновавшее тогда Европу. Оно объединило грубоватого натуралиста Золя и утонченного скептика А. Франса в борьбе с мракобесием и откровенным пристрастием военного суда. Оно вызвало негодование Грига и на всю жизнь поссорило Чехова с его старым другом, умным циником Сувориным. А Корсакову кажется непонятным, зачем у него, русского композитора, журнал «La Voque» («Волна») запрашивает в 1899 году мнение о каком-то французском офицере, обвиненном в шпионаже.
Но уже весной 1901 года, в год «Кащея», Корсакова серьезно затрагивают студенческие волнения, возникшие в Петербурге и Москве. «Я не спокоен и изо всех сил держусь и цепляюсь за собственное дело и за искусство вообще», — пишет он Забеле-Врубель, невольно раскрывая обуревающий его внутренний спор «поэта» с «гражданином», профессионала-музыканта с мыслителем. «Я прежде всего человек кабинетный, а главное — всецело музыкант и ничего более», — уговаривает он себя в беседе с Ястребцевым. Он обороняется против натиска новых идей. Римский-Корсаков не перекати-поле, трогающееся в путь при первом дуновении ветра. Его тревога, его сопротивление — свидетельство долго сдерживаемого и сильного напора.
Мы не знаем, какими тропинками шел композитор к политике. Не знаем, какую роль сыграло в его движении вперед знакомство с нелегальной, изданной за рубежом литературой, ставшей доступной ему через сына Андрея при летних поездках в Германию. Что это была за литература? С кем был тогда связан страсбургский студент и будущий биограф композитора? Но, не зная подробностей, мы хорошо знаем результаты. «Архифантастическая», по определению Корсакова, опера, начатая им летом 1901 года, — свидетельство исключительной политической зоркости.
Сколько раз уже выводил он царский строй на оперную сцену! Но всегда в его неподвижно-устойчивом состоянии, в печальной качестве раз и навсегда данного фона трагедии или комедии. «Псковитянка», «Боярыня Вера Шелога», «Царская невеста», «Майская ночь», «Ночь перед Рождеством», «Сказка о царе Салтане»… В каждой возникал выразительный образ исконной и неизбывной царской власти или ее гримасничающей тени. Но в облике Кащея бессмертного оперный порог переступило самодержавие собственной персоной. Его чудовищное долголетие стало великим бедствием целого народа. Каждый шаг вперед — самодержавию шаг к смерти. И потому — ни шага вперед! Подморозить Россию. Остановить часы истории! Остановить смену времен года! (Это уже в сказке, разумеется.) Неизбежную смерть свою Кащей спрятал в слезинке дочери. Никогда не заплачет гордая и жестокая Кащеевна, никогда не умрет Кащей. Живет красавица на приволье, в тридесятом царстве. Там плещется у берега теплое южное море и в садах цветут, не увядая, полные сладкой отравы цветы. Время замерло и в тридесятом царстве. Но не в пору осенней непогоды, а в разгар истомной, зажигающей кровь поздней весны. Оттачивая меч, поджидает Кащеевна в своем саду молодых витязей. Не так уж опасно им дряхлое могущество ее отца, да страшна дурманящая, завораживающая сила злой красоты-погубительницы. Чаша вина с лукавым зельем, чуть пригубленная чаша блаженства в объятиях красавицы, минутное забытье — и тяжелый удар меча, отделяющий затуманенную голову от молодецкого тела. Еще одно украшение для батюшкиного частокола…
Так случалось два, три и сто раз. Но и злому приходит конец. В гневе на непослушную царевну Ненаглядную красу Кащей призовет метель и снегопад усмирить ослушницу. Была в его царстве вечная осень, станет зима. Вступит в права круговорот времен года. А по законам природы зима — канун весны. Не знала Кащеевна ничего, кроме угара чувственности, — узнает любовь. Не видела от людей ничего, кроме страсти, — увидит жалость. Не плакала — заплачет! И кончится осенняя сказочка красным солнышком, а царство Кащея — свободой.
Совершенно очевидно, что такая опера, да еще принимая в расчет бдительность общей и театральной цензуры, должна была стать произведением с сильно выраженными чертами символики, а ее музыкальный язык — языком эссенций и сгущений. Всякое иное художественное решение приводило к плоскому схематизму. Условность персонажей непременно должна была искупаться повышенной интенсивностью красок и внушающей, почти гипнотизирующей силой музыкальных настроений. Опера о конце самодержавия становилась произведением, где могли найти широкое применение новые музыкальные формы, далекие от классической симметрии и замкнутости, равно как и крайние, небывалые гармонические сочетания.
Еще в середине июня 1901 года Николай Андреевич пишет, что ни за что не может приняться и только «с усердием» просматривает «Зигфрида». Он досадует на свою бездеятельность, на неудачно выбранную для летнего отдыха местность[22], где, как нарочно, при всей живописности нет любимых им озер. И вдруг, словно по мановению волшебного жезла, все меняется. Начинается почти молниеносная кристаллизация запаса художественных намерений и мыслей, достигших зрелости. Каркасом оперы становится сюжет пьесы Е. М. Петровского «Иван Королевич». Она известна композитору с 1900 года, но решение взять ее в основу либретто возникает внезапно: в Крапачухе в конце июня зацвело поле огненно-красных маков, а в огороде — лиловатая белена. Цветы зла, цветы безумия и усыпления непосредственно связаны в пьесе с таинственно-влекущим образом Кащеевны. От этих пламенных маков и мертвенной белены, зацветших в Крапачухе, зазвучала в сознании композитора самая колдовская и необычная музыка, какую только ему приходилось создавать. «Милый Ястребцев, еще есть новые гармонии на свете», — с восторгом объявляет Корсаков. «Думаю, что за лето составлю весь или почти весь набросок, так как материал прилез в голову как-то сразу весь… — сообщает он Глазунову. — Оркестр будет с тройным составом деревянных… Форма будет вагнеровская; будут сильные переченья и аккорды с несвязным голосоведением. Пора, в этом отношении сделать мне шаг вперед. Разумеется, голоса будут петь мелодичнее, чем у Вагнера, и будут зацепляться в небольшие ансамбли без начала и конца».
Действительно, к возвращению в Петербург у Корсакова написана в эскизах значительная часть небольшой оперы и даже целиком оркестрована первая картина. Весной 1902 года опера была закончена полностью.
Счастливое чувство победы владеет композитором. Он гордится своим практическим решением проблемы новой, но не «декадентской» оперы. «Гармония доведена до крайних пределов, — писал композитор Кругликову, — хотя в сверхгармонию не переходит». Иначе сказать, новизна здесь не разрушает основ гармонии, а расширяет их[23].
«Это совершенно особенная, «кащеевская» музыка, новые контуры, новые краски, новые построения, настоящий «новый стиль»… — писал даровитый ученик Кашкина, молодой московский музыкант Юлий Дмитриевич Энгель. — Все здание «Кащея» построено из горсти основных музыкальных элементов (мелодических и гармонических мыслей), контрастирующих друг с другом и в то же время способных ко всевозможным соединениям… В основе это, конечно, та же вагнеровская система, но здесь она вступила в новый интересный фазис развития. Вагнеровские лейтмотивы беспрерывно, точно волны на прибое, сменяют друг друга, образуя, по известному выражению, «бесконечную мелодию». Но эта вечно подвижная, вечно текучая музыка очень редко окристаллизовывается до пластической определенности законченных оперных форм — арии, дуэта и т. п… В «Кащее» автор… становится на новый путь: он строит законченные эпизоды и целые сцены из одного или двух лейтмотивов, расширяя последние посредством тематического развития до более крупных самостоятельных образований… Еще одной отличительной чертой — и одной из самых поразительных — является новизна и оригинальность гармоний. Эта необыкновенная гармония дает тон общему впечатлению… Знакомясь ближе с этими причудливыми комбинациями, полными самых неожиданных — даже и после Вагнера — хроматических и энгармонических оборотов, вы убеждаетесь, что в этом, по-видимому, хаотическом произволе царит та же железная логика, как и во всей остальной архитектуре «Кащея»… Мы считаем поэтому партитуру «Кащея» одною из самых замечательных, какие были написаны в последнее время. Для музыканта это целое откровение, кладезь премудрости, книга, по которой можно и должно учиться».
Москвичи увидели «Кащея» в декабре 1902 года. Царевну Ненаглядную красу пела Забела. После первого же представления наиболее авторитетный из московских музыкантов, Танеев, признал, что опера гениальна и что это новое слово в музыке. В «Кащее» «более, чем где-либо прежде, Римский-Корсаков обнаруживает стремление соединить в одном русле два течения — Глинку и Вагнера «Нибелунгова перстня». И задача, казалось бы, невыполнимая… разрешается смело, остроумно, талантливо…» — писал в своем отзыве Кругликов. Но острая общественная направленность оперы ни в газетных рецензиях, ни в известных нам личных беседах или письмах раскрыта не была. Возможно, что по крайней, со времен Щедрина не виданной дерзости она даже не была многим понятна (ведь пропустила же оперу цензура!).
Раскрылась она только некоторое время спустя, но уж зато с предельной ясностью.
«ГЛАВНЫЙ КОНОВОД ЗАБАСТОВКИ»
Все, что годами скапливалось в общественных отношениях и не получало выхода, все молекулярные процессы, подрывавшие основы существующего, но неспособного существовать строя, все нерешенные и только отложенные задачи, все, что делало трудной и неблагополучной жизнь громадного большинства людей, с удесятеренной болью сказалось в дни русско-японской войны. Ход истории приобрел гигантское ускорение. За месяцы и недели совершались перемены, на какие в другое время пошли бы долгие годы. Что там недели — за дни… Таким было 9 января 1905 года, памятное Кровавое воскресенье, когда царские войска расстреляли мирное шествие петербургских рабочих, а вместе с тем — вековую веру в царя-батюшку. Эхо залпов на Дворцовой площади отозвалось в миллионах сердец. Озверевшие от пролитой крови офицеры и солдаты полков лейб-гвардии охотились на улицах и площадях столицы за отдельными рабочими и студентами, избивали случайно подвернувшихся интеллигентов, стреляли в ответ на первые полетевшие из-за оград булыжники. А в притихшей, скованной ужасом столице шел роковой для самодержавия процесс отрезвления от иллюзий, от политической апатии, от неразумного доверия к тем, кто доверия не заслужил.
О гневе, негодовании, боли Николая Андреевича можно только догадываться. Но заглянем в записи Ястребцева: «Римский-Корсаков признался, что за последнее время он сделался «ярко-красным», но при этом просил нас перестать говорить о безобразиях 9—13 января, так как все это его страшно волнует». После Кровавого воскресенья Римский-Корсаков перестает быть «музыкантом и ничего более». Так же последовательно, как до того он ограничивал себя профессиональной деятельностью педагога и композитора, Николай Андреевич вмешивается теперь в общую жизнь, прямо заявляет свое мнение посредством «открытых писем», направляемых в газеты, систематически обращается к молодому русскому общественному мнению. Вероятно, резкая перемена произошла не сама собою (что на Корсакова и не похоже), а в силу определенного принятого им решения.
Первое публичное выступление композитора произошло в феврале 1905 года. Когда московские газеты напечатали постановление группы видных деятелей музыкальной культуры (Танеева, Рахманинова, Кругликова, Дашкина, Энгеля, Шаляпина в том числе), потребовавших свободы и реформ[24], он, «всей душой сочувствуя постановлению», немедленно присоединил к нему н свое имя. Вслед за короткой полосой затишья атмосфера вновь начинает накаляться. Вступает в борьбу студенчество — университет, Технологический институт, Медицинская академия. Наконец, и учащиеся Петербургской консерватории приняли решение забастовать в знак протеста против действий правительства 9 января 1905 года.
«Консерваторская молодежь, полная величайшего уважения к всемирно знаменитому композитору… тем не менее не рассчитывала на его сочувствие движению в среде учащихся, — вспоминает один из участников этого движения, М. Ф. Гнесин. — Казалось, что суровый на вид и суховатый в обращении старик, пламенный проповедник дисциплинированного труда, загорится гневом при одном упоминании о забастовке. И в действительности приостановка в занятиях была бы очень тяжела Римскому-Корсакову, и он это нам говорил. «Но если это есть проявление того движения, которому я крайне сочувствую…» — сказал он в одной из бесед с представителями студенческой сходки и вместо окончания фразы прямо перешел к действиям: он присоединил свою подпись к письменному постановлению сходки…»
Вслед за тем Корсаков выдвигает требование полной автономии Петербургской консерватории и подчинения ее директора Художественному совету. Опубликовав «Открытое письмо», где эти требования изложены, Николай Андреевич вынес борьбу из стен консерватории на широкую общественную арену[25].
Это было более чем своевременно. Оправившись от первой растерянности, директор консерватории пошел наперекор уже принятым решениям Художественного совета и постановлениям студенческих сходок. На 16 марта было назначено возобновление занятий; желающие заниматься (разумеется, нашлись и такие) могли учиться под охраной полиции. В то время как забастовки студентов и прогрессивной профессуры охватили все высшие учебные заведения, вливаясь в общее, грозно нарастающее революционное движение, Петербургской консерватории предлагалось вернуться в исходное, верноподданнически-травоядное состояние.
Положение резко обостряется. «Не помню, какого числа и какого месяца учениками-забастовщиками учинена была обструкция в консерватории[26], — пишет Гнесин. — Одновременно масса приблизительно в шестьсот человек окружила здание консерватории и стала ломиться в боковую дверь. На площади появились конные городовые, наезжавшие на нас с издевательствами и похлестывавшие нагайками. Помню, как быстрой и взволнованной походкой прошли в консерваторию Римский-Корсаков и Глазунов, как вся толпа бросилась к ним — единственным в этот период заступникам и защитникам. Через несколько минут они вышли из здания, оба побледневшие от волнения и возмущения. Оказывается, они пришли с заявлением, что, если не прекратятся преследования бастующих учащихся, они оба покидают консерваторию». В ответ они услышали спокойное: «Поступайте, как вам угодно».
Занятия были сорваны. Но полиция задержала более ста учащихся. Короткое время спустя они были исключены из консерватории. В самый день этих бурных событий московская газета «Русские ведомости» опубликовала второе «Открытое письмо» Корсакова, спешно переданное из Петербурга по телефону. «…Положения устава и действия консерваторской администрации я нахожу несвоевременными, антихудожественными и черствыми с нравственной стороны и считаю долгом выразить свой нравственный протест», — заявлял композитор, бросая на чашу. весов весь свой авторитет.
Положение Римского-Корсакова в качестве главы прогрессивной профессуры, его громадное влияние на учащихся были настолько очевидны, что один из членов петербургской дирекции[27] сделал попытку «договориться» с опасным врагом: в частном письме он предложил ему занять пост директора консерватории и употребить свое влияние для умиротворения студентов. После отказа Николая Андреевича, резко отрицательно оценившего это предложение, наступает быстрая развязка.
19 марта спешно собирается дирекция петербургского отделения Музыкального общества. После долгих споров исключили учащихся. «Решили также уволить профессора Римского-Корсакова (главного коновода забастовки) за дерзкое печатное выражение порицания действиям дирекции и противодействие ее стараниям возобновить занятия», — записал в свой дневник присутствовавший на заседании августейший покровитель русской поэзии и музыки великий князь Константин Константинович. Двумя днями позже он утвердил постановление, скрепив его своей подписью. Увольнение стало совершившимся фактом.
То, что последовало за этим, похоже на бурю. Консерваторию покидает группа профессоров во главе с Глазуновым, Лядовым, выдающейся пианисткой А. Н. Есиповой. Молодой капельмейстер А. Б. Хессин отказывается дирижировать очередным концертом Музыкального общества. Концерты общества оказались под бойкотом. В печати появляются гневные протесты В. В. Стасова, видного музыкального критика А. В. Оссовского, негодующие письма читателей. Композитора засыпают коллективными выражениями сочувствия и негодования. «Музыка не там, где заседают они, способные уволить Римского-Корсакова, а там, где Вы, наш общепризнанный глава, старый учитель и славный знаменосец», — пишут ему Станиславский, Немирович-Данченко, Качалов, Серов, Кругликов. «Прежде мы любили и уважали тебя как художника, а теперь будем вдвойне уважать за то, что ты встал в передние ряды борцов», — читаем в письме крестьян деревни Судосево (Симбирской губернии), где много лет вела музыкально-просветительную работу В. С. Серова, вдова композитора и критика[28]. Корсаков демонстративно отказывается от звания почетного члена петербургского отделения Музыкального общества, и вслед за ним композитор Сен-Санс и выдающийся скрипач Иоахим отказываются от звания почетных членов Петербургской консерватории. Как всегда, горячо откликается музыкальная Москва — Танеев, Кашкин, Энгель. Но самым ярким, незабываемым выражением общественного протеста оказалась постановка оперы «Кащей бессмертный», организованная студентами консерватории.
Спектакль был задуман еще в начале марта как боевая демонстрация творческих сил и работоспособности бастующих. Сбор назначался семьям рабочих, погибших 9 января от руки царских слуг. Автор сперва усомнился в том, что учащиеся справятся с музыкой, трудной в чисто исполнительском отношении. «А кто же, собственно, будет петь?» — недоуменно спросил он у делегатов комитета учащихся. «Например, я», — бодро ответил один из вожаков, Ф. В. Павловский. «Очень ценю и уважаю вас как председателя сходок, но совершенно не знаю как певца», — с не покидавшим его юмором возразил Корсаков. Однако, прослушав солистов, композитор смягчился и принял живейшее участие в разучивании оперы. Дирижировать оркестром взялся Глазунов. Советы по декоративной части давал художник И. Я. Билибин. Помещение своего театра бесплатно предоставила музыкантам-забастовщикам великая артистка Вера Комиссаржевская.
Работали без устали, с тем счастливым, радостным чувством, с тем юношеским воодушевлением, какие были вообще характерны для революции 1905 года. Воспоминания участников — Ю. Л. Вейсберг, М. Ф. Гнесина, А. Н. Дроздова — красноречиво отражают эту весну надежд, еще не омраченных и не обогащенных более поздним опытом. Разгоняемые полицией оркестранты и хористы весело переходили из одного помещения в другое, предводительствуемые смущенными Корсаковым и Глазуновым. А сколько потребовалось энергии, чтобы составить хор и оркестр из разбросанных по разным частям города учащихся, предупредить всех о спевках и репетициях, об их отмене или переменах адреса!
«На одной из последних репетиций (уже в театре) Римский-Корсаков рассказал нам… что, придя домой, он нашел у себя пакет, в котором содержалась официальная отставка его от профессорской — должности… — вспоминает Гнесин. — Признаюсь, мы, молодежь, находясь в эти дни в состоянии крайнего напряжения нервов, чуть не плакали, а вернее, что и плакали, слушая его рассказ; мне показалось, что у него самого были слезы на глазах». Удивительно ли? Позади было тридцать три года преподавательской работы.
И вот настало 27 марта. Спектакль состоялся в воскресенье днем. Театр был переполнен. Потух свет. В глубоком низком регистре контрабасов прозвучала томительно извивающаяся тема Кащея. Началось постоянно изумляющее чудо живой музыки. И нежное причитание царевны Ненаглядной красы, этого полевого цветка, вянущего в Кащеевом царстве, и причудливые созвучия волшебного зеркальца, внезапно показавшего царевне ее жениха Ивана Королевича в опасной близости к злой красавице, и ледяной пляс метели, одно из самых поразительных созданий композиторской фантазии Римского-Корсакова, и стремительный, вихреобразный полет выпущенного Кащеем из подвала Бури-Богатыря, вместе с которым слушатели на крыльях музыки уносятся в тридесятое царство, в заколдованные сады Кащеевны, — все сливалось в безостановочный поток звуковых образов, музыкальных настроений, фантастических картин.
Грозное очарование оттачивающей свой меч Кащеевны, ее истомно-вкрадчивая и одновременно воинственная тема, убаюкивающий лепет волн прибоя, душное благоухание белены и мака, струящееся в музыке, мгновенно обольщающее нехитрый разум и верное сердце Ивана Королевича, наконец, минутное роковое колебание Кащеевны, впервые пожалевшей того, кого убивает, и спасительное вторжение в застойно-пряную атмосферу тридесятого царства отрезвляющей струи свежего воздуха, принесенного полетом Бури-Богатыря, — словом, то, что составило вторую картину оперы, еще полнее, хотя бы в силу большей привычности и энергичного контраста к первой, зачаровало слушателей. И третья картина. Злую колыбельную, колыбельную-проклятие поет царевна дремлющему «бессмертному лежебоке» Кащею. Пришел конец его бессмертию. Бурный ветер принес Ивана Королевича к его заждавшейся невесте. Следом — Кащеевна. Ее поражает светлая любовь воссоединившихся, еще более поражает внезапная жалость к ней царевны, целующей свою несчастливую соперницу. Пала на землю заговоренная слеза. Смерть настигла Бессмертного. Распались злые чары. Зазеленела, расцветилась цветами узнавшая, наконец, весну природа. «На волю! На волю! Вам буря ворота раскрыла», — радостно провозглашает Буря-Богатырь. Гремит за кулисами хор недавних пленников Кащея (а дирижирует закулисным хором сам автор оперы). Скрылась Кащеевна, на ее месте поднялась раскидистая плакучая ива. «О красное солнце, свобода, весна и любовь!» — поют царевна и ее жених. Конец.
Гром аплодисментов. Море аплодисментов. Океан аплодисментов. Поднимается занавес. На сцену выходит окруженный артистами, устроителями, студентами Римский-Корсаков. Зал неистовствует. На сцену поднимаются депутации со знаменами — от союза металлистов, от текстильщиков, от союза мастеров и техников, от конторских служащих. Дождь цветов. Венки — «Борцу», «Великому художнику и гражданину», «От учеников». Телеграммы — от Глазунова, Лядова, Репина и еще, еще… Взволнованная речь Стасова, речь Дроздова от учащихся, адреса делегаций… Но тут чествование прерывается: рукопашная схватка студентов с городовыми, невидимо происходившая за кулисами, окончилась победой городовых. Железный занавес, падая, чуть не придавил Николая Андреевича, успевшего спрыгнуть в оркестр. Там его подхватили на руки оркестранты. Концертное отделение, где должны были петь хоры «Расходилась, разгулялась сила, удаль молодецкая» из «Бориса Годунова» и «Осудари псковичи» — хор вольницы из «Псковитянки», уже не состоялось. После нескольких страстных речей в зале, после криков «Долой самодержавие!» с галерки Николай Андреевич сам попросил присутствующих разойтись, чтобы не омрачать этого дня неизбежными тяжелыми столкновениями с наполнившей проходы полицией.
«Римский-Корсаков, — записал Ястребцев, — удостоился таких небывалых оваций, каких, по всей вероятности, не удостаивался никто, нигде и никогда».
«Для нас… ближайших участников событий, этот день на всю жизнь останется одним из самых ярких и трогательных воспоминаний как о нашем юном движении, так и об осенявшем его великом художнике», — двадцать лет спустя сказал Дроздов.
«С постоянным восхищением вспоминаю В. В. Стасова в этот день. Какое это было для него торжество: великий музыкант написал произведение, революционное по музыке и одновременно по содержанию, проявил себя подлинным гражданином своей родины, и вот революционно настроенная молодежь воплощает это его произведение, и народные представители чествуют артиста и гражданина! Ведь это полное осуществление стасовских идей и мечтаний».
Этими словами Гнесина можно закончить главу о «Кащее бессмертном» и об одном из вершинных моментов в жизни его автора.
ГЛАВА XVI. СКАЗАНИЕ О НЕВИДИМОМ ГРАДЕ
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ТРУД
Незадолго до драматических событий в Петербургской консерватории, 31 января 1905 года, появилась последняя дата на рукописи нового произведения Римского-Корсакова. Окончены были переделки и доделки в оркестровой партитуре огромной четырехактной оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» по либретто Владимира Ивановича Вельского.
Уже не раз случалось, что между первым замыслом и его осуществлением у Николая Андреевича протекали годы. Но еще не было случая, чтобы все эти годы художник то явно, то скрыто работал над задуманной оперой, выверял общую конструкцию, вживался в круг образов, шлифовал детали. Можно думать, что с самого начала Корсаков видел в «Сказании» нечто гораздо большее, чем очередную художественную задачу.
Мысль об опере на двойной сюжет легенд о невидимом граде и о Февронии Муромской родилась у Римского-Корсакова и Вельского, по-видимому, еще во второй половине 1898 года.
«Царская невеста» завершалась или только что была завершена. Уже задумана, возможно, «Сказка о царе Салтане». Мысль композитора обращается к замыслам, способным нести груз философской или нравственной идеи крупного масштаба. «…Я теперь с величайшим интересом слежу за эволюцией его личности, — пишет в начале XX века либреттист «Китежа». — В его творчестве начинают проступать симптомы последнего великого периода всякого творчества. Для автора «Похищения из сераля» [Моцарта] наступили минуты, когда он принялся за «Реквием»; за Пасторальною симфонией [Бетховена] явилась Торжественная месса и последние квартеты, на смену Зигфрида пришел [у Вагнера] Парсифаль. Нечто подобное, я думаю, творится и в душе нашего великого художника…»
Суждение Вельского до известной степени субъективно и все же очень весомо.
По-видимому, огромность очертаний задуманного была очевидна обоим. Древнерусское «Сказание о князе Петре и Февронии Муромской», сообщение «Китежского летописца», как и пополняющие его устные предания, были кратки и несообщительны. Вельский поставил перед собой задачу воссоздать китежскую легенду, дошедшую до нас, как он полагал, в осколках и несовершенных пересказах. На это потребовались годы. Пока композитор, продолжая держать в уме замысел «Китежа», пишет одну за другой оперы на всплывающие попутно сюжеты, Вельский обстоятельно изучает материалы русского народного творчества за несколько веков, ищет и находит нужные черты быта, душевного склада, характерные обороты речи, разнообразные, отвечающие задаче оперы жанры: свадебные песни, песни слепцов, духовные стихи, молитвы, причеты, заговоры, присловья, пословицы. Не забывает он и о произведениях старинной письменности — летописях, житиях, назидательных текстах.
«Я пересматривал свои затеи для «Града Китежа», — сообщает композитор либреттисту в мае 1901 года, — и многим остался доволен, хотя это все ничтожные отрывки. Мне ужасно хочется им заняться». Летом этого года зачинается «Кащей». Вот и он окончен…
Вянет лист, проходит лето, Мокрый снег валится, От неимения либретто Можно застрелиться, —перефразирует Корсаков известные стихи Козьмы Пруткова в сентябре 1902 года. Только в следующем году композитор получает возможность приступить к сочинению.
Годы ожидания не прошли бесплодно. На редкость высокое качество либретто, полная определенность и осознанность художественной задачи немедленно дали себя знать. Уже весной и летом 1903 года в Крапачухе возникли детальные эскизы первого действия и обеих картин четвертого. Летом следующего года, в Вечаше, опера быстро движется к завершению. Отделка заканчивается в полные тревожного возбуждения осень и зиму 1904/05 года. Таким образом, «Сказание» складывалось в годы, когда особенно интенсивно работала творческая обобщающая мысль композитора, в пору высокого общественного подъема. На свой «Китеж» Римский-Корсаков смотрел, что ясно видно из записей Ястребцева, как на последний крупный труд, завершающий, в сущности, всю его жизнь, как на ее итог. Одно время он даже думал разрешить публикацию и постановку оперы только после своей смерти.
ВЕЛИКАЯ ТЯЖБА
Первоначальный замысел уже содержал, как в зерне, всю оперу. Это была мысль ввести в круг легенд о татарском нашествии образ мудрой девушки, навеянный преданием о Февронии Муромской[29]. Женская роль в «Сказании» должна была стать единственной в опере и необычной по задаче. У Снегурочки была соперница — Купава, у Марфы — Любаша. У Февронии не было ни соперниц, ни даже противостоящих ей женских образов. Ее погубителем был не злой человек, а великая всенародная беда. И противостоит Февронии самый сложный характер, какой знала оперная сцена, — предатель и одновременно жертва, грязный пьяница и душевно измученный исповедник нравственной анархии, Гришка Кутерьма. Эти двое становятся главными действующими лицами «Сказания». Все остальные — княжич Всеволод, мудрый строитель Китежа князь Юрий, вестник Федор Поярок, не говоря уже о лицах вполне эпизодических, — образуют своего рода эпический фон трагедии. Мало того. Сама трагедия принимает в «Сказании» почти фантастические очертания. Катастрофа татарского нашествия и чудо спасения Китеж-града уже одной несоизмеримостью масштаба могли бы сделать судьбу Февронии и Кутерьмы малозначащей, если бы не особый характер конфликта, связавшего их крепче цепей. Сквозь всю оперу проходит пламенная тяжба полярных принципов отношения к жизни. Самая участь Китежа оказывается косвенно связанной с этой тяжбой и ее исходом. Спор философский. Но ничего отвлеченного нет в образах Февронии и Кутерьмы. Оба антагониста — сильные, деятельные натуры. Композитор и либреттист, каждый своими средствами, сообщили их личностям выразительный, глубокий рельеф. Именно поэтому «Сказание», напоминая некоторыми чертами оратории или старинные мистерии, остается великим образцом оперного искусства. Психологическая глубина характеристик Февронии и Кутерьмы имеет мало равных себе.
Первое действие «Сказания» почти лишено «действия» в обычном смысле слова. Все оно — текучая смена душевных состояний юноши и девушки, плавно переходящих от первой заинтересованности к глубокому чувству, все оно — широкая экспозиция образа Февронии, ее душевной чистоты, ее деятельной, одухотворенной доброты. С самого же начала, с оркестрового вступления к опере, получившего название «Похвала пустыне», девушка живет в светлом, восторженно-поэтическом общении с природой. Оркестр в опере часто раскрывает чувства и мысли действующих лиц, нередко рисует обстановку, но едва ли где-либо чувства, мысли и музыкальный пейзаж так гармонически слиты, как в этом случае. Пенье птиц, тихий трепет листвы, лесная прохлада, вся жизнь леса сплетены с музыкальным обликом Февронии. Ее задушевные попевки свободно переходят от голоса к гобою или флейте, подхватываются целым хором инструментов, складываются в гимн мудрой и прекрасной природе и вновь распадаются на простодушно-ласковые, приветливые обращения к юному охотнику. Они певучи, как песня, и пластичны, гибки, изменчивы, как темы симфонической поэмы.
Ах ты, лес, мой лес, пустыня прекрасная, Ты дубравушка, царство зеленое! Что родимая мати любезная, Меня с детства растила и пестовала, — поет Феврония свою хвалу лесу. Ах, спасибо, пустыня, за все, про все: За красу за твою вековечную, За прохладу порой полуденною… За безмолвье, за думушки долгие…Лесные звери и птицы близки ей, как меньшие братья и сестры. Появление княжича в охотничьей одежде спугивает лося, журавля, медвежонка, пришедших на зов девушки. Устрашились чужого человека звери, но и человек испуган невиданным зрелищем: не болотница ли, нечистый дух трясины перед ним?
Встреча Февронии со Всеволодом изо всех оперных любовных сцен и встреч может быть сближена разве только со сценой Иоланты и Водемона в последней опере Чайковского. Там рыцарь, всей душой полюбивший кроткую слепую Иоланту, открывает девушке до того сокрытую от нее тайну зрения и света. Здесь девушка открывает княжичу тайну духовного зрения, учит его глядеть вокруг себя «умными очами», в шуме листвы и птичьем щебете слышать стройную похвалу прекрасной лесной пустыне. Вся их беседа, согретая сердечным теплом, проникнута одновременно пафосом мысли. Феврония легко завоевывает своего собеседника. Ее восторженное прославление радости, ее вера в грядущее торжество красоты и блага побеждают предубеждения, навеянные княжичу книжными покаянно-аскетическими учениями.
В той светлой, почти пасторальной, вокально-симфонической поэме, какую образует первое действие оперы, нет места борьбе. Драматизм вносится только скрытым от действующих лиц подлинным значением встречи: она не только первая, но и последняя в их жизни. Свадьбе не бывать, и сватам, которых обещает заслать княжич Всеволод, не вернуться живыми домой.
Второе действие почти во всем противоположно первому. Там — лесная чаща, неторопливая беседа двух нашедших друг друга. Здесь — людная площадь Малого Китежа, оживленное движение толпы, а ближе к концу — великое смятение. Здесь Феврония встречает сужденного ей противника и вступает с ним в спор, где ставкой — душа человеческая.
С минуты на минуту ждут свадебного поезда, везущего Февронию в Великий Китеж, к венцу. Лучшие люди (так в древнерусских городах звали боярскую, а то и торговую знать) оскорблены и унижены предстоящим браком княжича с безродной девушкой. Они подговаривают пьяницу и забулдыгу Гришку Кутерьму поглумиться над невестой. Тому все нипочем:
Кто дал меду корец, Был родной нам отец; Кто дал каши котел, Тот за князя сошел.Забубенная удаль с оттенком наглого вызова слышится в его присловье. Этот нищий из нищих готов в угоду богачам глумиться над бедностью.
Нам-то что? Мы ведь люди гулящие…Широкая мелодия, родственная прекрасной песне Садко среди океанского простора, изломана ухарской интонацией, искажена мучительной ухмылкой. Сколько природных сил было дано этому человеку и сколько дурного должно было лечь на его совесть, чтобы так страшно их извратить!
И вот под торжественные свадебные песни, несущиеся навстречу повозкам с Февронией и поезжанами, под веселый звон бубенцов и приветствия невесте темной тенью вновь появляется Кутерьма. Его отталкивают. И первая же фраза Февронии заставляет насторожиться: «А за что его вы гоните?»
В запущенном, одичавшем пьянице Феврония увидела несчастного человека, пожалела его. Но несчастный вовсе не хочет жалости, она непереносима его самолюбию, она пуще пренебреженья подчеркнет его неравенство со счастливым, благополучным, способным еще жалеть. На жалость он отвечает глумлением, на кротость оскорбляемой — злорадным предвещанием ей горя, слагающимся в какую-то исступленную похвалу горю. «Человеку радость в пагубу», — объявляет Кутерьма. Позиции спорящих заявлены, самому спору — продолжаться. В памяти остается острая выразительность издевательских речей Кутерьмы. В их напеве есть и молодецкая сила — надломленная, и скоморошья соль, и плясовые ритмы — без веселья, — все искаженное, неурочное, больное.
Попевки Февронии с их теплом и задушевностью вышли из старинной крестьянской песни. Кутерьма, как кузнец Еремка во «Вражьей силе» Серова, как Варлаам и Юродивый в «Борисе Годунове» у Мусоргского, тесно связан в своем музыкальном существовании с творчеством посадских и городских низов, с молодецкими, сиротскими и шутейными кабацкими песнями, с уныло-однообразными напевами нищих, вымаливающих милостыньку. В музыкальном отношении он такой же антипод Февронии, как и в нравственном. Подобно пьянице Каленику в «Майской ночи», гуляке Бобылю в «Снегурочке», скоморохам в «Садко» и «Салтане», Кутерьма — то, что на языке сцены называют «характерной ролью». Но ему, что редко выпадает на долю характерных персонажей, суждено быть не эпизодической, а центральной фигурой драмы. Отчасти поэтому острая выразительность его музыкального облика вырастает до трагизма. Среди оперных образов Римского-Корсакова, да и всей русской школы, Кутерьма — явление исключительное.
Не успела далеко уехать невеста. Затрубили трубы, встало дымное зарево. Среди ужасов избиения снова скрещиваются пути Февронии и Кутерьмы. Татарские воеводы требуют, чтобы Кутерьма показал им дорогу на Великий Китеж, укрытый в глуши непроходимых лесов. С муками, с колебаниями, страшась нечеловеческих пыток, Кутерьма решается на предательство.
Боже! сотвори невидим Китеж град, А и праведных, живущих в граде том, —звучит молитва-мольба Февронии. Мелодия этой молитвы крайне необычна: это еще не появлявшаяся в опере тема спасения Китежа.
Первая картина третьего действия — срединная в опере по месту и по значению. Притом это единственная картина, где слушатель оказывается наедине с народной судьбой: ни Феврония, ни Гришка не присутствуют при событиях в Великом Китеже, ими в известной мере подготовленных. Выдающаяся роль хора, необычно широкое применение приемов неторопливо-эпического повествования придают сцене ночного веча величавые черты русской народной оратории. Здесь нет ничего случайного или необязательного. В сравнении с этой стройной художественной системой превосходные повествовательные эпизоды в «Садко» и «Сказке о царе Салтане» начинают казаться эскизами к картине. Монументальная сдержанность изложения и строгая уравновешенность частей тем более значительны, что содержание сцены глубоко трагично, а эмоциональный тонус предельно напряжен. Чтобы, как это сделал композитор, привести бездонную стихию народного горя к высшему началу душевного единства и душевного подъема, мастерства мало. Нужна громадная нравственная сила, которая до «Сказания» с такой полнотой в операх Римского-Корсакова еще не обнаруживала себя. От мрака первых хоровых реплик, через потрясающий драматизм рассказов Федора Поярка и Отрока, через мужественную печаль и удаль дружинной песни действие неуклонно движется к конечному просветлению.
Песня дружинников, уходящих с княжичем Всеволодом на смертный бой, занимает в этом движении особенное место. Словно в чаше, наполненной усилиями многих, светлой добротой Февронии, мудростью князя Юрия, чистотой души Отрока, человечностью хора китежан, не хватало последней капли — героизма. Теперь чаша полна всклянь.
Сами собой загудели колокола. История, эпос, песня отходят в сторону, уступая место легенде. Во всей своей красоте звучит освобожденная от сумраков и печалей фанфарная тема Китежа. Тема спасения по тем же ступеням, по которым она нисходила в глубокий бас, взбегает наверх, замирает в разреженной сияющей вышине и оказывается темой перезвона китежских колоколов. Ночь кончается. Золотой туман кутает град, становящийся невидимым…
В ночной сцене велика роль мрачного музыкального образа нашествия. «Лютой казнью мы на Русь идем, грады крепкие с землей сровним», — возвестили татары в Малом Китеже. «Пыль столбом поднялась до неба, белый свет весь застилается… Мчатся комони[30] ордынские, скачут полчища со всех сторон», — сказывает народу Отрок, стоя на сторожевой башне. Слова эти наложены на мелодию русской песни про татарский полон. Свободно варьируя напевы, внося легкие сдвиги, композитор придал песне тяжеловесную мощь. В музыке слышны то ужас и смятение, то бесчеловечная сила, то грубая похвальба завоевателей. Лишенный признаков татарского или монгольского мелоса, образ лютых воителей тем легче вырастает в нечто исполинское, в гигантскую проекцию бедствий нашествия на потрясенное народное сознание,
Отсюда, от этих укрупненных, обобщенных музыкальных образов прямой путь ведет к симфонической кульминации всего «Сказания», к оркестровому антракту меж двумя картинами — «Сече при Керженце».
Унылые, негромкие звуки вступления. Кажется, — они идут издали и чуть намечают обстановку: серое, повитое туманом утро, печальная равнина меж лесистых холмов. Так же негромко издали слышится частый перебор копыт. Скачут комони ордынские, о каких говорил Отрок… И звонко разливается в оркестре песня дружины: русичи вышли в поле, перегородили его красными щитами, ощетинились лесом копий, остроконечными шеломами. Слышнее конская скачка, прошивающая пунктиром оркестровую ткань. Вырываются наверху, в дискантах, энергичные интонации дружинной песни. Навстречу движется из басов медленная, неодолимая, как оползень, татарская тема. Что-то мрачно-окаменелое, древнее, идолоподобное есть в ней. Что-то от чудовищного пира после битвы при Калке, когда татары, празднуя победу, плотно уселись на досках поверх тел пленных русских князей, испустивших к концу пира дух под тяжестью триумфаторов. Все грознее звучит, все неотвратимее надвигается тема нашествия. Ее подпирают ритмы конской скачки, она разливается широко, захватывая сперва весь средний, а потом и высокий регистр, подчиняя себе все новые тембры инструментального хора. Сошлись, сшиблись могучие противники. Напряженность звучания достигает крайнего предела. На острых синкопах рассыпались тяжело-звонкие удары мечей. Здесь, на вершине схватки, ввел художник прямое звукоподражание: звон металла, горячечный шум битвы. Неистовой яростью звучит теперь в тромбонах тема, которой открылась «Сеча при Керженце». И ею же обрывается бой. Лишь, быстро стихая, уносится прочь воинственная скачка. Лишь осколки татарской темы звучат все глуше, все жалобнее, точно стоны раненых среди безмолвия мертвого поля, точно воспоминания о побоище, где дорогой ценой отдала свои жизни и полегла костьми китежская дружина.
Почему художник поставил симфоническую картину «Сечи» не до, а после сцены спасения Китежа? Казалось бы, их следовало поменять местами и одолением врага, пусть в легендарном плане, увенчать борьбу. Таков, очевидно, наиболее естественный финал оперы о татарском нашествии и героизме русского народа. Почему же опера Римского-Корсакова нарушила эту схему и от спасения повела к битве, от битвы — в татарский стан и дальше, в глушь заволжских лесов, где умирает Феврония и пропадает без следа обезумевший, мук совести не вынесший Кутерьма? Потому что огромная тема защиты родины является в замысле и конструкции «Сказания» частью глубокой нравственно-философской темы. Свирепые завоеватели с их дикарской лютостью и простотой побуждений не являются стороной в философском споре. Спор ведут Феврония и Кутерьма, и пока он не кончен — не кончена опера.
Спор ведется делами столько же, сколько и словами, в лагере завоевателей и с глазу на глаз. Феврония все та же. Льются теплой волной ее попевки, бесхитростно-естественны обращения к Гришке. Только кое-где появились властные, торжественно-спокойные интонации от выстраданности ее веры и любви. Не то Гришка. Многое изменилось в нем с их первой встречи. Его изворотливый и неукротимый ум, его жадный до жизни дух подрыты, изъязвлены темными муками совести, надломлены страхом смерти. В музыкальном образе Кутерьмы, слитом из враждующих начал, появляется новый мотив — ужаса. Он построен на болезненно диссонирующих, все снова и снова повторяющихся ударах набатных колоколов. Обуреваемый поминутно сменяющимися порывами страха, тоски, надежды, Кутерьма верен одной неотступной мысли — любой ценой вырваться на свободу. С безошибочным инстинктом погибающего он ошеломляет Февронию признанием, что оклеветал ее, что в ней теперь все видят губительницу Китежа. И ее же молит о спасении.
Кутерьма не прогадал: поднимаясь на высшую ступень сострадания, решаясь ценой собственной жизни спасти человеческую душу, никогда не знавшую отрады, Феврония освобождает Гришку. Но чувство свободы не возвращает мира его душе, потрясенной в самых своих основаниях. Даже поняв, что Китеж спасен, Гришка не обретает душевного равновесия. Его нечистая совесть не может принять совершившегося. Ему нет доли в этой радости. Сознание Кутерьмы мутится. Напрасно Феврония хочет исцелить его от невыносимых нравственных мук. С глубокой, детски чистой мудростью она пытается утешить безумного:
Кайся, всякий грех прощается, А который непростительный — Не простится, так забудется.Чудовищность смрадного мира Гришки переходит меру постижимого ею. Впервые ей открылась страшная сила зла и бездонного страдания. Что же может противопоставить этой силе Феврония? Деятельную любовь и глубокую уверенность, что в каждой человеческой душе скрыта нравственная красота. Но помраченное сознание отталкивает помощь, искра, на миг зароненная Февронией, гаснет… Спор прерван, и надолго.
Он завершается в невидимом граде Китеже, в последней картине оперы. Там, в мире народной легенды, среди незакатного сияния допевается недопетая в жизни свадебная песня Февронии и княжича, там сбываются и обертываются явью ее сны. На пороге храма, где готовится венчанье, она останавливается: ей жаль оставшегося в лесу несчастного, ей хочется и заблудившегося грешника ввести в град. И если не пришло еще его время и не просится к свету Гришкино сердце, то хоть послать ему грамотку в утешение и благую весть. «В мертвых не вменяй ты нас, мы живы», — подсказывает Феврония пишущему «грамотку». В письме рисуется блаженное существование китежан, приводятся наивно-сказочные приметы реальности этого существования: сполохи северного сияния, гудение земли. На вопрос Февронии, кто же может войти в невидимый град, ответ дает князь Юрий:
Всяк, кто, ум не раздвоен имея, Паче жизни в граде быть восхощет…Сцену письма композитор назвал как-то кульминацией образа Февронии. Не поэтичную похвалу пустыне, не восторженную речь о грядущем преображении мира и даже не самоотверженное освобождение Гришки Кутерьмы, связанного и обреченного на смерть татарами! Нет, скромную сцену письма. Из круга безоблачного блаженства Феврония на миг вырывается к человеческому несчастью и состраданию. Именно здесь, этим последним подвигом деятельной любви завершается великий спор. С тем вместе под ликующий перезвон колоколов и серебряное пение труб кончается «Сказание».
КОРНИ И ОСНОВЫ
Сценическая судьба «Сказания о невидимом граде» была несчастливой. Ни в Петербурге в 1907 году, ни годом спустя в Москве опера не имела настоящего успеха. Широкая публика нашла ее вялой и чрезмерно серьезной по содержанию. Не было в ней ни очевидной для всех новизны приемов, ни открытой лиричности, искупающей в глазах многих все недостатки. Не изменилось положение и после смерти композитора. Одним она казалась холодно-рассудочной, другим — елейной и мистичной, третьим — недостаточно строгой по отношению к предателю Гришке. Большинство этих суждений основано на недомыслии.
Нравственный идеал Февронии, как и весь ее образ, уходит корнями в глубокие, веками формировавшиеся пласты народного сознания.
Снова Римский-Корсаков обратился к чертам психики русского человека, еще не узнавшего ни ярма крепостничества, ни ига татарщины. Снова, как в «Снегурочке», раскрыл доверчиво-поэтическое ощущение родства с природой, восторженное обожествление ее дружественных человеку сил. Образ Февронии глубоко верен исторической правде. В первые века христианства на Руси это обожествление сохранялось, подвергаясь суровому осуждению со стороны ревнителей благочестия и в то же время впитываясь в христианские понятия и представления. Глубокий след оставило в речах Февронии и само христианство. В годы татаро-монгольского ига оно получило значение специально русской веры, нравственного оплота против насилия и жестокости одичавших завоевателей. Еще одна эпоха отразилась в народном сознании, преломленном в образе Февронии, в ее великом споре с Кутерьмой: XVII век. Тогда пробудилось к жизни и более яркое личное самосознание и живой интерес к мысли, к искусству спора, к проблемам правды и кривды, счастья и «злочастия». Тогда же в старообрядческих кругах возникла или по меньшей мере широко распространилась страстная поэтическая мечта о сокрытом в непроходимых лесах, чудом спасенном от врагов граде «древлего благочестия» — Китеже.
В опере она получила более широкое толкование. Мечта о счастливой и блаженной стране, породившая столько плодотворных утопий, сплетается здесь с мыслью, что по своей природе бытие прекрасно и прекрасна душа человеческая. Преображение мира, то есть восстановление и обнаружение его скрытой красоты, является, в сущности, главной идеей героини «Сказания». Положенная в основу оперы Римского-Корсакова легенда, миф о невидимом граде, приобрела новое значение в начале XX века. Она стала выражением нравственных и эстетических идеалов, живших в русском обществе предреволюционной эпохи.
Музыкальный мир Февронии неразрывен с его словесным выражением. Любопытно указание либреттиста, с согласия Корсакова внесенное в предисловие к клавираусцугу: «Композитор… во всех мелочах продумал и прочувствовал вместе с автором текста не только основную идею, но и все подробности сюжета, и, следовательно, в тексте не может быть ни одного намерения, которое не было бы одобрено композитором». Стоит отметить, что намерения автора текста были весьма далеки от настроений ханжеских и елейных. «…Я верю, — читаем в уже цитированном раньше его письме о Римском-Корсакове, — что ничто мертвенное, лицемерное, поповское, мерзкое, синодальное, лампадное, византийское, поганое не коснется его чистой души». Надежды Вельского не были обмануты. Автор «Сказания» не более христианин, чем автор «Снегурочки» язычник. В обоих случаях он — художник, вдохновленный народными верованиями, народными обрядами и понятиями. Скажем более. Редкий музыкант был так щедро наделен способностью постигать и воплощать великие ценности, выстраданные человечеством в его непрерывном развитии. Редкий поэт умел так отзываться на разные, но неизменно значительные проявления народного сознания. Эта чисто пушкинская объективность творчества составляет одну из самых характерных и существенных особенностей Римского-Корсакова. Не вдумавшись в это, едва ли возможно понять и «Сказание о невидимом граде».
ГЛАВА XVII. ЛЕТО 1905 ГОДА
Из Керженских лесов возвращаемся в Петербург. Из бытия вне времени — в апрель 1905 года. Уволенный за крамолу профессор, произведения которого не допущены к исполнению в столице[31], занимает в это время позицию открытого врага существующего порядка Он живо чувствует общественную поддержку за собой и нравственное ничтожество своих гонителей.
Растерявшиеся перед вызванной ими бурей, чиновники из руководства императорского Музыкального общества неуклюже маневрируют. Председатель дирекции петербургского отделения, сея успокоительную ложь, сообщает, будто «Римский-Корсаков желает возвратиться в консерваторию и дирекция хочет снова видеть его на прежнем месте». В «Открытом письме», напечатанном в газете «Русь» 5 апреля, Николай Андреевич отвечает: «Быть может, дирекция и хочет этого, но откуда господин Черемисинов берет, что я желаю возвратиться?.. При существующем ныне уставе возвращение мое в консерваторию считаю невозможным, а после опубликованной сегодня беседы г. председателя, очевидно, выражающей мнение всей дирекции, никаких дел с нынешним составом петербургской дирекции иметь не намерен и переговоров вести не стану». Так с начальством не разговаривал еще ни один русский музыкант.
Непримиримое, бескомпромиссное отношение к общественному злу и готовность «стоять за правду», как он ее понимает, остаются у Римского-Корсакова до конца жизни такими, какими они отлились в весну революции. Неизменным остается и боевой дух (мы бы сказали, «задор», если бы речь не шла о композиторе, вступившем в седьмой десяток лет). Однако в «Летописи», в главе, написанной всего через год, сам Корсаков сухо и бегло, даже с оттенком раздражения рассказывает о своем участии в событиях и общественном отклике на свое увольнение. Внимание к своей особе он объясняет накопившейся потребностью русского общества выразить вслух негодование против правительственного режима. «Я был козлом отпущения», — сердито замечает он. И далее: «Мне нет охоты входить в подробное описание этой длинной паузы в моей музыкальной жизни».
Как совместить этот тон с ярким и стойким радикализмом политических оценок Корсакова в 1905–1906 годах? Как примирить с устройством в декабре 1905 года специального концерта в пользу рабочих? С «Открытым письмом» Танееву, где Корсаков по случаю вынужденного ухода Танеева из Московской консерватории приветствовал его как «непримиримого врага произвола»? С заявлением от лица своего и Глазунова: «…Мы горим страшным желанием отказаться от бесчестия быть почетными членами [Филармонического] общества», опозорившего себя исключением учащихся и увольнением директора училища А. Б. Хессина?
Ключ к решению лежит, как кажется, в складе личности художника. За сорок с лишком лет до того, в письмах к Балакиреву из дальнего плавания, он шутливо называл себя ратником с самыми нератными наклонностями и воином, любящим более музыку, чем войну. В борьбу с самодержавием, в схватку с его мундирными лакеями из Музыкального общества он вступил наперекор отвращению к публичности, демонстративности, представительству. Всероссийская известность в качестве борца за правду казалась ему незаслуженной и раздутой. Воспоминания о ней смущали и досаждали.
Сочетание принципиальности, доходящей до фанатизма, с крайней застенчивостью угадал в Николае Андреевиче Константин Сергеевич Станиславский еще за несколько лет до революции. Ища красок — для героического образа ославленного «врагом народа» честнейшего доктора Штокмана (в пьесе «Враг народа» Г. Ибсена), он остановился на характерных чертах физического облика петербургского композитора, присоединив к ним и некоторые другие[32]. Подчеркнутая ростом худоба, внимательно-близорукие глаза за толстыми стеклами очков, сдержанные манеры кабинетного ученого, и за всем этим — алмазная твердость человека, у которого есть только один хозяин — истина. Станиславский усилил в своем Штокмане признаки интеллигентской слабости и рассеянности, чтобы еще ярче горели в самой слабости и физической скованности сила мысли и чистота сердца.
В апреле 1905 года Римский-Корсаков, видимо, решает поставить крест на своей педагогической деятельности в стенах консерватории. Он делает попытку облегчить возвращение туда Глазунову и Лядову, адресуя им специальные письма, в которых настойчиво просит их взять назад заявления о выходе из консерватории. Переговоры не приводят к успеху: дирекция не собирается извиняться перед Корсаковым, а на меньшее Глазунов и Лядов не согласны. Озабоченный, усталый, полный планов, Николай Андреевич уезжает в любимую Вечашу. Но Волхова более не является ему в туманах, встающих над озером Песно. Впервые за двенадцать последних лет музыка не рождается в тишине и уединении северных полей и лесов.
Возникает и распадается план основать Высшие музыкальные курсы, крайне напугавший петербургскую дирекцию. С их устройством Петербургская консерватория, лишившаяся нескольких звезд первой величины, превращалась во второстепенно-захудалое учебное заведение. Но система бюрократических оттяжек и привязок сделала свое дело: к осени организаторы будущих курсов успели сами охладеть к своей затее.
Зато необычайно интенсивно работает в это революционное лето мысль Николая Андреевича. Он жадно ловит просачивающиеся сквозь цензурные фильтры вести о восстании на броненосце «Потемкин», о настроениях черноморских матросов, размышляет о будущем России и русского искусства, отнюдь не предаваясь розово-либеральным иллюзиям, всеми фибрами ощущая наступление конца целой эпохи, с которой целиком была связана его сознательная жизнь. И одновременно настойчиво ведет к завершению давние замыслы. Начатая еще весной 1873 года работа над руководством к инструментовке, многократно возобновлявшаяся и никогда не завершавшаяся, делает летом 1905 года громадный шаг вперед. Почти необозримый материал стал укладываться в стройную, столько лет не дававшуюся форму. Взыскательный судья и замечательный педагог Сергей Иванович Танеев высоко оценил труд Корсакова, вышедший уже после смерти автора под названием «Основы оркестровки». После присылки ему книги он сообщил Надежде Николаевне: «Читая ее, я был в восхищении не только от содержания ее, представляющего величайший интерес, но и от образцовой формы изложения предмета. Покойный Николай Андреевич говорил мне, что для него наибольшую трудность представляло установление общего плана сочинения и порядок размещения всего материала, но как раз эта задача оказалась блестяще выполненною. Трудно представить себе возможность сосредоточить такую массу материала в более компактной форме, распределить его в более ясном и естественном порядке и в малом количестве слов передать более сведений и драгоценных указаний, чем это сделано в книге Николая Андреевича.
…Необыкновенно приятное впечатление производит серьезный и деловитый тон книги… Только соединение в одном лице замечательного художника, тонкого наблюдателя и самобытного мыслителя могло дать в результате подобное сочинение».
В трудные и плодотворные летние месяцы 1905 года Корсаков записывает мысли о содержательности и программности, вероятно впервые отчетливо сформулированные после опыта «Китежа». Напомним, что Вагнер в основу оперного искусства клал понятие лейтмотива — выразительного, «руководящего» мотива-символа, неизменно сохраняющего свое значение на протяжении всей оперы или даже серии опер. В противоположность Вагнеру Ларош, обнаружив, как легко меняется эмоциональная окраска мелодии в зависимости хотя бы от темпа, делал отсюда вывод, что музыка вообще лишена определенной выразительности. Мысль Корсакова одинаково далека от прямолинейного догматизма вагнеровской системы и от парадоксов Лароша. В начатой им статье о «Снегурочке» он, перечислив музыкальные темы, фигурирующие в течение всей оперы, тут же анализирует возможные изменения их характера и настроения: «Способность мотива, фразы или мелодии характеризовать известное действие или понятие не всегда зависит от одного лишь мелодического очертания мотива, — записал композитор дорогую ему мысль. — Тот же мотив, но со внесенными в него ритмическими изменениями часто принимает совершенно иной характер и начинает служить для иных целей выражения». В зависимости от «различного освещения» (как выразился он в другом случае) те же мотивы могут соответствовать различным образам, настроениям и действиям. Наконец, в опере имеются мотивы, которые вообще не несут какого-либо содержания: «не мешая общей характеристике лица или понятия», они «представляют собой лишь материал для обработки и постройки самого музыкального здания».
Выработанные в многолетней внутренней борьбе с упрощенным представлением о содержательности и «программности» музыки, эти положения имели ценность исключительную. Сейчас, шестьдесят лет спустя, они все еще не утратили ни значения для эстетики, ни острой полемичности, скрытой под оболочкой строгой простоты.
Ему удается также сильно подвинуть вперед свою «Летопись». Поразительна эта ничем не остановимая деятельность мощного интеллекта. Профессор, уволенный «за дерзкое печатное выражение порицаний действиям дирекции» и, что еще более дерзко, не намеренный возвращаться в извергнувшее его императорско-музыкальное чрево, продолжает интенсивно жить коренными интересами своей педагогической профессии. «Я нынче летом очень много думал и думаю о способе своего преподавания и хотел бы на старости лет попробовать устроить и вести его на значительно новых началах…» — пишет он дирижеру и музыкальному деятелю А. И. Зилоти.
В сосредоточенном труде проходит лето. Начинается осень. Торопиться из благодатной Вечаши, от ее сада, озера, благоуханного меда, от ее громадного неба и пламенных закатов было некуда. За многие годы впервые стало возможным провести сентябрь вне Петербурга. Занятия в консерватории так и не возобновились. Столица бурлила. За тишиною Вечаши угадывалась приближающаяся всероссийская буря.
Николай Андреевич еще в июне начал писать романс и бросил. Переделал в трио и наоркестровал свой старый дуэт «Горный ключ». Разумеется, нужно было писать иную музыку, и притом такую, чтобы дата, стоящая внизу рукописи — «1905 г.», — не выглядела-опиской. Предложенная чутким Вельским тема оперы о Стеньке Разине все более привлекала композитора. Казалось, в ней можно было раскрыть совсем иную, чем в «Сказании о невидимом граде», сторону народного сознания и народного творчества — бунтарскую. Записи и наброски сразу ввели в круг музыкальных образов оперы бурлацкую песню «Эй, ухнем» и раздольную «Вниз по матушке по Волге». Первая картина, действие которой должно было происходить на казачьем струге Разина под Астраханью, открывалась и завершалась, по замыслам Корсакова, заунывным могучим хором «Ты взойди, взойди, солнце красное». Опера («разбойничья песня», как ее называют в своих письмах композитор и либреттист) предполагалась небольшая, в трех картинах.
«Революционный дух вещи Вам теперь должен вполне соответствовать, — писал композитору Вельский, посылая ему сценарий первых двух картин, — в Вас теперь чувствуется постоянно что-то гораздо глубже радикальное, чем в любом обыкновенном крайнем». Скоро и наметки третьей картины оказались на руках у композитора, но не удовлетворили его. «Личность Стеньки должна быть непременно несколько идеализована и должна возбуждать симпатию… — отвечает он в начале сентября. — В общем в пьесе немножко много политики и политической экономии, а надо больше лиризма и настроения… Опера… должна промелькнуть, как сон, пронестись, как гроза или как песня, и конец. Все должно быть основано на том, что вот, мол, восстал избавитель народа от гнета… Не надо увлекаться намеками на современное положение вещей; и без того соприкосновение с ним будет ясно для всякого. Надо, чтобы восстала и пронеслась какая-то исполинская фигура среди угнетаемого народа…»
В мечтах композитора будущая опера рисовалась легендой, своего рода «сценической песней». Снова, как в «Китеже», не столько исторические события, сколько их преломление в поэтическом сознании народа, их преображение в горниле эпического творчества, привлекало его. Какую ослепительно разнообразную разработку получили бы темы народных песен, взятых в оперу! Как прошли бы они, меняя окраску «при различном освещении» и вызывая в воображении слушателя порою величавые и светлые, порою скорбные и мрачные образы и настроения… К сожалению, судить об этом (и то только до известной степени) можно лишь по одному образцу: по «Дубинушке» для хора и оркестра, написанной Корсаковым в конце октября 1905 года. Он полагал в эти недели после Всероссийской всеобщей стачки и вырванного у правительства манифеста 17 октября, что старый порядок подорвался навсегда. Он писал Кругликову, что не запомнит такого радостного дня, как тот, когда газеты вышли без цензуры. «Дубинушка» в качестве вокально-симфонического сочи» нения зазвучала ликующе. Но и в оперу «Стенька Разин», судя по черновому эскизу, «Дубинушка» должна была войти мощно, победно, в характере торжественного шествия. Вероятнее всего, она назначалась композитором для заключительной сцены. Под энергичные звуки этой «песни рабочей артели» мог начаться великий поход казацкого войска на боярскую Москву. Скрывались вдали казаки, пустела площадь в осиротевшей Астрахани, и старица Алена сказывала вещее слово, что, пока живо будет великое горе народное, жив будет заступник и вожак народный, Степан Тимофеевич… Но опера осталась ненаписанной.
В декабре 1905 года приходит к концу нелепое отлучение Римского-Корсакова от дела музыкального просвещения. Получившая, наконец, нечто вроде автономии, Петербургская консерватория первым же постановлением возвращает в свои стены изгнанного, а вместе с ним и добровольно ушедших. Николай Андреевич вернулся, ничего не забыв и многому научившись. Ему тесно и гадко в среде музыкальных обывателей и службистов, вдобавок в значительной степени захваченных попятными течениями, неотвратимо возникающими при спаде общественной волны. Несколько раз он порывается уйти и каждый раз откладывает исполнение своего намерения из симпатии к Глазунову, ставшему директором и крайне нуждающемуся в поддержке против сил реакции. Дух и тон выступлений Римского-Корсакова решителен более прежнего. Он требует от Художественного совета уважения к постановлениям ученической сходки. Уважения во имя автономных начал, не дарованных консерватории временными правилами, а на самом деле, подчеркивает Корсаков, завоеванных ею. Он клеймит лицемерие призывов к законности, справедливости и свободе, во имя которых и под прикрытием которых пробуют вернуть консерваторию к отжившему порядку, весьма далекому от законности, справедливости и свободы.
Но какой-то сумрачный отсвет лежит на его поступках и мыслях. Все настойчивее думает он, что жизнь на исходе, что надо успеть закончить начатое и сделать то, что сделать необходимо. Весной 1906 года возвращается к «Борису Годунову», чтобы обработать и оркестровать эпизоды (рассказ Федора про «попиньку», «часы с курантами» и др.), ранее не включенные им в свою редакцию. Летом в южной Австрии, на озере Рива, доводит до конца «Летопись моей музыкальной жизни», значительно ускорив и сжав изложение в последних главах.
«Что же касается сочинения, — пишет он С. Н. Кругликову 3 июля 1906 года, — то тут, кажется, пора поставить точку… Лучше вовремя остановиться, чем переживать падение. Да и мысли у меня особые о судьбах искусства. Мне кажется, я, да и все мы, суть деятели конца XIX века и периода от освобождения крестьян до падения самодержавия. Теперь же, с переломом политической жизни на Руси или наступит новый период расцвета, или, что вероятнее, период упадка искусства. На Западе уже чувствуются признаки наступления этого периода, да и у нас имеются его признаки. Как известно, в периоды упадка действуют и великие таланты, как будто по инерции набравшиеся сил в период расцвета, но это уже не наш брат — деятель 60, 70, 80 и 90-х годов, это даже не Глазунов, а некие другие, более молодые».
В этом отрывке весь Корсаков, с глубиной и трезвостью мысли, честностью оценок и подавленной, усмиренной горечью. Тем же трезвым наблюдением продиктованы мысли о ходе революции, вступившей после декабрьского поражения в новую полосу. «Не верится мне в сколько-нибудь скорый исход, и думается, что канитель еще долго протянется, — писал он тогда же своему ученику, будущему мужу его младшей дочери Максимилиану Осеевичу Штейнбергу. — Пусть лучше длинное crescendo приведет к хорошему фортиссимо, а не так, как часто бывает у Вагнера: нарастает, нарастает, да и скиснет, и опять начинается «crescendo от рр»[33].
ГЛАВА XVIII. ЕЩЕ ОДНО, ПОСЛЕДНЕЕ СКАЗАНЬЕ
БЕРЕГИСЬ, БУДЬ НАЧЕКУ!
В октябре 1906 года навсегда замолк трубный голос Владимира Васильевича Стасова. Сорок пять лет шли они рядом, порой сердясь друг на друга, порой говоря на разных языках, но в корне дела — всегда верные друзья и соратники. Последним словом, которое с мучительным усилием написал лишившийся языка Стасов, было «Р.-Корсаков»: он хотел знать, навещает ли его Николай Андреевич, и, узнав, что навещает, успокоился. Последней данью, отданной почившему, был венок, который Корсаковы положили на его гроб. На ленте стояло «Лучшему другу», и поистине это было самой большой правдой о Стасове и об их отношениях, какую привелось когда-либо сказать Римскому-Корсакову.
В те же печальные дни композитор закончил оркестровку заново отредактированной и несколько расширенной заключительной сцены «Кащея» и расширенной против прежнего «Дубинушки». А пять дней спустя после смерти Стасова, 15 октября, в записной книжке Николая Андреевича появилась новая нотная строка — странный петушиный крик, сопровождаемый пушкинским текстом: «Кирикуку. Царствуй, лежа на боку!»
Это единственное в своем роде приглашение означало на сей раз, что утвердившийся на спице Золотой петушок готов поведать слушателям нечто заслуживающее их внимания и притом не лишенное оттенка дерзкого вызова властям предержащим. Меньше чем через год, 29 августа 1907 года, на партитуре трехактной оперы «Золотой петушок» была поставлена последняя дата. Текст написал В. И. Вельский, по Пушкину, со включением многих пушкинских стихов, но также и со значительным развитием эпизодов, у поэта отсутствующих или только намеченных.
Опера начинается и кончается петушиным резким криком. Вся она пронизана этим насмешливо-задорным возгласом. Волшебно изменяясь, он становится колыбельной, под которую засыпает ленивый царь. Но тот же петушиный крик, вывернутый, как шкурка, наизнанку, наполняет оперу тревогой: «Берегись, будь начеку!» И, мгновенно передаваясь из регистра в регистр чуткого оркестра, его отголоски пробуждают сонный, разомлевший град. Предложение Шемаханской царице руки и державы Додон начинает на теме «Царствуй, лежа на боку!», и та же насмешливая тема открывает ослепительное по краскам свадебное шествие. Кончилась сказка. Слетевший со шпиля петушок острым золотым клювом заклевал самодержца. Перед упавшим занавесом появился Звездочет, странной присказкой успокоил зрителей (мол, кровавая развязка волновать вас не должна: «Разве я лишь, да царица. Были здесь живые лица, Остальные — бред, мечта, Призрак бледный, пустота…»), поклонился и скрылся. Готовы потемнеть огни рампы. И в последний раз лихорадочной тревогой зажигается оркестр: «Берегись, будь начеку!» — поют трубы песню Золотого петушка.
Вернемся к началу. Присмотримся и прислушаемся к нравам и быту в царстве славного Додона. Два музыкальных жанра господствуют в нем, возникают по всякому поводу и без всякого повода, марш и фанфары. Маршеобразной темкой открывается первое действие. В контрапункте с ней идет торжественная хоральная мелодия церковного склада, состоящая в ближайшем родстве с той, что шутливо и благолепно звучала при встрече князя Гвидона жителями Леденца в «Сказке о царе Салтане» и поэтически восторженно — в «Китеже», в беседе Февронии с княжичем о лесных чудесах. В данном случае в качестве пышного украшения скудной маршевой темы она выражает только начало ханжества, только отзвук молебствий за здравие благочестивейшего, самодержавнейшего государя. Короткая и тяжеловесная маршеобразная темка многократно повторяется в заседании боярской думы, входит в состав царского свадебного шествия, никогда не изменяя своего топорного строения.
Но и звонкие фанфары — характерная черта музыкального быта Додоновой столицы. В сущности, любое событие, большое и малое, становится достаточным поводом для торжества. Фанфарное ликование легко овладевает боярами, одинаково восторженно приветствующими нелепые, взаимоисключающие военные предложения сыновей Додона и роковой подарок Звездочета — Золотого петушка, охраняющего царский покой. Фанфарный мотив пискливо высвистывает флейта, на фанфару сбивается в свадебном шествии тема «Царствуй, лежа на боку!». Эта добродушная, но не чуждая известного расчета хвастливость, эта непрерывная готовность славить Додона и его отпрысков («Будь Афрон повсюду славен, Самому Додону равен», — торопливо восклицают бояре, только услышав, что Додон одобрил образцовый по глупости совет младшего царевича), это бурное, но вполне соответствующее видам и предначертаниям монарха ликование — неотъемлемая часть порядка вещей, изображенного и заклейменного в опере.
Музыкальный образ этого порядка вобрал в себя сверх маршей и фанфар также солдатские, крестьянские и городские песни и попевки[34]. С глубоким пониманием внутреннего образа песни, с великим мастерством преобразования композитор берет музыкальные краски из самого быта и создает картину необыкновенной цельности. Но в «Золотом петушке» он строит не оперу-былину, не музыкальное сказание и не оперу-песню, а нечто совсем новое — беспощадную, страстным презрением дышащую сатиру. На что? Не столько на самодержца, как ни жалок, как ни гадок царь Додон, подвергаемый в опере всестороннему посрамлению, сколько на самодержавие. На строй, при котором возможен сидящий на престоле, убранном павлиньими перьями, злой урод, трусливый убийца. Додон немыслим без боярского пресмыкательства, без церковного благословения, без собачьей верности воеводы Полкана, без бабьей услуги беззаветно преданной душой и телом батюшке-царю ключницы Амелфы и особенно без «монархической легенды», без обожания своего владыки за то, что он владыка, темным, униженным народом. И все это есть в «Золотом петушке». И все это показано со смелой преувеличенностью и простотой масленичного балагана или кукольного театра, где каждая черта невероятна и вместе с тем есть совершенная истина.
Можно даже, основываясь на музыкальном складе и колорите сцен, связанных с образом Додонова царства, прямее определить исторический адрес сатиры. Несомненно, что всему музыкальному материалу этих сцен присущ последовательно выдержанный русский характер. Но народность этой музыки, особенно если сопоставить ее с хотя бы самыми «простонародными» эпизодами «Майской ночи» или «Салтана», кажется какой-то плоской и немощной. Эта народность обедненная, урезанная, огрубленная. Народность из официальной формулы эпохи Николая I — «православие, самодержавие, народность». Это «русский стиль» времени Александра III — показной, едва ли не маскарадный, сведенный к щам, гречневой каше и смазным сапогам. Этот стиль оставил на площадях русских городов бесчисленное множество аляповатых, громадных пятиглавых соборов, выдержанных в ложно величавом характере, грубых по формам, бездарных по пропорциям, уныло однообразных и казенных по декору. Он оставил след в виде «боярских костюмов», деревянных павильонов с пузатыми балясинами в городских садах и водянистых стихов с непременным «Ах ты, гой еси». Римский-Корсаков хорошо знал тяжелый дух царствования Александра III по своей службе в Придворной капелле. Новый царь, Николай II, не внес ничего в антихудожественный официальный колорит эпохи. Ветшало и обесцвечивалось старое, доживали век парчовые и глазетовые туалеты «в русском вкусе» у фрейлин императорского двора. Из всех эпох царство Додона ближе всего походило на царство массивно-одутловатого, распухшего от пьянства Александра III.
Современники этого не ощутили. В сюжете оперы, в ее тексте они обнаружили зато действительные или кажущиеся намеки на недавние события: на русско-японскую войну, раскрывшую чисто военную несостоятельность царской России и крайнюю запущенность всех отраслей управления, на постыдную роль великих князей, на избирательный закон 3 июня 1907 года, взявший назад «царское слово» и взломавший то, что должно было «стоять тверже скал» — правовую основу конституционного порядка. Загадочной при этом оставалась роль Шемаханской царицы и Звездочета.
Возможно, что это загадка без отгадки. Кажется неслучайным, что в отличие от музыкальных материалов, использованных для характеристики Додонова царства и почти сплошь свежих, никогда не бытовавших в творчестве Римского-Корсакова, темы царицы и Звездочета почерпнуты в значительной своей части из музыкальных заготовок или родственны мелодиям, уже встречавшимся у автора «Золотого петушка». Для образа восточной девушки дивной красоты пригодились наброски, сделанные в разное время к неосуществленным операм («Багдадский брадобрей» и «Стенька Разин»), Эпизод пляски связан с «Шехеразадой» и включает мотив из неоконченной ранней оперы Мусоргского «Саламбо» (что и оговорено Корсаковым). Наконец, таинственная, завораживающая мелодия Звездочета местами чрезвычайно близка к среднему разделу песни Индийского гостя («Есть на теплом море…»). Весь этот. полуготовый музыкальный материал разработан в опере с мастерством и блеском исключительными, превышающими едва ли не все, что когда-либо делал композитор. Песня Шемаханской царицы «Привет солнцу», быстро ставшая любимым концертным номером[35], ошеломила слушателей своей ослепительно светлой, искрящейся, какой-то златочешуйной колоратурой, гордой и смелой интонацией запева, нежной и лукавой истомой припева. Выразительное пушкинское «Вся сияя как заря, Тихо встретила царя» развернулось в пленительную музыку характерно восточного склада. Широкие мелодии и короткие, быстрыми змейками вьющиеся попевки Шемаханской царицы сплетаются в узоры, узоры складываются в изысканно ритмованные орнаменты, ткутся в пестрые оркестровые ткани. Устрашающий контраст возникает между этой сказочно богатой, причудливой музыкой, не лишенной, однако, оттенка странной отчужденности, и однообразной, элементарной в ритмическом отношении, деревянно жесткой по гармонии музыкой Додона: «Как пред солнцем птица ночи, Царь умолк, ей глядя в очи…» Этот контраст обнажил и выдвинул на передний план то, что до того не кидалось в глаза, — вопиющее уродство Додонова царства. Додон и его дворня, с их жестокостью и ограниченностью, хвастливым молодечеством и дутой славой не только постыдны и жалки — они безобразны.
Осуждение во имя красоты составляет основу и драматическую пружину всего происходящего перед шатром Шемаханской царицы (во втором действии оперы) с момента ее появления. Это какой-то обряд разоблачения и осмеяния. Любовные грезы и опоэтизированная чувственность царицы сопоставляются с военно-писарской лирикой Додона. Томительно зазывные песни — с ничтожным «Чижиком». Пляски — с тяжеловесным утаптыванием земли. «Додона надеюсь осрамить окончательно», — писал композитор летом 1907 года, возвращаясь после длительного перерыва к работе над вторым действием. Он осуществил это намерение с успехом.
Разоблачающее и клеймящее сопоставление достигает вершины в свадебном шествии — центральном симфоническом эпизоде третьего действия. Тупая маршеобразная тема, сопровождающая торжественную поступь Додоновых ратников, чередуется, а потом и переплетается с настоящим фейерверком остроколоритных тем, попевок, тешащих и дразнящих слух гармоний, необычайных оркестровых звучаний, то издевательски-пискливых, то тяжело-грозных, наглядно рисующих фантастическую свиту Шемаханской царицы. От осмеяния осталось немного. «Нет, теперь плохая шутка», — говорит царица, и это ее последние слова. В сопровождении все яснее прорезываются напряженные, отрывистые, зловещие интонации, впервые зазвучавшие в кульминации «Сечи при Керженце». Развязка близка. Осуждение Додона возвращается из эстетического плана в план нравственный и общественный. Гремит бодрый хор верноподданных, встречающих своего батюшку-царя:
Верные твои холопы, Лобызая царски стопы, Рады мы тебе служить, Нашей дуростью смешить Без тебя бы мы не знали, Для чего б существовали, Для тебя мы родились И семьей обзавелись..Таинственное появление Звездочета под хрустальное позванивание колокольчиков, легкие, чуть слышные пиццикато[36] струнных, тихие звуки арфы. Его тема чиста, почти стерильна, овеяна никем и никогда в музыке не воспроизводившейся стеклянной, одуванчиковой хрупкостью крайней старости. Обидеть его так же постыдно, как обидеть ребенка. Царь убивает его.
Кто призовет к ответу убийцу? Золотой петушок. Убит убийца. Исчезла Шемаханская царица. Да и что ей здесь делать? Рыдает осиротевший народ: «Что даст новая заря? Как же будем без царя?» Под резко диссонирующий аккорд тромбонов падает занавес. И выходит оживший Звездочет со своей странной присказкой.
Композитор думал одно время об ином заключении: «…по окончании последнего хора… быстро опускается антрактовая занавесь, и выходит Звездочет; обращаясь к публике, он говорит, что показал ей смешные маски и она может идти спать «до зари» и «до петуха». Проваливается; громкий мотив петушка на трубах в том же тоне, как и вначале… И по музыке кругло, да и по идее хорошо; а там пусть себе запрещают или пропускают конец, — какое нам дело? Да и не запретят: ведь мы предлагаем публике спать до зари и петуха, а когда они придут — неизвестно, следовательно, мы самые «благонадежные люди» (из письма к Вельскому от 4 августа 1907 года). С этим предложением либреттист не согласился. Может быть, и напрасно. Иронически-вызывающая концовка, как и ее чуть прикрытое революционное содержание, были совершенно в стиле всей оперы.
ПОСЛЕДНИЙ ГОД
В апреле 1907 года, в самый разгар работы над «Петушком», Римский-Корсаков прервал ее, чтобы вместе с Надеждой Николаевной съездить на несколько недель в Париж. Там затевалось нечто необычное и важное для русской музыки. В Париж перенес из Петербурга свою резиденцию недавний организатор объединения русских художников «Мир искусства» и редактор одноименного журнала, застрельщик нового направления в живописи и театре Сергей Павлович Дягилев. Это был человек напористый, бесцеремонный, предприимчивый и ярко талантливый. Говорили, что в былые годы он пробовал себя и на композиторском поприще, даже носил рукописи к Римскому-Корсакову. Говорили, что композитор принял его опыты без надлежащего восторга, и Дягилев на прощание кинул фразу, вполне достойную оскорбленного гения: будущее покажет, кого из нас двоих история будет считать более великим! Вообще Сергей Павлович был, что называется, вполне современный человек, никогда не тушевался и за словом в карман не лез. Теперь он развил энергичную деятельность, готовясь поразить парижан русской музыкой, русской оперой, русским балетом. Во многом он подхватил начатое Мамонтовым: к оформлению спектаклей привлек первоклассных художников-декораторов, блеснул артистическими силами первого ранга, зрелищную сторону довел до виртуозного блеска. В Париже (о чем раньше и думать не думали) появились на сцене «Снегурочка», «Борис Годунов», «Псковитянка», «Князь Игорь», «Золотой петушок», изумляя одних непривычностью и сладостной остротой, восхищая других глубиной и смелостью художественного замысла. Русская музыка, как и балет, украшенный именами Фокина, Нижинского, Анны Павловой, стала неотъемлемой частью западноевропейской культуры. Прочный след остался, но мода миновала, а с нею вместе и красные денечки Дягилева.
Все это было впереди. В 1907 году Дягилев только начинал свой марафонский бег к разорению и смерти. Прекрасным началом его зарубежной деятельности был цикл «Пять русских исторических концертов». Чтобы залучить на них Римского-Корсакова, Дягилев пустил в ход весь свой дипломатический талант.
После первого появления Корсакова в концертных залах Парижа прошло до мая 1907 года почти восемнадцать лет. Перемены были велики. Когда на эстраду, к дирижерскому пульту поднимался высокий седой человек с резкими и определенными чертами лица, публика бурно аплодировала одному из крупнейших музыкантов начала века, композитору с незапятнанным именем и широкой артистической известностью. Он дирижировал мало — всего несколькими номерами в двух концертах из пяти. Но успех был велик, и присутствие Корсакова, несомненно, придало, как и ожидал устроитель, блеск всему предприятию. Не менее, чем участие Артура Никиша, с громадным успехом дирижировавшего в последнем концерте интродукцией и сценой в подводном царстве из «Садко». Париж был завоеван.
За эти недели случилось несколько интересных встреч: холодно-вежливая с Рихардом Штраусом, теплая с Сен-Сансом и Колонном, дружеская с Рахманиновым и Скрябиным. У Скрябина Корсаковы даже побывали в гостях, слушали в его поразительном фортепианном исполнении «Поэму экстаза» и с некоторым смущением узнали о фантастическом плане создать на берегах Ганга в Индии храм искусства для исполнения будущего произведения самого Скрябина. Николаю Андреевичу, так охотно употреблявшему понятия «рациональное» и «самое рациональное», эта идея, естественно, показалась вполне сумасбродной, музыка же произвела сильное впечатление.
Приглашали Римского-Корсакова и лица высокопоставленные — великая княгиня Мария Павловна, покровительница начинаний Дягилева, великий князь Павел Александрович; но, далекий от обычаев придворного угодничества, композитор без стеснений отказался от знакомства, ему вовсе не лестного.
И вот настало время возвратиться с берегов Сены на берега Невы. Скорый поезд понес их с Надеждой Николаевной через северную Францию и Германию в родные веси. Было о чем подумать, вспомнить.
Близилось тридцатипятилетие их жизни вместе. Они узнали за это время родительские радости и ничем не вознаградимую муку утрат. Было семеро детей; двоих к концу не досчитались. Знали радость полного единодушия, знали и годы расхождения в музыкальных вкусах. На всю жизнь для Надежды Николаевны остались любимыми первые оперы и симфонические произведения мужа. Каждым тактом они были связаны с их общей молодостью, с первым счастьем взаимной любви. Все, что шло после «Снегурочки», было менее близко. Музыкальное развитие Надежды Николаевны, при постоянном участии в работах Николая Андреевича, домашнем музицировании (особенно за последние годы, когда дети подросли), посещении концертов и театра, все же приостановилось. Не развилось и так много обещавшее собственное композиторское дарование. Сказались домашние заботы, материнство, постоянный недосуг. Но отразилось, видимо, и чрезмерно объективное отношение мужа, осуждавшего любительщину, требовавшего от музыканта полной отдачи себя искусству. Требование, бесспорно, справедливое, но, как и всякая прямолинейная справедливость, жесткое. Что-то перегорело в душе Надежды Николаевны, что-то окислилось в ее характере. Холоднее стали отношения с друзьями, суше тон, плотнее сомкнулись губы. Свое призвание, свою жизнь она без остатка пожертвовала мужу. Но внутренний огонь, горевший в его последних, наиболее зрелых операх, уже как-то мало грел ее. «Псковитянка» для нее была лучше «Китежа», «Снегурочка» милее блестящего, холодного и злого «Петушка». Как ни старайся молчать (а говорить неправду Надежда Николаевна не умела), композитор чувствовал свое одиночество в самом для него важном.
Это было тем ощутимее, что отношение самого Римского-Корсакова к «Золотому петушку» резко колебалось. Решающим моментом была при этом оценка места новой оперы в новой музыке. «…Сочинял «Петушка» денно и нощно… Вышла опера длиною вроде «Майской ночи», — писал он Кругликову 31 августа 1907 года. — Думаю, что будете ею довольны. Гармонию местами довел до величайшей напряженности, для меня: «Нате ж, декаденты, выкусите!
А я все-таки до декадентства не унижусь, кривляки порнографические!» Этот веселый и сердитый задор победителя в трудной борьбе слышится и в разговорах с Ястребцевым. То он сразу после окончания оперы объявляет, что ему надоела вычурная гармония и вообще так называемый новейший стиль и теперь ему хотелось бы в отличие от речитативно-ариозного, по преимуществу, «Петушка» написать специально вокальную оперу. Да и сочинял-то он «Золотого петушка», как в свое время и «Кащея», почти исключительно, чтобы доказать, что и его краюха не щербата. Тут если и не совсем шутка, то полушутка, характерное для Корсакова подтрунивание над самим собою; в том же духе и оброненное в беседе с Ястребцевым замечание об остро диссонантной, таинственной и мрачной музыке в начале второго действия — «это взятка декадентству». Нет сомнений, что на самом деле композитор гордится применением крайних художественных средств к новой, действительно требующей этих средств задаче. Когда молодой даровитый критик[37] похвалил его за «чисто штраусовскую смелость» вступления к «Золотому петушку», Римский-Корсаков с досадой ответил: «Я никогда не отличался особой трусостью по части новых гармоний, но только сочинял их в пределах здравого смысла».
Он мог бы повторить свою мысль: «В искусстве дурно только уродливое; напротив, не уродливое, а только крайнее именно и желательно; оно-то и двигает искусство. Лист был крайний, Берлиоз тоже, Вагнер тоже, и мы были такими же…»[38].
Двигал ли «Петушок» искусство вперед? Порой автор сомневался в этом. Он мерил свои последние оперы крупной мерой, временами проявляя крайнюю придирчивость и несправедливость. Ведь к самому себе он умел быть не только беспощадно справедливым, но и беспощадно несправедливым.
Но с какой радостью узнает он от Лядова, что тот в великом восторге от «Золотого петушка»! С какой болью, с каким гневом принимает несуразные требования цензуры, чующей в либретто крамолу, но не умеющей, по обычной тупости, оценить ее степень! Как жаждет постановки, как надеется и отчаивается.
Снова дирекция императорских театров проявляет трусливую близорукость. На этот раз она пасует перед возражениями московского генерал-губернатора. Чтобы опера пошла на сцене, сперва хотя бы в Частном театре С. И. Зимина, преемнике мамонтовского, понадобилось многое. Понадобилось целых полтора года. Понадобились переделки в либретто, обратившие царя Додона всего только в воеводу… Понадобилась смерть Римского-Корсакова.
Он умер летом, в душную грозовую ночь на 8 июня 1908 года в Любенске. Он был необыкновенно добр и внимателен к друзьям и членам семьи в эти последние свои месяцы, когда приступы удушья стали учащаться и приобретать угрожающий характер. Вся мягкость его натуры, годами прятавшаяся в твердой скорлупе, стала видимой всем. Невозможно без глубокого. волнения читать его последние письма, записи Ястребцева о встречах, короткие, но полные любви упоминания о днях его болезни в письмах Лядова. Он ждал смерти и был спокоен перед ее лицом.
«Мне теперь уже пятьдесят девять лет, — еще пятью годами раньше говорил он И. Ф. Тюменеву. — Жизнь, в сущности, прожита… Смерти я, по правде сказать, не боюсь. То есть, быть может, когда она наступит, я н испугаюсь, но теперь не боюсь. Что же, думается, прожил я на свете назначенный срок; никому худого не сделал; работал; что мог, по своим силам, выполнил, — чего же еще».
Мысль о загробной жизни была чужда и несимпатична ему. Художник и мыслитель, он чувствовал прекрасное в жизни и знал красоту завершенного жизненного подвига. «Обратите внимание на это чудесное дерево, оно положительно вещее, — сказал он Ястребцеву в свою последнюю осень в Любенске, проходя мимо любимого ясеня. — Листья его не желтеют, но стоит ему только почувствовать приближение мороза, и вся листва его как-то вдруг сразу осыпется».
Он сам был таким ясенем и осыпался сразу, когда ни единого листка его творчества не успело коснуться увядание.
ГЛАВА XIX. В МЕРТВЫХ НЕ ВМЕНЯЙ ТЫ НАС, МЫ ЖИВЫ
Летом 1905 года Римский-Корсаков написал В. В. Стасову удивительное письмо. Можно спорить со взглядами, в нем выраженными, нельзя не уважать их. Он писал, что смерть сама по себе, как закон бытия, прекрасна. Что может быть ужаснее вечной жизни? — спрашивал он. — Все будут умирать, а я буду жить? Да это ужасно! А если никто не будет умирать, так ведь это станет похоже на рай земной или на царствие небесное. Боже, какая неинтересная скука! Для чего же тогда жить? Чтоб не развиваться? Стоять на месте? «А как хорошо, — продолжал он, — что нет будущей загробной жизни (я верю в то, что ее нет). Каково было бы смотреть оттуда, как то, над чем трудился и что любил, умирает и забывается… Любил я, положим, Глинку, и вот пришло время, когда Глинку забыли и он стал никому не нужен. И какая справедливая эта смерть, этот абсолютный ноль! Ни наград, ни мщения-… Ну, а пока живется, надо жить, и жизнь любить надо, и я ее люблю и умирать не желаю…»
Пятьдесят лет слишком минуло со дня смерти человека, писавшего эти строки. Глинку не забыли на его родине. Помнят ли Римского-Корсакова?
Трудный путь прошел он при жизни, знал годы дружбы, недолгие годы славы и годы горького одиночества. Преувеличенные хвалы претили ему бесконечно. «Прошу Вас, — писал он Н. Ф. Финдейзену в 1898 году, — не называйте меня на столбцах Вашей музыкальной газеты гениальным, как это Вы сделали в последнем нумере. Это неверно, — я знаю это наверное и заявляю это Вам… Никто этого не может знать так хорошо, как я сам…» Порою его охватывало отчаяние и труд целой жизни казался бесплодным, а оценки, сложившиеся в дружеском кругу, условными и шаткими. И все же, можно думать, в свои последние годы он понимал, какое бесценное наследие оставляет. После 8 июня 1908 года наступила великая проверка.
Она продолжается и по сей день. Музыка Римского-Корсакова живет, и живет ее действующее, активное начало. Обильные всходы посеянных им семян зеленеют на родной почве и далеко за рубежами. В острогротесковых зарисовках С. С. Прокофьева и в его целомудренно-сдержанной лирике мы встречаем порою отголоски «Золотого петушка» или «Снегурочки». Благоухающая ароматами или необузданно-бурная музыка А. И. Хачатуряна находится при всех различиях в кровном родстве с узорчатым Востоком Корсакова. А скольким другим, пока еще менее известным, композиторам привелось пить из чистого источника корсаковского творчества!
Побеги от того же корневища пробились на почве национальных культур — сперва Украины, Латвии, Армении, Грузии, позднее — на плодоносных нивах белорусской, еврейской, азербайджанской, узбекской музыки. Были ли то прямые ученики Римского-Корсакова, как А. А. Спендиаров, М. Ф. Гнесин, В. А. Золотарев, или ученики учеников, или даже ученики косвенные, не формальные, но во всех случаях путь к глубоким истокам народного творчества лежал через художественный опыт автора «Садко».
Неуклонно распространялась музыка Корсакова на Западе, главным образом в странах романской культуры, повсюду пробуждая к жизни скрытые возможности национального искусства. Южный француз Равель, испанец де Фалья, итальянец Респиги во многих своих произведениях явились продолжателями Корсакова не только по приемам филигранной, изысканно красочной оркестровки, но и по характеру ясной, стройной, сдержанной в эмоциональных проявлениях музыки. Переселился во Францию и стал там законодателем вкусов наиболее одаренный из учеников Николая Андреевича, И. Ф. Стравинский. Создавая свою на острых музыкально-цветовых контрастах построенную сказку «Жар-птица» и первобытно-языческую «Весну священную», он, по меткому слову Н. Я. Мясковского, «начал там, где кончил Римский-Корсаков». Правда, в дальнейшем он встал в резкую оппозицию к традициям и к памяти своего учителя. Но и в самых далеких уклонениях от первоначально наметившегося пути он не переставал быть учеником того, кого осуждал.
Музыка Римского-Корсакова прошла невредимо отмели и рифы исторического потока. В известном смысле она объединила драгоценные черты, свойственные порознь искусству Балакирева, Мусоргского и Бородина: неукоризненный художественный вкус первого, бескомпромиссную правду в изображении народной жизни второго, эпическую широту последнего. Но, впитав близкое, она не изменила своему. Никто не раскрыл с такой глубиной народный идеал прекрасного, никто не почтил такой нелицемерной данью дух свободолюбия и человеческого достоинства, не осудил так беспощадно и с такой нравственной высоты дух Александровской слободы. Этот мужественный гуманизм был не только свойством музыки Корсакова. Речь идет о коренной особенности его личности. В услужении Николай Андреевич никогда не бывал, ни у Рубинштейна, ни у Балакирева, ни у самого господа бога, писала Надежда Николаевна Стасову в 1887 году. В истории не одной лишь русской музыки Римский-Корсаков в этом отношении — фигура единственная в своем роде.
Римский-Корсаков у нас чтим и уважаем. Его именем названа консерватория, в которой он без малого тридцать семь лет воспитывал музыкантов. Его оперы не сходят со сцены, а если сходят, то не на очень долго. Близится к завершению академическое полное собрание его сочинений.
И все же мы в великом долгу перед ним. Редкими гостями приходят в оперные театры самые глубокие по мысли и совершенные по мастерству его поздние произведения. Есть еще одна вина. Душевный облик человека, именем которого названа книга, чаще всего заслонен для нас его музыкой. Мы забываем слова поэта:
И было мукою для них, Что людям музыкой казалось.Мукой и великой радостью. Трудом и подвигом. Делом всей жизни.
Ближе подойти к этим мукам и радостям, прикоснуться в меру сил к душевному миру художника — такова была задача нашего общего с читателем труда.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА
1844, 6 марта — Родился в городе Тихвине Новгородской губернии.
1856, 20 августа — Поступление в Морской кадетский корпус В Петербурге.
1858, 17 апреля — Первое слушание оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»),
1859, 20 сентября — Начало занятий по фортепиано у Ф. А. Канилле (до весны 1862 года).
1861, февраль и ноябрь — Двукратное посещение оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила».
26 ноября — Знакомство через Ф А. Канилле с М. А. Балакиревым и Ц. А. Кюи.
Декабрь — Встреча у М. А Балакирева с М. П. Мусоргским и В. В. Стасовым.
1861–1862 — Работа над Первой симфонией по инициативе и под руководством М. А. Балакирева.
1862, 19 марта — Смерть отца, Андрея Петровича Римского-Корсакова (род 4 августа 1784 года). Последняя поездка в Тихвин, на похороны отца.
8 апреля — Окончание Морского корпуса и выпуск в гардемарины
1862, 21 октября—1865, 21 мая — Заграничное плавание на клипере «Алмаз» с крейсированием у южных берегов Балтики и с заходом в порты Германии, Англии, Соединенных Штатов Америки, Бразилии, Испании, Франции, Италии, Португалии, Норвегии.
В Англии в 1863 году написано Анданте Первой симфонии на тему русской народной песни «Про татарский полон». Интенсивная переписка с М. А. Балакиревым.
1865, июнь—1873, май — Служба во флоте (в Кронштадте и Петербурге).
1865, осень — Возобновление музыкальных связей с М. А. Балакиревым и его кругом Знакомство с А. П. Бородиным. Окончание Первой симфонии; первые романсы.
1866 — Близкое знакомство с работой М. А. Балакирева над сборником «Сорок русских народных песен», а также с кавказскими мелодиями, чешскими и венгерскими песнями, изучавшимися М. А. Балакиревым.
Июнь — июль — Написана «Увертюра на русские темы».
1867, июль — сентябрь — По программе В. В. Стасова написана симфоническая картина «Садко».
1868, январь — август — Написана Вторая симфония («Антар»), Переработана в 1875 году и вторично в 1897 году, когда была переименована в симфоническую сюиту.
Апрель — Знакомство с П. И. Чайковским в Петербурге. Сближение с А. С. Даргомыжским. Знакомство в его доме с сестрами Н. Н. и А. Н. Пургольд.
1868, июнь—1872, январь — Написана опера «Псковитянка» (новые редакции оперы в 1875–1877 годах и в 1891–1894 годах).
1869, 3 января и 21 февраля — Выступления в газете «Санкт-Петербургские ведомости» со статьями об операх Э. Ф. Направника «Нижегородцы» и Ц. А. Кюи «Вильям Ратклиф».
1869, весна—1870, лето — Работа над оркестровкой оперы А. С. Даргомыжского «Каменный гость».
1871, 1 сентября — Начало тридцатисемилетней преподавательской работы в Петербургской консерватории (классы практического сочинения и инструментовки).
4 ноября — Смерть брата, контр-адмирала Воина Андреевича (род. 14 июля 1822 года).
20 ноября — Поездка в Пизу (Италия) за телом брата.
1871, осень—1872, весна — Совместная жизнь с М. П. Мусоргским.
1872, 9 января — Исполнение музыкальной картины «Садко» в Вене под управлением А. Г. Рубинштейна.
30 июня — Женитьба на Надежде Николаевне Пургольд (1848–1919). Двухмесячное свадебное путешествие за границу (Швейцария и Северная Италия).
1872, лето—1873, осень — Написана Третья симфония (переработана в 1885–1886 годах).
1873, 14 мая — Назначение инспектором музыкантских хоров морского ведомства (до 1884 года).
1874, 18 февраля — Первое выступление в Петербурге в качестве дирижера.
Весна — Избрание директором Бесплатной музыкальной школы (до 1881 года). Организация концертов Бесплатной музыкальной школы из произведений Баха, Генделя, Палестрины, Гайдна, Бетховена под собственным управлением.
Лето — Поездка в город Николаев для инспектирования военных оркестров и в Крым (Севастополь, Бахчисарай, Алупка, Ялта). Знакомство с музыкой крымских татар.
1874–1875 — Усиленные занятия гармонией и контрапунктом.
1875, лето — Сочинение шестидесяти одной фуги.
Лето и осень — Написан Первый струнный квартет.
1875–1877 — Гармонизация сорока русских народных песен, собранных Т. И. Филипповым. Составление сборника «Сто русских народных песен». Знакомство с исследованиями А. Н. Афанасьева, И. П. Сахарова и других о народной обрядовой поэзии.
1876, 30 августа — Начата «Летопись, моей музыкальной жизни» (последняя запись — 22 августа 1906 года).
1877, зима — Сближение с А. К. Лядовым, учеником Римского-Корсакова по консерватории. Знакомство с С. Н. Кругликовым, в дальнейшем — московским музыкальным критиком.
1877–1878 — Участие в редактировании партитуры оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила».
1877, лето—1879, лето — Написана опера «Майская ночь» (в основном в Парголове и Лигове).
1878–1881 — Участие в редактировании партитуры оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин».
1879, 3 и 9 апреля — Первые дирижерские выступления в Москве в концертах Филармонического общества (так называемых концертах П. А. Шостаковского).
Ноябрь — Оркестрована «Пляска персидок» из «Хованщины» М П. Мусоргского.
23 декабря — Начало занятий по теории музыки с пятнадцатилетним А. К. Глазуновым, в дальнейшем одним из самых близких Римскому-Корсакову музыкантов.
1879, лето—1880, осень — Написана оркестровая пьеса «Сказка» (в Лигове и Стелёве, под Лугой).
1880, февраль—1881, март — Написана опера «Снегурочка» (в основном в Стелёве, под Лугой).
1881, 16 марта — Смерть М. П. Мусоргского.
30 мая — Исполнение «Антара» в Магдебурге под управлением А. Никита.
Июнь — июль — Поездка в город Николаев и Крым (Ялта, Симферополь, Севастополь). Трехдневное пребывание в Константинополе.
1881–1883 — Доработка и редактирование оперы М. П. Мусоргского «Хованщина». Подготовка к изданию произведений М. П. Мусоргского.
1882, 15 и 22 августа — Дирижирование в Москве двумя концертами Русского музыкального общества на Всероссийской промышленно-художественной выставке. Знакомство с М. П. Беляевым.
1882–1883, январь — Написан Концерт для фортепиано с оркестром на русскую тему.
1883, 23 февраля — Назначение помощником управляющего Придворной певческой капеллой — при управляющем М. А. Балакиреве (служба до 1894 года). Организация в капелле инструментального и регентского классов, преподавание курса гармонии.
1884, 9 марта — Упразднение должности инспектора музыкантских хоров в морском ведомстве.
Лето и осень — Написан «Практический учебник гармонии».
1885, 8 октября — Постановка оперы «Снегурочка» в Московской частной русской опере (С. И. Мамонтова); декорации костюмы по эскизам В. М. Васнецова.
1885–1886 — Организация Русских симфонических концертов на средства М. П. Беляева, по инициативе и при активном участии Н. А. Римского-Корсакова (первый концерт в Петербурге 23 ноября 1885 года). Начало участия в Музыкальной комиссии нотоиздательства, созданного М. П. Беляевым для систематической публикации произведений русских композиторов.
1887, 15 февраля — Смерть А. П. Бородина.
Лето — Написано «Испанское каприччио» (в Никольском, под Лугой).
1887–1888 — Работа совместно с А. К. Глазуновым над незаконченной оперой А. П. Бородина «Князь Игорь».
1888, июнь — июль — Написана «Шехеразада».
Июль — август — «Воскресная увертюра» (в Нежговицах, под Лугой).
1889, февраль — март — Постановка «Кольца Нибелунгов» Р. Вагнера в Мариинском театре силами пражской труппы под управлением К. Мука.
22 и 29 июня — Дирижирование в Париже двумя Русскими симфоническими концертами, организованными М. П. Беляевым.
21 октября — Исполнение в Москве «Испанского каприччио» под управлением автора, с участием П. И. Чайковского (партия кастаньет).
1889, февраль—1890, август — Написана опера-балет «Млада» (в основном в Нежговицах).
1890, 13 апреля — Дирижирование в Брюсселе симфоническим концертом из произведений русской музыки.
30 августа — Смерть матери Софьи Васильевны (род. в 1802 году).
1891, январь — Резкое ухудшение отношений с М. А Балакиревым.
Лето — Поездка в Швейцарию (Люцерн) в связи с тяжелой болезнью дочери Марии (ум. в 1893 году).
Осень — Начало многолетней дружбы с В. В. Ястребцевым, автором двухтомных «Воспоминаний» о Римском-Корсакове.
1891–1892 и 1894 — Третья редакция оперы «Псковитянка».
1891–1893 — Душевный кризис и временный упадок творческой деятельности. Чтение трудов по эстетике и философии. Работа над музыкально-эстетическими сочинениями (сохранились фрагменты «Эстетики музыкального искусства»),
1892 — Начало работы над оперой М. П. Мусоргского «Борис Годунов».
1893, январь — Поездка в Москву в связи с постановкой «Снегурочки» в Большом театре. Переговоры с директором Московской консерватории В И Сафоновым о переезде в Москву
Весна — Работа И. Е. Репина над портретом Римского-Корсакова (масло).
25 октября — Смерть П. И. Чайковского
20 ноября — Русский симфонический концерт памяти Чайковского под управлением Римского-Корсакова
1894, 19 января — Прекращение работы в Придворной певческой капелле.
Весна и лето — Работа над оперой «Ночь перед Рождеством» (в Вечаше, под Лугой); окончена в феврале 1895 года; первые наброски для оперы «Садко»
8 ноября — Смерть А. Г. Рубинштейна
Конец года — Знакомство с В. И. Вельским, будущим либреттистом корсаковских опер
1895, январь — Поездка в Киев в связи с постановкой «Снегурочки» (23 января). Встреча с Н. В. Лысенко (бывшим учеником Римского-Корсакова)
Лето — Работа над оперой «Садко» (в Вечаше); закончена в сентябре 1896 года (в Смердовицах, по Балтийской железной дороге).
Ноябрь — Осложнения с постановкой оперы «Ночь перед Рождеством» (на Мариинской сцене); вмешательство великих князей, нашедших недопустимым появление среди действующих лиц Екатерины II
Декабрь — Возвращение к работе над оперой М П Мусоргского «Борис Годунов» (переработка и оркестровка закончены в мае 1896 года)
1896, 19 августа — Постановка оперы «Майская ночь» в Праге.
28 ноября — Первая постановка «Бориса Годунова» (в редакции Римского-Корсакова) в Большом зале Петербургской консерватории под управлением Римского-Корсакова.
10 декабря — Постановка «Псковитянки» в Московской частной русской опере, с Ф И. Шаляпиным в роли Ивана Грозного
1897, январь — Отказ дирекции императорских театров от постановки оперы «Садко».
Июль и август — написаны (в Смычкове, под Лугой) кантата «Свитезянка», опера «Моцарт и Сальери», романсы (около сорока), два дуэта и др. Упражнения в сочинении фуг и прелюдий
Конец декабря — Поездка в Москву в связи с постановкой оперы «Садко» в театре Частной русской оперы с декорациями К. А. Коровина и С. В. Малютина (Римский-Корсаков был на третьем и четвертом представлениях — 30 декабря 1897 года и 2 января 1898 года).
1898, 3 января — Встреча в Москве с Л. Н. Толстым и спор об искусстве
Февраль — Начата опера «Царская невеста».
Февраль — апрель — Окончательная обработка пролога к «Псковитянке» («Боярыня Вера Шелога»), написанного в первом варианте еще в 1877 году
Март — май — Работа В. А. Серова над портретом композитора (масло) Гастроли в Петербурге мамонтовской оперы при участии Н. И. Забелы и Ф. И. Шаляпина. Начало дружбы с певицей Н. И. Забелой и художником М. А. Врубелем
Май — Написан романс «Нимфа», посвященный Н. И. Забеле
Весна — Задумана опера «Сказка о царе Салтане»
Лето (в Вечаше) — Работа над оперой «Царская невеста» (закончена в конце ноября 1898 года)
Сентябрь — Написан романс «Сон в летнюю ночь», посвященный М. А. Врубелю
1898–1899 — Встречи с В. И. Вельским и обсуждение с ним оперных сюжетов («Салтан», «Китеж», «Небо и земля» и др)
1899 — Работа над оперой «Сказка о царе Салтане» (в основном в Вечаше), закончена в январе 1900 года
Сентябрь — Арест С. И. Мамонтова по ложному обвинению и его отстранение от оперного дета
Октябрь — Поездка в Москву на первую постановку оперы «Царская невеста» (22 октября, товарищество Частной русской оперы, декорации по эскизам М. А. Врубеля)
1900, 5 марта — Дирижирование симфоническим концертом в Брюсселе
3 мая — Постановка оперы «Майская ночь» во Франкфурте на Майне (там же позднее — «Царская невеста» и «Снегурочка»)
Весна и лето — Работа над оперой «Сервилия» (в основном во время отдыха в Германии и Швейцарии), закончена весной 1901 года
Октябрь — Поездка в Москву на постановку «Сказки о царе Салтане» (21 октября, товарищество Частной русской оперы, декорации по эскизам М. А. Врубеля)
19 декабря — Тридцатипятилетие композиторской деятельности Чествование в Петербурге и Москве (в ноябре — декабре 1900 года и январе 1901 года)
1901, июнь — Начата опера «Кащей бессмертный» (в Крапа чухе, близ Окуловки, по бывшей Николаевской железной дороге), закончена в марте 1902 года
Июль — август — Написана кантата «Из Гомера»
1902, весна и лето — Работа над оперой «Пан воевода» (в основном в Гейдельберге), закончена весной 1903 года
1903, май—1905, январь — Написана опера «Сказание о невидимом граде Китеже» (в основном в Крапачухе и Вечаше).
1904, январь — Учреждение «Попечительного совета для поощрения русских композиторов и музыкантов», по завещанию М. П. Беляева (ум. 28 декабря 1903 года) В состав вошли Н. А. Римский-Корсаков (председатель), А. К. Глазунов и А. К. Лядов
Февраль — Написана оркестровая прелюдия памяти М. П. Беляева «Над могилой»
9 ноября — Постановка оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов» (в редакции Римского Корсакова) на сцене Мариинского театра с участием Ф. И. Шаляпина под управлением Ф. М. Блуменфельда
1905, 21 марта — Увольнение из консерватории Отказ Римского-Корсакова от звания почетного члена петербургского отделения Русского музыкального общества
27 марта — Постановка оперы «Кащей бессмертный» учащимися Петербургской консерватории в театре В. Ф. Комиссаржевской под управлением А. К. Глазунова
Июнь — июль — Начата работа над статьей о «Снегурочке» Работа над руководством по оркестровке (издано после смерти композитора)
Лето — осень — Обдумывание оперного сюжета о восстании Степана Разина
Сентябрь — Поездка в Москву в связи с постановкой оперы «Пан воевода» в Большом театре (27 сентября, под управлением С В Рахманинова)
Ноябрь — Написана пьеса для оркестра с хором «Дубинушка»
4 декабря — Организация концерта в пользу бастующих рабочих
5 декабря — Постановление Художественного совета Петербургской консерватории, приглашающее Н. А. Римского-Корсакова вернуться на работу в консерваторию, и его возвращение
1906, весна — Работа над партитурой «Бориса Годунова» (вое становление и оркестровка некоторых пропущенных сцен) Редактирование «Женитьбы» М. П. Мусоргского
Лето — Поездка за границу (Вена, Рива) Оркестровка трех романсов М. П. Мусоргского
10 октября — Смерть В. В. Стасова
1906, октябрь—1907, август — Написана опера «Золотой петушок» (в основном в Любенске, под Лугой)
1907, апрель — Поездка в Париж
3 мая — Открытие в Париже цикла «Пять русских исторических концертов», организованного С П Дягилевым Последние выступления Римского Корсакова в качестве дирижера
Май — Встречи с французскими композиторами и музыкантами, а также с А. Н. Скрябиным и Р. Штраусом
Ноябрь — Избрание членом корреспондентом Парижской академии изящных искусств
1908, 16 февраля — Исполнение вступления и шествия из оперы «Золотой петушок» в Петербурге, в Русском симфоническом концерте под управлением Ф. М. Блуменфельда.
Март — Работа В. А. Серова над портретом композитора (уголь).
6 мая — Первое представление «Бориса Годунова» в Париже (в театре Большой оперы).
7 мая — Первая постановка «Снегурочки» Париже (в театре Комической оперы).
5 июня — Получено письмо от директора императорских театров В. А. Теляковского о невозможности поставить оперу «Золотой петушок» ввиду решительного возражения московского генерал-губернатора.
В ночь с 7 на 8 июня — смерть композитора в Любенске.
11 июня — Погребение на кладбище Ново-Девичьего монастыря в Петербурге.
1937 — Перенесение праха в Ленинградский некрополь при Александро-Невской лавре.
КРАТКАЯ НОТОГРАФИЯ И БИБЛИОГРАФИЯ
I. Основные музыкальные произведения Н. А. Римского-Корсакова
1. ОПЕРЫ
1868–1872. «Псковитянка». В трех действиях. Посвящена в первом издании «Дорогому мне музыкальному кружку». Либретто композитора по драме Л. А. Мея того же названия. Первая постановка 1 января 1873 года в Петербурге на сцене Мариинского театра под управлением Э. Ф. Направника.
1877–1879. «Майская ночь». В трех действиях. Посвящена Н. Н. Римской-Корсаковой. Либретто композитора по повести Н. В. Гоголя. Первая постановка 9 января 1880 года в Мариинском театре под управлением Э. Ф. Направника.
1880–1881. «Снегурочка», весенняя сказка. В четырех действиях, с прологом. Либретто композитора по А. Н Островскому. Первая постановка 29 января 1882 года в Мариинском театре под управлением Э. Ф. Направника.
1889–1890. «Млада». Волшебная опера-балет в четырех действиях. Либретто композитора по сценарию С. А. Гедеонова и тексту В. А. Крылова. Первая постановка 20 октября 1892 года в Мариинском театре под управлением Э. Ф. Направника.
1894–1895. «Ночь перед Рождеством». Быль-колядка. В четырех действиях. Либретто композитора по повести Н. В. Гоголя. Первая постановка 28 ноября 1895 года в Мариинском театре под управлением Э. Ф. Направника.
1894–1896. «Садко». Опера-былина в семи картинах. Либретто композитора при участии В. В. Стасова, Н. М. Штрупа и В. И. Вельского. Первая постановка 26 декабря 1897 года в Москве, в Частной русской опере (С. И. Мамонтова) под управлением Е. Д. Эспозито.
1897. «Моцарт и Сальери». Драматические сцены в одном действии на текст А. С. Пушкина. Опера посвящена памяти А. С. Даргомыжского. Первая постановка 25 ноября 1895 года в Москве, в Частной русской опере под управлением И. А. Труффи.
1898. «Боярыня Вера Шелога». Одноактная опера-пролог к «Псковитянке». Либретто композитора по драме Л. А. Мея. Первая постановка 15 декабря 1898 года в Москве, в Частной русской опере под управлением И. А. Труффи.
1898. «Царская невеста». В четырех действиях. Либретто композитора при участии И. Ф. Тюменева по одноименной драме Л. А. Мея. Первая постановка 22 октября 1899 года в Москве (Товарищество частной русской оперы) под управлением М. М. Ипполитова-Иванова.
1899–1900. «Сказка о царе Салтане». В четырех действиях, с прологом. Либретто В. И. Вельского по А. С. Пушкину. Первая постановка 21 октября 1900 года в Москве (Товарищество частной русской оперы) под управлением М. М. Ипполитова-Иванова.
1900–1901. «Сервилия». В пяти действиях. Посвящается памяти Л. А. Мея. Либретто композитора по одноименной драме Л. А. Мея. Первая постановка 1 октября 1902 года в Мариинском театре под управлением Ф. М. Блуменфельда.
1901–1902. «Кащей бессмертный», осенняя сказочка. В одном действии (трех картинах). Либретто композитора при участии дочери Софьи Николаевны Римской-Корсаковой по пьесе Е. М. Петровского «Иван Королевич». Первая постановка 12 декабря 1902 года в Москве (Товарищество частной русской оперы) под управлением М. М. Ипполитова-Иванова.
1902–1903. «Пан воевода». В четырех действиях. Опера посвящена памяти Фредерика Шопена. Либретто И. Ф. Тюменева. Первая постановка 3 октября 1904 года в Петербурге, в Большом зале консерватории (антреприза А. А. Церетели) под управлением В. И. Сука.
1903–1905. «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». В четырех действиях. Либретто В. И. Вельского. Первая постановка 7 февраля 1907 года в Мариинском театре под управлением Ф. М. Блуменфельда.
1906–1907. «Золотой петушок», небылица в лицах. В трех действиях. Либретто В. И. Вельского по А. С. Пушкину. Первая постановка 24 сентября 1909 года в Москве, в театре С. И. Зимина, под управлением Э. А. Купера.
2. СИМФОНИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1862–1865. Первая симфония. Посвящена Ф. А. Канилле. Впервые исполнена 19 декабря 1865 года, в концерте Бесплатной музыкальной школы под управлением М. А. Балакирева.
1866. «Увертюра на русские темы» для оркестра. Впервые исполнена 11 декабря 1866 года в концерте Бесплатной музыкальной школы под управлением М. А. Балакирева.
1867. «Фантазия на сербские темы» («Сербская фантазия») для оркестра. Впервые исполнена 12 мая 1867 года в славянском концерте под управлением М. А. Балакирева.
1867. «Садко». Музыкальная картина для оркестра. Посвящена Милию Алексеевичу Балакиреву. В первом издании 1867 года имеет подзаголовок «Эпизод из былины о Садко, Новгородском госте». Первое исполнение 9 декабря 1867 года в концерте Русского музыкального общества под управлением М. А. Балакирева.
1868. Вторая симфония («Антар») по восточной сказке О. И. Сенковского. Посвящена Ц. А. Кюи. В редакции 1897 года переименована в симфоническую сюиту. Первое исполнение 10 марта 1869 года в концерте Русского музыкального общества под управлением М. А. Балакирева.
1872–1873. Третья симфония. Впервые исполнена 18 февраля 1874 года в благотворительном концерте под управлением, автора.
1879–1880. «Сказка» — оркестровая пьеса на тему пушкинского пролога к «Руслану и Людмиле». Впервые исполнена 10 января 1881 года в концерте Русского музыкального общества под управлением автора.
1882–1883. Концерт для фортепиано с оркестром на русскую тему. Впервые исполнен 27 февраля 1884 года в концерте Бесплатной музыкальной школы (солист Н. С. Лавров) под управлением М. А. Балакирева.
1887. «Испанское каприччио» (Каприччио на испанские темы) для оркестра. Первое исполнение 31 октября 1887 года в Русском симфоническом концерте под управлением автора.
1888. «Шехеразада» — симфоническая сюита на сюжет сказок «1000 и одна ночь». Посвящена В В. Стасову. Впервые исполнена 22 октября 1888 года в Русском симфоническом концерте под управлением автора.
1888. Воскресная увертюра («Светлый праздник») для оркестра на темы из «Обихода». Посвящена памяти М. П. Мусоргского и А. П. Бородина. Первое исполнение 3 декабря 1888 года в Русском симфоническом концерте под управлением автора.
1899. «Музыкальные картинки к «Сказке о царе Салтане» — оркестровая сюита. Впервые исполнена 4 декабря 1899 года в Русском симфоническом концерте под управлением автора.
1905–1906. «Дубинушка» — русская народная песня для симфонического оркестра с хором (по желанию). Первое исполнение 5 ноября 1905 года в концерте А. И. Зилоти под его же управлением.
3. ХОРОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1875. Шесть хоров без сопровождения на слова М. Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина, А. В. Кольцова. Посвящены Н. Н. Римской-Корсаковой. Четыре вариации и фугетта на тему русской песни «Надоели ночи» для четырех женских голосов.
1876. «Татарский полон». Хор а сареllа на слова и напев народной песни.
1879–1880. «Слава». Подблюдная песня для хора с сопровождением оркестра.
1897. «Свитезянка». Кантата для сопрано, тенора, смешанного хора и оркестра на текст А. Мицкевича (в переводе Л. А. Мея). Посвящена С. И. Танееву. Первое исполнение 18 ноября 1898 года в Петербурге в концерте Русского музыкального общества под управлением В. И. Сафонова.
1899. «Песнь о вещем Олеге». Кантата для двух мужских голосов, мужского хора и оркестра. Посвящена памяти Пушкина. Первое исполнение 18 декабря 1899 года в концерте Русского музыкального общества под управлением автора.
1901. «Из Гомера». Прелюдия-кантата для трех женских голосов, женского хора и оркестра. Первое исполнение 15 ноября 1903 года в концерте А. И. Зилоти, под его же управлением.
4. РОМАНСЫ, ДУЭТЫ, ТРИО
1865–1866. Четыре романса на слова Г. Гейне (в переводе М. И. Михайлова), А. В. Кольцова, Л, А. Мея (первый романс 1865 года, на слова Г. Гейне, посвящен М. П. Мусоргскому).
1866. Четыре романса на слова Г. Гейне, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. Ф. Щербины. Четыре романса на слова А. С. Пушкина, Г. Гейне, И. С. Никитина, А. А. Фета.
1867. Четыре романса на слова А. С. Пушкина, Л. А. Мея (из «Песни песней»), А. Мицкевича (в переводе Л. А. Мея), М. Ю. Лермонтова.
1868–1870. Шесть романсов на слова А. Н. Плещеева, А. Шамиссо, Л. А. Мея, А. А. Фета, А. С. Пушкина.
1870–1876. Два романса на слова Г. Гейне (в переводе Л. А. Мея).
1882. Четыре романса на слова Дж. Байрона (в переводе И. И. Козлова) и А. С. Пушкина.
1883. Четыре романса на слова А. К. Толстого, А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, Фр. Коппе (в переводе С. Андреевского).
1897. Четыре романса на слова А. К. Толстого. Четыре романса на слова М. Ю. Лермонтова и А. Н. Майкова. Четыре романса на слова А. К. Толстого, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова. Четыре романса на слова А. А. Фета, А. С. Пушкина, А. Мицкевича (в переводе Л. А. Мея). Четыре романса на слова А. К. Толстого и А. А. Фета. Пять романсов («Поэту») на слова А. С. Пушкина и А. Н. Майкова. Пять романсов («У моря») на слова А. К. Толстого. Два ариозо — «Анчар» и «Пророк» на слова А. С. Пушкина («Пророк» оркестрован в 1899 году). Четыре романса на слова А. Н. Майкова. Пять романсов на слова А. С. Пушкина.
1897–1898. Четыре романса на слова А. С. Пушкина и Л. Уланда.
1898. Два романса на слова А. Н. Майкова.
1897. Два дуэта: «Пан» на слова А. Н. Майкова и из «Песни песней» (в переводе Л. А. Мея). Оркестрованы в 1905 году. Два дуэта: «Горный ключ» на слова А. Н. Майкова (переработан в трио с сопровождением оркестра в 1905 году) и «Ангел и Демон» на слова А. К. Толстого. Трио для женских голосов «Стрекозы» на слова А. К. Толстого (оркестровано в 1905 году).
5. СБОРНИКИ РУССКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН
1875–1877. «Сорок русских народных песен, собранных Т. И. Филипповым и гармонизованных Н. А. Римским-Корсаковым (изд. в 1882 году). Сборник «Сто русских народных песен», составленный Н. А. Римским-Корсаковым (изд. в 1877 году). Посвящен В. В. Стасову.
6. ОБРАБОТКА И РЕДАКЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДРУГИХ КОМПОЗИТОРОВ
1869–1870. Оркестровка оперы А. С. Даргомыжского «Каменный гость». Первое исполнение 16 февраля 1872 года в Мариинском театре под управлением Э. Ф. Направника.
1877–1878. Редакция партитуры оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила» (совместно с М. А. Балакиревым и А. К. Лядовым).
1878–1881. Редакция партитуры оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин» (совместно с М. А. Балакиревым и А. К. Лядовым).
1881–1883. Доработка, редакция и оркестровка оперы М. П. Мусоргского «Хованщина». Первое исполнение 9 февраля 1886 года в Петербурге, силами Музыкально-драматического кружка под управлением Э. Ю. Гольдштейна.
1881–1883. Обработка вокальных, фортепианных, оркестровых произведений М. П. Мусоргского, хоров из «Царя Эдипа», «Саламбо» и др.
1886. Обработка фантазии для оркестра М. П. Мусоргского «Ночь на Лысой горе». Первое исполнение 15 октября 1886 года в Петербурге под управлением Римского-Корсакова.
1887–1888. Доработка и редакция оперы А. П. Бородина «Князь Игорь» (кроме увертюры и третьего действия, дописанных и оркестрованных А. К. Глазуновым). Первое исполнение 23 сентября 1890 года в Мариинском театре под управлением К. А. Кучеры.
1892–1894 и 1895–1896. Редакция и оркестровка оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов». Первое исполнение 28 ноября 1896 года в Петербурге, силами Общества музыкальных собраний под управлением Римского-Корсакова.
1906. Редакция оперы М. П. Мусоргского «Женитьба» и оркестровка его трех вокальных произведений: «Гопак» (из поэмы Т. Шевченко «Гайдамаки»), «По грибы» (на слова Л. А. Мея) и «Спи, усни, крестьянский сын» (из пьесы А. Н. Островского «Воевода»).
II. Литературное наследие Н. А. Римского-Корсакова
Н. Римский-Корсаков, Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка.
т. I. Летопись моей музыкальной жизни. М., 1955. В том же году — отдельное издание.
т. II. Музыкально-критические статьи, документы и другие материалы. М., 1963.
т. III. Основы оркестровки. М., 1959.
т. IV. Практический учебник гармонии. М., 1960.
т. V. Переписка с М. А. Балакиревым, А. П. Бородиным, Ц. А. Кюи, М П. Мусоргским, В. В. Стасовым и др. М., 1963.
Переписка с А. К. Глазуновым. В кн.: Глазунов. Исследования, материалы, публикации, письма. В двух томах. Т. 2. Л., 1960, стр. 157–269.
Переписка с А. К. Лядовым. В журн. «Музыкальный современник». П., 1916, № 7.
Переписка с П. И. Чайковским. В кн.: «Советская музыка». Третий сборник статей. М.—Л., 1945.
Переписка с М. А. Врубелем. В кн.: Врубель. Переписка, воспоминания о художнике. Л.—М., 1963.
Письма к В. И. Сафонову, В. В. Бесселю, С. И. Мамонтову, П. И. и Б. П. Юргенсонам и др. В кн.: Н. А. Римский-Корсаков. Сборник документов. М.—Л., 1951.
Письма к Н. Ф. Финдейзену. В журн. «Музыкальная новь». М., 1924, № 4(1).
III. Литература о Н. А. Римском-Корсакове
1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ВОСПОМИНАНИЯ О РИМСКОМ-КОРСАКОВЕ
A. Н. Римский-Корсаков, Н. А. Римский-Корсаков. Жизнь и творчество. В пяти выпусках. М., 1933–1946.
B. В. Ястребцев, Николай Андреевич Римский-Корсаков. Воспоминания. В двух томах. Т. 1. Л., 1959. Т. 2. Л., 1960.
М. Ф. Гнесин, Мысли и воспоминания о Н. А. Римском-Корсакове. М., 1956. (Там же: Воспоминания о Петербургской консерватории в 1905 году Ю. Л. Вейсберг и А. Н. Дроздова.)
Воспоминания учеников Н. А. Римского-Корсакова (А. В. Оссовского, Б. В. Асафьева и др.) в кн.: Н. А. Римский-Корсаков и музыкальное образование. Статьи и материалы. Л., 1959. (Там же: материалы о работе Н. А. Римского-Корсакова в Петербургской консерватории, статьи, библиографический указатель книг и журнальных статей о Римском-Корсакове за 1917–1957 годы.)
Римский-Корсаков, Исследования, материалы, письма. В двух томах. Т. II. М., 1954.
М. Янковский, Римский-Корсаков и революция 1905 года. М.—Л., 1950.
2. КНИГИ И СТАТЬИ О ТВОРЧЕСТВЕ Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА
Ц. Кюи, Избранные статьи. Л., 1952.
В. В. Стасов, Статьи о Римском-Корсакове. — М., 1953.
П. И. Чайковский, Музыкально-критические статьи. М., 1953.
Б. В. Асафьев [Игорь Глебов}, Симфонические этюды. П., 1922.
Б. В. Асафьев, Избранные труды. Т. III. Композиторы «Могучей кучки». В. В. Стасов. М., 1954.
Ю. Кремлев, Эстетика природы в творчестве Н. А. Римского-Корсакова. М., 1962.
А. Оссовский, Римский-Корсаков. Статья в Большой советской энциклопедии. Изд. 2-е, т. 36. М., 1955.
А. Соловцов, Н. А. Римский-Корсаков. |М.], 1948.
A. Соловцов, Жизнь и творчество Н. А. Римского-Корсакова. М., 1964.
B. Цуккерман, Статьи о творчестве Римского-Корсакова в журн. «Советская музыка»: 1933, V? 3; 1938, № 10—Я; 1956, № 10; 1958, № 6 и 10.
В. Яковлев, Пушкин и Римский-Корсаков. В кн.: В. Яковлев, Пушкин и музыка. Изд. 2-е. М., 1957.
А. Соловцов, Римский-Корсаков. Научно-популярный очерк. М., 1960.
A. Соловцов, Симфонические произведения Римского-Корсакова. М., 1953, 1960.
B. Берков и В л. Протопопов, «Золотой петушок». Небылица в лицах. Опера Н. А. Римского-Корсакова. Изд. 2-е. М., 1962.
Л. Кершнер, «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». М., 1963.
Л. Кулаковский. «Снегурочка». Опера Н. А. Римского-Корсакова. Изд. 4-е. М., 1936.
И. Озерецковская, «Сказка о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова. Изд. 2-е. М., 1963.
Л. Полякова, «Псковитянка» и «Вера Шелога» Н. А. Римского-Корсакова. Изд. 2-е. М., 1963.
Н. Шумская, «Садко» Н. А. Римского-Корсакова. М., 1956.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Софья Васильевна Римская-Корсакова — мать композитора. Портрет работы неизвестного художника.
Андрей Петрович Римский-Корсаков — отец композитора. Портрет работы неизвестного художника.
Дом в Тихвине, где родился Н. А. Римский-Корсаков. Пристройка с правой стороны сделана позднее.
Николай Андреевич Римский-Корсаков — кадет Морского корпуса.
Милий Алексеевич Балакирев.
Н. А. Римский-Корсаков — гардемарин.
Титульный лист партитуры Первой симфонии в новом, переработанном издании. Надпись: «Дорогому Милию Алексеевичу Балакиреву на память о первом исполнении этой симфонии под его управлением 19 декабря 1865 года от благодарного ему Н. Римского-Корсакова 19 декабря 1890. С.-Петербург».
Владимир Васильевич Стасов. 1872–1873 годы.
Автограф переложения для пения с фортепиано сцены из четвертого действия оперы «Псковитянка». Надпись: «Владимиру Васильевичу Стасову».
Цезарь Антонович Кюи. 1870-е годы.
Александр Порфирьевич Бородин. 1872 год.
Модест Петрович Мусоргский. 27 января 1874 года (после первой репетиции оперы «Борис Годунов»), Дарственная надпись Н. А. Римскому-Корсакову: «Про наше взаимное житье-бытье — да будет добром помянуто, другу Мусоргский».
Надежда Николаевна Римская-Корсакова. 1872 год.
Николай Андреевич Римский-Корсаков. 1872 год.
Эскиз декорации первого действия оперы «Снегурочка» — заречная слободка Берендеевка. Эскиз В. М. Васнецова к московской постановке Частной оперы С. И. Мамонтова в 1885 году.
Николай Андреевич Римский-Корсаков. Рисунок И. Е. Репина. 1888 год.
Н. А. Римский-Корсаков. 1870 год. Зарисовка И. Е. Репина для картины «Славянские композиторы».
Михаил Александрович Врубель. Автопортрет. Уголь, сангина. 1904 год.
Надежда Ивановна Забела-Врубель в роли Морской царевны. Костюм по эскизу М. А. Врубеля, к московской постановке в Русской частной опере. 1897 год.
Царь Берендей. Майолика М. А. Врубеля. Зима 1899/1900 г. По словам сестры художника, А. А. Врубель, исполнен с Н. А. Римского-Корсакова.
Здание Петербургской консерватории при жизни Н. А. Римского-Корсакова.
Александр Константинович Глазунов.
Программа первого представления оперы «Царская невеста» в товариществе Русской частной оперы.
Н. А. Римский-Корсаков. Зарисовка-шарж Ф. И Шаляпина.
Н. А. Римский-Корсаков в своем кабинете. 1904 год.
Федор Иванович Шаляпин в роли царя Ивана Грозного в опере «Псковитянка».
Н. А. Римский-Корсаков в Крапачухе. 1903 год.
Дом на Загородном проспекте в Петербурге, где композитор жил в 1894–1908 годах. Квартира Римских-Корсаковых — на пятом этаже.
Владимир Иванович Бельский. 1903 год.
Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Глазунов и А. К. Лядов. 1905 год. Наверху — надпись рукой Римского-Корсакова: «Память 19–20 марта 1905 г.». Внизу автографы композиторов.
Николай Андреевич Римский-Корсаков в Риве (Австрия). 1906 год.
Н. А. Римский-Корсаков и В. В. Стасов на похоронах сестры М. И. Глинки — Людмилы Ивановны Шестаковой. Январь 1906 года.
И. В. Ершов в роли Гришки Кутерьмы в опере «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Постановка Мариинского театра. 1907 год.
Костюм Звездочета из оперы «Золотой петушок». Эскиз М. С. Сарьяна для постановки в оперном театре имени К. С. Станиславского. 1931 год.
Н. А. Римский Корсаков. Рисунок В. А. Серова. Уголь. 1908 год.
Дом в Любенске, где композитор провел лето 1907 и 1908 годов.
Н. А. Римский-Корсаков и А. К. Лядов. Апрель 1908 года. Последняя фотография Николая Андреевича.
Примечания
1
Пушкин не дал ему имени, а его отца предусмотрительно назвал именем вымышленным, вероятно чтобы избежать нареканий и воспользоваться свободой поэтического вымысла.
(обратно)2
Археография — наука о разыскании и публикации древних памятников письменности.
(обратно)3
Теперь мы бы сказали — «специалист».
(обратно)4
Корсаков извлек эти строки из «Концов и начал» Герцена, из «Письма пятого». Оно появилось в «Колоколе» 22 октября 1862 года.
(обратно)5
Лиепая и Паланга.
(обратно)6
Была ли Первая симфония Корсакова действительно первой русской симфонией? На этот вопрос ответить мудрено. Ранее 1865 года написаны три симфонии А. Г. Рубинштейна, однако в них не видно черт русской симфонической школы. Много раньше написана симфония Глинки, но она не была завершена и не исполнялась. Сам Николай Андреевич относился впоследствии к своему формальному первенству с нескрываемой иронией.
(обратно)7
В более поздней редакции первая получила название «Русь», вторая — «В Чехии».
(обратно)8
У нас он известен под своим немецким названием «Мефисто-вальс».
(обратно)9
В пьесе Мея этого эпизода нет.
(обратно)10
То есть военных оркестров.
(обратно)11
По поводу написанного несколько позднее струнного Квартета.
(обратно)12
То есть сокращением текста пролога для оперного либретто.
(обратно)13
Раньше, в январе 1885 года, на сцене Московской русской частной оперы была поставлена «Русалка» Даргомыжского. Этой оперой театр Мамонтова открыл свой первый сезон.
(обратно)14
Наиболее близкой к завершению была «Хованщина».
(обратно)15
То есть к беспринципному, как полагал Корсаков, смешению художественных понятий, выработанных «Могучей кучкой», с понятиями Чайковского и А. Рубинштейна.
(обратно)16
Бусый — темно-голубой, цвета морской воды.
(обратно)17
Художники, очевидно, думали о «Псковитянке» с Шаляпиным в роли Ивана Грозного.
(обратно)18
В разгар карательных экспедиций в 1906 году Римский-Корсаков послал для сборника в пользу безработных свой автограф — отрывок народного хора. «Думаю, — сказал он, — что слова хора как нельзя лучше подойдут к настоящему… моменту».
(обратно)19
От нее в наследии Корсакова остается напоенная соленым ароматом моря и предрассветным величавым гулом прибрежных лесов прелюдия-кантата «Из Гомера».
(обратно)20
Второй фортепианной.
(обратно)21
«Дихтунги» — симфонические поэмы Листа; «Нибелунги» — четыре оперы Вагнера, вошедшие в цикл «Кольцо Нибелунга».
(обратно)22
Крапачуха близ станции Окуловка Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороги, в Новгородской губернии.
(обратно)23
Во время возникшего после прослушания оперы спора, допустим ли смелый аккорд, возникающий в момент смерти Кащея, Николай Андреевич заявил: «Может быть, этого в учебнике и нет, и тем не менее — это превосходно. И я счастлив, что мне удалось это сочинить».
(обратно)24
Инициатором постановления и автором его текста был, по компетентному свидетельству вдовы Ю. Д. Энгеля, ее муж.
(обратно)25
«Хотелось бы, чтобы в московских газетах появилась бы его перепечатка, — писал он Кругликову 6 марта по поводу своего «Открытого письма», — и, быть может, по этому случаю московская печать поговорила бы на эту тему. Быть может, таким образом моя мысль не пройдет бесследно…»
(обратно)26
Она была проведена 17 марта 1905 года.
(обратно)27
А. М. Климченко.
(обратно)28
«Как много, должно быть, у нас честных людей, которых мы не знаем, ведь мы узнали раньше о тебе от случайно попавшего к нам образованного человека», — писали судосевцы.
(обратно)29
По этому преданию Феврония умерла более чем за десять лет до нашествия.
(обратно)30
Древнерусский вариант слова «кони».
(обратно)31
Запрещены циркуляром военного генерал-губернатора Петербурга Д. Ф. Трепова от 31 марта.
(обратно)32
Постановка пьесы «Враг народа» («Доктор Штокман») осуществлена Художественным театром в 1900 году.
(обратно)33
В письме, рассчитанном на просмотр полицией, композитор прозрачно зашифровал мысль о всенародном восстании музыкальными терминами: crescendo (крещендо) — постепенное увеличение силы звука; фортиссимо — очень громко; рр (пианиссимо) — очень тихо.
(обратно)34
Свою любовную клятву — «Буду век тебя любить, Постараюсь не забыть» — Додон поет на тощий мотив «Чижика».
(обратно)35
Впервые исполнена Н. И. Забелой в концерте 27 марта 1908 года.
(обратно)36
Пиццикато — извлечение звука без посредства смычка, щипком.
(обратно)37
Известный впоследствии музыковед В. Г. Каратыгин.
(обратно)38
В письме к С. Н. Кругликову от 9 мая 1890 года.
(обратно)


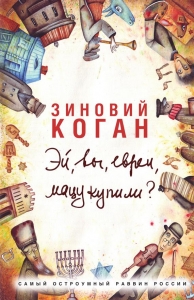
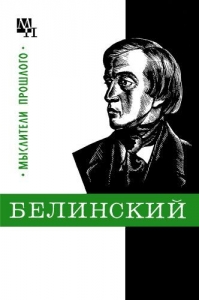



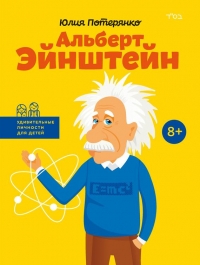
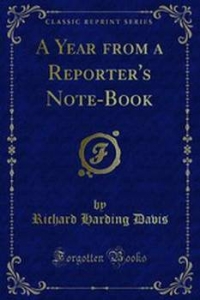
Комментарии к книге «Римский-Корсаков», Иосиф Филиппович Кунин
Всего 0 комментариев