Амаду Жоржи КАСТРО АЛВЕС
«Не будь его, кто мог бы стать великим бессмертным поэтом Бразилии, лучше сказать — гением всеобщей гуманной поэзии Нового мира?»
Пиньейро ВиегасВВЕДЕНИЕ С ПЕЧАЛЬНОЙ ПЕСНЕЙ И НЕСКОЛЬКИМИ ЗАМЕЧАНИЯМИ АВТОРА
Тебя убаюкаю песней печальной.
Сядь со мною рядом, подруга, и я поведаю тебе одну историю. Давно я уже тебе ничего не рассказывал здесь, в порту.
Небо усеяно звездами — это все души умерших героев. Сядь ближе, дай мне свою руку, и я расскажу тебе историю одного мужественного человека. Видишь звезду там, вдали, за старым фортом, над неясными очертаниями островов? Это, наверное, его душа освещает небо Баии. Не знаю, будет ли тебе интересен мой рассказ. А может быть, у меня получится и не рассказ, а героическая повесть или поэма наподобие той, что сложена о борце за независимость, о Лукасе да Фейра:
Под Байей врагами был схвачен После сечи в дыму и огне. Но стража пешком возвращалась, А пленник — верхом на коне.Про Лампиана[1] в народе тоже сочинили поэму: в ней воспевалась Мария Бонита, прошедшая со своим возлюбленным весь сертан[2] и сложившая голову недалеко от Проприи. Эту историю трагической любви лучше меня расскажут тебе воды Сан-Франсиско, реки, что протекает в наших краях. Ты ведь уже слышала однажды поэму о Розе Палмейран, девушке с большой розой на груди и с кинжалом в складках юбки, — как она сражалась одна против шестерых мужчин и всех шестерых победила? Они обе — и та, что из сертана, и та, что из порта, были красивые женщины, почти такие же прекрасные, как и ты, негритянка.
Я сложил поэму и о моряке Безоуро; в ней говорилось о ветре и о рыбачьей лодке. Безоуро никогда не применял оружия — если и дрался, то голыми руками.
Тот, о ком я хочу рассказать тебе сегодня, тоже не носил оружия. Он шел на врага с открытой грудью и всегда одерживал победы. Он побеждал рабовладельцев, которые угнетали негров, побеждал и самых красивых женщин на земле Бразилии. Я расскажу тебе о его борьбе с начала и до самого конца, и ты поймешь, почему никто не остается безразличным к этому человеку, которого ненавидели тираны и любил народ. Я расскажу о нем, как уже рассказывал о Безоуро, о Лукасе да Фейра, о Розе Палмейран и о негре Антонио Балдуино[3].
Может быть, здесь выдумки будет меньше, чем в тех историях, может быть, я вообще ничего не додумаю, ибо его жизнь и без того была прекрасной. Возможно, однако, я поведаю тебе о поступках моего героя, которые он и не совершал, а только описал в своих поэмах; возможно, я поведаю о беседах, при которых никто не присутствовал и которые вообще никогда не происходили. Но эти беседы могли бы произойти — ведь они отражены в его творчестве, в его стихах. Если я это и сделаю, подруга, то лишь для того, чтобы ты могла яснее представить себе его образ.
Подобно могучему урагану, он нападал на несправедливость и, подобно мягкому, нежному бризу, обращался к стыдливому слуху женщины. Я додумаю только то, что будет соответствовать его характеру, его облику, который дорог всем тем, кто горячо любит свою родину. Память о поэте дорога и мне, твоему другу, рассказчику историй о неграх и моряках.
Приходилось ли тебе, подруга, видеть гавань в пору, когда норд-ост обрушивается на море и на город, когда он уносит лодки, срывает корабли с якорей, сбивает с курса трансатлантические пароходы, меняет цвет морской воды? Он стремителен, грозен, прекрасен, почти призрачен. Его порыв длится только несколько мгновений, но и после того, как норд-ост проходит и на море снова наступает затишье, о нем нельзя забыть, ибо все за эти мгновения изменилось: другим стал облик порта, очистился воздух. Только с норд-остом, негритянка, я могу сравнить Кастро Алвеса: в нем была сила этого могучего ветра, его порыв и красота, и память о поэте сохранилась навеки.
Он рано начал жизнь и закончил ее очень молодым. То было самое прекрасное сочетание юности и гениальности, которое когда-либо видели небеса американского континента.
В те времена, когда Кастро Алвес бродил по улицам Баии, он произнес столько прекрасных слов, подруга, что его голос, все возрастая, звучит до сегодняшнего дня, и это голос сотен, тысяч и миллионов людей. Это и твой голос, негритянка, это голос порта, голос города. Он говорил от нашего имени, и никто из нас не сумел бы сказать так. Его голос и по сей день самый сильный и самый молодой, ибо это голос народа Бразилии.
Там, наверху, в театре, ты однажды слушала оркестр. Помнишь момент, когда все музыканты объединились в едином порыве и силой своего искусства извлекли из инструментов самую высокую, самую прекрасную ноту, которая продолжала звучать в зале даже после того, как слушатели разошлись? Таким вот представляется мне Кастро Алвес. Бывают мгновения, когда объединяются все силы нации и, подобно самой высокой ноте, слышится спокойный и грозный, демонически прекрасный и справедливый голос. Этот голос подлинного гения возникает из чаяний народа, из жизненной потребности людей. Он никогда не умирает, оставаясь бессмертным, как и сам народ.
Человека, историю которого я тебе расскажу, любили многие женщины Бразилии. Белые и негритянки, мулатки и метиски, робкие и дерзкие падали в его объятия. И он любил всех их, но для одной приберег свои лучшие слова, самые нежные, самые ласковые, самые прекрасные. У этой невесты, негритянка, красивое имя: Свобода.
Взгляни на небо: он сияет там, он самая яркая из звезд. Но ты встретишь его и на улицах любого города и в комнате любого дома. Где бы ни были бьющиеся за человечество молодые сердца, в каждом из них ты почувствуешь Кастро Алвеса.
Дай же мне теперь свою правую руку, подруга, и выслушай мой рассказ о поэте…
* * *
У этой книги небольшая библиография. Конечно, я прочел труды Афранио Пейшото, Мусио Тейшейры, Шавиера Маркеса, Эдисона Карнейро, Педро Калмона. С рядом других авторов я познакомился через их статьи, доклады и брошюры. Некоторые из этих авторов — люди видные, например Эуклидес да Кунья, Руй Барбоза, Жилберто Амадо, Пиньейро Виегас, Агрипино Гриеко[4]. Некоторые из писавших о Кастро Алвесе — очень слабые писатели (бедняги, они тщились понять поэта, которому нечего было сказать им, но которому довелось многое сказать против них). Иные — исследователи, например Афранио Пейшото. Он человек умный и преклонявшийся перед поэтом, но далекий от творчества Кастро Алвеса. Или Эдисон Карнейро. Он человек близкий к поэту и способный понять его, поскольку Карнейро, быть может, самый сильный из всех литературоведов своего времени. Но он испортил свое произведение спешкой, хотя оно все же лучшее из того, что мы имеем о Кастро Алвесе. Множество книг помогли мне изучить эпоху, в которую жил поэт, и проблемы, которые его занимали. Но самым ценным источником для этой книги явились поэмы и стихи самого Кастро Алвеса, не раз перечитанные мною в Полном собрании его сочинений с комментариями Афранио Пейшото. Кстати сказать, уже одни эти комментарии академика нашей литературы достойны вызвать восхищение и уважение к нему всей бразильской интеллигенции.
* * *
Конечно, при написании этой книги я позволил себе известные вольности. Поэтому то, что получилось у меня, более всего напоминает оду. Эта книга — я снова повторяю — скорее биография поэта, чем биография человека. Я буду счастлив, если мое произведение окажется достойным гения Кастро Алвеса. И все же считаю, что любые слова, сколь бы похвальными они ни были, никогда не выразят того восхищения, которого заслуживает поэт. Возможно, что историческая точность несколько пострадала в моих грубых руках романиста. Пусть гневаются историки! То, к чему я стремился, — это запечатлеть путь крупнейшего бразильского писателя по стране, богатой рифмоплетами и бедной подлинными поэтами. В Бразилии написано множество исследований о Кастро Алвесе, авторы которых ограничились лишь тем, что установили точные даты и выявили подлинные имена женщин, к которым были обращены те или иные произведения поэта. Это, без сомнения, весьма полезно, но совершенно недостаточно. Этим писателям и литературоведам не хватило мужества встретить Кастро Алвеса лицом к лицу и попытаться обрисовать облик поэта во всем его величии. Постараться на основе его стихов воссоздать его беседы во время прогулок с поэтами Баии, Ресифе или Сан-Пауло — такова моя задача. Кастро Алвес был художником, который шел навстречу жизни с поднятым забралом. Те же, кто писал о нем, в большинстве своем писатели, бежавшие от жизни к лжи фальшивого искусства.
Я попытаюсь воссоздать биографию Кастро Алвеса во всей ее цельности и приступаю к этой задаче полный решимости. Я могу потерпеть неудачу из-за недостатка литературного мастерства, но твердо уверен, что не искажу подлинного облика Кастро Алвеса. Одно обстоятельство сильнейшим образом связывает с ним меня, как писателя: я всегда, как и он, встречал жизнь лицом к лицу; как и он, я пишу для народа и стремлюсь в своих произведениях отражать его чаяния. В этой оде поэту, которую вы прочтете, я не хочу ничего иного, как только показать нашему народу его жизнь, народу, который любит своего поэта за мощь и красоту его стихов. Эта книга, написанная по предложению женщины, которой я обязан своим счастьем, предназначена не для литераторов и литературоведов, а для народа.
У меня нет ни малейшего намерения написать критический очерк; я не буду вдаваться в исследования, был ли Кастро Алвес подлинным гением, действительно ли в его творчестве имеются те пресловутые «вечные ценности», о которых так любят болтать все литературные кастраты; актуально ли его творчество для нынешнего времени «с поэтической точки зрения» (ох, уж эти хозяева поэзии!) и, как кто-то уже написал, не представляет ли он «только исторический интерес». Я оставляю этот взрыв мелкого злопыхательства для критиков и модернистских поэтов (голоса их настолько слабы по сравнению с голосом Кастро Алвеса, что им только и заниматься делами подобного рода). Я хочу написать о Кастро Алвесе с любовью, как человек из народа о народном поэте, с любовью, которая приносит подлинное понимание и заставляет нас сильнее почувствовать все, что есть человечного и великого в поэте, — гораздо сильнее, чем это позволяют сделать трактаты поэтической теории, сколь бы объемисты они ни были, и архивы, как бы хорошо они ни были классифицированы. Так пусть вместе с историками-педантами гневаются и придирчивые критики. Кастро Алвес был вылеплен из другой глины.
ГЛАВА 1
Сын бури, молний брат родной!
Бросай свой клич грозе навстречу…
В суровом сертане, подруга, родилась эта великая любовь. Вдали от больших городов, на диких землях северо-востока возникали страсти, инстинкты и предрассудки. Вокруг простиралась каатинга[5] с редкими феодальными фазендами[6], по степи скакали всадники в кожаной одежде, повсюду с давних пор господствовал суровый закон сертана. Даже в наше время, почти через сто лет после истории, которую я собираюсь рассказать тебе, этот закон властвует в сердцах хозяев фазенд и в душах разбойников — кангасейро. Сертан рождал сильных, несгибаемых мужчин и прекрасных гордых женщин; даже в самой застенчивой душе самой скромной девушки, которая жила, скрытая до поры в тиши каза-гранде[7], попыхивали всепобеждающие страсти. Робкие женщины сертана, когда наступала пора любви, становились сильными, как Юдифь, отважными, как храбрейший из кабр. Такими их делает каатинга — эти бесконечные заросли кустарника, который даже нельзя назвать растительностью, ибо это просто колючки, раздирающие ноги, руки и грудь.
Тот, кто родился в каатинге и с первых же дней слышал в густых сумерках печальное мычание быков, кто рос, увлекаясь нескончаемыми рассказами о кангасейро, наблюдая за дуэлями на кинжалах, видя, как укрощают диких быков, и познавая, что жизнь для того и существует, чтобы прожить ее храбро, тот, кто жил повседневным героизмом сертана, тот способен был даже восстать, подняться на борьбу против сурового закона сертана.
У жителей сертана сила любви соединяется с силой, идущей от дикой, неукрощенной человеком земли. Здесь рождаются знаменитые кангасейро и героические женщины, которые во имя любви жертвуют всем — очагом, семьей и своей честью. Здесь родилась Порсия — та, что погубила себя из-за любви к Леолино, героиня самой трагической любви сертана. Здесь родились Кастро, Кангусу, Моура и Медрадо, хозяева сертана и блюстители его закона. Здесь родился и Кастро Алвес, сын Клелии Бразилии — сестры Порсии. Тот, кому предстояло воспеть одну за другой красавиц сертана и чувства сертанежо[8], появился на свет, когда трагедия его тетки уже подходила к концу.
Кастро Алвес рос в годы, когда вокруг бушевали кровавые страсти, вызванные любовью Порсии и Леолино, презревших законы общества и бросивших вызов предрассудкам. Весь край каатинги от Парагуасу до Сан-Франсиско сотрясался от мстительных выкриков семейств Кангусу и Кастро; топот коней в ту пору всегда предвещал начало перестрелки.
Кастро Алвес рос в годы, когда свободная любовь восстала против законов сертана.
В каза-гранде, где он появился на свет, об этой трагической истории говорили мало. Однако ее отражение можно было прочесть на мрачном лице деда, майора Силвы Кастро, увидеть в слезах Клелии, склонившейся над колыбелью ребенка, в морщинах, прорезавших лоб отца, доктора Алвеса, услышать в отчаянных криках Порсии, запертой, как пленница семьи, в своей комнате. Все в детские годы Кастро Алвеса напоминало ему о законе сертана, который каждый должен соблюдать под страхом смерти.
Много лет понадобилось людям, чтобы создать этот закон. Прежде они жили свободными на свободной земле, их любовь не сковывали цепями, и никто не вставал на ее пути. Закон существовал в городах для цивилизованных людей, где в нем была необходимость. Однако постепенно разрастались фазенды, накапливались богатства, и люди принесли свой закон из городов в сертан. В течение многих лет миссионеры проповедовали его народу наряду со словом божиим, пока не приковали к нему сертанежо. И горе тому, кто нарушал этот закон! Ему грозило жестокое наказание.
Ребенок родился на земле своих предков, где все было подчинено этому закону. Но еще в раннем детстве он узнал от хлопотавших вокруг него заботливых мукам[9] о трагической судьбе Порсии и Леолино, которые восстали против закона, чтобы жить в тиши и одиночестве и свободно любить друг друга. Он понял, что закон сертана — враг любви, враг человека, и лучше всего порвать с ним. Мальчику, родившемуся в том самом году, когда острыми кинжалами разрубили на части другого ребенка — дитя свободной любви, — предстояло много лет спустя стать страстным певцом свободы и в конце концов самому погибнуть от любви. Ничему его не научили
Кастро, Моура и Медрадо. Но прекрасная Порсия и отважный Леолино открыли глаза Кастро Алвесу. Как и они, мальчик-сертанежо стал романтичным и чувственным, врагом всего, что лишало людей свободы.
Подруга, выслушай историю Порсии и Леолино, и ты узнаешь, почему появились на свет многие из стихов поэта{1}.
* * *
В 1822 году португальский принц, за которым стоял один из самых выдающихся политических деятелей Латинской Америки — Жозе Бонифасио[10], провозгласил независимость бразильских земель, до того являвшихся португальскими владениями. По всей стране это событие было торжественно отмечено празднествами, множеством цветов, гимнов и речей. Но в провинции Байя фазендейро оказали сопротивление новому режиму. Тогда на борьбу за независимость страны поднялся народ — в Кашоэйре и Итапарике, по всему Реконкаво Баияно. В этой борьбе выковывались герои и героини; в сердцах всех бразильцев вспыхнула любовь к свободе. Народ отстаивал свое право на свободную, независимую родину.
Кипела там грозная битва, Ее не вели два народа: Грядущее с прошлым сражалось, И с рабством боролась свобода.Так написал поэт несколько лет спустя, когда воспел эту борьбу в одной из своих самых прекрасных поэм и восславил народ, пожелавший стать свободным.
Одни герои родились в городе, другие пришли из сертана. Имя одного из них — Силва Кастро; это был грубый, дерзкий и надменный, но мужественный и справедливый человек{2}. Вокруг него объединились храбрейшие из храбрых. К его войску присоединилась и одна женщина, обладавшая отвагой солдата и любившая свободу. Ее звали Мария Китерия.
Пройдя с боями тяжелый путь и прославившись своими подвигами, батальон Силвы Кастро прибыл 2 июля — в день освобождения Баии — к месту назначения.
Весь отряд любил Силву Кастро — образцового командира и друга сертанежо, который привык трудиться вместе со скотоводами и сражаться вместе с мужественными кабрами. Однако майор все же не был опытным военачальником, а, кроме того, отличался грубой откровенностью и не любил гнуть спину перед начальством.
Полковник Гомес Калдейра был недоволен резкостью и заносчивостью командира батальона, но ничего не мог тут поделать, поскольку Силва Кастро был героем кампании. Правда, полковник мог разлучить Силву Кастро с солдатами и перевести его в другой батальон. И хотя это был не лучший выход, он именно так и поступил.
Когда об этом узнали солдаты, их охватило негодование. Батальон построился, вышел на улицу и направился к дому Гомеса Калдейры. Солдаты начали стучаться в дверь полковника — и это уже походило на бунт.
Гомес Калдейра тоже был героем борьбы за независимость, и он тоже не знал, что такое страх. Услышав крики взбунтовавшихся солдат, проклятья и ругательства, он не испугался. Он открыл дверь и появился на крыльце, рассчитывая, что его присутствие утихомирит вышедших из повиновения. Но полковник не успел произнести ни слова: грянули выстрелы, и, обливаясь кровью, он упал.
Это было концом карьеры майора Силвы Кастро. Майор присутствовал на суде, когда судили его солдат. Он осуждал преступление (свойственное ему чувство дисциплины, его положение командира не позволяло ему одобрить убийство начальника), но он дал понять, что преступление было совершено из благородных чувств: солдаты любили своего командира и пришли в отчаяние, узнав, что теряют его.
Майор не захотел продолжать военную карьеру и вернулся в сертан. Между тем семья его росла: к детям, которые родились в Байе, прибавились другие, родившиеся в фазендах. Девочки унаследовали прославленную красоту матери — доны Аны Виегас{3}, дочери испанки{4} изумительной красоты.
Силва Кастро стал одним из феодальных сеньоров сертана, с фазендой в районе бассейна Сан-Франсиско, близ Каетитэ, и с фазендой недалеко от моря, в Курралиньо{5}. Здесь подолгу жила его семья, и сюда на праздники приезжали из столицы юноши-студенты ухаживать за молодыми наследницами фазендейро.
Так начался роман между Клелией Бразилией и Антонио Жозе Алвесом, студентом-медиком, который влюбился в девушку, еще когда та училась в Байе, в колледже доны Перпетуа. Антонио работал тогда для практики в аптеке Жеронимо Жозе Бараты. Ухаживанье продолжалось и во время каникул. Студент закончил университет, попутешествовал и вернулся, чтобы жениться. Вскоре у Клелии Бразилии и Антонио Жозе Алвеса родился первенец — Жозе Антонио. Супружеская чета переехала в столицу провинции.
Тем временем майор Силва Кастро отправил своих остальных дочерей отдохнуть до конца года на фазендах сертана Каетитэ. Некоторое время они прожили там. Но наступила засуха, и девушки решили вернуться домой раньше срока. Они направились на фазенду Кабесейрас, которая не была затронута бедствием и где по уговору их ждал отец. Поездка оказалась трудной: на дорогах нещадно палило солнце, деревья высохли. Скот падал, люди спасались бегством. Девушек сопровождал брат майора — Луис Антонио Кастро, хорошо знавший этот район. В пути они часто останавливались на фазендах друзей, чтобы отдохнуть от утомительного путешествия под палящим солнцем. Луис Антонио обсуждал с хозяевами ужасы бедствия и подсчитывал убытки, которые засуха причиняла фазендейро, а девушки между тем развлекались.
Молодые люди из семей фазендейро радовались неожиданному приезду гостей: он служил предлогом для импровизированных празднеств и нарушал скуку однообразной жизни на фазенде. Наспех организовывались балы, шуточные забавы, игры. Гости и хозяева на время забывали о засухе, о гибнущем скоте и даже о беженцах, бредущих по дорогам сертана.
Так путники добрались до фазенды капитана Иносенсио Пиньейро Кангусу{6}, крупного землевладельца, героя войны за независимость, соратника Силвы Кастро. В честь дочек своего старого друга гостеприимный хозяин устроил пышное празднество. Кангусу сделали все, чтобы в шуме танцев и игр забыть о растрескавшейся от засухи земле. Для девушек это были незабываемые дни. Луис Антонио и Иносенсио допоздна засиживались на веранде ка-за-гранде, ведя свои долгие беседы. Иногда капитан рассказывал девушкам о приключениях майора Силвы Кастро и его батальона в битвах за независимость. Девушки слушали рассказы как зачарованные, но с еще большим воодушевлением принимали они комплименты и любезности молодых людей из семьи Кангусу.
Порсия чувствовала странный холодок в сердце каждый раз, когда ее черные глаза испанки встречались с беспокойным взглядом Леолино Кангусу, юноши порывистого и привлекательного, сильного, как неукрощенный конь из числа тех, что носятся по полям Каетитэ. Глаза Порсии были прикованы к нему; когда она встречалась с покоряющим взором Леолино, всю ее охватывала дрожь. Она не должна любить юношу: ведь девушка из хорошей семьи не может поднять глаза на женатого человека, как бы ни был он красив и притягателен. А Леолино недавно женился, соединив имя и состояние Кангусу с именем и состоянием другой влиятельной семьи в сертане. Это был брак по расчету, и у его жены не было в глазах той нежности и любовной неги, которыми светился взор дочери Кастро, подобной цветущей жамбо. Порсия знала, что по закону сер-гана мужчина может обладать женщиной лишь после того, как он дал ей в браке свое имя. Она знала, что, когда этот закон нарушался, виновных жестоко наказывали. Но что ей до всего этого перед зовущими глазами Леолино, перед его устами, жаждущими поцелуев? Что законы перед любовью? Холод охватывал сердце Порсии.
Однажды, лежа в гамаке на веранде, девушка глядела на большую круглую луну, которая плыла в ясном небе над фазендой. Серебряный свет разливался по полям, это была одна из тех мягких ночей, когда томление нисходит от луны и звезд, поднимается от самой земли, от пахучих листьев, от цветущих кустов жасмина. В доме играли в фанты. Порсия слышала молодые голоса и смех. Слушала с грустью, лениво растянувшись в гамаке, купаясь в лунном свете. Она закрыла глаза, и тотчас встал перед ней образ любимого, но любимый ведь связан с другой узами закона, и она никогда не сможет даже признаться ему, что любит его. Порсия не отрывает взора от видения, она вся устремилась к нему, словно цветок, открывающийся утренней росе. Она не слышит приближающихся шагов, не слышит учащенного дыхания. Но когда чьи-то губы касаются ее губ и сливаются с ними в поцелуе, она знает: это могут быть только губы Леолино, шероховатые и бархатные, грубые и ласковые. И как цветок, окропленный росой, она откидывает голову на гамак и не находит слов, чтобы что-либо сказать ему.
Леолино говорит, что любит ее, но перед Порсией возникает неумолимый закон сертана; жена Леолино, родители, их семьи — что все они скажут? Но Леолино снова целует ее, она чувствует на своей груди руку любимого, и прикосновение этой руки нежнее, чем лунный свет. Они решают бежать вместе. Впервые они говорят, как возлюбленные, и она с восторгом выслушивает план бегства.
И когда в доме послышались голоса, зовущие их в комнаты, они обменялись при лунном свете последним поцелуем. Теперь Порсия больше не боялась: она уже не вспоминала о законе сертана, не думала о страданиях своей матери и сестер, жены Леолино. Она думала только о том, что уста любимого нежны, что рука его ласкова, как вода реки… А вдали, в лунном свете, стонали гитары скотоводов, наигрывая любовные тираны.
Несколько дней спустя гости стали собираться в дорогу. Луис Антонио с племянницами направлялся в Курралиньо, Леолино уехал накануне под предлогом, что у него дела в других местах. Прощание на веранде фазенды было долгим. Капитан Иносенсио послал своему другу майору Силве Кастро ящик хорошего вина, поцеловал девушек в лоб, и гости отбыли.
А на фазенде Кабесейрас Силва Кастро готовился к встрече бежавших от засухи дочерей. Майор с нетерпением ожидал брата, который вез вести о положении на фазейдах, об убытках, о падеже скота. Наибольшее оживление в доме Кастро царило на кухне — негритянки склонились над большими кастрюлями, где кукуруза превращается в канжику[11], мунгунзу[12] и мануэ[13].
Наступила темная, безлунная ночь. Стремясь на рассвете прибыть в дом Кастро, путники решили нигде не останавливаться. Кони взмокли, ноздри у них раздувались, кони предчувствовали бурю. Кабры всматривались в ночь без звезд и погоняли коней. Порсия неотступно думала о Леолино. Неужели он не появится на ее пути? Конечно, он непременно явится, ведь он обещал, а такой человек сдержит свое слово. На кавалькаду спустилась ночь. И тут-то во главе группы кабр появился Леолино.
Поначалу Луис Антонио посчитал это простой случайностью. Он обратился к Леолино с обычными приветствиями, но нацеленные карабины и свирепые взгляды кабр заставили его замереть на месте. Леолино подхватил Порсию, усадил ее на круп коня и помчался с нею в ночь, навстречу надвигающейся буре.
И вот кони несутся под дождем, их путь освещают молнии, прорезая мрак. Беглецы спешат укрыться в далеком уголке сертана. Радостная Порсия держится за пояс своего возлюбленного.
Наконец они останавливаются у затерянного в сертане бедного ранчо. Кабры располагаются вокруг, изготовив оружие к бою, у каждого кинжал. Леолино относит Порсию на жесткое ложе, которое будет ложем их любви. И когда буря яростно обрушивается на сертан и фазенды, они приникают друг к другу в долгом поцелуе, и столь нежен любовный шепот, доносящийся из этого бедного ранчо, что птицам кажется, будто над землей уже наступил рассвет и буря давно утихла. И птицы начинают петь для одиноких возлюбленных, нарушивших закон сертана, мелодичные песни весны.
Так они зажили здесь, вдалеке от всех, охраняемые верными кабрами Леолино. Они были охвачены страстью. Леолино лишь изредка оставлял дом ради коротких поездок на фазенду отца и всегда торопился назад, не столько из боязни мщения со стороны семейства Кастро, сколько потому, что жаждал снова увидеть Порсию, ощутить тепло ее смуглого тела, заглянуть в ее черные-пречерные глаза. К тому же Порсия носила теперь во чреве дитя их свободной любви. И жизнь в бедном ранчо была постоянным праздником. Пение птиц, журчание протекавшей поблизости реки смешивались со словами любви и ласки. У Порсии отросли волосы и падали ей на плечи. Она была прекрасна и юна, и вместе с тем она была уже женщиной, почти матерью.
Кабры стерегли это гнездо их любви, напрягая зрение и слух, чтобы не подпустить мстителя.
Когда кортеж прибыл в дом Кастро без Порсии, семью охватило горе. Силва Кастро молча смотрел, как плачут дочери, как в отчаянии рыдает жена. Ни одна слеза не выпала из его глаз, он не произнес ни слова. Майор достал из сундука свою старую саблю, собрал ближайших родственников, заключил союз с Моура и Медрадо — семьями, которые ненавидели Кангусу. И началась война. Долгое время мстители тщетно старались подобраться к дому, где скрывались Леолино и Порсия.
Между тем родился ребенок, хорошенькое розовое дитя, ставшее для родителей дороже жизни.
Леолино и его люди уже не раз огнем из карабинов обращали в бегство наемников Кастро. Эзуперио, один из братьев Кангусу, упражнялся в стрельбе по врагам брата, пытавшимся приблизиться к ранчо Леолино.
Но вот однажды Леолино и Эзуперио, обманутые царившим в последние дни спокойствием и думая, что Кастро и их союзники отказались от мщения, уехали ненадолго из ранчо. Порсия осталась с ребенком под присмотром охраны и играла с ним, уча его первым словам, — ей хотелось сделать сюрприз Леолино. Неожиданно раздались выстрелы. Порсия подбежала к двери и увидела, что большая группа всадников во главе с ее отцом напала на ранчо. Преданные кабры отстреливаются, но противников много. А Леолино и Эзуперио все нет. Порсия схватывает сына и хочет бежать. Но поздно. Верные кабры уже не отвечают на выстрелы — они отдали жизнь за эту любовь. Люди Кастро, Моура и Медрадо врываются в дом. Порсия видит знакомые лица, лица, которые когда-то были дорогими. Сейчас, после сражения и победы, былые друзья глядят на нее сурово, как на врага. Они хотят увезти Порсию, она сопротивляется. Отец не произносит ни слова, даже не смотрит на нее. Порсии удается вырваться, она вбегает в спальню и возвращается с ребенком. Она простирает руки к майору Силве Кастро. Глаза ее молят о сострадании, ребенок смеется. Моура, Медрадо и их люди отходят в сторону, предоставляя отцу и дочери самим решить вопрос о внуке. Но нужно выполнить закон сертана, ведь этот незаконный ребенок всегда будет оскорблением для чести Кастро. Майор Силва Кастро подает своим кабрам знак, те хватают все еще улыбающегося ребенка и на глазах у матери режут его ножами. Закон отмщен: плод недозволенной любви срезан с лица земли.
Теперь лишившаяся разума Порсия уже не сопротивляется. Ее усаживают на отцовского коня, помутневшие глаза несчастной обращены к дому, где остался трупик ее ребенка. И внезапно ее рыдания оглашают сертан. Она заклинает Леолино отомстить за сына, ее отчаянный крик вспугивает птиц.
Караван мщения направляется к дому Кастро.
Леолино и Эзуперио возвращались домой к концу дня. Леолино мчался галопом, он спешил увидеть жену и сына. Но едва он приблизился к ранчо, как смутное подозрение тревогой отдалось в его сердце. Его встречала полная тишина. Вот он увидел труп кабры, затем еще один, увидел тела своих людей и трупы противников. Братья пришпорили коней и понеслись к дому. Спешились и видят: ранчо разграблено, пол в доме залит кровью. Один из людей Леолино, тяжело раненный, подполз и рассказал все, чему был свидетелем и участником.
Война между семьями разгорается с невиданной даже в этих краях силой. Леолино Кангусу отказался от торговых дел, собрал своих людей и целиком посвятил себя мщению. О подвигах его и брата вскоре заговорил весь сертан. Прибыв в Бон-Жезус, Леолино стреляет в Мануэла Жустиниано Моуру, тот падает, сраженный пулей. Некоторое время спустя Эзуперио убивает из карабина одного из Медрадо и трех его кабр. Эзуперио ни разу не промахнулся, он тоже отдался душой и телом мщению за брата.
Кастро и его союзники носились по сертану, вооруженные до зубов, стремясь захватить Леолино.
В один прекрасный день это им удалось. Но подоспел Эзуперио со своими людьми, и тут он прославился своей меткостью на весь сертан. Он спас брата, перебив множество противников. Братьям удалось спастись. Но вскоре Леолино погиб в схватке. Его убили ударом в спину наемники семейства Моура. Однако другие Моура, Медрадо и Кастро продолжали находить свою смерть, сраженные выстрелами Эзуперио и его людей, мстивших теперь за смерть Леолино. Борьба продолжалась, сертан обливался кровью.
В этот трагический для семьи Кастро год Клелия Бразилия вернулась на фазенду отца, чтобы родить второго сына. И 17 марта 1847 года ребенок увидел свет. Он родился в атмосфере трагедии, которая отметила бунт Леолино и Порсии против окружающих их предрассудков. Он унаследовал по материнской линии красоту бабушки, авантюристичность деда, но унаследовал и чувственность и отвагу тетки, ради любви восставшей против жестоких законов сертана: Очевидно, поэт очень любил эти образы своего детства, как любил и своего неугомонного дядю Жоана Жозе Алвеса, который был самым известным народным агитатором Баии. Кастро Алвес родился на земле, где все было великим и сильным: и солнце и чувства. Может быть, поэтому его поэзии и суждено было стать героической.
В историях, которые няньки негритянки рассказывали ему перед сном{7}, в легендах о мифическом герое Педро Малазарте и о восточных принцессах, вероятно, было меньше поэзии, чем в этой трагедии любви. Несомненно, все это в дальнейшем повлияло на его поэзию: когда в его стихах и поэмах зазвучала тема любви, он нашел для нее самые возвышенные, волнующие слова.
ГЛАВА 2
На поле брани меч ты свой оставишь, —
Твои потомки там его найдут…
Дом на улице Розарио был расположен в хорошем квартале и казался очень уютным. Но чувствовалась в нем какая-то тайна, в которую Сесеу, как звали маленького Антонио, еще не проник. Словно там произошло что-то ужасное. С тех пор как семья прибыла из сертана, лицо Клелии Бразилии было окутано печалью, в глазах светилась грусть. А мулатка Леополдина, бедняжка, жила в постоянном страхе и молилась по уголкам, монотонно перебирая черные четки под аккомпанемент молитв, следовавших одна за другой. Для того чтобы не разлучаться с приемным сыном{8}, дорогим ее сердцу даже более, чем собственные дети, она покинула фазенду майора Силвы. Кастро и отправилась в Байю с семьей доктора Алвеса. С тех пор глаза Леополдины стали такими же грустными, как глаза ее хозяйки, больше не слышался ее беззаботный хрустальный смех, она уже не распевала песенки сертана.
По вечерам в городе, как прежде в сертане, Леополдина приходила в детскую, прижимала к груди голову Сесеу и рассказывала ему о приключениях Педро Малазарте. Как и раньше, она пела ребенку колыбельные песни, отгонявшие рт изголовья будущего поэта все зло и все горести судьбы. Но теперь, когда мулатка начинала рассказывать про заколдованных принцесс и огнедышащих драконов, мальчику больше хотелось узнать, почему она сама ходит по дому, как приговоренная, будто постоянно ожидает несчастья. Леополдина вздрагивала при каждом вопросе своего приемного сына и не находила слов для ответа: она не решалась вспомнить драму, которая произошла в доме на Розарио. И Клелия Бразилия тоже не соглашалась удовлетворить любопытство Сесеу.
Что же таинственного произошло в этом доме, который выглядел таким светлым и уютным? Мальчик много думал: может быть, ему ответит на этот вопрос отец?
Сесеу посоветовался с братьями, но те сочли неудобным по таким пустякам отрывать доктора Алвеса от работы — от его больших книг и маленьких голландских гравюр.
Однако для Антонио Кастро Алвеса это не было пустяком. Для него это была тайна, которую надлежало раскрыть. Несколько дней беспокойными глазами он следил за движениями Леополдины, читая в ее взгляде страх перед чем-то неразгаданным. Внезапно Антонио вспомнил о младшем лейтенанте. Вот кто может рассказать ему все: его дядя, младший лейтенант Жоан Жозе Алвес. Правда, придется долго ждать, пожалуй, неделю или две, пока Жоан Жозе появится в доме.
Еще в сертане, на фазенде деда, Кастро Алвес слышал об этом безалаберном дяде, драчуне и скандалисте, полной противоположности своему брату. Насколько доктор Антонио Жозе Алвес был смирен и склонен к научным занятиям, умерен в словах и жестах, настолько младший лейтенант Жоан Жозе Алвес был разговорчив, полон самых разных идей, беспокоен, порой его внезапно охватывали приступы ярости. Он никогда ни о чем подолгу не задумывался и сразу же исполнял свои, по большей части сумасбродные желания.
Сесеу вспомнил, как на фазенде отец, получая письма от брата, всегда хмурился, подходил к жене, мягким жестом клал ей руку на плечо и говорил, сдерживая гнев:
— Жоан Жозе опять выкинул один из своих фокусов…
Маленький Антонио находился поблизости. Он представлял себе в тысячах — вариантов образ этого полулегендарного дяди, который причинял отцу столько забот и заслужил резкую характеристику от Силвы Кастро.
— Он дебошир… — говорил майор.
По правде говоря, старый майор не мог понять этого военного, не подчиняющегося уставу, не признающего дисциплины, превращающего городскую площадь в поле сражения и командующего бродягами и капоэйрами[14] вместо солдат регулярных войск. И когда доктор Алвес пытался заступиться за брата, говоря, что «у него такой темперамент», майор иронически улыбался и делал досадливый жест:
— Не выгораживайте его, сеньор. Он должен следовать вашему примеру, быть благонамеренным, порядочным человеком…
Антонио не мог понять толком, почему дядя не был порядочным человеком. Ведь он храбр, как дюжина храбрецов, отважнее того портного из историй Леополдины, который превращался в принца и одним махом убивал семерых. И по вечерам в сертане, когда голос Леополдины наполнял маленькую комнатку принцессами, королевами и драконами, Кастро Алвес видел дядю-лейтенанта спасающим невинную принцессу и убивающим пятиглавого дракона, который изрыгал огонь.
Нет, не Педро Малазарте, самый мудрый и отважный герой в мире, созданный сказками Леопол-дины, совершал полное приключений путешествие на небеса и в ад. Героем воображения мальчика стал младший лейтенант, превратившийся в Педро Малазарте. Когда семья переехала в город, чтобы доктор Алвес мог полечиться, Антонио обрадовался: теперь-то он, наконец, познакомится с дядей, воочию увидит этого человека, который имеет способность раздражать майора Силву Кастро.
И младший лейтенант появился сразу же по прибытии семьи доктора. Он взял на руки племянников, потрепал кудри Сесеу, посадил его верхом на колени, но ничего ему о себе не рассказал, — он торопился и быстро ушел. Антонио увидел, как он скорыми шагами идет по улице, здороваясь со встречными и подкручивая усы.
Теперь мальчик ждал с удвоенным интересом, когда дядя еще раз придет навестить их. От него он узнает, почему грустна мать, почему она хочет переехать в другой дом, почему в глазах Леополдины застыл ужас. Жоан Жозе знает все, потому что он — Педро Малазарте, самый мудрый человек на земле.
Однажды во второй половине дня младший лейтенант, наконец, появился. Нянька негритянка поднесла ему на серебряном подносе кофе. Доктора Алвеса дома не было, свояченица хлопотала по хозяйству. Обрадованный Сесеу вскарабкался дяде на колени и вдруг задал вопрос, поразивший гостя: что это за тайна дома, которая так пугает женщин?
Кастро Алвес, моя подруга, страстно любил свободу, как прекрасную женщину со стройным телом и красивым лицом, и ей он посвятил всю свою жизнь, свои лучшие стихи, ради нее он жил. Кроме свободы, только любовь заполняла его часы. Свою поэзию и свою жизнь он делил между любовью и свободой. Никогда женщины не имели более нежного возлюбленного, никогда свобода не имела более пылкого жениха. И вот, подруга, поскольку ему была уготована такая судьба, уже с детства его захватили истории любви и борьбы за свободу.
Младший лейтенант Жоан Жозе Алвес был убежденным борцом за свободу. И в этот сумеречный час он своим грубым голосом солдата рассказал мальчику трагическую историю любви. Вслед за ним я тоже поведаю тебе, моя подруга, эту романтическую историю, которую поэт услышал от дяди-бунтовщика.
Ты для меня, моя негритянка, звезда на небе, музыка, обретенная в одиночестве моря, дочь, жена и мать, возлюбленная и невеста, радость и тепло, ты для меня все! Такой была для профессора Жоана Эстанислау да Силва Лисбоа та, которую он полюбил во время танца на одном празднике и которая наградила его нежным взглядом и улыбкой. Ее звали Жулия Фейтал, она была белая и красивая, с высокой грудью, веселая и смешливая. Но была она, подруга, изменчива, как течение реки, ей нравилось, чтобы на нее заглядывались мужчины, чтобы к ее улыбке были прикованы сердца всех, кого она встречала. Она, правда, стала невестой Жоана Лисбоа. Поговорила с ним из окна своего дома, написала ему несколько любовных писем, сказала, что будет принадлежать ему одному. Но что поделать, подруга, если глаза Жулии Фейтал улыбались всем мужчинам и зовуще глядели на всех прохожих? Ее огненные поцелуи обожгли многие уста, спалили много сердец. Жулия Фейтал в своем девичьем уединении думала о Жоане Лисбоа, о его неистовой любви, о его пылких поцелуях, но она думала также о стройном студенте, с которым она танцевала на последнем празднике и который говорил ей такие дерзкие комплименты.
Любовь — это все благо мира, подруга. Но любовь может быть и всем несчастием земли. Такой она была для Жоана Лисбоа. На празднике Жулия Фейтал весело и счастливо смеялась, покоряя мужчин, вызывая зависть женщин, и он решил убить ее.
Жоан понял, что она никогда не будет принадлежать ему одному. Он убьет Жулию, потому что безнадежно ее любит: он не может вынести, когда она улыбается другому, когда ее глаза прикованы к другим, не его глазам. И все же для Жоана Лисбоа она была не сравнима ни с одной женщиной в мире, была отлична от всех, прекраснее всех. Даже убивая ее, он должен был возвеличить любимую, поставить ее выше остальных. И в горестные для него дни он отлил золотую пулю, так как никакой другой металл не был достоин проникнуть в белое тело Жулии Фейтал, и он выстрелил этой пулей прямо в сердце любимой. Жулия Фейтал упала, из раны потекла струйка крови. Золотая пуля — последний подарок, который он ей преподнес, драгоценность, которую ни один возлюбленный не дарил до него своей невесте.
Мальчик Антонио с волнением слушал рассказ дяди и в тот же вечер поведал Леополдине историю о некоей девушке, красивой, как принцесса, погибшей от золотой пули. Тогда Леополдина открыла ему великую тайну, которая так пугала Клелию Бразилию: Жулия Фейтал по ночам возвращалась в залу, где была застрелена, и теперь золотая пуля не была уже погребена в ее сердце, а как редкая драгоценность сверкала у нее на груди{9}. Жулия улыбалась своей предательской улыбкой. Она приходила искать своих возлюбленных…
Жулия Фейтал завладела мечтами мальчика Кастро Алвеса, она была первой возлюбленной его детства, он был очарован ее любовной трагедией.
Детство Кастро Алвеса прошло под впечатлением этих историй. Раньше, в сертане, это была трагедия Порсии и Леолино; теперь здесь, в первом доме, в котором он жил в Байе, произошло самое романтическое преступление города.
Когда семья Кастро Алвеса переехала на улицу Боа Виста, частым гостем в доме стал Жоан Жозе Алвес{10}, и появление его обычно сопровождалось шумом. Младший лейтенант нередко будил брата посреди ночи, это означало, что ему понадобилось надежное убежище. Он постоянно оказывался замешанным в какой-либо конфликт. В то время Жоан Жозе Алвес был вожаком либеральной оппозиции, выступавшей против стоявших у власти консерваторов. Не ограничиваясь словесным протестом против действий власть имущих, он устраивал уличные вооруженные столкновения, митинги, мятежи. Он возглавлял недовольный народ, массы сделали его одним из самых популярных своих вождей. Он был человеком действия, и даже когда за ним никто не шел, он выступал один — Жоан Жозе Алвес стоил многих; он действительно ничего не боялся.
Когда консерваторы выдвинули в сенат кандидатуру своего лидера Вандерлея, младший лейтенант, зная, что наибольшее число избирателей будет голосовать на Соборной площади, решил, что исчезновение оттуда урны нанесет большой ущерб его политическому противнику. И он один, без чьей бы то ни было помощи похитил урну, как хорошо ни охраняли ее солдаты и приверженцы Вандерлея. Это событие наделало много шуму в городе; все говорили о младшем лейтенанте Жоане Жозе Алвесе, как о герое.
В гостиной у Алвесов Жоан Жозе показал украденную урну. Доктора Алвеса это нисколько не воодушевило, и он тут же выразил свое несогласие с братом, а перепуганная Клелия Бразилия высказала опасение, как бы полиция не ворвалась в дом. Но ребенок смотрел на младшего лейтенанта широко открытыми, блестящими, сияющими от радости глазами. Не слушая приказаний матери идти спать, он восхищенно внимал рассказу дяди о его подвиге: как он пробрался между наемниками Вандерлея и солдатами, как, воспользовавшись всеобщим оцепенением, захватил урну, как сбил с ног смельчака, преградившего ему дорогу, как ударил другого, который пытался вырвать у него урну. Он смелее Педро Малазарте, подумал Сесеу.
Однажды доктор Алвес повел сыновей в театр Сан-Жоан{11}, где несколько лет спустя Кастро Алвеса будут приветствовать как защитника свободы. В этот вечер в театре шел спектакль, привлекший избранное общество Баии. В ложе находился президент провинции, присутствовали и другие представители власти, лидеры оппозиции, самые именитые семьи; женщины, одетые элегантно и изысканно, мужчины во фраках, украшенные орденами. Студенты и чернь с галерки наблюдали это внушительное зрелище. Театр был наполнен шумом разговоров, и мальчик Антонио без устали любовался этим разноцветным многоголосым праздником, этим миром, который он со временем завоюет.
Но вот внезапно наступила тишина: начался спектакль. Медленно раздвинулся занавес, все взоры обратились к сцене.
Борьба за независимость еще была свежа у всех в памяти. Бразилия только недавно перестала считаться колонией. И все, что напоминало о Португалии, как державе-угнетательнице, было для бразильцев оскорблением.
Итак, все взоры обратились к сцене. Там был отчетливо виден изображенный на декорации первый генерал-губернатор Бразилии Томэ де Соуза — он сошел с каравеллы на новую землю; его статная и представительная фигура, высокомерная и презрительная, казалась живой. Индейцы склонились к его ногам чуть ли не с обожанием. Глаза всех в театре были прикованы к декорации. В ложах даже начали аплодировать декоратору и вышедшим на сцену актерам. Но вот с галерки послышался голос:
— Долой! Бразилия на коленях перед Португалией!.. Долой!
Кто-то сверху закричал:
— Это оскорбление!..
И внезапно из ложи семейства Алвес на сцену выскочил младший лейтенант Жоан Жозе Алвес с кинжалом в руке. Он вонзил его в грудь Томэ де Соуза, разрезав декорацию; удары кинжалом следовали один за другим. Публика на галерке с энтузиазмом зааплодировала. Несколько приверженцев Жоана Жозе Алвеса бросились на сцену и начали рвать на части декорации; артисты разбежались.
Президент провинции покинул ложу, считая себя оскорбленным случившимся. Но публика освистала его; со всех сторон слышались выкрики, что он продался португальцам, что он не бразилец, что он против свободы.
Президент приказал открыть огонь по публике. Тогда Жоан Жозе отбрасывает в сторону свой кинжал и кричит солдатам:
— Неужели вы осмелитесь стрелять в своих братьев?
Позади него, подставив грудь под пули, десятки людей: простой народ, студенты. Солдаты не стреляют, они дают зрителям выйти на улицу. Там толпа организует демонстрацию протеста и митинги. Это начало восстания.
Антонио Кастро Алвес возвращался домой, взбудораженный происшедшим. Никогда он не видел ничего более прекрасного, чем его собственный дядя, с кинжалом в руке вбегающий на сцену, чтобы порвать декорации, оскорбительные для народа Бразилии. У мальчика навернулись на глаза слезы восторга при виде толпы, ревущей от гнева, бросающей вызов президенту провинции, восстающей, чтобы защищать свободу.
С тех пор в его воображении стали возникать новые видения. В эту ночь он рассказал мулатке Леополдине историю о герое, равном по храбрости Педро Малазарте, о герое, который ничего не боялся, даже солдат, готовых открыть огонь из своих карабинов. Этим героем был младший лейтенант Жоан Жозе Алвес.
Дядя ничем не походил на своего брата: преисполненный мужества, он готов был бросить вызов всему миру. Таким он был с детства: больше любил улицу, чем отчий дом, и слыл мальчишечьим главарем при налетах на сады соседей. Его отец португалец разбогател благодаря торговле, женился на баиянке и нажил с нею двоих сыновей, таких разных по характеру и темпераменту. Антонио Жозе был спокойный и прилежный ребенок, книголюб и домосед, он не способен был причинить неприятности родителям; Жоан Жозе, наоборот, бегал от уроков, не любил книг, дружил с детьми невольников — словом, делал то, что не пристало мальчику из хорошей семьи. И родители порешили, что Антонио Жозе будет ученым доктором, станет носить кольцо, свидетельствующее об окончании университета, и сделается гордостью родителей. А Жоан Жозе станет военным; на полях сражений он, возможно, сделает карьеру, получит чины.
Антонио изучал медицину и фармакологию. Путешествуя по Европе, он усовершенствовал свои знания у выдающихся медиков, стал многообещающим молодым врачом. Впоследствии он сделался знаменитым хирургом, профессором факультета и получил много наград. Ему не были чужды и другие интересы: он коллекционировал картины, основал Общество изящных искусств{12}.
Жоан дослужился до чина младшего лейтенанта, стал политическим деятелем, либералом, но не потому, что его привлекала партия либералов, а потому, что в груди его билось сердце, больше всего любившее толпу, которая бушевала на улицах и площадях, завоевывая свои права и защищая их. Он стал самым грозным народным агитатором тогдашней Баии и создал народный батальон, который принимал участие в патриотических манифестациях. Этот батальон был плотью от плоти народа, того народа, который не пожалел своей крови в борьбе за независимость и доказал это в сражениях против португальцев под Кабрито и Пиражой.
В один из праздников Второго июля, когда весь город отмечал освобождение Баии от португальского ига, младший лейтенант вывел на парад свой батальон. В центре всеобщего внимания — президентский дворец. Президент провинции вместе с другими представителями власти стоит на балконе, отвечает на приветствия. Батальон подходит все ближе, музыканты играют все усерднее. Но в момент, когда батальон проходит мимо балкона, оркестр по сигналу младшего лейтенанта внезапно смолкает и с вызывающим видом молча дефилирует перед дворцом.
Кто мог осмелиться схватить младшего лейтенанта? Кто в Байе решился бы тронуть его? Плохо было бы тому, кто посмел бы причинить ему зло, кто покусился бы на его свободу. Десятки рук потянулись бы к кинжалам, сотни рук взметнулись бы, угрожая местью. Младший лейтенант Жоан Жозе Алвес был кумиром не только для своего племянника. Его боготворили многие — студенты, солдаты, городские бедняки. Если доктора Алвеса почитали как известного человека, то и младший лейтенант был по-свое-му знаменит, его тоже почитали, и, более того, он был любим безвестными людьми с улиц и площадей Баии.
В 1855 году в Байе вспыхнула эпидемия холеры. Доктор Алвес покинул клинику, пожертвовал твердым заработком, обеспеченным комфортом и полностью посвятил себя борьбе с холерой. Эпидемия разрасталась, и вскоре вся область Баии напоминала единое кладбище, где господ хоронили рядом с невольниками, в непредвиденном равенстве перед беспощадной болезнью. Оппозиция использовала это тяжелое положение в политических целях, чтобы, если удастся, свергнуть тогдашнего президента провинций Тиберио. Против него была развернута кампания неслыханной силы; резко критиковались ошибки правителя в борьбе с эпидемией и предлагались всякие спасительные выходы из положения. Однако не многие отважились последовать примеру доктора Алвеса и пошли лечить больных. Число заразившихся катастрофически возрастало. Смерть косила людей, не успевали хоронить трупы, города превратились в кладбища. Вот тогда Тиберио сделал ловкий политический ход: призвал врачей-оппозиционеров, в том числе доктора Жоана Барбозу, лидера либералов, и отправил их в опустошенную область Баии.
Вместе с ними поехал младший лейтенант Жоан Жозе Алвес. Врачи-оппозиционеры, прибыв на место, увидели сокрушающую силу холеры, и страх их оказался сильнее желания отличиться перед избирателями, сильнее даже профессиональной гордости и чувства человечности. Они вернулись на том же пароходе, бросив больных на произвол судьбы. Эти врачи предпочли увидеть саркастическую улыбку Тиберио и лишиться своего политического авторитета, чем жить в аду, ожидая через несколько дней верной смерти.
Один человек, однако, остался. Разочаровавшись в руководителях своей партии, он остался с народом, который умирал на улицах. Это был младший лейтенант Жоан Жозе Алвес. Не все либералы любили народ только в речах накануне выборов; некоторые решились страдать вместе с народом, остаться с ним в часы отчаяния. Младший лейтенант был не из тех, кто отступал. В его груди билось отважное сердце, которое не боялось ни людей, ни смерти. Люди науки, кабинетные деятели вернулись в Байю, а человек с площади остался. Он не предохранял себя от заражения, не убегал от больных, а оставался вместе с ними, сделался фельдшером, врачом, аптекарем, могильщиком для тех, кто умирал, священником для страждущих, которые еще жили, ободрял вдов, приносил сиротам бог знает где добытую пищу. Он стал провидением для всех людей округи, охваченной эпидемией. Он бывал всюду, неутомимый, обросший бородой, грязный, невыспавшийся — для сна не хватало времени, — поднимавший дух народа й воодушевлявший людей на борьбу против мора. Этот человек, всю жизнь пытавшийся свергнуть правительство, проявил себя как организатор, воодушевляя своим мужеством и хладнокровием целый район, уже примирившийся с мыслью о неизбежной гибели. Младший лейтенант стал душой всех, кто мужественно начал борьбу против эпидемии.
Жоан Жозе Алвес воодушевлял здоровых, лечил больных, хоронил умерших, Бунтовщик сделался святым для людей улицы. Человек, который когда-то разорвал оскорблявшие национальное достоинство декорации в театре, теперь с тем же пылом и с той же улыбкой атаковал внушавшую ужас холеру. Даже относившийся к нему с предубеждением брат теперь находил добрые слова, чтобы оценить по достоинству его мужество. А племянник восхищался им все больше и больше.
Однажды, подруга, Кастро Алвес произнес своим несравненным голосом:
Принадлежит народу площадь, Как кондору — небес простор{13}.Площади принадлежат народу, подруга, это его поле битвы, там он протестует и борется. Ты еще не видела толпу, которая волнуется на площади, подобно бушующему морю, что разбивает корабли и затопляет порт?
Кастро Алвес познал эту истину, видимо, уже в детстве, когда его нежно называли Сесеу и когда его братья и сверстники еще заслушивались наивными рассказами служанок о заколдованных принцессах. Этот мальчик, который через несколько лет стал поэтом свободы, имел в детстве других учителей. Если Порсия и Леолино научили его силе и мужеству в любви, если Жулия Фейтал вдохнула в его сердце романтику, то младший лейтенант Жоан Жозе Алвес научил его тому, что высшее благо в жизни — это свобода. Она завоевывается народом на улицах, на митингах и собраниях, в залах театров, на демонстрациях.
Площадь принадлежит народу, подруга, как небо кондору. Никому площадь не принадлежала больше, чем младшему лейтенанту Жоану Жозе. Потому что он сам вышел из народа и составлял с ним единое целое. Уже в детстве для Кастро Алвеса он олицетворял народ, борющийся на митингах, на собраниях, на баррикадах. Пройдут годы, ребенок станет взрослым и поведет народ к великим завоеваниям эпохи: к освобождению рабов и провозглашению республики. У племянника Жоана Жозе Алвеса, который последовал по пути дяди, было другое оружие, страшнее кинжала и смертоноснее карабина. Оно было подобно свету, озаряющему дорогу, оно поднимало людей на восстание.
Кастро Алвес, моя нежная подруга, научил нас великой истине. Она состоит в том, что наравне с винтовкой, карабином и кинжалом поэзия тоже оружие народа.
ГЛАВА 3
В этом ребенке — грядущего символ.
Гения силу в себе ощущаю!
Женщины, моя подруга, которые имели возлюбленного и жениха, старухи, которые давно познали сладкие тайны любви, и девушки, едва достигшие зрелости, — женщины первыми обратили внимание на широко открытые глаза этого мальчика, на его высокий лоб, от которого вздымалась черная шевелюра, они сразу отгадали, что он не похож на всех, что слова в звучании его голоса приобретают иной, новый смысл, и он приводил их в изумление, хотя, возможно, они и не понимали его. Они, моя подруга, чувствовали, что этот ребенок станет мужчиной, которого будут любить все женщины и уважать все мужчины. Женщины, как и поэты, иногда проявляют удивительную интуицию, подруга.
Следуя за старшим братом, Антонио шел по улицам Баии. И глаза его были открыты всем зрелищам жизни, в то время как брат его, нервно вздрагивая, бормотал стихи и ничего вокруг не видел. Жозе витал в облаках, мир его был полон призраков и привидений. Он не замечал ни негров, ни мукам, ни отца, ни матери, он не замечал даже младшего лейтенанта Жоана Жозе. Его волновало нечто иное, и в его мир не имел доступа никто. Жозе Антонио шел по улице всегда мрачный и как будто в нервной лихорадке. Антонио Кастро Алвес шагал несколько поодаль, и перед его большими детскими глазами с каждым его шагом разворачивалась жизнь — проходили мужчины, красивые женщины, негры-невольники. Но если Порсия и Леолино, Жулия Фейтал и младший лейтенант, если стоны негров, избиваемых кнутами надсмотрщиков, если горе, обрушивающееся на людей, заставляло Жозе Антонио бежать от мира и погружаться в свои далекие от реальности мечты, то Антонио, которого прозвали Сесеу, жил целиком в этом мире и в грезах видел реальных людей — тех. кто сопровождал его еще в ранние детские годы. Он силился понять этот мир, он думал, что, если когда-либо станет слагать стихи — а ему предстояло их слагать, — все прочувствованное станет мотивами его творчества. Ради эгоистического одиночества он не устранится, как Жозе Антонио, от повседневной жизни людей, от их радостей, борьбы, от их слез.
Жозе Антонио идет впереди с полузакрытыми глазами, замкнувшись в своих мечтаниях, не видя камней на дороге, идет отрешенный от всего, и женщины догадываются, подруга, что он дружен только со смертью и сердце его бьется лишь ради нее. А Сесеу, и женщины это тоже чувствуют, в один прекрасный день станет большим человеком, и имя его пронесется от края до края страны, и каждый произнесет его с уважением и любовью. Они предугадывают в Сесеу поэта, который своей жаждой Любви покорит многих женщин, и они откроются перед ним, как полевые цветы под лучами утреннего солнца; они предчувствуют в нем человека, который на площадях, в театрах, в академиях провозгласит новое слово, новые идеи. В его слабых и изящных руках юноши они видят руки, которые разорвут цепи насилия и рабства, в его нежном и музыкальном голосе они слышат голос, который будет звучать громче всех и придаст словам особый смысл, они слышат голос, который сделает слово своим грозным оружием. Они видят в его глазах молнии, которые, настанет время, озарят небеса городов и зажгут в сердцах людей свет.
Милая подруга, женщины в гораздо большей степени, чем мужчины, обладают даром провидения. Они раньше нас предчувствуют пробуждение в человеке гения и для этого человека становятся и красивыми и ласковыми.
Жозе Антонио проходил по улицам мрачный, с замкнутым лицом, словно шел к смерти, и женщины не тревожили его. Но они подзывали Сесеу, брали в свои бархатные ручки его лицо, целовали глаза, ощущали жар его высокого лба. Сесеу был еще мальчиком, но женщины знали, что он станет знаменитостью.
В сертане, подруга, мальчик видел, как надсмотрщик избивает невольников кнутом по спине, как кровь ручьем течет по каменистому полю, видел, как сертанежо преследуют врага с ружьем в руке и с ножом за поясом, видел, как тайная любовь ищет убежища в темной, непроницаемой чаще, видел, как предрассудки губят людей. Он знал о ребенке, который был принесен в жертву предрассудкам. Позже глаза его, еще сохранившие видение дикости нравов сертана, увидели в городе дядю, который стал во главе людей, поднявшихся на борьбу.
И он не хотел, моя подруга, бежать от этих сцен, бежать от жизни.
Жозе Антонио, как и брат, чувствовал боль в сердце каждый раз, когда стон невольника нарушал тишину полей и проникал в каза-гранде. Но в отличие от брата он в эти минуты закрывал глаза и уши, как закрывал их и потом в городе, когда видел на площади людей — под предводительством его дяди они протестовали против произвола и требовали свободы. Жизнь казалась ему нелепой, ошибочной и страшной. Он не хотел ее, не хотел участвовать в ней, он предпочитал уйти от нее. Когда боишься жизни, дорогая подруга, когда думаешь, что удел человека — горе, а смерть прекрасна, как самая красивая из женщин, тогда смерть — возлюбленная, она превыше всего, и только она может дать благо, которого нет в жизни. Такие люди, как Жозе Антонио, шествуют к смерти твердым и решительным шагом, словно идут на праздник, ведь их ничто не привязывает к жизни.
Но для Сесеу, младшего брата, смерть не была прекрасной возлюбленной; он обнаружил, что борьба за свободу прекраснее смерти, что счастье создано для всех, нужно только его завоевать, что, если есть свобода, жизнь — подарок, праздник. Брат шел к одиночеству смерти, Антонио предпочел смешаться с толпой и идти со всеми на борьбу за освобождение от оков рабства.
Жозе Антонио был просто поэтом, его брат — гением.
По этим улицам, подруга, ходил мальчиком Кастро Алвес. На этих улицах женщины видели его еще юношей и тогда же предрекли ему большое будущее, ибо у него был лоб апостола, глаза борца и язык его знал, слова, которые, как огонь, обжигают противников свободы.
Если бы улицы Байи, ее холмы, обложенные изразцами домики и золотом украшенные церкви под несравненным голубым небом, подруга, если бы даже они и не были так красивы, то и тогда твой город был бы самым прекрасным в Бразилии, потому что на его улицах Кастро Алвес научился любить свободу.
По этим улицам ходили двое мальчиков. Оба были поэтами, и в их сердцах сильнее, чем в сердцах других, отражалось все, что происходило вокруг них{14}. Каждая слеза, каждый стон на земле наводил в них отклик. Эти два мальчика — как два символа. Один — и с ним столько художников в мире, столько поэтов, столько романистов — бежал от страдания, закрывая глаза на жизнь, замкнулся в себе, и одиночество стало для него преддверием смерти. Он изменил своему гению и своей миссии. Много таких, как он, подруга. Но другие предпочитают удел Кастро Алвеса. Для Жозе жизнь была черной ночью. Кастро Алвес знал, что у всех этих ночей есть рассвет.
ГЛАВА 4
Зеркально отражают воды
Цветок на празднике весны;
Твои же молодые годы
В моей весне отражены.
Прошли годы, и однажды Кастро Алвес, подруга, вернулся в сертан. Со слезами на глазах, простирая руки, бросилась ему навстречу Леонидия. Она сразу же узнала его, хотя он возмужал за эти годы, что провел в Ресифе, Сан-Пауло, Рио-де-Жанейро и в Байе. Все эти годы он жил для людей, и голос его был голосом тысяч, и слово его отражало мужество и отвагу всего народа. Он изнурил себя в борьбе, которую вызвало его слово, в борьбе за освобождение рабов, в борьбе за свободу всего народа. Он поднимал людей на восстание. И оружием его была поэзия, и она вонзалась глубже, чем кинжал, и ранила сильнее, чем он. Поэт заронил надежду в сердца людей, что придет фея радости и принесет любовь всем обездоленным, и улыбку на уста невольников, и хлеб, самому бедному очагу, и свободу.
Он был, подруга, подобен звезде, которая, внезапно возникнув, предвещает конец бури. Разве ты не видела с кормы рыбачьей лодки или парусника, как смертоносная буря несется над морем, скрывая голубизну неба, наполняя страхом сердца женщин? Суденышки борются, но ветер силен, высоки волны, ураган срывает с причалов корабли. И тогда, подруга, неизвестно откуда, то ли с неба, то ли с моря появляется звезда и прорезает мрак. Это свет в ночи. Страх уходит из сердец людей. Это предвестие затишья.
Таким был Кастро Алвес, подруга. Темна была ночь без звезд на бурном небе. Черные люди пели с своей горькой судьбе, и слезы их лились, как песни в макумбах, которые они в городах выкапывали под землей. И белые люди тоже веками безнадежно взывали к небу; ведь и они были почти такими же рабами, как и черные. Тогда-то свет звезды возвестил, что свобода — это заря, которая разгонит бурную ночь, и все увидят голубизну неба и будут улыбаться, как дети. Когда люди уже думали, что ночь урагана и смерти будет длиться вечно, что никогда под небесами не засияет заря, тогда-то и появился поэт, как звезда среди бури, и сказал, что свобода не умирает.
Сотни лет прожила Леонидия за то время, что не видела своего любимого. В глубь сертана доносилось из городов эхо его голоса, и Леонидия вслушивалась в этот голос, сжимая руки на груди, которую он воспел. Леонидия страдала от разлуки с любимым и в долгие безмолвные ночи роняла слезы на старые, пожелтевшие листы. В письмах его и стихах, посвященных ей, перед нею воскресали дни их детства, идиллия первых лет их любви. Она страдала: каждая минута отсутствия любимого была равна году горя, однако Кастро Алвес был так велик и могуч, что, даже находясь вдали, он наполнял ее радостью: ибо время от времени до нее доходили вести о нем — рассказывали о новом поэте, который читает свои стихи на притихших площадях, и о том, что эти стихи повторяют невольники в сензалах. Он уехал потому, что ему была уготована судьба изменить облик мира. Бедные, несчастные невольники ждали своего поэта, чтобы оружие его гения, огонь его слов помог им разорвать оковы рабства. Руки негров взывали о справедливости. Все же, что Леонидия могла предложить поэту, — это песни сертана, которые она умела петь, слезы, которые она умела проливать, хрустальный смех, который берегла только для него, трепет рук и нежный жар объятий. Но всего этого было мало, чтобы удержать его здесь, когда из сензал доносились глухие рыдания негров и бой барабанов, когда издалека, с площадей, сюда докатывался шум восставшей толпы. И он отстранился от ее теплых уст, оторвал взор от пахучей ночи ее волос, от всего, что мешало ему видеть горести жизни. И уехал. Леонидия знала, что он вернется лишь для того, чтобы умереть, когда выполнит свою миссию, и даже ее поцелуи не продлят ему жизнь. Но и тогда в ее страдании была бы радость, так как любимый отважно прожил свою жизнь, славно прожил он каждую минуту, проведенную без нее.
Однако в один прекрасный день он вернулся, подруга. На площадях, в академиях, в театрах, в каждом доме, в каждой молодой груди находил отзвук его голос. Он торопился жить, его изнуряла лихорадка, и голос его звучал глухо, и обращался он сейчас только к ней одной. Он словно вернулся после долгой, славной битвы, смертельно раненный. Для больного героя и скромной девушки из сертана снова началась та идиллия, что некогда наполнила радостью детство поэта. Леонидия была для него вечно надежным портом, тем портом, где судно бросает якорь после бури, принеся на корпусе следы стоянок в других портах, водоросли других морей.
Много лет назад, подруга, родилась эта любовь, весною в полях, под солнцем сертана. Мальчик находил очарование в каждом цветке, в каждом луче солнца, отражавшемся в водах реки; нераскрытая тайна виделась ему в каждой улыбке соседской девочки с длинными косами и глазами с поволокой. Леонидия казалась ему лучом лунного света, серенадой, той звездой, которой мальчик любовался из окна своей комнаты. Бледность Леонидии, ее ресницы, ее иссиня-черные волосы — все это так не вязалось с пылающим южным солнцем. От нее исходила тайна, нечто, заставлявшее трепетно биться маленькое сердце Антонио. До того, как он увидел Леонидию, его взоры были обращены к цветам, к солнцу и полю, к стонущим невольникам. Он подготовился лишь к тому, чтобы воспевать природу и изнуренных непосильным трудом рабов{15}, у Леонидии он научился любить те прекрасные слова, которые она знала. До тех пор ему ведомы были лишь сверкание солнечных лучей и шорох воды в реке, бесценная красота белых лилий и заливистые трели птиц, но он еще ничего не знал о смехе девочки, о тайне ее глаз с поволокой, об очаровании иссиня-черных волос. Не заполни Леонидия дней его детства, он, возможно, сделался бы крупнейшим певцом природы Бразилии{16}, поэтом невольников и свободы. Ей поэт, очевидно, обязан тем, что стал человеком, который лучше всех умел говорить на португальском языке о любви и о женщинах. А пока же этот мальчик многое знал о природе и о страдании, но ничего не знал о любви.
Как-то Антонио взял за руку соседскую девочку, и они, отправившись гулять в поле, дошли до самого берега реки. Эта прогулка была сказкой. Леонидия прыгала по камням, громко смеялась, Антонио догонял ее, она несла в руках цветы, в глазах ее была тайна. Она знала название каждого цветка, узнавала по голосу каждую птичку. Но вот она вплела цветы в косы и стала похожа на лесную фею. Серебряные рыбки подплывали кормиться из ее рук. Мальчик смеялся, но она была серьезна, ее детское личико отражалось в воде, в которую она окунала руки.
Домой они возвращались бегом, девочка бежала стремительнее лани, и смех ее звучал веселее, чем поток воды, текущий по камням. Потом они отдыхали в тени дерева, и Антонио, пользуясь остановкой, рассказал своей подруге одну историю, которую услышал накануне вечером от негритянки Леополдины. Это была история о заколдованной принцессе, которой подчинялись птицы и рыбы и которая путешествовала в лунном луче и разносила над землею весну. Внезапно мальчик вообразил, что Леонидия и есть заколдованная принцесса, фея этих полей, богиня этих белых лилий. Мальчику нравилось говорить о том, что он чувствовал, и он тут же обо всем этом сказал Леонидии. Она вскочила, побежала, ее веселый хохот разнесся над полями, и бесконечная радость охватила сердце мальчика. Когда же в ночи над фазендой серенада прорезала небеса, мальчик почувствовал в музыке иной, необычный смысл, и нежный плач в струнах гитары показался ему сегодня еще нежнее.
На следующий день Антонио лихорадочно ждал на пороге дома появления девочки: ему уже не хотелось идти в поле одному, среди окружавшей его красоты ему уже чего-то не хватало. Почему же она не идет, почему не поможет полевым цветам раскрыть свои венчики, почему не идет полюбоваться собой в зеркале реки?
Птицы, подруга, скоро стали узнавать двух детей, которые ежедневно, взявшись за руки, шли по направлению к реке. Цветы распускались — красные, синие, желтые, птицы пели, река спокойно катила свои воды. Дети беспричинно смеялись и поверяли друг другу свои детские секреты. «Когда мы вырастем, ты станешь моей маленькой женой…» Леонидия никогда не спорила с ним, она была подобна тростинке, которая сгибается на ветру. Уже с этих дней детства она полюбила Антонио и отдала ему свое сердце. Она быстро поняла, что не будет с ним всю жизнь рядом, что настанет день, когда он унесется от нее как ветер, а если и вернется, то вскоре снова пустится в обратный путь, и никогда он не будет принадлежать ей только. Однажды, много лет спустя, он написал для нее самую прекрасную из своих любовных поэм{17} и в качестве эпиграфа поместил стихи другого поэта{18}, стихи о ветрах, которые проносятся, безумные и легкие, и не возвращаются, чтобы увидеть цветы.
Леонидия никогда ни на что не жаловалась и никогда не переставала любить своего поэта. А когда он умер, мир кончился для нее, безумие стало ее прибежищем. И в помешательстве единственной реальностью для нее остались посвященные ей стихи и ласковые слова, которые он говорил ей.
Кастро Алвес познакомился с ней на полях Курралиньо. И она окончательно связала его с землей и природой сертана. К природе и к ней он возвращался трижды. Она была для него «верой, надеждой и любовью».
Из всех возлюбленных Кастро Алвеса ни одна не была столь героической и столь отзывчивой, как Леонидия. Она не просила мальчика бегать с ней по полям, она не просила стихов, не просила жениться на ней, не просила верности, даже хотя бы любви. Она осталась перед ним заколдованной принцессой, подарила ему несколько улыбок в детстве, свои губы в молодости, позволила ему в конце жизни склонить лихорадочную голову к своей груди. Она видела, что дни его сочтены, и понимала, что он уезжает, чтобы умереть вдалеке. Быть может, лишь тогда она попросила его о чем-то, быть может, попросила, чтобы он остался, она надеялась, что тут к нему вернется здоровье. То была единственная просьба, с которой обратилась к нему подруга детства, возлюбленная в юности, любимая в эти дни его болезни:
Не уходи! Тебя мы все так любим! К тебе мои привыкли даже птицы…Не ради себя она просила его об этом. Его усталое, больное сердце было разбито другими женщинами. Затем, только затем, чтобы он не отправился искать «хотя бы призрак надежды», она просила его:
Зачем, куда уходишь, мой любимый? Найти слугу, иль друга, или брата Верней меня не сможешь никогда ты. А если ты, бессонницей томимый. Захочешь в музыке искать покой, Сумеет разве кто-нибудь другой Воспеть тебе, как я, под звук гитары Мою любовь, ее восторг и чары?Он хорошо знал, подруга, что уже никогда больше не найдет «семьи добрее, чем ее заботы». Она сама сказала ему:
Пусть шелк моих распущенных волос Сотрет со щек твоих остатки слез.Но он был «странным юношей», подруга, и он уехал. Могучая сила влекла его, больного, в народ, чтобы агитировать, чтобы звать людей на борьбу за свободу. Свои последние слова, свои последние стихи он хотел подарить неграм. В городе его не ждала другая женщина. В город его влекла богиня — богиня свободы. Никто, подруга, не знает цвета ее волос, но кто не знает, что она прекраснее всех, что смерть ради нее сладостна?
Я хотел рассказать тебе, любимая, о Леонидии, о том, как весела и счастлива была она в те годы, когда здесь жил поэт, и как несчастна была потом, когда он уехал… Полевые цветы перестали радовать ее своей красотой, и весна к ней уже больше никогда не вернулась… Я хотел рассказать тебе, любимая, об этой девочке, которая вместе со столькими героическими и поистине трагическими фигурами, вместе с младшим лейтенантом Жоаном Жозе Алвесом, Жулией Фейтал, Порсией, Леолино и майором Силвой Кастро напоила романтикой детство Кастро Алвеса. Она связала его неразрывно с природой и любовью. Но что можно сказать о женщине, если о ней уже сказал Кастро Алвес? А о Леонидии Фраге, подруга, он сказал:
Обращаешь муки ты в лилии, В розы нежные — труд и усилия…ГЛАВА 5
Простившись с куколкой, ты скоро
Расправишь крылья, мотылек.
Сертан остался позади, позади осталась нежная улыбка Леонидии. Позади остался и дом на улице Розарио, где бродил призрак Жулии Фейтал. Но из мрачного класса колледжа Сесеу мог видеть, подруга, тюрьму, где Силва Лисбоа, романтичный убийца, отбывал свое наказание. Глаза Сесеу перебегали от учебников к темнице, где Силва Лисбоа оплакивал свое преступление, где в одинокие ночи он вспоминал улыбку своей возлюбленной, которую она дарила всем, кто проходил под ее окном. Сесеу думал о том, как он должен был страдать, убив любимую. Не из-за того, что совершил преступление, а из-за того, что, убив ее, лишился ее, не мог больше видеть ее лицо, восхищаться ее лукавой, манящей улыбкой. Мальчик Кастро Алвес бросал учебники и погружался в созерцание толстых стен темницы. И его воображение начинало лихорадочно работать. В то время как другие занимались играми или проблемами математики, он, сидя у окна, представлял себе горе возлюбленного, который собственными руками убил свою избранницу, сам лишил себя своей любимой. Она не будет принадлежать другим, никогда никто не посмотрит ей в глаза, никогда никто не ощутит жар уст ее… Но ведь и он никогда не почувствует бесконечной радости от возможности хотя бы улыбаться ей… Для мальчика, мысли которого были заняты романтической детской идиллией с Леонидией, это было источником бесконечных волнений. То и дело он показывал кому-нибудь из своих близких друзей на мрачную тюрьму:
— Знаешь, кто там сидит?
— Кто?
— Лисбоа, который убил Жулию Фейтал…
— Жулию Фейтал! А что там у них произошло?
— Ты не знаешь? — И глаза мальчика загорались от радости, что он может рассказать. — Значит, ты не знаешь? Он любил ее, а она никого не любила. Он выстрелил в нее золотой пулей…
— Золотой пулей? Зачем?
— Потому что он очень любил ее. Это было вроде подарка, понимаешь?
Друзья не понимали, но Кастро Алвес рано почувствовал, что любовь близка с поэзией. Он с детства готовился к любви, ибо ему предстояло много любить, да еще с какой силой, с какой страстью!
Но не только воспоминание о романтическом преступлении нашел он в Баиянском колледже, который Абилио Сезар Боргес основал незадолго до того. и с помощью которого революционизировал просветительские круги столицы провинции{19}. Правда, это учебное заведение не оказало решающего влияния на жизнь поэта, но надо отдать должное директору колледжа: он сумел угадать в Сесеу необыкновенные способности, понял, что мальчику предстоит великое будущее, и гордился юным поэтом. Он имел мужество пойти против доктора Алвеса, которого огорчали литературные наклонности сына.
Боргес был по натуре романтиком; таким и изобразил его в своей книге Раул Помпейя. Он любил литературные диспуты, стихи, речи. Из его колледжа вышли Кастро Алвес, Руй Барбоза, Раул Помпейя и многие другие писатели. Он не выделял никого из них и никого из них не подавлял. Это было большим его достоинством. Он ввел у себя в колледже «оутейро». На этих конкурсах поэтов-импровизаторов учащиеся слагали стихи и сочиняли речи, восхвалявшие великие события в истории отечества или просветительную деятельность своего учителя. В таких поэтических и ораторских состязаниях выделялись отдельные ученики, но наибольшая слава выпадала на долю самого колледжа, для которого газеты не скупились на похвальные статьи.
Одним из героев этих праздников стал Кастро Алвес. Его первые стихи{20} были посвящены (здесь сказалось влияние Абилио Боргеса) дню рождения своего учителя. Поэту в то время было тринадцать лет, и он уже тогда, как будущий певец свободы, сумел найти благородные мотивы для похвал учителю: Абилио Сезар Боргес отменил в школе телесные наказания{21}. В этих первых стихах Кастро Алвеса уже заметно характерное для него{22}. В них присутствуют солнце, ветер — вся природа. На другом «оутейро», которое состоялось 2 июля 1861 года, в еще детской поэзии Кастро Алвеса проявились черты, решающие во всем его творчестве. В этой поэме уже возникают мотивы борьбы за свободу против тирании. Он даже находит для них точные слова и характеристики. Он уже чеканит образы, которые впоследствии украсят произведения гениального народного оратора. Ведь этот мальчик, моя дорогая, меньше чем через четыре года станет величайшим поэтом своего поколения и поразит студентов факультета права в Ресифе поэмой «Век». Ему предстояло прожить недолго, надо было начинать рано. Поэтому в тринадцать лет, когда голос его был еще еле слышен, юноша уже искал великие идеи и великие слова.
Два предмета не давались мальчику в то время — математика и португальский язык{23}. И это было вели-ним огорчением для Абилио Боргеса, который настолько любил чистый, правильный язык, что хотел даже привезти из Коимбры[15] учителя, который учил бы произношению. Согласно свидетельству современников Кастро Алвес «не присасывался к книге, ему достаточно было просто прочитать, чтобы усвоить уроки». Но у него уже не хватало времени на все: и сочинять стихи для «оутейро», и редактировать школьную газету своей группы, и мечтать о факультете в Ресифе, где читали и переводили Виктора Гюго. Уже в колледже маленький кружок начал читать французского поэта в переводах мальчика Сесеу.
Да, подруга, был предмет, который пришелся мальчику по вкусу и который он усвоил сразу, с поразительной быстротой. Это был французский язык. Он стремился овладеть французским, чтобы читать Гюго в подлиннике.
Со времени колледжа Виктор Гюго стал его большим другом, другом, который сопровождал его всю жизнь. У Гюго юный поэт научился ценить слова и чувства. Не было ничего более важного для Кастро Алвеса, чем знакомство в детстве с Виктором Гюго. Это позволило ему выдвинуться среди прочих юных поэтов и освободиться от влияния Байрона. Без знакомства с Гюго его поэзия, возможно, развивалась бы в иных направлениях и, возможно, не достигла бы такой силы. Однако не следует приписывать только Гюго освободительный и героический характер поэзии Кастро Алвеса. Хотя ни один поэт не волновал его так и ни одним из поэтов он так не восхищался. В те дни в колледже он если не взирал на окна тюрьмы, где томился Лисбоа, то душой и телом отдавался вихрю, которым были для него произведения Виктора Гюго. Благодаря им он познал величие, красоту и свободу, они волновали и возвышали его.
И, возможно, знакомство с Гюго было полезным для него уже при первом тяжелом потрясении, которое он вскоре пережил. Во время его пребывания в колледже умерла его мать, Клелия Бразилия. Хрупкая, красивая Клелия Бразилия, всегда болезненная и после трагедии Порсии как бы напуганная жизнью, была очень привязана к детям; нежная и мягкая, она в один прекрасный день оставила их без своих забот. Жозе Антонио, болезненный и нервный, предпочитавший Байрона Гюго и думавший всегда о смерти больше, чем о жизни, не выдержал потрясения и, полный отчаяния, выбросился из окна. Его спасли, он написал в память о матери исполненные страдания стихи, рыдал и проклинал жизнь.
Сесеу выдержал удар с той же отвагой и мужеством, с которыми переживал и в дальнейшем все тяжкие моменты своей жизни. Он не сочинял стихов, посвященных покойной матери, — и воспел ее только несколько лет спустя, не потерял веры в жизнь, не искал смерти. Он страдал, без сомнения, ибо любовь жила в нем постоянно и он очень любил прекрасную и нежную Клелию Бразилию. Но он не пришел в отчаяние. Будучи моложе брата, он оказался гораздо более мужественным, чем тот, ибо жил не только среди книг, но и среди людей.
Тюрьма, где отбывал наказание Жоан Лисбоа, стихи Виктора Гюго, «оутейро»… Однако, помимо этого, было, подруга, и еще кое-что, что оказало сильное влияние на мальчика, что наложило на него свой отпечаток.
В эти лунные ночи Байи, когда с неба спускалась бесконечная тайна, когда с моря доносились нежные песни йеманжи, когда с земли поднимался одуряющий запах цветов, в эти ночи, подруга, из самых укромных уголков города, из-за холмов, из самой глубины ночи, неведомо откуда, доносились звуки, которые мы, замирая, слышим и сегодня в гавани. Это топот ног и хлопание в ладоши на макумбах, это кан-домблэ[16], устраиваемые в честь святых: Ошосси — «моего святого», Омолу — богини, которой ты так боишься, Шанго и Ошума. Это барабаны атабаке, звуки которых разносятся над городом, окутывают его и уносят в мечту. Мы знаем, подруга, что там, где мы столько раз с тобой бывали, в этих укромных местах, где наши братья негры чествуют своих бедных богов, там танцуют негритянки в красивых одеяниях. Мы знали с тобой, что в любой момент полицейский отряд может совершить налет на макумбу и забрать жрецов, их помощников и «святых»; мы знали, что кандомблэ всегда риск, что у негров даже боги не могут свободно танцевать на этой земле. Но все же на склонах Баии не переставал звучать трагический голос атабаке и не переставали звучать песни Йеманжи, нашей матери, хозяйки моря и нашей судьбы. Что с того, что на спине Прокопио{24}, нашего друга из Матату, видны следы кнута, как напоминание об этих внезапно оборвавшихся празднествах? Прокопио все же не перестал чествовать своего святого — Шанго. А разве ты сама, когда приходит время, не относишь мыло в подарок доне Жанаине, ибо это она привела тебя ко мне, твоему другу? Прислушайся! Звуки атабаке доносятся издалека, никто не знает откуда. Под эти звуки будут танцевать негры, и тайна Баии останется неразгаданной.
Раньше, негритянка, было хуже. Во времена Кастро Алвеса негры были рабами; их покупали на аукционах, это был товар, который продавали, обменивали, эксплуатировали. И взамен того, что они дали белым, — свою силу, свой пот, своих жен и дочерей, мягкость своего говора, который смягчил наше произношение, свою свободу — взамен всего этого белые соизволили дать им, помимо кнута, своих богов. Но богов, богов леса и пустыни, негры привезли себе из Африки и продолжали оставаться верными им, сколько бы ни молились богам своих хозяев. И они выкопали под землей городов храмы, до которых белый человек не мог добраться.
Ночью в колледже, когда другие ученики уже спали, мальчик Сесеу ожидал, напрягая слух, когда раздастся музыка, печальная, как тоска по родине, сильная, как призыв к мести, таинственная, как далекая надежда. Она доносилась, катясь по склонам, выходя из глубин земли. Звуки атабаке проносились через весь город, чтобы найти отзвук в сердце Кастро Алвеса. Он садился в постели и оставался так с закрытыми глазами, с бьющимся сердцем, чувствуя, что в нем отзывается каждый удар атабаке. Это страдала вся черная раса, она отчаивалась и боролась, сохраняя при этом нечто свое, только ей одной присущее. Варварская, примитивная, одержимая музыка манила мальчика, она была как зов.
Кастро Алвес слушал плывущие над городом звуки атабаке. Никогда он не боялся, как его сверстники, этих африканских ритмов. Он чувствовал себя одним из негров. У Гюго он познал значение свободы, а звуки атабаке говорили ему, что есть народ, который нуждается в освобождении.
Колледж спал в таинственной ночи Баии, спали десятки ребят. Только один из них лежал с открытыми, лихорадочно горящими глазами; доносящаяся из ночи музыка влекла его к негритянской расе. Звуки атабаке манили Кастро Алвеса. И вот ночью в колледже, в спальне, заполненной детскими снами, он готовится ответить на этот зов. Его голос вскоре прозвучит сильнее звуков атабаке, моя подруга.
ГЛАВА 6
Тебя я помню, Пернамбуко,
Дремавшим в серебре луны;
Ее лучами убаюкан,
Ты спал, гигант, и видел сны.
Как знать, подруга моя, не отправляется ли это судно, освещенное тысячей электрических огней, прорезающих мрак моря, не отправляется ли оно в порт Ресифе, в край Пернамбуко? Ты приветливо машешь на прощание отходящему судну. С него отвечают, несчетное число рук поднимается в приветствии. Счастливого пути желаем мы кораблю, что отправляется в постоянно обновляемое приключение, завоевывать морские пути. В один прекрасный день уедем и мы и тоже попрощаемся с парочкой, целующейся на песчаном берегу гавани при желтом свете луны. Мы тоже отправимся в Ресифе, город мостов, былую цитадель голландцев. Красив цвет крыш Ресифе, подруга, приветливы и прекрасны мосты над реками. Его храбрые жители с ножом за поясом расхаживают по улицам, по которым ступали величайшие люди прошлого. Набуко[17], и Кастро Алвес, и Помпейя, и многие, кто мечтал об этом городе величайших грез Бразилии.
Этот город видел Нассау[18], его величие, его стремление к прогрессу. Город приютил евреев, и те расширили в нем торговлю. Он разросся, бурный и непокорный, героический и в известной мере авантюрный, бунтарский, как никакой другой из наших городов. Ресифе — легендарный город, в нем напряженная атмосфера будущего. К нему раньше, чем куда бы то ни было, доходят по морю новые идеи и мечты, которые вскоре станут реальностью. И он укачивает их на своей огромной каменной груди. Он дарит им мудрость своих поэтов и ученых, отдает кровь своих героев. Ресифе, героический Ресифе — город революций!..
Во все времена, подруга, когда угнетенный народ восставал, стремясь разорвать оковы, народные ораторы, поэты, романисты и социологи выступали с трибуны, которой служил этот «город над скалами», с трибуны, с которой лучше, чем откуда бы то ни было, слышится мощный голос народа!{25} Город этот обладает притягательной силой для свободной интеллигенции Бразилии, и в него направляются все, будто хотят на его улицах услышать урок, который другие оставили звучать под этими небесами и в этом воздухе, полном прекрасных слов и ритмичных стихов.
Ресифе — замечательный город. В его сердце мечты выросли в действительность. В один прекрасный день, подруга, здесь появится поэт, но не прихлебатель, кормящийся объедками с барского стола, появится поэт, о котором я тебе рассказываю. И он будет говорить об этом городе «освободительных революций», о вечно живом Ресифе, а не о «мертвом, добром Ресифе…». Он будет говорить о городе, где голос народа слышался особенно громко, где родился один из самых бесстрашных народных трибунов и куда другие, родившиеся в иных краях, прибыли закалять сталь своей шпаги, которой станет их слово. Появится поэт, у которого найдутся для этого города самые нежные слова любви. И легенда о Ресифе снова возникнет во всей своей величавости.
Однажды Кастро Алвес, которому было тогда пятнадцать лет, сел на судно и отправился в Ресифе. Он поехал закалять острие своей шпаги, отправился позаимствовать у этого города его пример героизма. Именно в Ресифе, где трепещет сердце Бразилии, возвысился его голос, самый мощный из всех голосов поэтов. В один прекрасный день, подруга, мы тоже сядем с тобою на судно и отправимся в это сентиментальное и героическое путешествие. В каждом камне улицы, в каждом старинном особняке мы найдем напоминание о каком-либо событии, отзвук слова поэта.
За городскими стенами раскинулись плантации сахарного тростника, целый зеленый океан. В те времена еще не было заводов, на которых машины производят сахар. Машинами были негры, и у сахара был привкус крови. Из сахарного тростника родился бразильский сельский аристократ. Бывало, что хозяину энженьо, владельцу негров, изменяли его сыновья, становившиеся друзьями и братьями негров. Бывало, забитые негры поднимались против хозяев и показывали свою силу. В 1823 году во главе негров и мулатов стал мулат Педрозо{26}. Это восстание уже носило до известной степени идейный характер; еще нерешительное и слабое, оно все же было реальностью. Вслед за ним поднял восстание Эмилиано Мандакуру во главе своего батальона мулатов. Священники и поэты стали народными героями провинции Пернамбуко, где управляли хозяева энженьо, у которых трудились рабы. В сахаре, варившемся в котлах, смешивались смех хозяев и слезы невольников. Смешивались веселая действительность аристократов и страшная мечта негров о мщении. Мечта, которая нашла свое подтверждение в голосе поэтов и трибунов.
Интеллигенция скоро начала ощущать трагедию негров. Многие литераторы Ресифе поставили свое перо на службу народу. Обстановка политической и социальной борьбы и революционные настроения, которыми славился Ресифе, не допустили того, чтобы литература там стала «искусством для искусства». Ресифе, где то и дело возникали революционные движения, дал понять литераторам, что назначение искусства — быть полезным человечеству{27}. Этим, в частности, отличался факультет права в Ресифе от многих других высших учебных заведений Бразилии{28}. Идея республики, замечательное движение за освобождение негров от рабства должны были найти в Ресифе самую подходящую колыбель. Сан-Пауло еще пребывал под волшебным воздействием стихов Байрона и был озабочен лишь отысканием новых форм для старых студенческих сборищ, на Сан-Пауло еще лежала печать грусти под влиянием гениальных стихов Алвареса де Азеведо[19] и Фагундеса Варелы, а в Ресифе уже чувствовался дух свободы, навеянный творчеством Кастро Алвеса и Набуко… Ресифе с его мозгом — факультетом права — сделал шаг вперед по сравнению с другими городами Бразилии. Студенчество отказалось здесь от бесполезного отчаяния и презрения к жизни, которое культивировали романтически настроенные байронисты. Ресифе был целиком под влиянием идей французской революции. Рассказы о жизни, которая родилась среди пролитой крови, находили в нем гораздо больший отклик, чем искушающие речи разочарованных поэтов. Гюго был поэтом Ресифе, с трибуны этого города, казалось, говорили ораторы великой революции.
В этот город, подруга, и приехал подросток Кастро Алвес, с сердцем, полным волнений, которые он познал в Байе. Три города из всех, в которых он бывал, стали вехами в его жизни, как стали вехами и три женщины среди многих, которых он любил. Эти три города: Байя, которая дала ему познание свободы и любви, Ресифе, который сделал его народным трибуном, отточил его гений, дал ему темы первых крупных, вдохновенных произведений, Сан-Пауло, куда он принесет слова о республике и освобождении от рабства и где ему предстоит написать некоторые из своих освободительных поэм.
В Байе, у своего дяди, он научился ценить народ. Он был подготовлен к жизни в Ресифе, к обстановке на факультете, к боевым схваткам, а также и к любви. Ресифе предстояло дать ему возлюбленную, ту, что наполнила радостью и горем его столь короткую и столь большую жизнь.
Из этого города голос Кастро Алвеса поднимет знамя освобождения от рабства и провозгласит республику. В Ресифе гениального баиянца посетят его самые пылкие мечты, самые смелые предвидения. Здесь он встанет во главе движения масс и поставит оружие своей поэзии на службу народу. Отсюда его голос разнесется по всей Бразилии, Ресифе будет его лучшей трибуной. Потому что, подруга, этот город-площадь — наилучшее место действия для Кастро Алвеса.
Когда он появился, город как будто спал. Но он сразу понял, что сон Ресифе полон грез о завтрашнем дне:
О революции грядущей Ресифе снился дивный сон!И он разбудит его своим голосом, подруга.
ГЛАВА 7
…Любимая! Тебя ни разу
В своих объятьях я не сжал…
Он прошел сквозь публику с поднятой головой и с улыбкой на губах. Вокруг разговаривали столь громко, что гул слышался даже на улице, постепенно пропадая во мраке плохо освещенного города. Среди шума голосов, смеха женщин, хохота студентов, чьих-то острот он прошел так, что никто его не заметил, никто не показал на него, никто не произнес ни слова по его адресу. Другое имя было у всех на устах, оно вызывало и улыбки и комплименты.
— Говорят, она очень красива… — И девушка опустила глаза перед элегантным студентом последнего курса.
— Нет никого красивее вас… — Девушка доверчиво улыбнулась, а он продолжал: — Но говорят, она красивая женщина и великая артистка.
В глазах девушки мелькнул страх, и, заметив это, студент продолжал убежденно:
— Главное — великая артистка…
Мимо прошел высокий, стройный юноша с беломраморным лицом и черной шевелюрой. Он улыбнулся, но никто этого не заметил.
Развернув свой большой веер, какая-то матрона рассказывала подругам и важному господину в сюртуке о том, что «кузина написала ей из Лиссабона об этой комедийной актрисе. Это нечто ужасное и безнравственное». Приятельницы придвинулись поближе, важный господин нагнулся, матрона прикрыла рот. Но веер был тонок, а любопытство проходившего мимо грустного юноши велико, и ему удалось услышать, как она сказала:
— Говорят, что один командор, набоб, из-за этой комедийной актрисы бросил семью и разорился — это был скандал на весь Лиссабон.
Тогда приятельница, что стояла поближе, рассказала о поножовщине, происшедшей тоже в Лиссабоне (или, может, в Порто?). Она узнала об этом из письма, полученного в Ресифе. «Разве вы не знали? Какой-то простолюдин, из тех, кто проводит ночи в попойках, без гроша за душой, без работы, без будущего, зарезал ножом молодого человека из хорошей семьи, одной из лучших тамошних фамилий… Это было шумное дело, кто о нем не слыхал?»
— Я знаю это по газетам… — начал господин в сюртуке.
Юноша попросил извинения и пробрался сквозь группу. Но женщины были так увлечены историей, которую теперь стал рассказывать господин в сюртуке (с таким изяществом и с такими точными подробностями), что никто не обратил внимания на юношу. Одна только девушка, стоявшая поодаль, заметила, что у студента самые красивые глаза, какие она когда-либо видела, и самые изящные руки из всех, до каких, она когда-либо дотрагивалась. Она вздохнула и с грустью подумала, что ей двадцать, а ему в лучшем случае восемнадцать лет и он, должно быть, всего на третьем курсе. И она еще ошиблась: студенту едва исполнилось шестнадцать, и он даже не зачислен на факультет, потому что не сдал экзамен по геометрии.
Он шел, внимательно вслушиваясь в окружающий шум; казалось, все говорили об одном и том же: о редкой красоте, неотразимой грациозности, большом таланте этой выдающейся комедийной актрисы, о том, что она бесподобно поет грустные песни своей родины. Странный шум доносился оттуда, где разместились студенты: там не спорили о театре и актрисах, но все же многие из любопытства повернулись в их сторону. Юноша тоже оглянулся и увидел в центре группы студентов ораторствующего коренастого мулата; друзья слушали его с уважением. В это время с галерки позвали мулата другие студенты; откуда-то из угла раздалось:
— Тобиас Баррето![20] Тобиас Баррето! Сюда, к нам!
Мулат с улыбкой ответил на приветствие важного господина в сюртуке и зашагал, направляясь к товарищам. Юноша стал пробираться к своему месту; вокруг все снова говорили о несравненной актрисе.
— Для ролей инженю нет никого лучше ее…
— Однако в действительной жизни она совсем не похожа на инженю… — заметила некая сеньора, демонстрировавшая на этом вечере эффектное платье.
Муж хлопнул перчаткой по руке и мягко проговорил:
— В том-то и заключается талант артистки…
— Кто тебя просит ее защищать?
Юноша прошел мимо двух молодых людей, которые, прислонившись к колонне, тоже рассуждали о красоте примадонны:
— Красивое у нее имя… — сказал один из них.
Другой мечтательно прошептал:
— Эужения Камара…
* * *
Раздвинулся занавес, и сразу же она, казалось, заполнила собою всю сцену. Что говорили о ней? Чего только он не наслышался, когда проходил по театру, да и раньше, в отзывах ее коллег, в разговорах на улице с друзьями. Сколько хорошего и плохого говорили о ней!.. Какое все это имело значение? Важно было одно: что она на этой сцене и голос ее подобен бризу на море, а ее лицо…
Какое у нее в самом деле лицо?
Есть ли что-либо в мире — цветок, звезда или богиня, — что-либо, с чем можно было бы сравнить ее лицо? Театр полон, вокруг студенты; она поет для всех и, конечно, не только для этого юноши, который даже еще не зачислен в студенты. Но юноша видит только ее, думает только о ней и не как о комедийной актрисе-инженю, и не как о женщине — разрушительнице домашних очагов, вызывающей поножовщину, ни даже как о великой артистке, ни даже как о красивейшей женщине.
Для юноши в шестнадцать лет, сидящего в первом ряду партера, она возлюбленная, она ценнее, чем жемчужина, блистающая в таинственной глубине моря, гораздо ярче, чем звезда, освещающая ночь. Нет никого больше в этом театре, где Эужения Камара поет нежные песни о любви, нет никого больше, кроме нее и Кастро Алвеса.
Милая подруга, в сердце каждого из нас есть что-то, что дает знать, когда появляется твоя единственная возлюбленная, та, что будет на всю жизнь, та, которую мы искали во всех, кто ей предшествовал.
Когда она появляется, будто наступает рассвет, будто мы рождаемся заново. Так было, когда я увидел впервые тебя и почувствовал, что ты, приплывшая издалека, из неведомого порта на неведомом судне, ты входишь в мою жизнь. Так было в тот вечер в театре, когда шестнадцатилетний мальчик почувствовал, что пришла его любимая и что его сердце навсегда отдано ей. Он был студентом-новичком, которого терзала геометрия, студентом, начинающим писать стихи, она же была знаменитой, прославленной артисткой и красавицей; момент для их сближения еще не наступил. Однако с того вечера, подруга, поэт хранил ее образ в своем сердце, и, когда Эужения несколько лет спустя полюбила его и отдала ему свою красоту, чтобы он обессмертил ее своим гением, поэт и тогда любил ее, пожалуй, не больше, чем в тот вечер, когда впервые увидел ее на сцене и начал жить заново.
Он был мальчиком, который рано нашел и свой путь и свою любовь. В том же 1863 году, когда он познакомился с Эуженией Камара, он написал «Песнь африканца». Все в жизни Кастро Алвеса происходило раньше, чем в жизни остальных людей, потому что для гения не существует меры времени, он живет не своим опытом, а опытом народа. Тот, кто прожил всего двадцать четыре года и стал великим поэтом своего народа, самым прекрасным и могучим борцом за счастье Бразилии, рано созрел и для любви и для борьбы. В шестнадцать лет его душа жила и образом любимой и тяжкой участью рабов. Эужения пришла к нему позже, когда он достиг полной зрелости. Точно так же и мечты о будущей жизни, республике, аболиционистские общества, митинги на площадях пришли лишь некоторое время спустя, когда его талант достиг совершенства и он стал не только поэтом своего народа, но и его пророком.
Но все же в том 1863 году, в Ресифе, прославившем себя кровью, пролитой за свободу, он уже впервые возвысил свой голос во имя любви и свободы и сделал это с такой силой, которая уже носила на себе печать гения.
В мае одна избранница всей его жизни — свобода — получила первую песню от своего поэта, «Песню африканца», а в июне Эужения Камара, вторая избранница его жизни, вдохновила поэта на сочинение «Моей тайны». Восемь последующих лет, подруга, очень важные годы в истории нашего народа. В эти годы расцвело творчество Кастро Алвеса, им были написаны произведения непреходящей ценности, воспета для Бразилии свобода, возвещено своим современникам и потомкам, что именно свобода и любовь — вывшие блага жизни и что без них нет ни чести, ни красоты, что без них не стоит жить. За эти восемь лет он накопил для нас века опыта и культуры, обогатил и отблагодарил нас.
* * *
Предыдущий год оказался для него серым и невеселым; поэт был еще не определившимся юношей, провалившимся на экзаменах, озабоченным мучительными поисками пути в жизни. Из Сан-Пауло на всю страну падала тень Алвареса де Азеведо, Байрона юга, демонического, трагического поэта, окончившего жизнь самоубийством. Азеведо — это была одна из дорог, и молодежь стремилась идти по ней; брат Кастро Алвеса, который находился в Рио, пытаясь освоить курс инженерных наук, был одним из его последователей.
Но Кастро Алвес родился не для того, чтобы идти по путям, открытым другими, даже когда этот другой — Алварес де Азеведо. Он найдет свою собственную дорогу, и это будет не проповедь бесцельности жизни, а песнь надежды на будущее, песнь свободы.
В Сан-Пауло, запершись в самой красивой из всех башен слоновой кости, Азеведо воспевал грусть мира и безнадежное горе любви. Он был поэтом смерти, и он проповедовал непротивление, призывал молодежь сдаваться без борьбы. В Ресифе{29}, городе революций, вскоре возвысится другой голос. И этот голос станет воспевать другие идеалы, станет призывать к уничтожению всех, кто мешает человеческому счастью. Этот голос станет голосом надежды, горном, зовущим к борьбе.
В поэте города Сан-Пауло было что-то женственное, какая-то выхолощенность, которой страдают многие одаренные художники. Кастро Алвес был больше чем великий художник, он был гений, и поэзия не лишила его мужественности; он мог быть не только поэтом, но и вождем масс. Азеведо был лишь гениальным певцом, дорогим сердцу людей, как бывает дорога прекрасная женщина, которой предстоит умереть в расцвете своей красоты. В Кастро Алвесе люди видели человека иного склада, более знающего, человека, опережающего время, человека, за которым можно смело идти, ибо его дорога — дорога будущего. Алварес де Азеведо открыл аллеи, где ноги не веривших ни во что влюбленных топтали цветы. Кастро Алвес проложил дороги будущего для тех, кто борется. По его пути мы и идем сегодня. Широкие дороги для влюбленных, широкие дороги.
Однако прежде чем найти свой путь, поэт жил в поисках и сомнениях первых опытов. На него обрушились горести жизни, но они не сделали его самоубийцей, они укрепили его дух, закалили сталь его шпаги. Брат его сходит с ума; настанет день, и, приняв яд, он окончит все расчеты с жизнью. Вскоре умрет и отец поэта. Не будь Кастро Алвес гением, быть может, он пошел бы по пути Алвареса де Азеведо — переплавил свою горечь в стихи редкой красоты, но забыл бы, что невольники умирают в сензалах в ожидании свободы, что республика — мечта, которая ждет своего поэта.
В 1863 году шестнадцатилетний юноша рисует, слагает стихи и страдает. Из глубины пернамбукских энженьо доносятся протяжные стоны рабов. Они не люди, они животные, которых покупают и продают, мясо, которое один хозяин передает другому, животные для продажи. Дети и красивые девушки, старики с седой курчавой головой и старухи с увядшей грудью, вскормившей поколения. Люди ли они в самом деле? Алварес де Азеведо считал, что они просто вьючные животные и потому не заслуживают стихов. Что значат они перед вечной тайной небытия, перед утонченными переживаниями поэта? Ах! Чего стоит несчастная жизнь негра, подруга, что стоят следы кнута на его спине, что стоят его слезы, если поэт занят проблемой, которая мучит его и вызывает к жизни еще один драгоценный сонет? Закроем глаза на все это, обратимся к самим себе — к этому призывает нас скорбно-прекрасный голос, идущий из Сан-Пауло. Кастро Алвес слышит этот голос, у юноши с невеселой жизнью и семейными драмами тоже свои проблемы. Но, подруга, голос, доносящийся из сензал, сильнее, и он проносится над Ресифе, он витает над морем и умирает в скалах, которые обнимает ветер. Этот голос требует справедливости и свободы. Этот голос требует отмщения за страдания рабов. Однако люди безразлично проходят мимо, будто перед ними всего лишь мычащее стадо. Нужно, чтобы кто-то придал убедительность и красоту этому голосу негров, рвущемуся из души. Нужно, чтобы кто-то обратил жалобы и мычания в клич настолько мощный, чтобы люди остановились перед несчастьем, чтобы поняли, что это страдают не животные, а тоже люди, только более несчастные, чем они{30}.
Среди тех, кто жив и воспевает смерть, и среди тех, кто скорее мертв, чем жив, но хочет жить свободным, шестнадцатилетний юноша ищет свою дорогу. Станет ли он еще одним певцом меланхолии или пойдет в народ и поднимет его на освободительную борьбу?
Сильнее, мощнее и прекраснее, чем благозвучный голос поэта из Сан-Пауло, голос, который плачет в сензалах Ресифе. Ибо нет ничего прекраснее голоса народа. И гениален тот, кто умеет передать его, придать ему форму, кто идет впереди всех, кто зовет к завтрашнему дню.
В этом столь важном, 1863 году, преодолевая сомнения и грусть, борясь с соблазном пойти по легким дорогам искусства, Кастро Алвес познает женщину, которая родилась, чтобы доставить ему радость и блаженство. И тогда же он пытается придать поэтическую форму стонам невольников, чтобы начать описывать в стихах трагедию рабства. Любовь и свобода возникают перед ним в этом году, и поэт чувствует, что они скоро придут за ним, придут, чтобы потребовать всю его жизнь. Его руки — еще детские руки, его голос — еще ломающийся юношеский голос. Но внезапно, чудом, которое совершает гений народа, он находит себя и ясно видит, что его дорога тут. В один прекрасный день свобода покончит со стонами людей, и тогда, подруга, на земле, которую другие поэты не замечают, будут слышны только нежные напевы любви и радостный смех детей.
Таков урок, которому нас учит сегодня Кастро Алвес, о моя подруга, ты, что несешь в груди страсть к свободе и огонь любви в своих ясных глазах.
ГЛАВА 8
Великий век — свидетель драмы,
Где свет боролся с черной тьмой.
Стоял август, подруга моя, лил дождь над плантациями сахарного тростника и над сензалами, над домами Ресифе, над его мостами и портом. Но в душе студента сияло весеннее солнце: в этот августовский день с ним познакомился факультет. Здесь еще почти не знали этого шестнадцатилетнего студента, красивого и жизнерадостного, автора стихов о любви, иногда читавшего их в театре. Он декламировал из ложи, приветствуя Фуртадо Коэльо{31}, знаменитого актера того времени. Его услышали, на мгновение обратили на него внимание, но тут же забыли. Только близкие друзья да женщины, которым он посвящал сонеты, знали, что он кое-что собой представляет.
Факультет был увлечен Тобиасом Баррето, его словом, образом жизни, культурой. Поэт из Сержипе, он бренчал на гитаре и знал латынь. Все крайности сошлись в этом сыне засушливого сертана Кампоса, выходце из народа, человеке со сложным характером, для которого жизнь была трудным подъемом. Бывший семинарист, уже не первой молодости, бывший преподаватель, несущий на хвосте своего имени кучу всяких историй и легенд, импровизирующий плохие стихи и хорошие речи, проглатывающий книги, недоверчивый и горделивый, факультетский деятель и завсегдатай бара, он привлекал внимание к своей сложной личности и вызывал воодушевление у студентов, искавших себе вожака.
Во второй половине века то, что доселе было незыблемым, пошатнулось. Слово поэтов и трибунов уподобилось ветру, который сотрясает и раскачивает до основания дерево тирании. Вслед за этим ветром, предвещавшим бурю, налетит народный ураган и сметет все препятствия на своем пути. Отныне лозунгом дня становится прогресс: это слово пришло вместе с освободительными идеями произведений Виктора Гюго. Студенты волновались и искали вожака. И они увидели его в этом мулате, который родился среди бедного люда в сержипском сертане, в пыли высохшей земли, среди колючей дикой каатинги, который получил образование ценою большого мужества и больших усилий. Они увидели в нем того, кто, может быть, знает великие слова, которые они хотели услышать. Только народ способен их сказать через своих глашатаев. Так не станет ли этот выходец из народа, человек со смешанной кровью и живым умом, не станет ли он его истинным глашатаем? Но этот человек, подруга, хоть он и вышел из народа, стремился стать над народом. Он хотел пойти дальше своего класса, стать лидером другого, высшего класса. Но студенты еще не знали этого и ориентировались на него, не замечая, что есть другой студент, юноша с едва пробивающимися усиками, стихотворец, пишущий для девиц, юноша, который если и не был выходцем из народа, то шел в народ, увлекаемый неведомой силой. Он не мог петь о том, что столько раз воспевали его предшественники. Ему надо было найти нечто достойное его великого слова. И только народ, его страдания, мечты и чаяния были достойны гения поэта. Им надо было встретиться и соединиться— народу и Кастро Алвесу, так в бурную ночь соединяются ветер и ливень, низвергающийся с небес, чтобы вместе взбаламутить морские волны. Он тоже собирался покинуть свой класс; у поэта было все, что этот класс мог дать ему, но он считал все это слишком малым для себя. Его влекли большие дела и мечты, которые пока считались нереальными. Тобиас отправился на завоевание одного класса, Кастро Алвес — на завоевание всего народа. Действительно, его путь был более трудным и требовал большего мужества. Кастро Алвес боролся за то, чтобы тысячи несчастных, у которых не было имени, по праву заняли свое место под солнцем. Выйдя из народа, Тобиас никогда не обращал свой взор на драму рабства, никогда не лелеял безумные мечты о будущем. Он бежал от того, что было там, откуда он пришел. Кастро Алвес отдал свой голос и свое сердце тем, кто был невольником, и его восхождение было более тернистым, более тяжелым.
Но до этого августовского дня, подруга, факультет права, а с ним и город и вся страна ничего не знали о юноше, который услышал зов народа — мощнее любого другого зова, юноше, который прочитал в сердцах невольников и люден с улицы требования освобождения от рабства и призывы к созданию республики. Поговаривали, что он пишет любовные стихи, которые восторженно расхваливали друзья. Но не этого хотели, не об этом просили студенты факультета и народ на площадях. Они хотели видеть человека, который знал бы любовь, но знал бы и свободу, кто воспевал бы женщин, но воспевал бы и толпу, толпу, которая сумела бы заставить его не только нашептывать нежные слова любви, но и выкрикивать слова ненависти и мести.
* * *
Стоял август, подруга, и в парадном зале факультета собрались студенты и преподаватели, представители видных семейств провинциальной аристократии, разбогатевшие торговцы, журналисты и поэты.
Здесь были защитники устоявшегося миропорядка и те, кто еще не знали толком, что им нужно, но рвались к чему-то новому.
В мире ширилось стремление к обновлению, рождались новые идеи, новые апостолы распространяли новые учения. В Европе началось брожение умов, народ свергал тирании. «У всякой ночи есть рассвет», — писал Кастро Алвес, и в середине того века люди начали мечтать о рассвете после ночи, в которой жил мир. Студенты волновались, они хотели познать нечто такое, чему их старые правоведы не могли научить. Только человек, который пришел бы из народной среды и понял душу народа, способен был научить студентов познанию жизни.
И вот студенты произносят речи и декламируют стихи. С этого дня, подруга, по обычаю, новички факультета становятся настоящими студентами, первокурсниками: они свободны от преследования со стороны старших — от их насмешек, от мелких унижений. В этот день новичкам дают хартию вольности.
Однако в этом году происходит нечто большее. Весь факультет, все граждане Ресифе, вся Бразилия получают свою хартию вольности. Не только для первокурсников останется памятным этот день. Отныне факультет будет жить, разделяя время на до и после дня, когда Кастро Алвес продекламировал свой «Век». В этот день, подобно чуду, внезапно засиял свет.
Студенты произносят речи, читают стихи. Раздаются одобрительные выкрики, смех, время от времени аплодисменты. Но вот поднимается юноша с бледным лбом, черной шевелюрой, прекрасный, как мечта женщины. Его голос, сильный и вибрирующий, доносится до каждого угла, отзывается в каждом, мозгу и в каждом сердце. Он говорит о веке, в котором слышится столько замечательных голосов; говорит о мире, в котором еще столько тирании. Столько света и мрака!.. Вот что говорит он поначалу застенчивым голосом:
Великий век — свидетель драмы, Где свет боролся с черной тьмой.Студенты ждут. Что это за юноша и о чем станет он говорить? И вот он сразу же бросает клич, который всегда будет его любимым словом: свобода! Он говорит, что «как раны у Христа, — кровоточит свобода у распятого поэта». Аудитория внимательно слушает. Этому молодому человеку есть что сказать и, может быть, даже чему научить. Преподаватели права, аристократы и богатые коммерсанты слегка обеспокоены. Конечно, это легкомысленно: Христа, которому так хорошо в алтарях, ставить рядом с таким вредным понятием, как «свобода».
Но вот голос студента возвышается и уже доходит до самой глубины человеческих сердец. Он проникает через окна и звучит на улице, чтобы спросить, является ли «страшный, пронзительный рев», что подчас нарушает «тишину» века,
…зверей в глубинах селвы[21] ревом иль мощным голосом народа?Студенты переглядываются. Юноша уже преподал им кое-что. Ведь это голос простонародья, этих потных оборванцев, людей дна. Преподаватели тревожно смотрят друг на друга, как человек, обнаруживающий под одеждой змею. Студенты не забудут этого юношу с черной шевелюрой и мощным голосом. Не забудут его и преподаватели. Он это узнает в конце года на экзаменах{32}.
Но что до ненависти старых преподавателей тому, кто говорит о будущем? Он спрашивает теперь у своей аудитории, у всего факультета: разве не содрогается в этом веке земля от «конвульсий агонии свободы» и оттого, что «дерзкая рука народа, который придавлен горами, потрясает, как титан»? Да, наш век как черная ночь, но студент уже знает, что «свобода бессмертна», он предсказывает, что она воспрянет. Теперь студенты аплодируют, ибо он говорит, что «у всякой ночи есть рассвет», и в его словах заря свободы, дорога, по которой надо идти, прекрасное будущее.
Он описывает ночь века. Повсюду, в Европе и в Америке, народ томится под пятой тирании. Поэт говорит о раздавленной Польше, о Риме, томящемся под игом королей и пап, о Греции, которая ожидает нового Байрона, в то время как —
…лишил Наполеон народ И голоса и всех свобод.Он говорит о Венгрии, которая выглядит трупом, вспоминает Кошута, который скрывается в изгнании; говорит о Мексике, находящейся под испанским владычеством, о мексиканском народе — «великом, независимом сыне свободы и солнца», который слышит голос индейца Хуареса, говорящего ему: «Жди рассвета!»
Да, черной была эта ночь века. Гнет подавляет свободу в Европе и в Америке. Но не только об этом говорит молодой поэт в зале факультета под воодушевляющие восклицания студентов и негодующие крики преподавателей. Он говорит также о грядущей заре, о «солнце свобод». Говорит, что рабы могут стать храбрыми борцами, и поучает тех, кому в будущем предстоит издавать законы: «Воздвигни новый храм, однако не такой, который угнетал бы народ, но такой, который стал бы ему пьедесталом». Он поучает, что народ, и только он, вечен и является властелином. «Не попирайте народа-короля». Ибо, продолжает он, закон, который направлен против народа и создан, чтобы служить немногим ценою крови многих, такой закон не может долго существовать. «Народ разрушит ваш закон», если этот закон душит свободу.
Факультет поражен словами этого юноши. Красотой его стихов, истиной его утверждений. Аплодисментам, похоже, нет конца. Преподаватели и аристократы не аплодируют. Пламенные слова поэта зажигают пожар, который распространится по улицам и городам, по всей стране. Эти слова в один прекрасный день приведут к освобождению от рабства, рождению республики.
Преподаватели шокированы, студенты аплодируют, как никогда — не аплодировали раньше, ибо сейчас Кастро Алвес восклицает:
Скипетр папский и тиару Отправляйте прямо в печь! Пурпур мантий пусть прикроет Наготу бедняцких плеч!И под конец он преподносит урок героизма, учит их мужественно умирать, потому что, «кто падает славно в борьбе, попадает в объятья истории».
Огромное здание сотрясается от вибрации этого голоса, который здесь слышат впервые. Никогда ничей голос не звучал так в этих стенах, никогда из этих окон не вырывалось на улицу эхо таких слов. В этот августовский день случилось нечто необычное.
То было в августе, подруга. В августе молодежь обрела Кастро Алвеса, своего вожака и лидера. Она последовала за ним и никогда больше не покидала его. С тех пор, подруга, с того далекого августовского дня все мы последовали за ним — и те, кто был юношами тогда, и те, кто юноши сегодня.
Пока существует свет и мрак, тирания и свобода, он будет нашим глашатаем и вожаком, идущим впереди и прокладывающим нам путь.
ГЛАВА 9
О белый домик при дороге,
Любви, поэзии приют…
«Век» и большую часть «Рабов», книги для брата негра, свои поэмы страдания и гнева, он написал в предместье Ресифе — Санто-Амаро, в белом домике, скрытом среди цветов на улице Лимы. Женщина, первая из тех, что поддались искушению его любви и отдали ему тело и душу, заполнила собою этот домик, подруга. Ее звали Идалина, она была прекрасна, у нее были нежные глаза и мягкий голос. Она любила в лунные ночи петь поэту сентиментальные баркаролы. Идалина была первой его возлюбленной.
Откуда она появилась? В один прекрасный день Кастро Алвес нашел ее, эту женщину с печальными, кроткими глазами, которые он воспел. Она была почти девочкой, чистой среди порока, веселой среди грусти. Достаточно было одного его слова, чтобы она последовала за ним. Возможно, вначале она думала, что он невинный мальчик из тех, что платонически влюбляются в куртизанок. Но потом увидела, что он мужчина, только лучше других. Мужчина, который в доступной женщине увидел робкую, хорошую девочку, мечтающую о домашнем очаге, жаждущую любви.
Она жила на нищей улице отдаленного бедного квартала. Изящная, скромная девочка с длинными распущенными волосами, в убогом, поношенном платье. Мужчины предлагали золотые горы за ее маленькое грациозное тело, за ее молочно-белые нежные плечи. И она переходила от любовника к любовнику, даже не различая их, так как сердце ее было далеко от той любви, за которую платили деньги. Она была почти девочкой и сама не знала, как это все с нею приключилось. Однажды человек прошел мимо ее двери и поманил ее в прекрасный и счастливый мир. Ей было грустно в бедном родительском доме, где хлеб добывался с трудом и радость была редкой. В печали семейной нищеты ее красота была как жизнь, расцветающая в болоте, как цветы на кладбище. За пределами ее квартала, ее бедной, скудно освещенной улицы раскинулся шумный, полный соблазнов город Ресифе, где жизнь казалась прекрасным даром. Время от времени в ее семью приходила одна женщина из города; это было праздником для Идалины: она пожирала взорами платья гостьи и втихомолку завидовала ей, мечтала носить такие же платья и быть такой же веселой.
Печальная улица засыпала в темноте, отдыхая от трудового дня, но Идалина не могла уснуть в своей девической постели. Она грезила с открытыми глазами, грезила о жизни, которая была так близко и так далеко — там, в городе; она мечтала о хорошо одетых мужчинах, о женщинах со счастливой улыбкой. Ей на роду была написана другая жизнь, город манил ее хлопанием пробок от шампанского, театральными звонками, всеми шумами, которыми полны богатые улицы и которые замирают на бедной улочке Идалины. Она открывала окно, и сквозь темноту ей удавалось различить лишь уличные фонари да звезды на небе. Она слушала шум жизни. Сердце билось сильнее, слезы катились по щекам, ее угнетала нищета.
Однажды мимо проходил человек, он не был молод, но ей показался принцем. Увидев Идалину, он понял, что нашел цветок посреди болота. Он наговорил ей всякую всячину о городе, о жизни, которая там бурлит. Он предложил взамен ее красоты подарить ей город, который падет к ее ногам. И Идалина ушла с ним, это была ее судьба.
Однако, подруга, если она и нашла цветы и смех, свет и жизнь, то не нашла радости, и сердце ее становилось все печальней. Мужчины чередовались один за другим, она им продавала свою красоту, чтобы одевать свое тело, но Идалина была создана не для того, чтобы продаваться, она хотела настоящей любви. А любви не было, возлюбленный не появлялся. Какое значение имело то, что богат дом, в котором она живет, освещена ее улица, что есть театр, что праздники столь шумны и веселы? Идалина была теперь еще несчастнее, чем на своей бедной улочке, где засыпали с наступлением сумерек и просыпались на рассвете. Там по крайней мере было время для сна, для того, чтобы мечтать о красивом, лелеять надежды.
Но вот однажды с ней познакомился юноша, чуть ли не мальчик. И отнесся к ней так, будто она была девушкой, ничего не знавшей о жизни. Он сказал ей красивые слова о ее мечтательных глазах, прочитал стихи о ее волосах. Он был почти мальчиком, но в нем чувствовался порыв большого человека. Никто еще не знал имени Кастро Алвеса, когда Идалина познакомилась с ним и полюбила его. Ему было семнадцать лет, ей восемнадцать. Но он уже был закален горьким опытом, его сердце привыкло к страданию. Он был мечтателен и добр, пылок и стремителен, он жил идеей освобождения негров. Идалина приняла юношу, как старшая сестра принимает сиро-ту-брата. И он не поколебался, когда она призвала его бросить все и укрыться в любовном гнездышке. В предместье Ресифе, среди цветов и птиц Идалина почувствовала, что в мире есть счастье, что дни прекрасны, а ночи напоены лунным светом, если он рядом с ней.
Глаза Идалины, в которых было потухла надежда, теперь потеплели. И Кастро Алвес, моя негритянка, рассказал нам об «этих мягких глазах» и об этой шее, на которой «слышен нежный перезвон ожерельевых колец». То были месяцы, когда бедная девушка пришла, наконец, в себя и поверила в красоту жизни. Этот мальчик с дерзкими мечтами, благородный и пылкий в любви, сделал так, что Идалина уверовала во всех людей и во все радости жизни. В маленьком домике в предместье началось его настоящее творчество, здесь он написал свои первые большие стихи{33}.
«Убежище любви и поэзии» — так назвал Кастро Алвес, подруга, домик на улице Лимы. Они оба были почти детьми, и соседки, видя, как в послеобеденные часы они проходят, взявшись за руки, считали их женихом и невестой. Возлюбленным пели птички, видя их улыбающимися друг другу на широкой постели алькова. Эти месяцы любви были для поэта также месяцами работы. Он начинает писать «Рабов», ряд поэм, которые закончит впоследствии в Сан-Пауло и в Байе и которые выйдут в одном томе уже после его смерти. Насмотревшись на страдания невольников, Кастро Алвес укрылся в своем гнезде любви, чтобы иметь возможность облечь в поэтическую форму доносившиеся из сензал стенания. Он встретил на своем пути девушку, оперся об ее руку и под лаской ее взгляда начал свою поэму.
Они пришли, подруга, вместе с весной, цветами и птицами:
Они явились, распахнули окна, И ожил дом заброшенный, пустой. Лиан густых над крышею волокна Нарядной им казались бахромой.Вечером Идалина садилась за рояль, и звуки его терялись в малообитаемом предместье. Поэт, склонив голову ей на грудь, читал свои стихи. И домик сразу наполнялся образами черных- людей, призывами к жизни во имя свободы; это уже не был маленький дом в предместье — тут рождался целый мир. Какое имело значение то, что никто еще не знал Кастро Алвеса? Идалина уверена, что достаточно услышать голос поэта, чтобы полюбить его на всю жизнь; она играет для него, чтобы он отдохнул после работы. Погружает руки в густую черную его шевелюру, целует глаза, успокаивает его.
Вокруг дома поле и поют птицы. А здесь, в доме, уютно от присутствия женщины. Кажется, что Кастро Алвес забыл факультет, шум Ресифе, театры, славу, которой хотел добиться. Он только работает:
Несмелый, порою ночною Распустится кактус в тиши; Лишь в строфах стиха я открою Заветные тайны души.Ночью, при лунном свете, проникающем через окно, поэт творит. Он описывает страдания своих братьев, создает бессмертную поэму:
Творит он с челом воспаленным, Избранник прекраснейших муз. Две музы к нему благосклонны: Любви и природы союз.В стихах, которые он написал много позднее, когда прощался с жизнью, он поведал нам, подруга, о своей жизни в то счастливое время.
«Рабы» заполняли его часы. Он готовил оружие, чтобы вскоре выступить с ним за освобождение негров от рабства. Но сумел ли бы он подготовить это оружие, если бы в ночные часы работы рядом с ним не было Идалины? Он сам говорит нам об этих ночах:
Дыханье душистого бриза Прохладою утра полно. Проснись же, моя Адалгиза! Уж звезды погасли давно.И после того как он прочитывал ей написанные стихи, они, обнявшись, встречали наступающее утро.
* * *
В тот вечер он отправился на факультет, где он должен был читать «Век»; она же со сжавшимся сердцем осталась в своем домике в предместье.
Идалина знала, что этот вечер будет решающим в жизни ее возлюбленного: он либо сразу завоюет весь факультет, либо потеряет веру в свою поэзию, в избранный им путь. То был тревожный вечер для Идалины, иодруга, такой же, как твои вечера, когда ты беспокоишься за мою судьбу. Вернется ли поэт с огорченной душой, потому что огненные слова его не будут поняты? Или он вернется со славой, станет еще прекраснее, чем раньше?
Сердце подсказывало ей, что если он победит, то она будет принесена в жертву. Его увезут далеко, ей придется уйти из его жизни. Но что с того? Дело не в ней. Дело в нем, в Кастро Алвесе, в его поэзии. Она это знает и все же не перестает трепетать: победит ли он? Как и для всех, кто его любил, он был для нее дороже собственной жизни.
И ночь любви, которую он подарил ей, когда вернулся победителем, лишь укрепила в ней уверенность, что он скоро уедет. Но ей останется радость оттого, что она была первой возлюбленной Кастро Алвеса, что у нее на груди он отдыхал после своей работы.
* * *
В этот вечер триумфа поэта проводили домой не только его неизменные друзья. С ними пришел небрежно одетый, странный молодой блондин, худой, с запавшими глазами, страдальческим лицом и вздрагивающими руками. Друзья Кастро Алвеса уделяли этому юноше особое внимание. Да и сам Кастро Алвес, казалось, был очарован тем, что находится в его обществе, принимает его у себя дома, беседует с ним.
Этот молодой человек, который впоследствии приходил сюда много раз, был Фагундес Варела[22]. Кастро Алвес считал его крупнейшим поэтом Бразилии. Они встретились впервые в ту триумфальную ночь в Ресифе, и это была встреча двух поэтических тенденций, двух течений, но это не помешало им стать друзьями, вместе расхаживать по городу, где Кастро Алвеса еще почти никто не знал. Для юноши, которого ждала судьба народного поэта, певца невольников, предвестника освобождения негров и пророка республики, поэт из Сан-Пауло, с известным именем и с некоторой легендой, окружавшей его личность, был олицетворением всего, что ему рассказывали о богеме Сан-Пауло. А рассказывали о безумных оргиях студентов, о неделях, проведенных в публичных домах, о похоронных процессиях на кладбище при свете факелов. Варела был вожаком этих студентов и этих поэтов, одним из виднейших среди них. О нем поговаривали, что его родной дом — таверна, что его лучший друг — это вино. Даже его путешествие в Ресифе было удивительным. Он поехал по поручению отца, но, потерпев кораблекрушение, застрял в Байе и посвятил себя одному из самых живописных видов спорта — покупке попугаев, которых он прикреплял себе к поясу на шнурке. И когда во время прогулок его уже не держали ноги — до такой степени он напивался, — над ним летали попугаи. Это было невиданное зрелище для тихой Байи, такой не похожей на столицу богемы Сан-Пауло. Потом он пришел пешком в Ресифе, но там не ужился. Лучшее, что он нашел для себя в Ресифе, был домик Кастро Алвеса на улице Лима. Ибо и для Фагундеса Варелы Кастро Алвес представлял сильный соблазн. Это был человек новой эры, который создал свою поэтическую школу, человек, который начал воспевать негров, посвящать лучшие свои стихи невольникам. А лира Фагундеса Варелы тоже не была безразлична к страданию черных{34}. Кроме того, открыто живя с женщиной без «имени и чести», Кастро Алвес бросал вызов обществу. И по всему этому оба поэта относились друг к другу с большим уважением; и каждый из них бережно относился к творчеству другого. Они вместе мечтали, задумывали поэмы, строили планы мятежей, митингов, студенческих бунтов. Декламировали друг другу свои новые стихи.
Когда Фагундес Варела уезжал, чтобы продолжить курс обучения в Сан-Пауло, он оставлял в Ресифе истинного друга — Кастро Алвеса, оставлял полюбившийся ему домик на улице Лимы с птицами и Идалиной. Все это вспомнил Кастро Алвес несколько лет спустя, когда писал поэму, вызывая в памяти образ пернамбукской девушки, и эпиграфом к поэме он поставил стихи Фагундеса Варелы:{35}
Я жил в глуши, исполненный печали, И думал только о тебе одной. Казалось мне, что все цветы увяли, Что целый мир, как я, объят тоской. Ты подняла его в пыли дороги — То был всего лишь брошенный цветок. О, если б сердца муки и тревоги Тебе, мой друг, я также вверить мог!{36}* * *
Идалина не произнесет ни единого резкого слова и не сделает ни единого гневного движения, когда он захочет уехать от нее. Ведь она знала, что ей не останется места в его жизни. Она заполнила его дни, когда он только начинал свой путь в поисках славы. Но его слава была слишком высокой для нее. Между чистой любовью Леонидии Фраги и безумством страсти Эужении Камары Идалина возникла в его жизни как первое большое любовное испытание. Она отдала ему силу своей молодости. И о ней он будет вспоминать всегда, а в конце жизни посвятит ей стихи, зная, что она их поймет.
В доме на улице Лимы закрылись жалюзи, птицы перестали слышать воркование возлюбленных.
Они ушли опять, закрыты окна. И дом по-прежнему стоит один. Лиан густых над крышею волокна Висят, как сеть огромных паутин. С влюбленной парою что нынче стало? Где он теперь и вместе ль с ним она? Их позвала и за собой умчала, Как вольных птиц, волшебница весна!Ибо в один прекрасный день, подруга, он почувствовал искушение посетить иные места. И он уехал, покинул белый домик в предместье, покинул ради театров, где царствовала богиня Эужения Камара. Идалина тоже не осталась здесь жить. Тщетно искала она в других мужчинах пылкий голос своего поэта, жар его страсти. Никто не смог занять в ее сердце место Кастро Алвеса. И если она не рассталась с жизнью, которая стала без него страданием, то лишь потому, что достаточно было ей вспомнить, что он принадлежал ей, как сердце ее наполнялось миром и нежностью. Никогда она не могла его забыть, он навсегда остался в ее сердце.
И на улице Лимы никогда уже больше не было радости. Даже птицы улетели, когда возлюбленные покинули дом. Поэта позвала судьба, и он подчинился ее велению.
Скорее в путь! Дыханьем благовонным Весна пьянит сердца и вдаль зовет. Пришла пора и птицам и влюбленным, Расправив крылья, начинать полет.ГЛАВА 10
Кто ты, поэт? Иль только факел смрадный,
Что освещает оргий пьяных зал?
Иль ты народу на дороге страдной
Звездою путеводною сиял?
Огни святого Эльма[21] покрывают
В грозу борта и снасти кораблей.
В разверстой бездне предо мной пылают
Огни грядущих бурь и мятежей.
Приклони голову к моему плечу, подруга, и я расскажу тебе о величии поэта, о том, что возвысило его, что сделало его творчество бессмертным. Многие, подруга, скрываются в башне из слоновой кости, бегут от жизни и творят вне мира и вдали от людей. Они не могут смотреть на повседневные страдания и нищету. Они убегают потому, что сердца их трусливы, либо потому, что идут на службу к сильным мира сего, демонстрируя убожество своего разума. Те, что становятся на сторону врагов народа и фактически помогают палачам народа, те перестают быть художниками, ибо основное условие искусства — служить рабу против господина. И те, кто дезертирует и предпочитает закрывать глаза на борьбу угнетенных с угнетателями, отвратительны, сколь бы красивыми внешне они ни казались. Будешь ли ты, моя негритянка, считать красивым человека, если узнаешь, что он оскопил себя из боязни познать тайну любви? Его красота неизбежно окажется фальшивой… Таковы эти художники, что бегут из мира, негритянка, и замыкаются в мелком искусстве и мелкой скорби. Их красота — это убогая, лживая красота. Их голоса бессильны, ибо это люди, которые сами оскопили себя. Они не хотят знать, что в мире есть нищета и горе, они хотят лишь одиночества.
Но есть и другие художники, подруга, они крепки, как самые могучие деревья в лесу. Они видят народ, понимают его драмы и страдания. И они взывают к мщению, возглавляют и поднимают массы. Это подлинные художники, они — «звезда, свет которой ведет народы».
Крупнейшим таким художником в Бразилии был Кастро Алвес, подруга. Я расскажу тебе о стихах, которые он написал в этом, 1865 году, в доме на улице Лима, у Идалины. Восемнадцатилетний юноша становится великим певцом своей родины, распознав драму, которую другие еще не хотели видеть. Он становится поэтом освобождения от рабства, поэтом республики и свободы. Когда он почти столетие назад слагал свои освободительные песни, у него находились такие слова, которые звучат сегодня как слова нашего современника, говорящего о наших сегодняшних проблемах{37}. В этом, 1865 году он начинает писать серию поэм «Рабы». Впрочем, одна из этих поэм относится к 1863 году. Это означает, что проблема возникла перед ним, когда он был еще мальчиком, и сопровождала его всю жизнь. Больше раба его заботит только свобода. Склони свою голову мне на плечо, подруга, распусти свои волосы, я расскажу тебе об этих стихах.
В этих стихах целая эпопея, вся трагедия негров в этих стихах. Поэт рассматривает эту трагедию во всех аспектах, исследует и воспевает ее. И почти всегда его голос призывает к восстанию, это клич мщения, это уверенность в победе. Ни на один миг не вырывается у него слово пессимизма или уныния. Он оптимист и верит в будущее. Его песнь страдания — песнь надежды. Он не хочет лишь жаловаться на участь черных людей, он хочет их освободить. Его песня не жалоба, она — гимн.
В этих стихах все персонажи мрачной драмы; господин, раб, мать негритянка, ребенок, который должен быть продан… Поэт сумел увидеть трагедию во все ее моменты. И, познав ее, заявил:
О, как смотреть на зрелище позора?Нет, он не закрывает глаза на гнусное и тяжкое зрелище. Он ощущает потребность покончить с ним:
Освобождение наступит скоро… Да, скоро! Завтра, может быть!Таковы все его аболиционистские стихи: в них надежда на освобождение, поиски завтра, призыв к нему. Когда он начинал кампанию за освобождение негров от рабства, он был совсем одинок{38}, у него не было соратников. Но он, моя подруга, воззвал к великим людям прошлого, которые так же, как он, страстно мечтали о свободе для народа. Вот они, его первые товарищи по освободительной борьбе:
Здесь вы, Сикейра, Машадо и Иво Здесь вы, герои, отчизны сыны. Словно, как прежде, поднялись на битву В зареве бледном встающей луны. Вот Тирадентес[24], кто был четвертован, Тело разъято, прибито к столбам; Капля за каплей стекала на землю Алая кровь на потеху врагам. Зодчий отважный, великий Андрада, Кем был заложен фундамент страны; Ветром шевелится тога трибуна В зареве бледном встающей луны.И все они, перенесенные от своих героических грез к действительности рабства, спрашивали голосом поэта:
Где же земля, за свободу которой Некогда велся с тиранами спор? Землю, и славу, и саван могильный Рабства пятнает отныне позор.В то время, моя негритянка, были популярны произведения об индейцах. В индейце искали прообраз бразильской расы, индейца воспевали, из него делали Героя. Кастро Алвес не хотел уходить в прошлое от жгучей действительности своего времени. Его песня не об индейце, затерянном в уединенном уголке леса. Он остался лицом к лицу с жизнью. Его герой — негр. Он описывает жизнь негра, начиная с его родной Африки:
Землю Африки недаром Вспоминает негр с тоской: Торговать им как товаром Там не мог хозяин злой.И он сопровождает негра шаг за шагом по его новой родине, возможно более красивой, но, конечно, более несчастной. Он описывает своего героя во все моменты его жизни: негр родился — и уже вырван из рук матери, он полюбил — но не может быть любимым, а в будущем его ждет униженная, бездомная старость… Поэт описывает беглеца в селве, черного «бандита», горящего жаждой мщения. И он не только описывает, он проклинает того, кто порабощает, кто продает и покупает невольника, бесчестит и унижает его. Он проклинает тех из поэтов, кто уклоняется от своей миссии певца народа. Проклинает священника, который служит рабовладельцу опорой. Его поэзия — глубокая и мощная — потрясает рабство в самых его основах.
Его первое слово — о страдании матери, черной невольницы, от которой хозяин отрывает малютку. Поэт хочет, чтоб все увидели это страдание, эту бесконечную тоску, эту повседневную драму жизни;
На срок, читатель, самый малый Расстанься с этой пышной залой И опустись со мной в сензалы, Где света нет, где мир угрюм. Ребенка своего лишенной Там матери услышишь стоны, Не брызнула б слезой соленой На твой изысканный костюм.Но пусть не следуют за поэтом те, кто не в силах понять горе негра. «Ты, что находишь иной раз грустным свой собственный праздник», «ты, настолько великий, что никогда не слышишь ничего, кроме звуков оркестра», — тебе незачем следовать за поэтом, ибо ты никогда не поймешь, «как гибнет раса новых прометеев».
Но мы пойдем вслед за поэтом, подруга, ибо наши ноги привыкли к таким переходам и наши глаза — к таким зрелищам. Вот перед нами черная мать укачивает ребенка нежной колыбельной. На дороге слышится топот кавалькады. Это к хозяину приехали другие хозяева. Они хотят купить рабов. Вот они:
Загаром покрыты их лица, Во рту же сигара дымится; Улыбки у них плотоядны, А взгляды и хищны и жадны. Ус лихо закручен. С серебряной ручкой — Как символ их мощи и власти — Болтается хлыст у запястья. Начищены туфли до блеска. У пояса ж в виде подвеска.— Нельзя забывать и про это — Увидишь ты ствол пистолета.Невольница трепещет возле убогой кроватки ребенка. Для рабыни, подруга, «стать матерью — преступление, иметь ребенка равносильно краже». Вскормленное грудью дитя ее любви уже имеет хозяина. Кастро Алвес призывает ей на помощь Иисуса Христа. Но это опасно, подруга: у хозяина есть свой Христос, запертый в алтаре, освещенный свечами и одетый в золото. Хозяин показывает покупателям товар. В углу мать, «недвижная, обезумевшая, потерявшая разум». И диалог между невольницей и хозяином отражает все оттенки материнской любви. Она просит, умоляет, взывает о пощаде. Хозяин не слушает ее — ведь она всего лишь негритянка. Но когда у нее отнимают ребенка, она уже не рабыня — она мать, она львица, защищающая свое дитя. И хозяин вынужден отступить. Кастро Алвес любил, чтобы в его стихах негры восставали и всегда были готовы к бунту, — он хорошо знал всю пагубность безропотности. И, возможно, подруга, того же ребенка он показывает нам в другой печальной поэме. Отчего плачет это дитя?
Ванили ветвь иль плод граната Достать ручонкой не смогла ты И плачешь, бедное дитя? Чтоб ротик улыбнулся алый, Чего бы ты ни пожелала, Тебе тотчас достану я.Но это, подруга, — черный ребенок, и ему ли плакать из-за ветки или из-за цветка:
Отняли мать у ней злодеи… Что ей ваниль? Что ей гранат? Еще смеяться не умея, Познала слезы, боль утрат.Чего хочет дитя? Чего может хотеть ребенок, который потерял мать: утешения, дружеского голоса, другую семью?
Чего, несчастный, хочешь ты? Мой друг, мне нужен нож отмщенья!Это то, чем Кастро Алвес постоянно наделяет рабов — персонажей своих поэм. Стремлением к мести — не стремлением к примирению. Поэтому черный мститель и вынуждает трепетать господ. Ему поэт посвятил самый красивый и самый страшный из рефренов:
Рабы за обиды и раны Заплатят сеньору с лихвой. Месть зреет на ниве багряной, Омытой кровавой росой.Эта поэма — волнующая песнь мщения и свободы. Лира поэта в «Черном мстителе» звучит патетически и революционно. Революция той эпохи — это прежде всего восстание раба против хозяина. Именно к такой революции призывал Кастро Алвес, и такую революцию он воспел. В своем воображении он видел эту революцию, видел перед собой негра, проносящегося по полям на своем быстроногом скакуне, чтобы свести счеты с хозяином. Эти стихи незабываемы:
Молний пламень дремлет в тучах… В наших грудях же могучих Месть кровавая живет. На конях в ночную пору Мчатся негры, чтоб сеньору Предъявить давнишний счет. Ветер мчится их быстрее, До хозяина скорее Он домчит лихую весть: Срок настал, грядет расплата! Сын за мать и брат за брата Совершат сегодня месть! Дол и скалы сотрясая, Искры молний рассыпая, Гром грохочет в небесах. Но страшней грозы и грома Эти всадники, влекомы Местью пламенной в сердцах.Таким он видел негра — сильным, красивым, рвущим цепи, бросающим вызов хозяину. Каждая строка поэта — призыв к негру порвать цепи рабства и отдаться мщению.
Его песня — песня будущего. Негр не плачет, он восстает. Гениальное воображение поэта рисует панораму будущего:
Подобно некой Магдалине новой, Я вижу землю сбросившей оковы, Порвавшей плен многовековых пут. И гимн поет освобожденный труд. Напев, еще не слыханный доныне, Встает и от сухих песков пустыни, И от Кавказа, исполинских гор; Он огласил и ледяной простор Сибири дальней, Англии туманы, Америки пампасы и саванны. Поет земля, свободна от цепей. Час наступил великих эпопей.И на свободной земле поэзия — самое славное благо, которое завоевал человек.
Спою свой гимн я вдохновенный Под звуки звездных лир; Спою с грозой, с волною пенной, Пусть вторит мне весь мир!Могуч голос человека, который призывает к свободе. Он так же могуч, как и голос того, кто свободен{39}. Таков голос Кастро Алвеса, подруга. Мятежный голос, зовущий за собой, на восстание черных людей…
Однажды он коснулся тем своей поэзии. Он предвидел, что когда люди поднимутся на восстание, то его поэзия будет с ними. Поэма «Прощай, моя песня», отражающая его мысли о назначении поэзии, — одна из самых значительных в его творчестве. Мне хотелось бы прочитать ее тебе всю, подруга, это стихи, которые мы, поэты, должны нести в своем сердце. Это один из самых прекрасных заветов, которые он нам оставил. Он понимал, что его песня будет —
…Звездой путеводной народу, Тиранам — зловещей кометой,что ее будут петь в народе, на городских площадях, рабы в сензалах. Он как знамя. И он не уклонится от своей судьбы. Он подаст надежду девушке, завлеченной в публичный дом, он поможет старому невольнику, он станет «братом бедняка». Ибо он знает, что «вдали, на площади, бурлит народная волна» и что место поэта всегда с народом{40}. Он знает и другое: хозяева любят содержать поэтов, чтобы они для них пели за десертом о «любви и созидании». Он тоже воспевал все, что есть прекрасного в природе: поля, леса, вечера, тень и свет, цветы, женщин, зарю. Однако:
И вот настал тот день, когда я Стал слушать городов стозвучный шум. Я понял, чем живет толпа людская, Где смысл сокрыт ее заветных дум. Удары молота и пламень горна… То мысли иль расплавленный металл? И мнилось мне: народ кует упорно Свободу — свой высокий идеал.Нельзя воспевать только красоту полей, как хотят того господа. Поэт должен обратиться к народу, воспеть его, сложить гимн, который повел бы народ вперед:
Поэта истинное счастье — Служить народу своему; В час испытаний, в час ненастья Пути указывать ему.Это судьба его, его миссия. Уйти от нее — значит предать поэзию; и проклят тот, кто пойдет на такое предательство:
Поэт достоин лишь презренья, Когда свой дар и вдохновенье Народу не отдаст сполна. Его изысканные ямбы, Его пеоны, дифирамбы — Какая им тогда цена?Из всех художников слова в Бразилии Кастро Алвес меньше чем кто-либо отдал дань «искусству для искусства». Он сознательно утверждал себя как народный поэт, его поэзию вдохновляло служение народу, невольничьему народу связал, полурабскому народу городских площадей. То был поэт, равного которому сейчас нет у нас, подруга. Поэт, судьба которого «быть братом раба, проклинать господина, предающегося вакханалии…». Его голос — голос свободолюбивого брата негра, голос народного трибуна — продолжает и сейчас звучать с той же силой, подруга. Его поэзия служит нам и поныне.
В 1865 году он начал, моя негритянка, свою проповедь. И голос его — голос революции — это наш собственный голос:
Сердца пробуди же, о голос титана, От Анд прозвучи и до вод океана!ГЛАВА 11
Принадлежит народу площадь,
Как кондору — небес простор.
Эту истину, подруга, он познал еще в дни детства, в Байе: он понял, что площадь принадлежит народу, это его поле сражения. Что народ объединяется на митингах и демонстрациях. Что отсюда начинается его поход. Нет ничего прекраснее площади, заполненной волнующейся, непокорной толпой. Именно на площадях возникают идеи, именно здесь формируются борцы за идеи.
В Кастро Алвесе революционный художник сочетался с политическим бунтарем. Его стихи — оружие народа, и говорить их следовало народу. Более того, они должны были рождаться в народе, быть результатом брожения масс. Поэт часто приходил на площадь, был в толпе и возглавлял ее. В его крови говорила кровь его предков: майора Силвы Кастро, выступившего во главе батальонов независимости; Порсии, бросившей вызов общественному мнению;
Эту истину, подруга, он познал еще в дни детства, в Байе: он понял, что площадь принадлежит народу, это его поле сражения. Что народ объединяется на митингах и демонстрациях. Что отсюда начинается его поход. Нет ничего прекраснее площади, заполненной волнующейся, непокорной толпой. Именно на площадях возникают идеи, именно здесь формируются борцы за идеи.
В Кастро Алвесе революционный художник сочетался с политическим бунтарем. Его стихи — оружие народа, и говорить их следовало народу. Более того, они должны были рождаться в народе, быть результатом брожения масс. Поэт часто приходил на площадь, был в толпе и возглавлял ее. В его крови говорила кровь его предков: майора Силвы Кастро, выступившего во главе батальонов независимости; Порсии, бросившей вызов общественному мнению; младшего лейтенанта Жоана Жозе Алвеса, народного вожака, с кинжалом в руке возглавлявшего толпу.
Кастро Алвес зачастую импровизировал, будь то стихи в защиту дамы сердца или в защиту своего народа. И так глубоко западали эти стихи в души, что большинство его поэм дошло до нас, сохранившись в памяти их первых слушателей.
В тот самый период, когда он писал первые свои поэмы из цикла «Рабы» и большую часть времени проводил за работой в доме на улице Лимы, он продолжал следить за движением народных масс и становился во главе его в наиболее драматические моменты. Так случилось, подруга, в 1864 году на республиканском митинге, который был организован на самой большой площади Ресифе.
Площадь начала заполняться рано. Со всех концов города собирался народ — бедные люди, студенты, журналисты, поэты. Гул толпы, подобно шуму ветра, распространялся по всему городу. Люди приходили издалека. Издалека пришел и тот, кто собирался говорить им о республике — о форме правления, при которой всем распоряжался бы сам народ. Толпа ожидала услышать слово надежды, слово, указывающее выход из тупика. Идея республики тогда только намечалась, монархия казалась сильной и могущественной. Лишь несколько человек мечтали о новых формах правления, более демократических и более народных, и о них они говорили на площадях. Так начиналась пропаганда идей республики, и, чтобы услышать эти речи, чтобы понять и полюбить эти идеи, люди со всех концов города собирались на площади, которая была их форумом, их театром. Старые, молодые, еще безбородые студенты. белые и негры. Негры приходили со страхом и тут же смешивались с толпой. Во всех сердцах горела жажда новых идей, на всех лицах была написана любовь к свободе.
Площадь заполняется, теперь это колышущееся море; шум толпы все возрастает.
И когда с высоко поднятой головой появляется трибун, молча взирая на людское море, приветственные возгласы потрясают здания, что высятся вокруг площади. Антонио Боржес да Фонсека[25] говорил хорошо, он был страстным поборником республиканских идей, и его зажигательное красноречие вызывало подлинный триумф. В нем было что-то от пророка, речь свою он начинал мягко, говорил сначала тихо, но затем возвышал голос и уже громогласно выражал свой протест против преступлений монархии перед народом. Он говорил о контрастах между богатыми классами и простыми людьми, между теми, кто правит, и теми, кем правят. Настал момент управлять народу, убеждал он, прийти к власти и сделать эту власть орудием своего счастья, тогда как до сих пор власть была лишь орудием его пыток.
На площади вспыхнули аплодисменты, людское море заколыхалось высокими волнами. Люди дрожали от волнения, слушая этого человека, который говорил о великих завоеваниях, которые им предстоит совершить. Что это за форма правления, такая прекрасная, такая соблазнительная, при которой все, начиная с самого богатого и кончая самым бедным, будут править страной, где возможности будут для всех одинаковы? Антонио Боржес да Фонсека отвечает: это республика. И говорит об ее преимуществах. Аристократия, родившаяся в энженьо и выросшая за счет эксплуатации рабов, уступит место народной демократии. Притеснения, чинимые новым идеям и на факультетах и в печати, уступят место свободе мысли, прогрессу во всех его формах. Пятно рабства исчезнет, в республике не будет различия между людьми, ибо перестанут существовать дворяне, господин граф станет не более как господином коммерсантом или господином ремесленником. В Ресифе, центре сельской аристократии сахара, трибун угрожал гербам и коронам. И толпа, увлеченная силой его слов и красотой его идей, с воодушевлением приветствовала его.
Люди хотят выступить в поход за власть народа. Они хотят сломать привилегии аристократии, которая сжимает в руке кнут, купленный за счет пота негров на энженьо. Антонио Боржес да Фонсека, стоя на импровизированной трибуне, поднимает народ против монархии.
Внимательнее всех, подруга, слушает его некий юноша. Ему семнадцать лет, но он уже познал, что рабство противно человеческой натуре, что высшее благо — это свобода. И вот здесь человек говорит о свободе и о народе — о двух вещах, столь дорогих его сердцу. Юноша Кастро Алвес горячее всех аплодирует в толпе, громче всех приветствует слова оратора.
Но вот, подруга, прибывает полиция. Сильным мира сего нельзя угрожать безнаказанно. Владельцы энженьо и хозяева рабов основывают свою власть на хорошо организованной системе угнетения, их гербы и короны крепко защищены. У народа нет иного оружия, кроме слова его трибунов и поэтов. Полиция нападает на народ; начинается перестрелка… Оратор пытается продолжать, но его арестовывают. Однако до того как полиции удалось разогнать митинг, молодой студент оказывается во главе толпы. Он поднимается на трибуну, и голос, самый мощный из голосов, которые слышал народ, разносится над площадью и не дает полиции обратить толпу в бегство. Кастро Алвес знает, что народ должен действовать, бороться в защиту своих прав, лицом к лицу встретить реакцию.
При звуке его голоса, прерываемого свистом пуль, толпа снова сплачивается, она не поддается тем, кто хочет сорвать митинг, она слушает поэта. Юноша читает народу изумительные стихи:
Когда на площади поднимет Свой голос мощный сам народ, То мнится, будто вспышки молний Вдруг озарили небосвод.В этих стихах народ черпает свою силу. Что с того, что кругом свистят пули; кто побежит, когда на трибуне, под пулями, спокойный, улыбающийся юноша читает стихи? Он страшен в своей ненависти к тем, кто угнетает народ. Он «велик, молод, прекрасен», он спокоен, как будто вокруг него не разгорается борьба. И люди, зараженные его примером, остаются и слушают. Эти слова так глубоко запечатлелись в их сердцах, что люди их сохранили навечно. Он говорил о площади — о площади, которая принадлежит народу.
Принадлежит народу площадь, Как кондору — небес простор. Народ на площади тиранам Всегда умел давать отпор.Площадь принадлежит народу, и народ уже не бежит с площади. Пули свистят, падают раненые, но никто не думает спасаться бегством. Поэт с черными развевающимися кудрями провозглашает с трибуны;
Народ — то огнедышащая лава, Ее изверг восстания вулкан. Народу не страшна солдат расправа, Не страшен сам пославший их тиран. Героев тысячи дерутся с честью, И город весь — восстанья цитадель. Пришел народ из городских предместий Свободу отстоять — святую цель.Он поэт народа, его вожак. Он не только хочет слагать стихи о революции; он хочет бороться на стороне народа, стать во главе его, ведь народу нужен вожак.
На площади появляется кавалерия. Толпу не удалось рассеять, и место Антонио Боржеса да Фонсека занял другой оратор. Так пусть же народ будет растоптан конскими копытами и пусть усвоит урок, который ему преподаст власть. Но народ предпочитает урок поэта, а тот провозглашает с трибуны;
Народ не стерпит беззаконий, Свои права он отстоит. Не смогут их насилья кони Топтать ударами копыт.Таков урок, преподанный им в этот день народу. Под пулями, среди коней, давящих толпу, он призывает народ идти освобождать арестованного. И люди выходят на манифестацию с возгласами протеста, которые принесут Антонио Боржесу да Фонсека свободу.
Голос поэта — это тот «стальной голос», о котором он сам говорил:
Пусть голос народа стальной Звучит, как раскат громовой. Мы отпрыски древних Катонов Услышав, народ, голос твой, Тираны теряют покой, Основы колышутся тронов.Поэт уходит во главе народа. Представь себе его, подруга, шествующим во главе толпы. Он замечательно храбр и благороден, благородна его ненависть к тиранам, благородна и любовь его к народу.
ГЛАВА 12
Мадонна бледная моих мечтаний,
Благая дева Энгандинских гор!
Молодой баиянец, талантливый скрипач, прибывший в Ресифе на гастроли, привез ему вести о тревожном состоянии здоровья отца. Другое печальное известие Кастро Алвес получил еще раньше: его старший брат, поэт, подражавший Байрону, помешался, бросил занятия на инженерном факультете и приехал из Рио-де-Жанейро в Курралиньо. Но и на лоне природы он не нашел успокоения и покончил с собой, оставив семью в безутешном горе. В жизнь он не верил, смерть была его судьбою, самой желанной и самой нежной из возлюбленных, только она была способна принести ему счастье. Он был одной из последних жертв байроновского романтизма, столь популярного среди юношей того времени. Кастро Алвес нежно любил брата и тяжело пережил его потерю. Однако перед ним была жизнь, жизнь во всем — в людях, которые проходили мимо, в женщинах, которые улыбались ему, в поэтах, которые декламировали стихи, в студентах, которые постоянно чем-нибудь возмущались, — и горечь утраты постепенно сгладилась.
Прежде чем уехать в Байю на каникулы 1865 года — года Идалины, «Века», дружбы с Варелой, года «Рабов», — он появился на празднестве в театре Санта-Изабел в честь скрипача Франсиско Муниза Баррето Фильо. Там собрались все видные люди факультета. Они пришли приветствовать мастера скрипки, пришли поаплодировать своему собрату по искусству, поддержать его и поощрить. В то время Кастро Алвес и Тобиас Баррето еще были друзьями. Тобиас даже посвятил Кастро Алвесу одну из своих поэм. Оба, уже знаменитые, популярные среди студенческой молодежи Ресифе, они еще не оказались в противоположных станах. И на этой праздничной встрече людей искусства и литературы Кастро Алвес, пожалуй больше чем кто-либо другой, имел основание приветствовать гастролера. Ведь тот был его земляком, знакомым еще по Байе.
Скрипач кончил играть. Затихли долго длившиеся аплодисменты. Бледный и красивый Кастро Алвес появился в ложе. В партере находился Тобиас. Кончив аплодировать, он уже собирался сесть на место, когда Кастро Алвес обратился к нему:
— Разреши мне, Тобиас, сказать слово в честь Муниза Баррето Фильо…
Студенты замерли в ожидании. Тобиас поднял голову, секунду подумал и произнес стихи, которые сами по себе явились данью таланту Муниза Баррето Фильо:
Смычком ты завораживаешь вечность.Едва только умолк Тобиас, как начал свое импровизированное выступление Кастро Алвес. В театре воцарилась мертвая тишина. Все были очарованы его музыкальным голосом. Профиль молодого поэта, яркий блеск глаз, смоль волос, высокий лоб — все привлекало к нему внимание. Ни на минуту не останавливаясь, он сочинял все новые и новые стихи. Можно было подумать, что он принес их готовыми. На устах женщин, подруга, заиграла улыбка восхищения. А голос Кастро Алвеса гремел:
О чародей! Прими из уст поэта Восторга дань искусству твоему. Здесь все подвластны чувству одному: Все пленены твоей игрой, Баррето. Твоя игра — то дивный праздник света; Он озарит собой любую тьму, В сады блаженства превратит тюрьму И холод зимний — в ласковое лето. Гармонией небесной вдохновлен, Ты претворил мгновений быстротечность В певучий и лучистый райский сон. Мы в этом сне познали бесконечность. Свободны от пространств, свободны от времен. Смычком ты завораживаешь вечность.И, закончив последнюю строфу, поэт исчезает в глубине ложи. Друзья бросаются к нему, чтобы обнять и выразить свой восторг. Его спешит поблагодарить Муниз Баррето, и Тобиас Баррето тоже подходит поздравить с совершенной, формой стиха. Но истинное волнение охватывает Кастро Алвеса, когда перед ним появляется Эужения Камара.
— Я позавидовала Мунизу Баррето…
— В чем, сеньора?
— Он заслужил такие красивые стихи…
И она ушла. А он остался стоять с замершим сердцем, тяжело переводя дыхание. Ведь она была его безрассудной мечтой любви.
* * *
После того как Кастро Алвес сдал экзамены, болезнь отца вынудила его уехать в Байю, Эти каникулы начались для него печально, ибо отец его в январе умер, став жертвою бери-бери{41}. К тому же доктор Алвес оставил семью в трудном материальном положении. В то время они жили на улице Содрэ, и поэт в припадке безысходной тоски заперся там. Ему было гораздо тяжелее, подруга, пережить этот удар здесь, в Байе, где не было для него утешения: ни студенческого движения Ресифе, ни поэтических конкурсов, ни женской ласки. Идалина осталась позади, Эужения Камара была лишь далекой надеждой. А он не умел работать, не умел творить без любовного поощрения, без уверенности в том, что в благодарность за стихи получит любовь женщины.
Слухи о его поэтической славе, об успехах в Ресифе уже дошли до Баии. Однако его еще никто не искал и вокруг него никто не группировался. Напротив, Муниз Баррето, видный старый деятель, родственник скрипача, которого Кастро Алвес недавно приветствовал, организовал общественный бойкот молодому поэту, о котором рассказывали разные разности. И вот поэт оказался в грустном уединении, одиноким в огромном доме, где родные оплакивали смерть отца. Он никуда не выходит из дома, он размышляет о брате. Он боится, что и его самого ждет та же участь — помешательство. Родные пугаются его печали, и тогда кто-то, желая отвлечь внимание юноши от мрачных мыслей, обращает его внимание на соседок — трех сестер: Сими, Эстер и Мари.
Как-то к вечеру он, подойдя к окну, замечает их. И если Мари не желает встречаться взглядом с поэтом, то две другие сестры смотрят на него с восхищением: они уже слышали о нем и теперь убеждаются, что рассказы о внешности молодого поэта — правда. У него и в самом деле большие глаза, чувственный рот и красивые волосы, и он мужествен. Кастро Алвес тоже очарован обеими сестрами. Проходит вечер, а с ним, подруга, исчезает и меланхолия поэта{42}.
Теперь он проводит все время у окна, флиртуя с прекрасными сестрами, прося свидания, посылая им поцелуи. А они лукаво улыбаются, не зная, кого же он предпочитает, какой из двух отвечает взаимностью. Но он и сам этого не знает. И если для Сими, которая вскоре должна выйти замуж, он пишет «Еврейку»{43}, то для Эстер он сочиняет один из сонетов «Ангелы полуночи» — о женщинах, которых он любил и которые приходят к его смертному одру. Первой, заполнившей его мысли и вдохновившей его музу, была Сими. Но разве она не уезжает, не выходит вскоре замуж? И юноша, не будучи способен на платоническую любовь, искушает ее одним из самых красивых своих стихов. Он делает ей отчаянные предложения:
Уйдем со мной, сокроемся в пустыне. Как от Саула скрылся там Давид. Ты Суламифью стань моей отныне, И наш союз сам бог благословит.Но Сими принимает стихи и… смеется над поэтом. Он ей нравится, да, но как друг; она восхищается тем, что он пишет, однако сердце ее уже принадлежит другому. Очарованием музыки этих стихов она не дает себя увлечь:
Там, у ручья, где плач звучал Рахили В минувшие священные года, В шатре простом с тобою бы мы жили, И я бы пас овец твоих стада.Он называет ее самыми красивыми именами, говорит ей самые нежные слова, которые только знает:
Еврейка милая, тебя нежнее Где женщину еще найти б я мог? О роза бледная из Иудеи, Израиля печального цветок!Роса, вечерняя звезда, цветок вавилонской реки, лилия восточной долины, ветка мирты — он называет ее самыми поэтическими именами, но она так и не откликается. И тогда, отчаявшись, он признается:
Как некогда Иаков дерзновенный Боролся с ангелом и уступил. Так я, о ангел мой земной, смиренно Перед тобой колена преклонил.И он перестает интересоваться Сими, сердце его отныне принадлежит только Эстер. Он, который любил называть себя евреем, который всегда чувствовал странное влечение к этой несчастной кочевой расе, обижаемой и преследуемой, он чахнет от любви к этой баиянской еврейке, белой, более чем белой — бледной, с распущенными косами, с медовыми устами. Он целые вечера просиживает в темноте, у окна, слушая, как она поет за роялем мелодичные песни.
Вчера ты заиграла на рояле В тот час, когда сгущался мрак ночной. Аккорды радости и стон печали… Рояль звенел и плакал, как живой. Потом запела ты, любви желанье Будя в груди взволнованной моей. Напев твой прозвучал нежней признанья, И поцелуя был он горячей.Эстер{44} заполнила его каникулы, которые начались столь печально. Благодаря ей стала притупляться боль утраты, поэт забыл о бойкоте, жертвой которого стал, о зависти поэтов-земляков, о своей грустной участи — жить в одиночестве.
Любовь, что в сердце у меня таится, К тебе, моя желанная, стремится, Как росы к небу на заре…Теперь он работает. Под влиянием волшебства любви, перед образом женщины, которая его вдохновляет, он возвращается к жизни. Он с охотой готовится провести еще год в Ресифе, мечтает, строит планы и вымаливает у Эстер поцелуи:
Дай мне к устам твоим приникнуть И раз еще небесный мед испить…Из окна он видит бледную Эстер, цветок своей расы, таинственную и чувственную; в ней есть что-то трагическое, в этой еврейке, которая вздыхает по юноше-христианину. Сидя у окна большого дома над бухтой, она хранит в своих глазах тайну прошлого древней страдающей расы, она хранит в своем взоре и тайну будущего.
ГЛАВА 13
С тобою в поцелуе слиться…
В любви блаженство погрузиться…
В твоих объятьях умереть.
Ночь без луны, без звезд тяжелыми, свинцовыми облаками покрыла мир. Накрапывал дождь. Через окно они видели капельки воды, капельки скатывались с крыши, и вот уже по тротуару бежит ручеек. От кустов жасмина вокруг дома исходил пряный аромат. Казалось, ночь укрывала их; луна и звезды не взошли на небе, чтобы своим светом не помешать их любви. Она хочет открыть глаза, но он закрывает их поцелуями, объятья их становятся все крепче…
Он склоняет голову на грудь Эужении, смежает веки и засыпает. Его возлюбленная продолжает бодрствовать. Поэт спит, прекрасный, как дитя, и, как дитя, слабый. Будто вся огромная сила, все могущество, которыми он наделен, исчезают, когда он с улыбкой на губах засыпает. Для Эужении он в этот момент слабый и прекрасный ребенок. Она чувствует к нему огромную нежность и сжимает его в объятиях, как будто он ее сын.
И, укрыв его, тоже засыпает, разметав свои длинные волосы.
Издалека приближается рассвет, и с ним пробуждаются птицы. Рассвет проникает через окно, чтобы взглянуть на спящих влюбленных. И птицы на кустах жасмина поют свои лесные песенки, убаюкивая их и навевая сладкий сон, полный любовных грез. Заря пробуждает возлюбленных, ее свет играет на теле Эужении. И радостный поэт просит ее не двигаться. Он берет карандаш и на листке бумаги, где уже начал поэму, рисует возлюбленную{45}. Она — пробивающаяся заря. Ее улыбка излучает радость, в ее едва раскрывшихся глазах отражается свет этой зари. Она сама красота, вся красота мира.
Блики рассвета играют на теле Эужении; невозможно это передать на бумаге — свет и тени все время меняются. Она улыбается, на ее поэта тоже падает утренний свет. И она думает, что поэма, которую он сочиняет, звучнее пения птиц, что свили гнездо в кустах жасмина около дома. Склонившись над незаконченным рисунком, поэт улыбается, нервной, прекрасной рукой треплет свои волосы, рассвет играет и на его бледном высоком лбу.
Он уже не слабое дитя, теперь он мужчина, и он ее любит…
Склонившись над рисунком, он улыбается, качает головой: на этом наброске невозможно запечатлеть потоки света, которые заря изливает на Эужению.
Замирает щебетанье птиц, наступает день. И он сочиняет стихи, стихи о ней, о ее красоте, ее очаровании. В этих стихах, подруга, он воспроизвел ее портрет и тем обессмертил ее. Он берет бумагу, быстро чертит что-то нервной рукой, но вдохновение быстрее руки. И он читает ей стихи. Они наполняют комнату, птицы уже не поют, поет его красивый мощный голос;
К тебе приближусь замирая… Наверно, так в преддверьях рая Трепещет праведник святой. Объят восторгом, сладко млея, Я поцелую грудь и шею… Свои объятья мне открой!{46}ГЛАВА 14
Сердце любовного полно желанья…
Разум терзается жаждой познанья.
Он сменил, моя подруга, нежный флирт с еврейками на пылкую любовь к Эужении Камаре. В 1866 году он в Ресифе — уже не робкий новичок, который мечтает найти свой путь и свою любовь. Студент, вожак на факультете права, юноша в полном расцвете своего гения, он становится во главе всей аболиционистской кампании в Ресифе и завоевывает великую любовь своей жизни. Этот период — с апреля 1866 года, когда он уехал из Баии в Ресифе, до марта 1867 года, когда он с Эуженией и рукописью «Гонзаги» возвратился в Байю, — один из самых значительных в его жизни и творчестве. За этот год им была написана большая часть его лирических стихов и значительное число «кондорских» поэм. Это период войны с Парагваем, это аболиционистская борьба, это инцидент с Амброзио Португалом. это театр. Эужения, журналистика, ссора с Тобиасом. И это прежде всего мечта об освобождении рабов, идея, которая в 1866 году с помощью его стихов, подобно огню, распространяется из Ресифе по стране, воспламеняя умы. Это и год его великой романтической любви. Эужения принадлежит ему, он завоевал ее, отнял у мира только для себя. Идиллия в домике предместья начинает занимать видное место в его лирике. В этом году он окончательно возмужал, познал настоящую любовь и вступил в борьбу. Знаменательный, как никакой другой, 1866 год сделает его имя в стране самым известным. Он становится руководителем партии, причем теперь университетские партии это отнюдь не обычные студенческие группы, которые шумят в тавернах. Нет! Это нечто гораздо большее! Они сама мысль страны, они новая формирующаяся культура, они олицетворение порыва к обновлению и прогрессу. Эти студенты — Кастро Алвес, Руй Барбоза, Тобиас Баррето, Луис Гимараэнс[26] и многие другие — дадут нашей литературе кондорскую школу, дадут нашей политике республику, нашей социальной эволюции упразднение рабства. Это обновление культуры — с Тобиасом Баррето, демократии — с Руем Барбозой, поэзии — с Гимараэнсом. А с Кастро Алвесом — все это вместе взятое, да еще освобождение рабов, республика, негритянская поэзия Бразилии и мечта еще о многом.
Кастро Алвес и Тобиас Баррето, лидеры студенческих групп, — в сущности, лидеры всей страны. И некоторые различия между «революционностью» каждого из них характерны также для двух революционных тенденций прогрессивной буржуазии того времени. Гений Кастро Алвеса искал поддержки народа, чтобы поднять массы и самому подняться с ними: в своей поэзии он предвидел будущее{47}, поэт шагал впереди своего века{48}. Тобиас был человеком, который опирался на народ, чтобы подняться самому до господствующего класса. И конфликт в театральной жизни Ресифе — романтическая ссора между Кастро Алвесом и Тобиасом из-за возлюбленных, где борьба велась с помощью импровизированных стихов, — это не что иное, как столкновение в другом плане двух культурных и политических тенденций эпохи. В этом, 1866 году в Ресифе интеллектуальная Бразилия сталкивается с Бразилией политической. Выявляются различные тенденции, происходит размежевание даже внутри прогрессивной интеллигенции: Кастро Алвес — ее крайнее крыло. Никакие побочные интересы не могут отвлечь его от политической линии, которую он избрал для своей поэзии и своей жизни, — его идеи были его честью{49}. Никогда он не поступился ни единым словом, а тем более идеей или делом ради легкой славы, успеха, преуспевания в жизни.
В отличие от Тобиаса у него не было разработанной программы жизненной карьеры. И никаких преимуществ он не хотел для себя. Поэт, агитатор и вождь, он сделал почетным в Бразилии слово «политика» не только потому, что сам был интеллектуальным политическим деятелем и служил народному делу, но и потому, что был самым чистым из политических деятелей. И здесь, подруга, он предстает перед нами как лучший представитель своего народа: благородный, храбрый, пылкий и бескорыстный.
В этом, 1866 году студенчество в Ресифе подпало под влияние идей французской революции. О ней узнавали из произведений Виктора Гюго, из речей депутатов Конвента, из трудов энциклопедистов. Вся французская культура, перемешанная с политикой, пересекла океан и в трюмах судов прибыла в порт Ресифе, чтобы взбудоражить здесь студентов{50}.
Незадолго до того началась война с Парагваем. Родина переживала героическое время; солдаты шли на войну, осыпаемые цветами, под звуки песен и вдохновенных речей. Они уезжали на юг, в пампу, где их ждали слава и смерть. Кастро Алвес одним из первых записался в студенческий батальон, который формировался под командованием очень своеобразной личности — ворчливого профессора Триго де Лоурейро, преподавателя и поэта в одном лице. Португалец по национальности, он отдал лучшие годы своей жизни и все свои знания молодежи Ресифе. Формирование этого батальона послужило поводом для многих речей и импровизаций; старик профессор в свои шестьдесят восемь лет превратился в героя. Батальон с Триго де Лоурейро во главе продефилировал по улицам города и агитировал граждан выступить на защиту отечества. Лира Кастро Алвеса приобрела в этот час особенно сильное патриотическое звучание.
Однако на войну фактически отправились лишь несколько человек, и среди них удивительный Масиэл Пиньейро, студент, поэт, искатель приключений. Он был большим другом Кастро Алвеса, и тому выпала доля приветствовать его на прощальном вечере от имени студенческой молодежи. Это был еще один из многих триумфов Кастро Алвеса. Он выступил из ложи в театре Санта-Изабел, заполненном самыми разными людьми, пришедшими, чтобы присутствовать при отъезде молодого барда, который предложил отечеству свою кровь.
Все уже высказали Масиэлу Пиньейро свои прощальные слова. Декламировали стихи, кричали «ура». Буря аплодисментов поднималась в партере всякий раз, когда кто-либо из студентов говорил или декламировал в честь молодого добровольца. Масиэл Пиньейро — герой всех юношей, кто познает героизм и свободу раньше, чем изучит тексты законов. Но вот наступила очередь Кастро Алвеса. Он выступает последним, ведь его связывает тесная дружба с поэтом, уезжающим на поле битвы. Он показывается в ложе, одетый во все черное, что оттеняет мраморную бледность его лба. Резким движением головы он отбрасывает назад свою львиную шевелюру. В театре воцаряется мертвая тишина. И этот голос, который всегда волновал, очаровывал и звал за собой всех, кто его слышал{51}, начал декламировать. Уезжающий друг не просто солдат, который прольет свою кровь за родину. Он человек, который принесет на поля юга, где развертывается битва с Парагваем, самые горячие слова свободы. Там он запоет «Марсельезу»:
В пампе без конца и края Ты палатку разбивай. За свободу в бой вступая, «Марсельезу» громче запевай.Масиэл Пиньейро получил в этой поэме самое высокое вознаграждение за свой героизм. Сначала Кастро Алвес описывает его путешествие от Ресифе, через Байю и Рио-де-Жанейро, до далекой пампы:
Как Арион на челне быстроходном, Певец младой, ты мчишься по волнам.И если эта война — война новой, американской Греции, то новый Байрон должен быть ее солдатом и ее поэтом:
Для новой Греции ты Байрон новый.Театр рукоплещет. Это взрыв всех патриотических чувств. И никто уже не знает, кто подлинный герой этого праздника. То ли уезжающий поэт, то ли тот, кто сказал ему эти прощальные слова. Им аплодируют обоим. Овации по адресу Масиэла Пиньейро столь же горячи, как и по адресу Кастро Алвеса. Оба они молоды и красивы, смелы и горячи. Многие девушки плачут, все мужчины взволнованы, некоторые старики кричат «ура». Так было, подруга, в тот вечер в театре Санта-Изабел.
Но поэт, подруга, умел не только воодушевлять. Он умел и воодушевляться. Он был не только поэт, но и борец. В этом, 1866 году, едва прибыв в Ресифе, он вместе с Руем Барбозой, в то время первокурсником, и некоторыми другими студентами организовывает аболиционистское общество для пропаганды всеми способами идеи освобождения негров — в газетах, с трибун, на митингах. Более того, он предоставляет убежище беглым неграм и устраивает их судьбу, поскольку в то время их уже так много, что, пожалуй, можно было бы организовать новый Палмарес{52}.
Ресифе начала 1866 года увидел первое из значительных аболиционистских обществ, а затем они стали возникать одно за другим. Это первое появилось на улице Богадельни. Во главе его стал Кастро Алвес, вместе с ним Руй Барбоза, Аугусто Гимараэнс, Регейра да Коста и некоторые другие. Одной поэзии было уже недостаточно, требовалось действие. И поэт выходит на улицу, чтобы бороться за ликвидацию рабства. Дом на улице Богадельни становится убежищем беглых негров, центром деятельности общества, где выковываются слова, как холодное оружие, где вырабатываются планы, которые немедленно принесли бы освобождение рабам. Кастро Алвес ведет бурную деятельность, он организует собрания, выступает на факультете права, объединяет симпатизирующих аболиционистскому делу людей — словом, проявляет себя страстным поборником прав негритянской расы. В этом году он фактически больше аболиционистский агитатор, чем поэт. Он не мог, моя негритянка, увлекаться какой-либо идеей, не отдаваясь ей целиком. Он не отделял свою жизнь от своей деятельности.
В то время с Кастро Алвесом уже была Эужения Камара. Давно она была в его сердце, и он писал для нее стихи. Еще почти мальчиком он впервые увидел ее на сцене в Ресифе. Потом она вернулась из триумфального турне по стране и привезла с собой книгу стихов, которую напечатала в Форталезе; в ней наряду с ее посредственными произведениями были стихотворения, которые ей посвятили известные поэты юга и севера{53}. Уже восемь лет как она живет в Бразилии. Португалка, она начала артистическую карьеру у себя на родине, с успехом дебютировав в 1852 году в театре «Жиназио» в Лиссабоне. Затем приехала в Бразилию, сошлась здесь с Фуртадо Коэльо, пожалуй самым известным артистом того времени, и родила от него дочь. Гастролировала по стране, сделалась музой поэтов, пользовалась потрясающим успехом у публики. Но никто еще не занял прочного места в ее сердце, никто не завоевал его. Ее связи всегда основывались на какой-либо заинтересованности; то это был актер, который мог оказаться ей полезным, то состоятельный человек, который мог дать ей роскошь, как, например, Вериссимо Шавес, у которого ее отнял Кастро Алвес.
Она полюбила поэта, моя негритянка, с того вечера, о котором я тебе рассказывал, когда он увидел ее в театре. Тогда он даже не мог мечтать о ней, он, ничем не примечательный студент подготовительного отделения, без имени, без денег, никому не известный и совсем еще молодой. Но он полюбил ее. В объятиях ли Идалины, в интрижках ли с Эстер и Сими, в случайной ли встрече с какой-либо женщиной — повсюду он видел Эужению, излучающую красоту и окруженную ореолом славы, Эужению, которую судьба предназначила ему. В 1865 году он начал создавать себе имя, и она по-прежнему не выходила у него из головы. Он посвящал ей стихи, хотя даже не был с нею знаком. Он сблизился с театральными кругами, но она продолжала оставаться для него недоступной — вплоть до самого 1866 года, когда знакомится с поэтом, ставшим в свои восемнадцать лет одним из красивейших мужчин своего времени.
Девушки не в силах были перед ним устоять. Да и как можно было противиться исходившему от него очарованию, той романтической и чувственной силе, которую излучал этот поэт народа и поэт любви? Они простирали к нему руки, и все, что они хотели, это чтобы он увел их с собой и чтобы от встречи остались стихи, которые он обычно писал своим возлюбленным. Но с кем бы он ни встречался, в его глазах неотступно стоял образ Эужении, он любил Эужению, ему нужна была Эужения. Не устояла и она. С одной стороны, Вериссимо Шавес, деньги и комфорт, роскошь и элегантность, с другой — Кастро Алвес, любовь и поэзия. Но было в глазах его волшебство и такая сила в стихах, которые он ей посвящал, что она последовала за ним. Я уже говорил тебе, подруга, что женщины издалека распознают гения, они это чувствуют и бросают все, чтобы следовать за ним. Он был восемнадцатилетним юношей и приобрел лишь некоторую славу в студенческих кругах, однако она сумела предугадать, что он в те немногие годы, что ему осталось жить, завоюет во всей Америке известность как первый из ее поэтов, как самый благородный из ее революционеров. Когда он появился в ее уборной с цветами в руках, с улыбкой на устах, с комплиментами и стихами и попросил ее уйти с ним от всех, она не смогла противиться. Жизнь по временам красива, но, подруга, чаще она монотонна. Однако рядом с ним, моя негритянка, скуке не было места. Все дни — счастье, каждый момент — мечта, созидание, освобождение. Он, как солнце, которое освещает все, что находится вокруг. Все будничное при его приближении преображается, возникает новое, красивое. С ним жизнь стоила того, чтобы жить; она становилась увлекательным, манящим приключением.
Как устоять против притягательности этого молодого поэта? Эужения не знает. Придется бросить все, чтобы последовать за ним. Она устояла против зова других поэтов, против сильного голоса Фагундеса Варелы из Сан-Пауло, он ее не покорил{54}; она устояла потому, что любила роскошь, деньги, свою карьеру, свободу, право принимать ухаживания и выслушивать комплименты. Но сейчас ее зовет Кастро Алвес, он ее любит, что же она может поделать? Однажды вечером, когда голос его стал еще мягче, когда еще нежнее стали его стихи и когда он позвал ее уйти с ним:
Мой ангел, с тобою хочу я Пуститься по свету, кочуя, Далеко-далеко уйти. Скитаться, подобно цыганам, Мы будем по весям и странам, Все время меняя пути, —когда он сказал ей на ухо дрожащим только ради нее голосом, голосом, который привык поднимать толпы:
Потом же, как дикие птицы, Мы сможем с тобой поселиться, Где нас никому не найти, —она не устояла и сказала, что уйдет с ним, что оставит другого и все, что тот, другой, предоставляет ей, и отныне будет принадлежать ему только.
Вериссимо Шавес остолбенел от полученного известия. Он страстно любил Эужению, он бросил все свои дела, чтобы сопровождать ее в турне, она была для него всем. Но как мог он, подруга, бороться, если у него были лишь деньги, комфорт, роскошь? Его соперник имел большее — поэзию. Вериссимо Шавес не примирился, борьба за Эужению приняла характер дуэли. Чем это кончится? Она уходит в объятия Кастро Алвеса, финансист сходит с ума. Он грозит небом и землей, жаждет мести, рассказывает о своем горе всем и каждому в городе, и всюду возникают дискуссии и споры. Скандальная атмосфера окружает Эужению и Кастро Алвеса. Возлюбленные бегут на окраину города, укрывая свою любовь в далеком домике на дороге в Жабоатан. Но весь город продолжает обсуждать это событие. Вериссимо Шавес, португалец, находит себе сторонников.
Так, в атмосфере скандала, ссор и перешептываний, они начали самую красивую историю любви и вместе с тем самую чувственную страницу бразильской литературы. Но скандал продолжался. Борьба между Кастро Алвесом и Тобиасом Баррето, между двумя тенденциями кондорской школы — экстремистской и умеренной — переносится в сентиментальный план. Два мира идей затевают борьбу вокруг двух своих муз — Эужении Камары и Аделаиде до Амарал. В театрах, подруга, один за другим возникают романтические конфликты. Как будто отныне пьесы — драмы и трагедии — не оканчиваются после того, как опустился занавес. Представление продолжается в зрительном зале, в нем участвуют две партии и оба их руководителя. Оскорбления, аплодисменты и шиканье, стихи и брань теперь дополняют театральные спектакли. Ресифе волнуется, весь 1866 год отмечен борьбой между двумя крупнейшими именами факультета права, людьми, которые раньше были друзьями. Теперь их разделяет многое… Кастро Алвесу кажется удивительным, что этот талантливый мулат не слышит доносящихся из сензал горестных воплей негров. Ему не нравится в Тобиасе надменность, честолюбие, которое заставляет того на многое закрывать глаза и о многом не говорить. Тобиас Баррето ориентировался только на круги прогрессивной буржуазии. И он уже заранее предвидел, где должен будет остановиться. А Кастро Алвес не видел конца пути человека в поисках счастья. Он предвидел не момент, когда надо будет остановиться, а новые дела и подвиги в защиту других негров и заранее готовился к ним. Один строил планы только на ближайшее время. Другой — был свободен от случайностей времени, он строил планы на будущее. Это то, что разделяло их еще до Эужении и Аделаиде — этих театральных, романтических масок, прикрывавших гораздо более глубокую борьбу двух политических устремлений.
Студенты разделились, одни из них остались с Кастро Алвесом, с его поэзией и его дамой (их было большинство), другие пошли за Тобиасом, который стал защитником Аделаиде до Амарал, актрисы той же труппы Фуртадо Коэльо, где играла и Эужения. Театральные представления, главным образом кровавые драмы, собирали в Санта-Изабел весь город. Но большинство зрителей приходило в театр не столько полюбоваться игрой актрис, сколько посмотреть представление, которое неизбежно сопутствовало каждому спектаклю, — обмен эпиграммами, звонкими как пощечины, свист, которым каждая группа награждала враждебную даму. Кастро Алвес в стихах, которые он публично читал Эужении Камаре, не преминул резко затронуть ее противников. Так, в поэме, которую он посвятил ей и продекламировал в театре в день бенефиса Эужении, он говорит о «шипении змей, которые пытаются ужалить тебе ноги». Объятый любовным восхищением, которое затуманило ему взор, он даже назвал актрису гениальной. А в другой, тоже посвященной ей поэме, приветствуя ее от имени народа Ресифе, он напомнил эпизоды борьбы и одержанные победы:
На сцене пред восторженной толпою, Волшебница, еще предстань; Толпа, плененная твоей игрою, Тебе воздаст оваций бурных дань.И в этой поэтической полемике, подруга, он всегда взывает к народу, как к судье. Пусть народ судит игру двух актрис. В конечном счете народ даст оценку двум направлениям поэзии:
И если путь твой к славе был тернистым, Народ тебя за все вознаграждал… Гроза не сокрушает бронзу статуй. От ливня ярче лишь блестит металл. Так зритель, восхищением объятый, Обрушил на тебя оваций шквал. Судьей искусства строгим, несравненным Был и останется всегда народ: Великое он не смешает с тленным, Живой струи с застылостью болот. Ты можешь быть горда его признаньем, И чист его кадильниц фимиам. Была бы ты богини изваяньем, Народ тебе возвел бы дивный храм.Но более строгими судьями, чем народ, подруга, были Тобиас и его сторонники. И в один из вечеров, после исступленных аплодисментов, адресованных Аделаиде до Амарал, они освистали Эужению, что вызвало настоящий скандал. Страсть Тобиаса к Аделаиде до Амарал, страсть, которую актриса использовала в своих интересах, не отвечая ему взаимностью, толкнула мулата на самые резкие действия. И вот он и его друзья освистывают Эужению Камару и делают это в самый последний момент, так что ни Кастро Алвес, ни его сторонники уже не могут на это ответить. Эужения вышла из театра под руку с поэтом, склонив голову, со слезами на глазах, униженная, оскорбленная. Не она, а другая получила в этот вечер цветы и аплодисменты, и публика, зараженная энтузиазмом Тобиаса, видела только Аделаиде, аплодировала только ей. А в конце пьесы, когда Эужения появилась на сцене, ее встретили оглушительными свистками. И теперь у нее пылала голова, ей казалось, что она все еще слышит крики «Долой, прочь!», свист и хохот и, что хуже всего, видит саркастическую улыбочку Аделаиде, которая только что вышла из театра с группой студентов, победоносно опираясь на руку Тобиаса Баррето.
В этот вечер, припав своей хорошенькой головкой к груди поэта, Эужения, рыдая, изливает ему свои огорчения. Кастро Алвес обещает ей, что если этот день был днем ее муки, то следующий станет днем ее славы, такой славы, какой еще никогда не заслужила ни одна актриса в Ресифе.
И на следующий день, по окончании спектакля, сторонники Эужении Камары, бесчисленное множество студентов, чествовали Эужению. Ей подносили цветы, аплодисментам не было конца. Она возвращалась на авансцену раз, два, три, четыре раза, а ее вызывали снова и снова. Тобиас, который думал, что Эужения лежит дома с мигренью, не подготовился к этому вечеру. Еще меньше он ожидал увидеть появившегося в ложе Кастро Алвеса, а тот попросил внимания зрителей и начал свою импровизацию:
Здесь мы собрались, царица, Талант твой прекрасный почтить. К стопам твоим низко склониться, То значит — высоко вспарить, —и после того, как он высказал ей эту похвалу, он повернулся к Тобиасу, который стоял, окруженный друзьями, и, показывая на него пальцем, бросил обвинение:
Тот, кто хотел тебя унизить, Себя бесчестьем лишь покрыл.Овации следуют одна за другой. В этот вечер была очередь Аделаиде до Амарал плакать от злости, очередь Тобиаса давать клятву жестоко отомстить… Вот так, подруга, весь год и продолжалась эта театральная борьба, насыщенная более или менее удачными импровизациями. Впрочем, иногда в этих импровизациях встречались искрящиеся строки, поистине гениальные образы. Таковы были, в частности, стихи, которыми Кастро Алвес и Тобиас обменялись в один из вечеров в театре на премьере одной нашумевшей в то время пьесы. Как Аделаиде до Амарал, так и Эужения Камара были заняты в ведущих ролях. И поддерживавшие их студенческие группы готовились в этот вечер выразить свое предпочтение — каждая своей любимице. Все устремились в театр.
Два первых акта прошли спокойно. Артисты хорошо исполняли свои роли; Эужения и Аделаиде в этот вечер равно блистали. Аплодисменты разделились, народ, для которого ни одна из двух не была возлюбленной, аплодировал им обеим за талантливое исполнение. Но для Кастро Алвеса и Тобиаса, их друзей и соратников аплодисменты должны были предназначаться лишь одной из актрис. Тобиас не мог простить, чтобы возлюбленной поэта-соперника достались такие же аплодисменты, как и его богине. И когда по окончании второго акта опустился занавес, сержипец влез на стул и захлопал в ладоши, призывая внимание зрителей. Те затихли, поглядывая на него с любопытством и интересом; некоторые приготовились услышать гневную брань. Тобиас начал свою импровизацию, прямо затрагивающую Кастро Алвеса и Эужению. Его голос разносился по театру и походил на удары тяжелого кулака:
Я эллин душою и телом, С Платоном беседовать рад. При мне ведь к устам помертвелым Цикуту приблизил Сократ. Я эллин, прекрасным плененный; Мне мил и цветок благовонный И лиры певучей струна. Отвратнее грязи и тины Мне оргии пьяные Фрины — Ни разу не пил там вина.Эти слова вызвали шумные аплодисменты не только последователей Тобиаса, но и всего партера, уверенного, что мулат в своих стихах обратился к образу великой Греции. Однако сторонники Кастро Алвеса зашикали, требуя тишины. Дело в том, что в ложе появилось бледное лицо поэта, он протянул руку и, намекая на любовные похождения Аделаиде до Амарал, провозгласил:
Еврей я! И не склонюсь к ногам Жены надменной Потифара [27]…И вот так, благодаря Кастро Алвесу и Тобиасу Баррето, через их импровизированные стихи, эти две женщины с похвалой и бранью вошли на страницы бразильской литературы.
Тобиас вскоре расстался с Аделаиде — их не связывала глубокая любовь. Страстное же увлечение Кастро Алвеса продолжалось. Если бы он не испытывал сильной любви к Эужении, он не стал бы за нее бороться. Никогда он не защищал такого дела, которым не был искренне увлечен.
Полемика нашла свое продолжение в печати. Но если в поэзии Тобиас был слабее Кастро Алвеса, то в прозе обладал оружием, которое было почти недоступно нашему поэту. В Ресифе Кастро Алвес начал издавать газетку «Луз» («Свет»), чтобы противостоять идеям, которые отстаивал журнал «Ревиста Илюстрада» («Иллюстрированный журнал»), руководимый Тобиасом. Тобиас нетерпеливо ожидал появления «Луз», чтобы спор с соперником перевести в ту область, где он чувствовал себя сильнее, и, конечно, не упустил случая. Он резко напал на ориентацию газеты, а он умел нападать. Однако своей ядовитой статьи он не подписал. А Кастро Алвес не пожелал отвечать, не удостоверившись, что автором статьи был Тобиас. Он написал ему деликатное письмо, но Тобиас ответил в грубой форме{55}. Тогда Кастро Алвес дал ему отповедь в «Луз»{56}. На том и закончилась полемика, лишенная того блеска, который придавали ей огни рампы. Однако вся эта борьба, подруга, придала романтическое сияние тому 1866 году в городе Ресифе. Защищая своих дам» оба поэта, в сущности, защищали различные принципы. Культура и талант Тобиаса Баррето были ограничены временем и его тщеславным желанием возвыситься. Свободен был гений Кастро Алвеса, ибо Кастро Алвес стремился к одному — красотой своей поэзии быть полезным человечеству. Это не просто два мировоззрения, подруга. Это два различных мира.
ГЛАВА 15
Вот взгляните: Тирадентес —
Вождь толпы, ее титан.
Шире дать ему дорогу,
Здесь проходит великан.
Экзамены этого года были для поэта серьезным испытанием. Он готовился к ним, подруга, вместе с Регейро да Коста, и когда предстал перед экзаменационной комиссией, то это был его триумф: он смело возражал экзаменаторам, отстаивая свою точку зрения. Молодой преподаватель Априжио Гимараэнс, горячий спорщик, который не гнушался прибегнуть и к бранным словам, был одним из его оппонентов. Экзаменационный билет ему попался замечательный— «Светская власть папы». Свое красноречие и свою революционность ом позволял выявить обоим — и учителю и ученику. Кастро Алвес оспаривал эту власть, говорил о свободе, свободе совести и мысли. Априжио Гимараэнс в ответ процитировал строки из «Века», те, в которых говорится: «Ломается скипетр папы, из него отливается крест.
Пурпур послужит народу, чтоб голые плечи покрыть». Это были стихи ученика, и они стоили экзамена по праву. А сам экзамен, на котором горячо обсуждались самые передовые идеи века, произвел на студентов потрясающее впечатление и навсегда остался в анналах факультета. Этот молодой Кастро Алвес, у которого столько различных дел — и стихи, и аболиционистское общество, и возлюбленная, и полемика с Тобиасом, и театры, — этот Кастро Алвес находит время и на то, чтобы подготовиться и едать блестяще экзамен по праву. Возможно, подруга, из всей программы это единственный билет, который он знает. Но он знает его отлично, и он не колеблется во всеуслышание заявить, что власть папы — это оскорбление мировому прогрессу.
Возможно, подруга, что порывом, приведшим его на этот триумфальный экзамен, Кастро Алвес обязан другой победе, завоеванной им месяц назад. Дело в том, что еще в октябре Эужения должна была уехать со своей труппой. Фуртадо Коэльо отправлялся в турне по югу страны, а Эужения была связана с ним контрактом. Ее удел — сцена, но действительно ли сцена — ее судьба? Или ее судьбой будет этот молодой поэт, привязанный к Ресифе необходимостью закончить учебный год? Ей нужно уезжать, ее зовет карьера актрисы, ее ждут другие партеры, стихи других поэтов. Но дороже ли карьера его близости, и будут ли партеры столь внимательны к ней, как он, и найдет ли она поэта гениальнее?.. Тем не менее в один прекрасный день она решилась уехать. И он в отчаянии пишет ей прощальное послание, пожалуй, самую драматическую из своих поэм. Эта поэма, написанная болью сердца, может дать, подруга, ясное представление о его любви. В послании — вся история этого года в Ресифе, вся красота, вся радость, которую ему принесла Эужения. По нему можно судить, какой отпечаток наложило на судьбу поэта присутствие ее, его музы. И это рассказ о страдании, которое ждет его, если она уедет, а он останется и будет в одиночестве бродить по опустевшему и теперь мертвому для него городу. Он называет ее красивыми именами, он весь отчаянье, тоска, страх потерять любимую. Возможно, что это трагическое прощальное послание — его поэзия, могучая, как никакая другая на землях Америки, — повлияло на решение Эужении больше, чем все его просьбы, и вот Эужения осталась. Она тоже постаралась доказать ему свою любовь.
Он говорил ей, подруга; Убежище последнее! Я ныне С тобой расстаться должен навсегда. Мои надежды и мечты о счастье, Как легкий дым, исчезнут без следа. Перед судьбой, всегда ко мне враждебной, Я не склонял с покорностью колен, Хотя пути закрыты были к счастью, Хотя вся жизнь была как тяжкий плен. Но ты пришла, и я поверил в счастье, И мне не страшен стал враждебный рок. Из бедной куколки навстречу солнцу Вспорхнул золотокрылый мотылек. И мертвый ствол оделся вновь листвою, Стряхнул оковы сумрачного сна… Благословенна будь, весна святая, Моей любви счастливая весна!Как нежны были, подруга, слова, которые он тогда говорил ей: «мое последнее убежище», «весна», «раскрывшийся цветок», «звезда», «роза». Не улыбайся, подруга, ибо именно в этих стихах я научился словам, которые говорил тебе. И если придет день, когда тебя соблазнит блеск других огней и ты вдруг захочешь уехать от меня, я не брошусь, как раб, к твоим ногам, и не буду умолять тебя остаться, и не пролью слез. Я только прочту тебе, подруга, эти стихи, в которых будет радость оттого, что ты моя возлюбленная, и горе оттого, что ты собираешься покинуть меня. И я знаю, что ты останешься, как осталась Эужения, которая тоже не сумела устоять против стихов. Ты можешь не говорить мне, что никогда не уедешь отсюда и что никогда тебя не соблазнят огни других портов. Я это знаю, подруга: ты родилась морячкой, а я твой корабль, и ты не пойдешь по земным дорогам. Именно поэтому я рассказываю тебе историю поэта вечером в нашем порту. Я благодарен тебе за то, что ты меня любишь…
А он говорил ей, что как бы заново родился, как только она приехала в Ресифе. На мертвой ветке распустились цветы, гусеница превратилась в бабочку. И если, читая эти стихи, она заново перечувствовала все происшедшее в том году и если сердце ее наполнилось бесконечной сладостью от воспоминаний о незабываемых часах, проведенных с любимым, то при чтении следующих стихов о грустной судьбе ее возлюбленного сердце ее сжалось в комок:
О мой цветок! Ты дивною усладой Мне был в моем мучительном пути… Но пробил час, и нам расстаться надо: Я осужден, тебе еще цвести. Любимая! Как прежде, пред тобою Открыта жизнь в богатстве всех щедрот. А я меж тем неверною стопою Всхожу на мук последних эшафот. Разверзлось для меня могилы лоно, А твой удел, звезда, — и блеск и высь. Моей плиты надгробной с небосклона Лучом своим прощальным ты коснись!Она решила остаться. Что будет и с нею вдали от поэта? Как сложится ее жизнь, когда его уже не будет рядом в часы триумфа, в часы разочарований и в часы любви? Она была на десять лет старше его, была тщеславна и хотела сделать карьеру. Она знала жизнь и не отличалась щепетильностью. Ей не была свойственна возвышенная отрешенность поэта, а ведь для него внешние факторы не существовали. Преданный идее республики, он был далек от каких-либо эгоистичных устремлений. Другое дело Эужения: ей случалось идти на компромиссы, даже на жертвы. И это было уже второй раз, что она жертвовала чем-то важным в своей жизни ради любви к Кастро Алвесу. Но когда ради него она покинула Вериссимо Шавеса, у нее был по крайней мере контракт с труппой Фуртадо Коэльо, теперь же у нее не оставалось ничего, кроме славы принадлежать ему. Ей пришлось бросить все, чтобы остаться с Кастро Алвесом. Денег у него не было, так как в один вечер лирических серенад он тратил трехмесячное родительское пособие так же безрассудно, как это делаем и мы с тобою, негритянка, когда порой небольшие деньги попадают нам в руки. Попытка жить, не имея постоянной материальной обеспеченности, представлялась ему просто забавным приключением; он был поэт, поэт народа, бедного, ка-к он сам. Она же любила дорогие одежды, драгоценности, коляски. Все же этот бедный студент был для нее дороже всего. И она осталась.
Благодарный, растроганный этим доказательством любви, Кастро Алвес решает на этот раз не уезжать в Байю на каникулы и отдается сочинению драмы, в которой, как он мечтает, будет играть Эужения. Так он еще больше свяжет ее со своим творчеством; она станет самым романтическим из образов, которые проходили в жизни какого-либо поэта Бразилии. Он воскресит из небытия нежнейшую Марилию, горный цветок из Минас-Жераис, и сделает ее центральной фигурой пьесы, в которой будет изображена Инконфиденсия Минейра. Это как бы раскрыло Эужению для нее самой: находясь рядом с Кастро Алвесом, она попадала в центр действий, которые от него исходили. Оставаясь с ним, Эужения связывала себя с борьбой за освобождение от рабства и провозглашение республики, связывала себя с его мечтами и гениальными предвидениями. Эужения становится новой Марилией Гонзаги[28], только она полна большей лирической силы и она более сознательна и предана своей революции. В драме «Гонзага» наиболее полно проявился талант Кастро Алвеса, который родился, чтобы воспевать свободу и любовь, и жил, чтобы целиком отдаться своему искусству, не отделяя его от своей судьбы. Лирик и революционер, он соединил в «Гонзаге» весь лиризм самой пылкой любви с любовью к самой полной свободе, создал драму любви и политики, исполненную мечты об освобождении и мечты о любви{57}.
Однажды, в давние годы, подруга, далеко отсюда, в горах Минас-Жераис, люди задумали поднять восстание, чтобы освободить народ от тяжкого ига. Это была мечта поэтов, которая обрела своего героя в одном человеке из народа. Мечтали Гонзага и Алваренга Тирадентес намеревался осуществить эту мечту. То был человек, вышедший из народных масс, дантист-самоучка, лечивший негров и мулатов, ставший под конец офицером — младшим лейтенантом. То была мечта поэтов, но это было также и народное движение. Этому движению не удалось вылиться в революцию, но оно дало мучеников, которые оросили землю своей кровью ради рождения новых мечтаний. Кастро Алвес любил Инконфиденсию, как, пожалуй, ни одно другое движение из политического прошлого Бразилии. И фигура Тирадентеса не раз появлялась в его поэзии, всегда олицетворяя мужество и идеализм{58}. Он использовал образы Тирадентеса и его товарищей по заговору, чтобы создать свою пьесу. Как и следовало ожидать, он пошел дальше мечты участников Инконфиденсии. Это его надежды преломляются в пьесе, это его идеи высказывают Гонзага, Алваренга или Тирадентес: освобождение от рабства, республика. И будущий мир изображен здесь таким, каким Кастро Алвес видел его в своих мечтаниях. И так же, как его мысли отразились в этом сплаве романтизма и революции, так и в любви Марилии и Гонзаги отразилась его любовь. Любовь Эужении и Кастро Алвеса.
Укрывшись с Эуженией в уединенном домике на дороге в Жабоатан, он лихорадочно работает над этим произведением, которое увлекает его, как никакое другое. Он сможет услышать, как любимая женщина будет произносить на сцене его слова, его освободительные речи. Он оставляет рукопись только ради того, чтобы обнять возлюбленную. Они переживают самое счастливое время своей любви. Ничто не нарушает их счастья, лишь изредка друзья навещают их„чтобы прослушать написанные уже страницы драмы. Они сами редко бывают в городе, совершают лишь короткие выезды и тут же возвращаются к спокойствию этого импровизированного домашнего очага, где самые близкие их соседи цветы и птицы. Они по-настоящему счастливы — поэт, творя для своей возлюбленной, и актриса, воодушевляя его своей любовью.
Этот период, напряженной работы над драмой, однако, не был слишком плодотворным для его поэзии. За исключением десятка лирических стихотворений, которые он написал для Эужении{59}, он в 1866 году почти ничего не сочинил.
В начале 1867 года он заканчивает «Гонзагу».
Поэт намерен поставить эту драму у себя на родине — в Байе. Он думает поехать туда с Эуженией, организовать труппу, подарить своей родной провинции те первые волнения, которые, возможно, вызовет его пьеса. К этой мысли он пришел однажды вечером, когда прочитал Эужении последние страницы рукописи; вскоре этот план конкретизировался. Кастро Алвес решился уехать, и в марте он прощается с Ресифе.
И прощается самым эффектным образом. Дело Амброзио Португала дает ему повод еще раз оказаться вместе со столь полюбившимся ему народом Ресифе. Как всегда, Кастро Алвес оказывается впереди поднявшего знамя борьбы народа. Все началось с того, что студенты и простой народ освистали в Провинциальной палате несимпатичного им депутата Максимилиано Лопеса Машадо. Это выступление возглавил студент Амброзио Португал. Депутат с двумя своими братьями решил подождать студента на одном из мостов Ресифе, чтобы отомстить ему. Но народ, провожавший Амброзио Португала, отбил его и отвел нападавших в полицейское управление, где, однако, они скорее были взяты под охрану, чем арестованы. Толпа не переставала шуметь перед зданием полиции до часа ночи, и тогда стало известно, что братья Машадо уже освобождены — их выпустили через другой выход. Не имея иного оружия, народ пустил в ход булыжник мостовой и разбил стекла во всех окнах управления. В ответ последовала вооруженная расправа; конная полиция смяла толпу и под угрозой применения оружия обратила ее в бегство. Инцидент разросся и взбудоражил весь город. Повсюду слышались призывы к провозглашению республики, организовывались демонстрации… Ветер митингов и революций, ветер, который постоянно веял над охваченным идеями свободы Ресифе, теперь снова проносится по улицам. Народ поднялся на борьбу — значит поднялся и Кастро Алвес. И не раз, подруга, мы встречаем его забравшимся на какую-нибудь импровизированную трибуну, выступающим перед народом, агитирующим народ, идущим вместе с народом. В последний раз слышится его голос с трибуны в Ресифе:
Бушует произвол, в опасности свобода… И будем мы по-прежнему молчать? И я, и ты, все сыновья народа, Свои права должны здесь защищать! От имени отчизны драгоценной Сейчас мы все здесь гневно говорим. Тиран хотел закон попрать надменно. Самим народом будь, закон, храним!Стоящим на трибуне, агитирующим народ, идущим впереди него — таким видел поэта в последний раз Ресифе, город, вскормивший его своей каменной грудью, напоивший его любовью и страстью к свободе. Таким видел поэта Ресифе, закаливший сталь его шпаги, которой была поэзия, сделавший этого юношу народным гением. Во главе восстания, благородным, красивым — таким увидел его Ресифе в последний раз, когда поэт уезжал на юг проповедовать идеи, которые внушил ему этот город его мужественной юности.
ГЛАВА 16
— Девушка плачет… Избранница ваша?
— Вы угадали… На свете нет краше.
— Девушки имя? — Свобода!
Байя была тогда, подруга, гораздо менее шумным городом, чем политически насыщенный Ресифе или отданный во власть богемы Сан-Пауло. Ее высшим учебным заведением был не факультет права, где сами занятия подводили юношей к мыслям о необходимости покончить с устаревшими законами, где сами занятия способствовали брожению умов. Здесь, в Байе, существовал медицинский факультет, долгое время считавшийся в стране лучшим. И хотя его преподаватели были склонны к риторическим рассуждениям и стремились на занятиях примешивать к сложным научным терминам некоторые литературные вычурности, учащиеся все же больше налегали на занятия и меньше расхаживали по улицам и площадям. К числу тех, кто неоднократно участвовал в волнениях и даже был одним из вожаков студентов, относился дядя Кастро Алвеса — тот, о котором я тебе, подруга, уже рассказывал. Он приехал в Байю после сражений за независимость, после революции негров, связанной с происходившими в Африке мятежами. Эта, возможно, самая крупная религиозная и расовая революция негров Бразилии привела к тому, что город, наконец, понял, что у него огромное цветное население, наконец увидел, что негры тоже люди, способные восставать и бороться. В Байе тоже чувствовалась революционная атмосфера, но она исходила от бедных слоев населения, тогда как студенты да и вся интеллигенция были от нее очень далеки.
Кастро Алвес шокировал город благопристойных семейств, когда, прибыв в 1867 году в Байю, привез с собой Эужению Камару и открыто поселился с ней в гостинице. В это время в литературе провинции господствовал старый знаменитый Муниз Баррето. Посредственный поэт, автор едких и броских импровизаций{60}, благодаря которым он заслужил прозвище «бразильского Бокажа»[29], Муниз Баррето боялся конкуренции любого другого поэта, который мог бы своим ярким светом затмить тусклый свет его' звезды. Не было уже в Байе Жункейры Фрейре[30] — он умер более десяти лет назад, — а ведь только он был способен освежать литературную атмосферу этого города. Поэты Баии того времени не были даже романтиками, они не поднялись до высот Байрона и Алвареса де Азеведо. И, следовательно, были еще дальше от поэзии Кастро Алвеса, который преодолел байроновский романтизм. Очень много имен насчитывала интеллигенция Баии в 1867 году. Очень мало имен поэтов Баии того времени сохранилось для будущего. Эти поэты жили вне реальной жизни; и сегодня, подруга, мы их зовем «академиками». Их поэзия была немощна и не могла обновить современное общество ни в духовном, ни в социальном плане.
Дремлет интеллектуальная Байя, и поэзия в ней — как плохо акклиматизировавшийся оранжерейный цветок. Имена поэтов — словно медальоны с ложным блеском. Эти люди не слышат возмущенных криков народа, стонов негров в этом краю, где самое большое число темнокожих во всей Бразилии; они не чувствуют глубокой тайны, которая окутывает Байю и ее склоны, тайну, которая исходит от макумб, от коричневого цвета людей, от скопления их разномастных лачуг. Они не чувствуют и сертана — там, позади, — его буйной и суровой природы, соблазнительной для всякого подлинного поэта, сертана, полного историй, легенд и суеверий. В творчестве этих поэтов мы не найдем никаких характерных для Баии черт; их поэзия бесцельна, бесцветна и не оригинальна. Цвет земли сертана, запах, идущий из каатинг севера, лунные ночи с гитарой и серенадами — все, что характерно для поэзии Кастро Алвеса, — они, эти убогие существа, не чувствуют. Их интересует только: богата ли рифма, хорошо ли сложены стихи? Никогда до их ушей не доходил шум борьбы за независимость и отзвуки революций. Они жили, восхищаясь своим идолом Мунизом Баррето, посмеивались над его импровизациями, восторгались его порнографическими стишками. Обновляющий ветер, который веял над Сан-Пауло и ревел ураганом в Ресифе, еще не дошел до Баии, Баии врачей-риториков и весьма посредственных поэтов. Город нуждался, чтобы кто-то прибывший извне разбудил его, обновил его литературу, повел интеллигенцию на баррикады. И вот появился Кастро Алвес, подруга, и влил новую кровь в жилы своего города* Он когда-то уехал отсюда подростком, и в его ушах звучали тогда крики мятежной толпы. В Ресифе он стал мужчиной, и поэзия его проникла туда, куда она никогда не проникала прежде в Бразилии. Его стихи зазвучали на площадях, на митингах, они дошли до сензал и до тюрем. Из Ресифе в города юга — Байю, Рио-де-Жанейро, Сан-Пауло — летела воодушевляющая, радостная весть о том, что поэзия должна служить народу, стать его грозным оружием. В пропагандистском путешествии, которое с этой поры длится всю его недолгую жизнь, Байя была первой остановкой, первой крепостью, которую ему предстояло завоевать. И город, как женщина, простирает к нему руки, Байя проявляет к своему сыну нежность возлюбленной, она устилает его дорогу цветами.
Но началось пребывание Кастро Алвеса на родине со скандала. Приехав с Эуженией в город, где живет его семья — солидная и состоятельная, поэт не скрывает возлюбленную, напротив, он выставляет ее напоказ. Они занимают в гостинице комнаты, как супруги. В городе шушукаются — по углам сплетничают кумушки, раздраженно обсуждают поведение поэта последователи Муниза Баррето, ведь литературная гегемония их кумира под угрозой. Но еще больший скандал вызвало то, что поэт отвез свою возлюбленную на Боа-Виста, где прежде жила его семья, а сейчас пустовал дом. В дополнение ко всем фамильным привидениям он поселил там свою беспокойную грацию.
Вскоре вокруг Кастро Алвеса стали группироваться молодые поэты города, хотя гораздо больше, чем литераторы, им восхищался народ. Поэт Мело Мораис Фильо[31], который изучал тогда медицину на знаменитом факультете, сделался его закадычным другом. И Эужения тоже заполняла ему жизнь не одной лишь любовью. Она требовала, чтобы по вечерам он приводил в свой огромный дом друзей распугивать привидения. Приходило много молодых людей, они декламировали, спорили об искусстве, политике, о театре. Эужения воодушевляла собрания своим присутствием, принимала участие в спорах; поэт, подруга, ее многому научил. Они начинают создавать труппу, которая поставила бы «Гонзагу» и в которой первой актрисой была бы Эужения. Поэт и чиновник Элизиарио Лапа Пинто должен был играть роль первого любовника. Впоследствии он и сыграл Гонзагу, и неплохо, хотя внешность его не совсем подходила для этой роли.
Поэт передал свою пьесу на рассмотрение Драматической консерватории. Чтение пьесы проходило при переполненной аудитории и вызвало всеобщий интерес. Жюри дало ей весьма высокую оценку. Впрочем, один из членов жюри остался при особом мнении и сделал ряд замечаний. Кастро Алвесу это было неприятно; он почувствовал, что — старая, апатичная литература города старается повредить ему, хочет помешать его влиянию. Но как они могут помешать ему, подруга, если в день Второго июля, крупнейшего баиянского праздника, он с неописуемым воодушевлением, с сердцем, полным любви к Эужении, встает в ложе театра, чтобы декламировать свои стихи? Это его первый публичный успех в Байе. Никогда театр Сан-Жоан, нривыкший к сладеньким речитативам Муниза Баррето, не слыхал подобного голоса, голоса, что провозглашал сейчас неведомые еще народу Баии идеи, голоса, который не только воспевал, но и призывал:
Час великих эпопей, Илиад и Одиссей. Схороненное в веках Оживет в людских сердцах. Полубог, титан, герой Снова ринутся на бой.И народ идет за ним. Охотно присутствует на его вечерах, которые после чтения стихов переходят в митинги. Баиянская публика привыкает к тому, что этот бледный молодой человек, одетый в черное, с большими черными глазами и нервными руками, появляется в ложе и бросает в публику пламенные слова. Но третьего августа в том же театре декламирует уже не он. На этот раз он делит свой триумф с любимой. Эужения читает его поэму «Книга и Америка», и поэма сразу же в глазах всех жителей Баии делает Кастро Алвеса гением. Студенты восторженно приветствуют его. Эта поэма, полная неожиданных образов, поэма о прогрессе, о новейших идеях века, восхваляющая книгу и культуру, громящая обскурантизм, очаровала всех, ибо она открыла новый мир. Поэт провидит в ней, подруга, великие судьбы Америки. Кастро Алвес указывает и путь к тому — путь культуры, свободы. Но это не путь искусства для искусства, что избрала Греция периода упадка:
Твой путь приводит не в Элладу С великолепьем мраморных колонн. И мертвым божествам совсем. не надо Еще один воздвигнуть пантеон.И не путь императорского Рима в прошлом и настоящем:
Твой путь, обычай давний нарушая, Не приведет тебя в жестокий Рим. Народы покоренные терзая, Кичится он могуществом своим.И не путь феодальной Германии вчера и сегодня:
И пусть твой путь прошел бы стороною, Германии бы землю миновал. Там в замках за зубчатою стеною Еще царит свирепый феодал.Нет, говорит поэт, идти в будущее — значит идти к свободе. Значит идти с книгой, как с оружием, ведь «книга — это смелый воин». В некоторых из этих стихов, обращенных к молодежи всей земли, он, говоря о задаче юношей, как бы говорит о самом себе, о своей миссии:
Раскройте пред народом храмы знанья И мысль освободите от оков! Все ближе революции дыханье, И все слышнее звук ее шагов.Ведь его назначение в жизни — это прокладывать путь народным массам.
Весь этот год он открывает дороги, прокладывает новые пути. Он завоевывает Байю, теперь вокруг него уже много талантливых молодых людей… Тридцать первого октября он снова перед народом. На этот раз он читает возвышенную поэму, красноречивую, без риторической напыщенности, поэму отличного стиля без демагогии. Он читает эту поэму в Португальской читальне в пользу семей солдат, погибших на войне. Впервые Кастро Алвес говорит о себе и о своей поэзии с гордым сознанием собственной ценности; и это отнюдь не выглядит тщеславным:
В моих стихах пою героев славу, Хотя я сам ничтожен, слаб и мал. Так Анды в красоте их величавой Долины житель, верно б, воспевал.Таким он был на самом деле, подруга. Он принес в свою поэзию величие природы и чувств. Он видел далеко — он видел Анды, высочайшие вершины, и далекие мечты. Он видел будущее, моя негритянка.
Он никогда ни для кого не просил милостыни в своих стихах, он требовал воздать должное детям тех, кто отправился умирать «на просторах пампы в мрачном краю». Его слова никогда не забудутся. Байя стала другой после того, как он прошел по ее улицам. В этом году он обновил поэзию своего родного края, он перенес свой город в будущее своего века. В 1867 году, подруга, он — это цивилизация и прогресс, поэзия и революция, расхаживающие по чернокаменным улицам города Байя, города Всех Святых и поэта Кастро Алвеса.
* * *
В июне труппа успешно дебютировала. И хотя она была составлена частью из любителей, все же живости и таланта Эужении Камары оказалось достаточно, чтобы обеспечить труппе успех. А седьмого сентября, в день национального праздника Бразилии[32], состоялась премьера «Гонзаги». Присутствовали, помимо президента провинции, многие выдающиеся деятели Баии, литераторы и студенты, представители народных масс. На сцене Эужения — очаровательная Марилия, произносящая любовные монологи с абсолютной естественностью. Да и чем была эта драма в ее лирической части, как не историей самой Эужении и Кастро Алвеса? Эти слова, которые она сейчас повторяла на сцене, — сколько раз они обменивались ими в домике на окраине Ресифе или Боа-Висте в Байе? Но не только гимн любви — по знаменитому театру Сан-Жоан разносились слова об освобождении от рабства. После первого акта публика потребовала, чтобы автор вышел на сцену. Зрители хотели своими аплодисментами показать ему, как хорошо они прочувствовали и поняли все, чему он их учит. И так в конце каждого акта он должен был выходить на авансцену и получать аплодисменты{61}. Наконец, по окончании представления, местные молодые поэты устроили в его честь банкет. Кастро Алвес был увенчан лавровым венком с надписью на ленте: «Гению». Читались стихотворения, посвященные герою вечера. Его успех был не столько успехом Эужении, сколько успехом его идей — идей освобождения рабов, республики, свободы. А на улице поэта ожидала толпа; теперь очередь была за народом. И народ поднимает его на плечи, проходит с ним по улицам Баии, несет его до дому. Народ начинает ему платить своей солидарностью, подруга.
Этот триумф повторяется на представлении «Гонзаги», на бенефисе Эужении. Потом актриса покидает труппу, чтобы перейти в другой театр — «Жиназио Бонфим», который был спешно создан для нее специально. И вот наступают последние дни их пребывания в Байе. Кастро Алвес чувствует, что он не должен больше заставлять любимую приносить ему в жертву свою карьеру, он понимает, что надо везти ее на юг, где есть хорошие труппы, которые могут предоставить актрисе лучшие возможности. К тому же и он ведь должен продолжать свою проповедь. Байя уже завоевана, теперь его ждут Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло.
ГЛАВА 17
Сердца пробуди же, о голос титана,
От Анд прозвучи и до вод океана!
Его уделом, подруга, было пробуждать души. Во чреве судна он отправляется со своей любимой на завоевание юга. Он ожидает, что его драма и стихи и в Рио-де-Жанейро и в Сан-Пауло будут иметь такой же успех, как в Ресифе и Байе.
Эужения тоже едет с уверенностью в успехе — ведь на юге театральная жизнь сильнее развита и публика принимает артистов лучше, чем на севере. К тому же тамошние театры ей знакомы; она там играла, получала аплодисменты, похвальные рецензии и поэмы, в которых воспевались ее внешность и талант. Еще большего она ожидала от посещения этих городов теперь, когда едет вместе с Кастро Алвесом.
Действительно, газеты Рио-де-Жанейро уже печатали поэмы Кастро Алвеса, слава его стихов и созданная им поэтическая школа уже не были новостью для интеллигенции Рио. А в Сан-Пауло Фагундес Варела взялся за распространение его аболиционистских произведений, декламируя друзьям изумительные стихи баиянского поэта, который увлек за собою город Ресифе. Именно Фагундес привез в Сан-Пауло весть о том, что в романтизме возник новый могучий голос, который служит новым идеям. И Сан-Пауло с нетерпением ожидал поэта, чтобы вместе с ним окунуться в атмосферу социальной и политической борьбы.
В Рио-де-Жанейро, подруга, в то время пользовались известностью два больших писателя. Один — это Жозе де Аленкар[33], другой — Машадо де Ассис[34]. Жозе де Аленкар завоевал наибольшую славу как прозаик и поэт, возглавивший целую поэтическую школу. Ее представители писали поэмы редкой звучности и рассказывали в них истории из жизни туземцев. Если огромным было значение Жозе де Аленкар для бразильского романа, то не меньшим был и его личный престиж. В глазах публики он был крупнейшей интеллектуальной фигурой Бразилии. Романист, драматург, журналист, он восхищал и избранное общество и простой народ. Его слово воспринималось как закон. Этот человек, занявший выдающееся место в истории бразильской литературы, относился ко всему новому и талантливому с пониманием и восхищением. Он был достаточно могуч, чтобы не опасаться соперников.
Когда по дороге в Сан-Пауло Кастро Алвес заехал в Рио-де-Жанейро, он рассчитывал, подруга, поставить там «Гонзагу» и завоевать народ Рио-де-Жанейро для новой поэзии, которую привез из Ресифе и Баии. Его принимает в Тижуке[35] Жозе де Аленкар. Романист из Сеары встречает его весьма приветливо{62}. Отныне его дом открыт для кондорского поэта, и тот чувствует себя здесь, как у себя. Все, что было в Аленкаре поэтического, все, что было в нем от высокой поэзии, — все поддалось очарованию стихов и драмы Кастро Алвеса, которая так же напоена поэзией, как и романы сеаренца о туземцах. Это была встреча двух самых значительных школ бразильской литературы, поэзии негра и поэзии индейца. Сделав индейца основным действующим лицом своих произведений, Аленкар добивался восстановления его в своих правах. Кастро Алвес же хотел больше чем восстановления прав — он добивался освобождения негра, выведя его в своих стихах на арену национально-освободительной борьбы. Герои двух рас, подруга, два литератора должны были найти взаимопонимание и полюбить друг друга.
Кастро Алвес прочитал Аленкару свою драму и некоторые поэмы{63}. Аленкар жил на высотах Тижуки, откуда открывался грандиозный пейзаж, что помогало прочувствовать эти стихи, в которых отражались природа севера, страдания людей, надежда на лучшие дни. Аленкар был растроган, почувствовав, что перед ним незаурядный талант. И, сообразно своей живой натуре, он решил немедленно опубликовать произведения поэта, познакомить с ними публику. Аленкар отправляет Кастро Алвеса к Машадо де Ассис, который тоже может повлиять на судьбу писателя. Он дает ему письмо к Машадо{64}, которое несколько дней спустя будет опубликовано и прикует к поэту внимание всего Рио-де-Жанейро.
В день карнавала, когда народ поет и танцует на улицах, Машадо приходит к Кастро Алвесу в гостиницу, где поэт и Эужения прячут свою любовь. Машадо выслушивает драму, стихи. И даже этот сдержанный человек с недоверчивым и тяжелым характером соблазняется новой поэзией с севера. Без избытка чувств, свойственного Аленкару, без его стремительности, романист из Рио-де-Жанейро разбирает творчество Кастро Алвеса в своем письме к Аленкару. Он не удерживается временами и от менторского тона, но все же Кастро Алвес завоевал восхищение даже этого человека, столь далекого от основных тем его поэзии, — это один из крупных успехов молодого поэта. Ответное письмо Машадо де Ассис Аленкару было также опубликовано{65}. И пресса Рио-де-Жанейро широко открыла свои страницы для поэта. Литературные круги приняли его в свою среду, ведь он был рекомендован двумя самыми уважаемыми представителями признанной литературы. Повсюду приветствовали его талант, декламировали его стихи, печатали их в газетах. Ему подражали{66}, поэзия его стала господствующей. Эмилио Залуар, поэт, который уже посвящал стихи Эужении Камаре, теперь устроил банкет в честь Кастро Алвеса. На нем присутствовали самые известные литераторы.
Поэта поселил у себя Луис Корнелио дос Сантос, его друг по Ресифе, учившийся там с ним на одном курсе. Однако его подлинным очагом в Рио-де-Жанейро была гостиница, где жила Эужения. Там он проводил свои вечера. Днем же почти все время он бывал в редакции газеты «Диарио до Рио-де-Жанейро», где читал «Гонзагу» многочисленной аудитории. Хотя драма пользуется большим успехом у литераторов, Фуртадо Коэльо отказывается поставить ее на сцене. Возможно, подруга, что выдающийся актер так и не простил поэту, что тот забрал у него первую актрису, которая была к тому же матерью его дочери. И теперь он воспользовался возможностью отомстить. Кастро Алвес решает уехать отсюда в Сан-Пауло.
Однако ему еще остается самое главное — вступить и здесь в общение с народом. Он имел в Рио успех среди интеллигенции, в прессе, у артистов. Теперь следовало донести свое искусство до простого народа.
И вот, прежде чем уехать, подруга, — в день, когда город отмечает празднествами и уличными шествиями победу при Умаите[36], — он появляется на балконе редакции «Диарио до Рио-де-Жанейро», очень бледный и очень красивый, и декламирует для толпы, которая проходит по улицам. И народ Рио-де-Жанейро приветствует его такими же горячими аплодисментами, как в Байе и Ресифе. Этот народ привык к поэзии Казимиро де Абреу, который в красивых строфах оплакивал любовь, и сейчас голос, который принесся с севера, звучит для него, как горн, как барабанный бой, этот замечательный мужественный голос:
От вольных кондоров я жду ответа, Свободный ветер пусть ответит мне; За что и кем ведется битва эта И чьи знамена реют в вышине? Идут на битву строем легионы: То на тирана двинулся народ. Форты штурмует он и бастионы, — Уже насилья зыблется оплот. И вот кровавый деспот уступает: Его сломил народ своим мечом. Так пусть теперь свобода воссияет, Как солнце в этом небе голубом!Летящий с севера кондор попадает, подруга, в объятья народа. Такова его судьба, здесь, там, и дальше, на севере и на юге, вчера, сегодня и завтра.
ГЛАВА 18
Куда бы ни был я судьбой заброшен,
Тебя, Сан-Пауло, мне не забыть…
Солнце, встречая поэта, освещает улицы Сан-Пауло, моя негритянка. По этим улицам ступали великие люди, под сводами его факультета права звучали самые выдающиеся голоса Бразилии. Три таких имени, подруга, ты можешь прочесть на мемориальных досках, которые студенты укрепили впоследствии на стенах этого дома знания: Алварес де Азеведо, Фагундес Варела и Кастро Алвес. Вокруг этих имен объединились многие другие, и из Сан-Пауло по всей Бразилии разносились песни любви и свободы, самые нежные и самые сильные.
При Алваресе де Азеведо Сан-Пауло переживал период романтики, эпоху галлюцинаций. Его гений создал особую атмосферу в этом городе, где безраздельно господствовала романтическая литература. Появившийся позднее Фагундес Варела укрепил эту славу города — студенты в тавернах, студенты, ведущие женщин по улицам, чтобы уединиться с ними на кладбищах, — таковы типичные картины того времени. Самоубийство в двадцать лет после осознания мира красоты — такова примерно была формула жизни, которую поэты создали для Сан-Пауло. Зимний холод города зовет к теплу в тавернах. Байрон зовет к безрассудству, к самым невероятным безумствам. Окружающий мир перестает существовать. Студенты и поэты, которые верховодят ими, живут в далекой от реальности обстановке. У факультета — фантасмагорический вид, это храм новой религии: байронизма. В мертвые вечера тишину нарушает серенада. Дамам, прячущимся за жалюзи, читают романтические стихи, молящие о любви. И ночью не прекращаются жалобы на неблагодарность возлюбленной. Студентов ждут таверны; дома терпимости страшны, как демонические строфы Байрона. И в тавернах и в домах терпимости поэты ищут смерть — последнюю и самую желанную из возлюбленных. Если один город Сан-Пауло, буржуазный и спокойный, засыпает, когда колокол прозвонит девять часов, другой Сан-Пауло, сатанинский и юный, впрочем постаревший от литературных разочарований, с хохотом и драками беснуется на улицах{67}. Но вот внезапно наступает тишина, подруга, и над всей этой грязью, над всем этим пороком поднимается голос. Он декламирует:
Когда, влекомый неизвестной далью, Впервые край родной я покидал, В твоих глазах, исполненных печалью, Я жемчуг слез, подруга, увидал.Этот голос смывает грязь с улиц, очищает души, увязшие в болоте.
А порой слышится другой голос, подруга, он поет для бедняжки, молоденькой девушки, которую нужда заставила торговать своим телом.
О девочка! Цветком благоуханным Тебя создал небесный садовод. Зачем судьбы решеньем злым и странным Ты жить обречена на дне болот?Таковы, моя негритянка, все эти студенты с сердцами, полными печали, которую они почерпнули у Байрона, с головою, полной блестящих образов.
Это романтическое поколение, которое почти не соприкасалось с действительностью и которое жило в мире грез, — это поколение превратило факультет права в Сан-Пауло на известный период в самую знаменитую в стране башню из слоновой кости. Башню поразительной красоты, но не от мира сего! С ее высоты поэты не видели повседневной, зачастую трагической жизни. И опьяненный созерцанием своих поэтов, усыпленный их голосами самоубийц, Сан-Пауло почти не слышал того, другого голоса, который, возможно, был тише, но уже указывал новые пути, — голоса Педро Луиса{68}. Этот поэт хотел, чтобы в его поэзии звучали мотивы не бесплодные и бесполезные для счастья людей. Но его голос не был достаточно мощным, чтобы заглушить благозвучную симфонию романтических голосов Алвареса и Фагундеса. И Сан-Пауло не проснулся, он продолжал убаюкивать себя проникнутыми отчаянием стихами, и они были трагической колыбельной песнью для этого сонного гиганта. В его огромном сердце было много места для самых высоких чувств, его могучие руки обладали силой, способной разорвать и самые крепкие цепи рабства. Но нужно было, чтобы его разбудил чей-то голос, подсказал ему, что в мире много страдания и что миссия Сан-Пауло — принести людям радость.
Кастро Алвес поет в Сан-Пауло свою пробуждающую песню. И гимн его, в котором говорится о пробивающемся рассвете, о заре свободы, о надежде на будущее, преображает Сан-Пауло. Его присутствие и его деятельность вызывают в большом городе юга интерес к социальным и политическим проблемам. После Кастро Алвеса факультеты права в Ресифе и Сан-Пауло уже ничем не отличаются друг от друга. В них одинаково свободно дышится, в них воздух пропитан идеями, в них студенты смешиваются с толпой и лучшие представители студенчества способствуют развитию наиболее благородных социальных движений. В Кастро Алвесе Сан-Пауло найдет человека, стремящегося к разрешению самых насущных политических проблем, уходящего от грез, которые приводят только к господству исступленного воображения. В тепле симпатии, которой окружит его Сан-Пауло, Кастро Алвес напишет лучшие из своих аболиционистских и республиканских стихов. Если в мире возможно подлинное взаимопонимание, то таким примером были Кастро Алвес и Сан-Пауло.
Этот город, подруга, ему не пришлось завоевывать. Поэт не прошел неизвестным по его улицам, неведомый для всех, как это было два года тому назад в Ресифе. Он не встретил, как это было в Байе, недоброжелательства со стороны окопавшейся группы интеллигенции. В Сан-Пауло он нашел только ласку и восхищение, встретил людей, стремящихся поскорее услышать его слова, ожидающих поэта, чтобы последовать за ним, жаждущих найти в его стихах те слова, которые никогда не уйдут из их сердца, слова любви к народу и к свободе.
В Сан-Пауло он приехал прославившимся; ему было еще только двадцать лет, но его уже считали гением. Еще до его прибытия здесь слышали о восторженной реакции толпы в Ресифе, об аплодисментах народа в Байе, о его литературном успехе в Рио-де-Жанейро. Было уже известно, что этот юноша затрагивает в горячих стихах проблемы, которые в то время многие даже не представляли себе возможным обсуждать, Фагундес Варела декламировал на одной из своих последних ночных оргий в Сан-Пауло стихи поэта, в которых было требование освобождения рабов и воспевалась любовь. Письма Ален-* кара и Машадо де Ассис о поэзии и драматургии Кастро Алвеса тоже нашли отклик среди студентов. Поэта ожидали, зная уже, кто он, какова его ценность, его значение. И все же, подруга, сколь высоко ни было мнение, которое создалось о нем в Сан-Пауло, ему пришлось удивить город, настолько большой силы достигли тогда его поэмы. Более того, в Сан-Пауло ему предстояло вырасти, стать еще выше. На этой новой трибуне его голос получит резонанс, которого до того ему получать не доводилось. Ибо в Сан-Пауло, подруга, он переживет свои самые большие дни радости и горя. В Сан-Пауло его ждут самые крупные триумфы, но здесь его ожидает и горе — уход Эужении, любви всей его жизни, здесь начало его агонии. В Сан-Пауло жизнь откроется ему во всей полноте, в величии радости и в величии горя. Юноша, который совсем недавно прибыл в Ресифе, чтобы уехать оттуда двадцатилетним мужчиной, теперь проживет за один год в Сан-Пауло целую жизнь, полную самых драматических мгновений. Он увидит у своих ног в Сан-Пауло юных прекрасных женщин, которые будут искать его любви. Но он увидит также, как его возлюбленная уйдет от него, чтобы избрать другие пути. Народный вождь, он увидит за собою в Сан-Пауло волнующуюся, победоносную толпу. Но он увидит также, подруга, что его жизнь уже подходит к концу, что его легкие поражены «в кипении страстей», и поймет, что его так громко звучащий голос скоро умолкнет. Сан-Пауло — это его величайший триумф, но это и его агония.
Сан-Пауло сумел полюбить его, понять и приласкать и стал величайшим периодом его славы. И Сан-Пауло превратился в самого деликатного из друзей, когда его любимец пал, пораженный недугом. Сан-Пауло был нежен, ласков и добр. И когда Кастро Алвес уехал в другие края, лишившись любви и потеряв здоровье, он унес в сердце тоску по любимому городу:
Сан-Пауло, навеки сохраню я Твой образ милый в памяти моей. Забыть возможно ль сладость поцелуя, Любовь твоих прекрасных дочерей?Этот столь волнующий период в Сан-Пауло, подруга, самое значительное время в жизни поэта. Потому что в Сан-Пауло, моя негритянка, он написал для всех нас «Голоса Африки» и «Негритянский корабль».
ГЛАВА 19
…Изменят звезды, угасая,
Изменят волны, опадая,
Изменит радость юных дней.
Одни лишь только прочны узы:
Те, что меня связали с Музой —
С подругой верною моей!..
Женщины, моя подруга, буквально затормошили французов-парикмахеров, у которых были заведения в Сан-Пауло, они замучили портных — всем хотелось иметь новые красивые платья, невиданные прически. В этот вечер «Юридический архив», журнал факультета права, принимал в зале «Конкордия» поэта Кастро Алвеса. Поговаривали, что этот баиянский юноша удивительно красив, что у него романтический и одновременно спортивный облик, что он поэт и охотник, любитель скакать на самых резвых лошадях, любит женщин со страстью Дон-Жуана. Разве не потеряла голову, увлекшись им, Эужения Камара, самая знаменитая актриса страны? Разве не жили они жизнью, скандальной в глазах общества? Разве всепоглощающей чувственностью не были наполнены его стихи? Женщины Ресифе и Баии стремились в его объятья и готовы были припасть к его устам, едва увидев поэта, едва только он говорил им первые слова. Ему было всего двадцать лет, он был пылок, как юноша, и утончен, как уже много познавший в жизни человек.
Его романтическая, богемная и в то же время революционная фигура привлекала женщин, пленяла их. Он то читал стихи об освобождении рабов, бросая зажигательные призывы, то слагал нежные любовные стихи. И романсы на его слова{69} распевались на семейных вечерах под аккомпанемент рояля. Так или иначе, он увлекал за собою целый кортеж женщин. Говорили, что он как молодой бог{70}, что невозможно устоять против его очарования. И вот забегали портнихи, засуетились парикмахеры, подгоняемые нетерпеливыми сан-пауловскими дамами. Даже супруга английского консула, увлекавшаяся спортом и поэзией, обновила к этому вечеру свой туалет, чтобы, познакомившись с поэтом, очаровать его.
Мужчины тоже ожидали его с нетерпением. Едва только поэт прибыл в Сан-Пауло, как все уже узнали о нем. Узнали, что он не воспевает смерть и не оплакивает свое рождение — как это было принято, — а воспевает жизнь, любовь, говорит о рабстве негров, о рабстве белых, об освобождении тех и других. Поэт, прибывший в город, который Алварес де Азеведо и Фагундес Варела заворожили своими печальными, а порою сатанинскими голосами, привез сюда еще неведомое здесь искусство. Правда ли то, что о нем рассказывают? Что в Ресифе он был вожаком толпы и выступал на площадях и с балконов, что он вызывал беспорядки в театрах, защищая свою даму, что подстрекал к мятежам на улицах, защищая свободу? Что он основал общество для освобождения негров и содействия беглецам? Что он создал новую поэтическую школу, романтическую и освободительную, которая была как кондор, высоко парящий в небе, почему студенты Ресифе и называли эту школу кондорской? Что он взбудоражил Байю, избавил ее от бесполезной риторики, втянул ее интеллигенцию в кампанию за освобождение рабов? Что во время чтения стихов он казался вождем народа? Многое говорили об этом баиянце с высоким лбом и черными глазами. Но ему ведь только двадцать лет, он почти мальчик. Нет ли преувеличения во всех этих рассказах? Богатому и могущественному Сан-Пауло уже случалось испытывать разочарование, сталкиваясь с ложным гением, который выдает медную монету за золотую. Поэтому Сан-Пауло стал недоверчив и угрюм. Но когда монета — золотая и гений — настоящий, Сан-Пауло наполняется радостью и воодушевлением. Сегодня Сан-Пауло, подруга, будет судить, золотой или медный гений Кастро Алвеса.
Что сможет сказать поэт этому городу? И здесь провинция, много миллионеров, счастливых своим благосостоянием, их фазенды полны рабов, их политические деятели господствуют в империи. Что-то он скажет Сан-Пауло? Будет ли он воспевать город и его жизнь, его богатство, политое потом и кровью негров?
Студенты ожидают. В эхе под сводами факультета права как будто перекликаются раздававшиеся здесь когда-либо голоса поэтов. Что скажет сегодня этот поэт, не фальшив ли его гений?
В зале «Конкордия» не слишком много мест. Дамы расселись в первых рядах, но все же многим из них не досталось места, а студенты почти все стоят, ибо публики оказалось больше, чем предполагалось. Люди набились и в коридорах; поэт с трудом пробрался среди них… В публике—.элегантная Эужения Камара, на которую показывают пальцами; она волнуется за своего любимого.
И вот он появляется. Женщины подталкивают друг друга локтями: «Это он». Они не обманулись в своих ожиданиях. Поэт в самом деле красив, его красота полна мужественности и таит в себе соблазны. Они сразу очарованы и пленены, они уже не сомневаются в нем, как в поэте. И презрение, подруга, с которым они искоса поглядывают на Эужеиию, проистекает в известной степени от раздражения, что сердце молодого поэта досталось ей.
В зале профессора и студенты, адвокаты, известные актеры, которые сегодня отказались от спектакля ради того, чтобы слушать Кастро Алвеса, видные общественные деятели, один из которых, падре Шико, впоследствии станет нежным братом милосердия для поэта.
До Кастро Алвеса выступили другие поэты. Их слушали молча, им скупо аплодировали; нетерпение услышать поэта с севера было слишком велико, чтобы публику могли пленить эти стихи. Глаза собравшихся не отрывались от бледного лица нового для Сан-Пауло поэта. И когда он проходил на трибуну, трепет пробегал по телу женщин, которые уже жаждали его триумфа. Еще больший интерес проявляли мужчины. Они подались вперед, стараясь не пропустить ни единого слова. Но напрасны их опасения— этот голос доходит до всех углов даже самого обширного зала и вырывается из него на улицу; этот голос привык взывать к толпе на площадях. Между тем начинает он вполголоса:
Когда, в ночном тумане цепенея, Земля покоится в могильном сне И свод небес, как купол мавзолея, Над ней повис в беззвездной вышине, Тогда звучит в ночи зловещий стон…И голос поэта, как клич, пробуждающий сознание, поднимается и вот уже господствует над всем залом; он вызывает призраки героев прошлого, чьи славные саваны забрызганы грязью рабства, чей сон нарушается стоном невольников. Первые стихи, которые поэт прочитал в Сан-Пауло, подруга, были те, где великие мертвецы Бразилии бросают страшные обвинения в лицо живым, всем, кто закрывает глаза на преступление рабства. Его первая задача — через восстание освободить негров. И в зале появляются страшные и прекрасные мертвецы, поднятые из могил голосом невольничьего поэта. Появляется Педро Иво, герой Пернамбуко. На своем черном коне проносится сквозь залу этот мятежный призрак, он бежит от страшного зрелища сензал, где стариков избивают кнутами, а девушек принуждают к проституции. Появляется Тирадентес на виселице, с лицом Христа и ярко-красными губами. С его волос течет кровь, но на лице сияют звезды. Его глаза всегда обращены к свободе, они взирают с виселицы на рабство черной расы. Появляется Андрада, тот, что обеспечил стране независимость, тот, что воспитал народ, тот, «что — держит народ в мощной руке»; он тоже взирает на белых воронов, которые кормятся черным мясом.
«От бледной луны к неизбежному зареву» проходят они по залу, подруга, вызывая трепет у взволнованных женщин, мятежное волнение у мужчин. Со сжатыми кулаками и гордо поднятой головой проходит Андрада. Есть народ, подруга, который надо освободить, раса, которую надо вырвать из неволи. Сан-Пауло знает это, тот Сан-Пауло, который разбогател на рабской крови. Однако громче, чем богатство Сан-Пауло, голос поэта. И по окончании этого торжественного парада мертвецов нет в этом вале, подруга, как не будет и во всем городе, ни одного сердца, которое бы не болело за участь рабов, и ни одной руки, которая бы не поднялась в стремлении порвать оковы невольников. «По бесконечности скача, туда уносятся» призраки, исчезающие из залы. Но что с того, раз здесь остался поэт, раз Кастро Алвес здесь, чтобы вести их за собою?
Все стоят и аплодируют. И главное, подруга, стоят{71}. Сан-Пауло радуется, что гений поэта оказался чистым золотом. С этого дня Кастро Алвес — любимец студентов, и преподаватели с Жозе Бонифасио во главе — его друзья. Жозе Бонифасио под руку с поэтом проходит по улицам Сан-Пауло, они беседуют о текущих проблемах, о прогрессе, о мировоззрении молодежи. Друзья по Ресифе, в частности Руй Барбоза, не оставляют его. Набуко стал его товарищем с того дня, как Кастро Алвес прочитал «Гонзагу». Бразилио Машадо — известный юрист — тоже его лучший друг. Падре Шико питает к нему отеческую привязанность, И студенты идут за ним, они убегают с занятий, чтобы слушать его, тем более что им есть чему у него поучиться{72}. Он читает «Гонзагу» в присутствии всех студентов, в присутствии театральных и общественных деятелей, и ему всюду сопутствует успех. Жоаким Аугусто решает поставить драму в своей труппе, где уже работает Эужения. На этом вечере, где читалась «Гонзага», аудитория потребовала повторения стихов, которыми заканчивается драма, и Жоаким Набуко продекламировал их с воодушевлением.
За Кастро Алвесом ходят по улице, на него показывают, он идол молодежи. Сан-Пауло переживает интеллектуальное возрождение. Поэт Кастро Алвес внес в дискуссии студентов, в разговоры и мужчин и женщин темы освобождения от рабства и создания республики.
Второго июля, в день, когда Байя в борьбе за независимость победила последних португальцев он выступает в театре. Перед чтением стихов он в кратком вступлении излагает свои мысли о единстве Бразилии, он говорит, что страна так велика и расы в ней так перемешаны, что, в сущности, это один народ с одинаковыми чаяниями и чувствами. Для него Бразилия едина; славные дела севера — слава и для юга, подвиги людей Сан-Пауло принадлежат одинаково южанам и жителям северо-востока{73}. В этот вечер он заслужил еще один крупнейший общественный триумф. Душа народа Сан-Пауло была взволнована стихами, в которых поэт с грубой силой описывает битву в Кабрито. Два других северянина, один из Пернамбуко, другой из Баии, тоже высокие умы страны, прочитали стихи, посвященные этой памятной дате, — то были Жоаким Набуко и Руй Барбоза{74}. Им тоже аплодировали с воодушевлением, и тем не менее это было далеко от того, как встречали Кастро Алвеса, — его прерывали на каждой строфе аплодисментами и выкриками, от которых, казалось, вот-вот обрушится свод театра. Декламация «Оды Второму Июля» затянулась, подруга, надолго, так как переполнившая театр публика аплодировала каждому смелому образу, каждому из этих мужественных стихов, в которых слышались шумы сражения. Волнующие звуки горна, зовущего к наступлению, топот коней, пронзительный свист пуль, грохот орудий — вот что слышалось в этих стихотворениях. Это, подруга, он любил изображать: два народа, один против другого на поле битвы. Но не только два народа: два мировоззрения. Мировоззрение господина, хозяина, того, кто хотел бы продлить свое господство. И мировоззрение народа, того, кто борется за свое политическое освобождение, за свою независимость. Народ, разорвавший оковы рабства, и Португалия, стремящаяся продлить обладание Бразилией, как гигантским рабом. И в Париже и на холмах Кабрито близ Баии свобода и рабство, прошлое и будущее встретились в смертельной схватке.
Второго то было июля. На холмах Баии шел бой. И смерть там скосила немало Своею кровавой косой. Следя за борьбой исполинов, Сомненьем томился народ: Кого увенчает победа? Который из двух упадет?Чтобы описать судьбу сражения, которая была и судьбой народа, поэт обратился, моя негритянка, к ночи и небесным светилам. И те смогли увидеть, что творилось на полях Баии:
Кипела там грозная битва, Ее не вели два народа: Грядущее с прошлым сражалось, И с рабством боролась свобода.Это была битва не на жизнь, а на смерть, последнее отчаянное усилие хозяев колониальной страны сохранить ее за собой как фазенду и отчаянное усилие свободных сыновей земли сделать ее независимой. Народу Сан-Пауло он рассказал об этом в стихах, и они остались, как самое совершенное на португальском языке описание этого сражения:
В дыму колыхались знамена. Как гневная стая орлов; Оделось зеленое поле В наряд из кровавых цветов. Казалось, сам ангел победы Смущен и не может решить: Кому же из двух исполинов Венок на чело водрузить?Но победа, подруга, осталась за народом, который сражался за свою землю, за свою независимость, за свою свободу. Ах, свобода, подруга! Мечта Кастро Алвеса, его возлюбленная, его невеста, сестра, любовница! Свобода — это то слово, которое он чаще всего употреблял в своей поэзии, которое окружал самыми красивыми эпитетами, которое было главным в его лучших стихах. Ни одна женщина — ни Леонидия, ни Эстер, ни даже Эужения Камара — не заслужила от него таких возвышенных образов, пронизанных такой неистребимой любовью:
Когда же на небе бесстрастном Вечерние звезды зажглись, Над полем сраженья затихшим Такие слова раздались: — Свобода! Ты здесь одержала Одну из славнейших побед. Грядущего символ! Царица! Любимица солнца, привет!И как Кастро Алвес был в Бразилии прообразом солнца и будущего, так и свобода являлась его невестой и супругой. Он был ее возлюбленным.
В академическом и восторженном Сан-Пауло поэт одерживает триумф за триумфом. На празднике в честь героев войны с Парагваем он прочитал «Кошмар в Умаите», те стихи, что не так давно наэлектризовали толпу в Рио-де-Жанейро. Он сотрудничал в газетах, вел переговоры о постановке «Гонзаги», писал любовные стихи и мятежные поэмы. Перед красотой его стихов и их успехом у народа другие поэты на публичных выступлениях «не имели мужества выставлять свои сочинения из боязни сопоставления» с его стихами.
Он задумал создать в Сан-Пауло студенческий театр и основать литературное общество. Этот год в Сан-Пауло, подруга, был для него годом интенсивной работы и творческих достижений. «Гонзага» в исполнении Эужении и Жоакима Аугусто — другое звено в цепи его успехов{75}.
Однако наиболее славным делом за время пребывания поэта в Сан-Пауло была кампания против консервативной партии. Кастро Алвес, борец за освобождение негров и создание республики, не был связан ни с одной из двух партий монархии. Но когда пал либеральный кабинет Закариаса и когда Итабораи — глава консервативной партии — захватил власть в свои руки, поэт использовал момент для агитации в пользу аболиционистского движения. Он вступает в политическое соглашение с либералами, в лагере которых Жозе Бонифасио, и выступает в его защиту в газете республиканцев{76}. Падение Закариаса взволновало Сан-Пауло, дуновение свободы пронеслось па городу, атмосферу в котором так изменил Кастро Алвес. В зале «Атенеу Паулистано» собрались политические деятели и молодежь на митинг, чтобы протестовать против произвола императора.
Два студенческих лидера — Феррейра де Менезес, уважаемый и даже внушающий страх, и Жоаким Набуко, влияние которого уже начало распространяться в стране, выступили на вечере до Кастро Алвеса. Они нападали, критиковали, протестовали. Они протестовали против того, что за борт государственного корабля выброшены либералы, но они ни слова не проронили против монархии. Дело в том, что либеральная партия являлась одной из опор той самой монархии, которая отстранила ее от власти.
И вот теперь слово за Кастро Алвесом. А у него, подруга, нет обязательств по отношению к либералам. У него обязательства перед свободой. И он не только осуждает монархию, он предлагает заменить ее республикой. Республика — это новое слово, новая идея. И он своими стихами приводит в зал Педро Иво, героя борьбы за республику на северо-востоке. Его устами он призывает к новым идеям, разрушает старые принципы. Когда смолкли аплодисменты, которыми встретили появление поэта на трибуне, он заявил;
«Господа! Алварес де Азеведо некогда бросил свои стихи на ковер короля, прося жизни для героя: я бросаю свои стихи в сердце молодежи, прося у нее немногого: бессмертия для незаконного сына королевского достоинства»
И когда аплодисменты позволили ему начать чтение стихов, величественный Педро Иво снова заговорил перед народом Сан-Пауло:
Ответил призрак Педро Иво: — Народ не может жить счастливо, Пока послушно он и льстиво Тирану служит своему.И в волнах музыкальных стихов начинается восхваление республики, пропаганда республики. Если монархия плоха, если от власти отстраняются достойные люди, тогда пусть будет создана республика:
Пусть люди в новые просторы На крыльях кондоров вспарят. На лике сумрачном Табора Лучи зари уже горят.И снова, подруга, он говорит о свободе, — ее нельзя повергнуть наземь, все равно она поднимется с еще большей силой. Так говорил он в этот вечер в Сан-Пауло. И Сан-Пауло слушал его, и с митинга монархических либералов люди выходили настроенными в пользу республики.
В связи с продолжением кампании либералы устроили политический банкет. После выступлений лидеров партии поднялся Америко де Кампос, которому выпала честь приветствовать собравшихся. И если большинство присутствующих он мог приветствовать как стойких приверженцев членов либеральной партии, то для Кастро Алвеса ему пришлось подыскать другое определение: «представитель демократической мысли», — сказал он. И поистине Кастро Алвес был демократом в самом высоком значении этого слова. Он шел впереди своего времени, впереди и консерваторов и либералов. Отставка Закариаса взбудоражила общественное мнение, усилив настроения в пользу республики. В эти дни Кастро Алвес, больше чем политические деятели, стал вожаком народа Сан-Пауло.
Седьмого сентября, когда город еще переживал борьбу между двумя партиями, он на торжественном собрании в честь Дня независимости сообщил о предстоящем опубликовании его крупнейшей аболиционистской поэмы — «Негритянский корабль»{77}.
Кастро Алвес превзошел самого себя в этой поэме, где от самых нежных тонов при рассказе о море и моряках он переходит к самым страшным крикам души при рассказе о жуткой пляске негров; где от чистого лиризма при описании девушки негритянки в хижине он переходит к трагическому обращению к Андраде и Колумбу, светлые дела которых запятнаны рабовладельцами. Почти непостижимо, как он сумел соединить в этой поэме столько красоты и столько чувства. Это песня страдания и мятежа, каких вообще немного в мировой литературе. В его творчестве с этой поэмой можно сравнить лишь гигантское полотно, которое представляют собою «Голоса Африки»{78}. И та и другая поэмы — это крик, в который слились все вопли страдания, все стоны, все проклятия, которые в течение веков посылали своим хозяевам негры в Бразилии. Кастро Алвес явился родоначальником негритянской поэзии Америки, первым и самым сильным из всех голосов, в которых слышится горестный голос негра. Песня страдания и мятежа, песня отчаяния, но и надежды; песня смерти, но и жизни во имя будущего. Никогда никто из поэтов ни в его время, ни в наши дни не описывал столь зримо и с таким мастерством трагедию черного раба в Америке. С силой урагана, с силой океана эти стихи «Негритянского корабля» пронеслись над залом в Сан-Пауло.
Над морем ночью лунных блесток вспышки — Как мотыльки с серебряной пыльцой. Их ловят волны — резвые мальчишки, Что разыгрались в этот час ночной.Он говорил о море, подруга, с таким дружелюбием, какое могут питать к нему лишь те, кто родился на земле Баии{79}, где порт таинствен и глубок, где женщины-морячки красивы, как ты, негритянка, где рыбаки каждый день совершают подвиги. Он говорил о море, зная все его тайны. С каким нежным восхищением пишет он о моряках, пересекающих океан:
О моряки! Как мать, вас любит море… Вы солнцем всех широт обожжены. Как в отчем доме вы — в морском просторе; Вам люб и ветра шум и всплеск волны.С какой лирической силой рисует он картину моря, звучащую издали музыку, свободную любовь в беспредельной синеве неба и океана! И как музыкальны его слова, когда он говорит о моряках; об испанце, вспоминающем «смуглых девушек»; о «цветущих андалузках»; об итальянце, который «воспевает спящую Венецию»; об англичанине, «холодном моряке, который с рождения в море»; о французе, «у которого на роду написана его судьба»; о греках, «красивых смуглых пиратах моря, которое пересек Одиссей»; о «мореплавателях всех стран». Но ах! моя негритянка, на этом бриге, который плывет по спокойному морю и на котором такой храбрый экипаж, поэт видит картину прямо из дантова ада:
Они плывут в пустыне водной… Ребенок матери голодной К сосцам сухим ее приник. Людей несчастных, исхудалых И от лишений одичалых Мчит по волнам зловещий бриг. Вся эта призраков громада Страшнее дантовского ада, Тряпьем не скрыта нагота. А на телах нагих и черных — Работорговли жертв позорных — Следы хозяйского кнута. Пред ними дали голубые, Вокруг — свободная стихия, Но здесь — плавучая тюрьма. Вот этот песню вдруг затянет, А тот браниться злобно станет, Хохочет тот, сойдя с ума!Дело в том, моя подруга, что этот негритянский корабль везет живой груз — черное мясо для невольничьих рынков Бразилии. За этот товар работорговцы получат большие деньги. А поскольку за эти деньги покупается также и совесть, все молчат о путешествии быстроходного брига. Все, за исключением Кастро Алвеса, который на крыльях альбатроса парит над судном{80}.
Он обращается к морю, к небесным светилам, к ночам, к бурям, к ураганам. Раз люди не хотят ничего видеть и слышать, он призывает силы природы расправиться с этим судном, стереть с земли этот позор. Он обращается к силам природы, ибо слишком велико преступление. Вчера еще это были свободные люди леса и пустыни. Но пришел караван, и вот уже они идут с цепями на ногах, в которые их заковали на многие годы. «Вчера — полная свобода, воля распоряжаться собой… Сегодня — предел жестокости, они не вольны даже в смерти…»
Золотисто-зеленое знамя Бразилии — самое славное и любимое для нас из всех знамен — они загрязнили с тех пор, как подняли его на своем бриге. Под его сенью совершается чудовищное преступление. В морях, которые бороздил в свое время Колумб, ныне путешествует это позорное судно. «Это больше чем позор», — восклицает поэт и голосом древнего пророка, мстителя за страждущих, призывает:
О позорное судно, исчадие ада! Христофора Колумба достойно ль морей? Золотисто-зеленое знамя, Андрада, Ты спаси от бесчестья, сорви с этих рей!Самые бурные аплодисменты, подруга, это еще не все — их, правда, было много, никогда не было столько, — но это даже ничто, если подумать, что люди, прослушав стихи, уносили навсегда выжженное в сердцах зрелище этой адской картины плененных негров, которые в эту желтую лунную ночь пляшут на потеху матросам на фоне несравненного моря и неба. И что такое аплодисменты, как бы оглушительны ни были они, по сравнению с приобщением людей к борьбе за освобождение негров?
Его лира обогатилась в Сан-Пауло несколькими поэмами о рабах. Он завершает свою книгу, начатую еще в 1865 году под сенью домика Идалины. Помимо «Негритянского корабля», он пишет и еще одно монументальное полотно. Это «Голоса Африки». И голосом его говорит весь континент, самый несчастный из всех, континент, который отчаялся в боге. Это замечательная песнь звучности доселе неведомой. Это несчастная, невольничья Африка взывает к небу, которое ее не слышит:
И по сухим пескам Сахары, Одетый в белый мой бурнус, Как осужденный, я влачусь…Это ужас страны, ужас целой расы, которая видит, что горе обрушивается на нее, но не понимает, какое, собственно, преступление она совершила. Эти стихи потрясают самого холодного и бесчувственного человека. Голос поэта, который уже стал голосом народных масс на площадях, голосом студентов в борьбе против правительства, голосом за освобождение черных рабов, теперь вылился в единый мощный голос континента{81}.
В этом году в Сан-Пауло были написаны, подруга, «Мать пленника» и «Мануэла» — поэма о страсти погонщика скота к рабыне, трогательная и нежная любовная поэма:
Здесь смуглянку дорогую Жду я… Светит месяц в вышине. Под густой древесной сенью Тенью Ты скользнешь навстречу мне. Я жених, а ты невеста. Место Нашей свадьбы — темный лес. Вот ковер травы душистой. Чистый Купол храма — свод небес. Для свершения обряда Надо Осветить свечами храм. Звезды ночи — свечи наши. Краше Где еще найти бы нам?Тяжел конец поэмы, когда обстоятельства делают невозможной любовь погонщика и невольницы…
К этому периоду относятся также «Басни» и «Строфы холостяка», где Кастро Алвес снова говорит о своей миссии. И снова касается темы «искусства для искусства». Эта поэма в его творчестве политического поэта — одна из самых значительных. Он говорит в ней о том, что хотел бы сделать, и сегодня мы можем констатировать, подруга, что все, что он хотел, он сделал. В том году он создал «Лусию»{82} и «Прометея» — поэму, написанную белым стихом, одно из самых трогательных его произведений, отчаянный стон души, посвященный народу, измученному, подобно легендарному Прометею.
Когда кто-либо из нас, северян, подруга, приезжает в Сан-Пауло и ходит по его прославленным улицам, восторгается красотой и величием этого уголка Бразилии, санпауловцы любят говорить о Кастро Алвесе. И они говорят о нем, подруга, как об одном из своих земляков, с той же трогательной гордостью, с какой говорят об Алваресе де Азеведо, потому что в Сан-Пауло Кастро Алвес написал лучшие свои поэмы и стихи. И еще потому, что он чувствовал себя сыном этого города и содействовал тому, чтобы народ его города стал еще более знаменитым. Город этот, подруга, был свидетелем созревания его гения. И он хранит о нем память в своем сердце{83}.
ГЛАВА 20
Конец! Она ушла, и без возврата.
И я, тоской напрасною объятый,
Уже ничем ее не утолю!..
Холод ночи, подруга, грустной зимней ночи опустился на город и на поэта. Дул резкий ветер, обжигая холодом щеки редких прохожих, пересекавших пустынные площади. Стояла безлунная, беззвездная ночь. Легкий туман окутывал город вуалью грусти. Кто-то вдали пел тоскливую песню:
Все клятвы свои позабыла, Мне больше она не верна…Синья Лопес дос Анжос тоже напевает эту романтическую песенку. Она встает, делает несколько па, пытаясь танцевать. Но Кастро Алвес не следит за ее грациозными движениями. Его глаза устремлены вдаль, он с остановившимся взором слушает музыку, слушает слова, которые сам к этой музыке написал{84}. Когда поэт сочинял эти стихи, где насмешливая улыбка скрывает маску страдания, он уже чувствовал, что между ним и Эуженией что-то порвалось, порвалось почти незаметно. Тогда он еще не ждал, что она уйдет от него. «Умереть от холода, когда грудь горит», — рыдает далекая песня. Холод сжимает ему сердце, ночь окутывает его грустью. Ему чудится, что он видит ее в тумане, элегантную и надменную, с ее королевской походкой, с улыбкой, которая несет утреннюю свежесть, с горячим, ласковым взглядом. Музыка говорит о ней, ведь для нее были написаны эти слова. А она тогда плакала, притворяясь огорченной. И он, прижав возлюбленную к груди, написал ей другие стихи, полные огня страсти. Он видит ее из окна гостиной сквозь уличный туман. Лицо его горит, он бредит… Почему же она не приходит?
Синья Лопес дос Анжос внезапно перестает танцевать и останавливается перед поэтом. И вот, наконец, он замечает ее и улыбается ей, но так грустна его улыбка, так печальны его черные глаза, что она говорит:
— Даже когда вы смеетесь, Кастро Алвес, глаза ваши печальны…
А он снова погружается в свою задумчивость. Перед ним не Синья Лопес дос Анжос, тень ее. А перед собой он видит лишь ту, что навсегда потеряна, — Эужению Камару. Но Синья садится у его ног, просит его почитать стихи.
— Это грустные стихи… Они настолько грустны, что ты расплачешься…
— Но «Бант» не был грустным… — весело улыбнулась она, вспомнив стихи, которые он ей сочинил после праздника, на котором ее отец Луис дос Анжос, баиянский врач, представил ее поэту.
Они танцевали вальс, потом он прочитал ей стихи, те строфы, что сочинил о банте, который был в ее волосах в тот вечер. В этих стихах звучали слова любви, слова, навеянные мимолетным флиртом, любовным увлечением с первого взгляда, с одного вечера, очень свойственным ему. Так было у него с Синьей Лопес дос Анжос, так было и с другой санпауловкой — Марией Каролиной. Но Синья Лопес, еще одна бабочка, сгоревшая в пламени поэта, ожидает услышать от него вполне определенные слова.
А сейчас она просит у поэта другие стихи. И он отвечает, что стихи его столь грустны, что заставят ее заплакать. Но откуда эта грусть его, если она рядом с ним? Да, Синья Лопес слышала многое о той актрисе, которая его покинула. Но ведь с высоты своего величия девушки из общества она думает, что актрисе цена не велика, и она наверняка не стоит и минуты грусти поэта. Разве к его ногам не принесены сердца самых красивых девушек, в том числе и сердце самой Синьи Лопес дос Анжос? Актриса — это почти женщина легкого поведения. А он великий поэт и самый красивый из мужчин. Все это Синье Лопес хочется ему высказать, чтобы отогнать от него грусть, снять с него печать горя. Почему же не повторяет он в этот вечер стихи, подобные «Банту»?
В пленительном вальсе кружились с тобою В наполненной зале, как будто одни. Не бойся! Ведь губы мои так несмелы: Лишь банта украдкой коснутся они.Робкий поцелуй, легкое прикосновение губ к ее волосам в яркой освещенной зале, полной народа, было лучшим мгновением, которое дала ей жизнь. Все последующие дни принадлежат ему, но все они воспоминание о нем. Она так ждала этой интимной близости, когда поэт смог бы снова сказать ей о своей любви, повторить поцелуй, украденный на празднике, горячо поцеловать ее губы. И вот он здесь по окончании обеда, они наедине в гостиной, где открытый рояль дополняет уют обстановки. Синья Лопес уселась у его ног. За окном зимний, туманный, холодный вечер. Она ждет. Но он грустен, он охвачен грустью смерти, для него мрачен этот вечер, и в сердце у него туман и в теле холод. Зачем жить, если она ушла?..
Поэт улыбнулся Синье Лопес. Она встала:
— Ваша улыбка пугает, Кастро Алвес, настолько она печальна…
И его глаза, такие черные и глубокие, иные, чем обычно, в этот вечер. В них нет лучистости, которая их всегда освещает. Они сухи, эти грустные глаза, не умеющие плакать. Он встает. Входит доктор Луис. У Синьи влажные глаза. Кастро Алвес целует ее маленькую ручку, прощается с врачом и уходит в ночной мрак.
Синья Лопес пытается подобрать на рояле мелодию песни. Но не может, рыдание вырывается из ее груди. Доктор Луис подходит к дочери, гладит ее нежную головку.
— Ты печалишься потому, что он не говорил тебе о любви?
Синья Лопес дос Анжос смотрит на отца глазами, из которых слезы бегут так же, как уличный туман струится по стеклу окна.
— Я плачу потому, что он грустен. Никто не имеет права печалить его… В особенности тот, кто заслужил его любовь…
И она смотрит на улицу, где он исчез. Она знает, что Кастро Алвес не придет к ней, но все же плачет о его горе, о любви, которую он потерял. Ей жалко его, беднягу!
* * *
Подруга, дай мне рассказать тебе о горестях любви. Когда слезы высыхают в глазах, жизнь высыхает в сердце. В один прекрасный день приходит она, любимая, единственная, бесповоротно избранная на сегодня и навсегда, та, которую мы ищем в образе и в сердце других женщин. Она приходит и завладевает всей нашей жизнью. Мы живем только ради нее, грезим ее грезами, страдаем ее маленькими страданиями, улыбаемся ее улыбкою, радуемся ее радостью. В нашем голосе появляются хрустальные звуки счастливого смеха, ночи становятся прекрасными, и весна длится круглый год. Она музыка и поэзия, мечта и действительность, приключение и путешествие — все вместе. И вот настает день, когда она уходит к другому. Возможно, она уходит с мягкой, дружелюбной улыбкой, мимоходом говоря, что будет ждать дома, в гнездышке, где расцветает наша любовь. Но ее мягкая улыбка равносильна предательскому удару кинжалом в спину. Прощальному поцелую научил ее иуда — ее ожидает другой.
И вот настает день, когда мы это обнаруживаем. День — самый несчастный из всех дней. Мы еще полны ею, полны всем тем хорошим и большим, что она для нас представляла. Мы еще не можем поставить ее на то место, которое она сама избрала для себя. Но действительность любимой женщины убога. А то, что мы видим в ней, это лишь мечта, которую мы сами создали и которую невозможно вырвать из сердца. Высыхают слезы на глазах, высыхает жизнь в сердце. Сегодня она для нас ужасная очевидность, завтра она будет самой трагичной из теней. Но в увядшем сердце возлюбленного никогда не расцветет радость, на омраченном грустью лице никогда не появится веселой улыбки. И каждый день он будет горестно ожидать, что она вернется, но то будет не действительность, которая уже ушла, а мечта, которая тоже уже разбилась. Самая сильная любовь хрупка, как тончайший хрусталь, подруга. И горестны дни тех, кто любил и потерял свою любовь, ибо они знают, что никогда больше не обретут ее снова. Любимая женщина не встречается дважды. Она приходит, мы узнаем ее и отдаем себя целиком. Она уходит, и с ней уходит наша жизнь. И даже воспоминание о ней — трагическая радость. Так будет и если ты уйдешь, подруга. Так было и с Кастро Алвесом, когда от него ушла Эужения.
* * *
Он уже раньше чувствовал, что между ними что-то порвалось, что кончилась прежняя любовная близость, что под напускной веселостью, под неистовством ласк она что-то от него скрывает. Между ними возникла какая-то отчужденность. Иногда у нее на лице появлялась тревога, а когда он смотрел ей в глаза, то видел в них уже не любовь, а скорее сострадание или угрызения совести. Она считала его великим и добрым, красивым и мужественным, так почему же она изменила ему? Слишком соблазнительной, видимо, была для нее жизнь на улицах и в театрах, в роскоши и комфорте. Когда она находилась с ним, слышала его голос, чувствовала биение его сердца, её охватывало бесконечное презрение к себе. Почему же она ему изменила, ведь ей было хорошо с ним, ведь никто другой не был таким, как он? Да, хорошо, но когда она была не рядом с ним, то легко поддавалась впечатлению, которое производила на мужчин, не могла устоять против их ухаживаний, комплиментов, против золота, против шумного веселья. Блеск роскоши слепил ей глаза, хохот веселья заглушал в ее ушах голос поэта.
Она смотрела на него, и глаза ее наполнялись тоской, — как могла она его обмануть, его, который никогда не лгал ей? Кастро Алвес чувствовал, что между ними что-то порвалось. Стал подозрителен, подчас жесток, но по-прежнему был искренним. А она, видя, что печальная истина скоро раскроется, скрывала ее под покровом негодования, обвинений в его адрес, вымыслов, мелких ссор. Эти конфликты стали ежедневными, в них Эужения искала защиту от ужаса и страха, которые, как она видела, читались в его глазах. И они увязали в ссорах, тянулись бесконечно тягостные дни. Ссоры лишали поэта возможности творить, погружали его в нервное и подавленное состояние и вызывали слезы у Эужении, когда она оставалась наедине сама с собой.
Но достаточно было ей улыбнуться, прийти домой веселой (возможно, это были остатки радости от ласк другого), и, снова попадая в атмосферу любви, он воодушевлялся, писал ей стихи. Однажды вечером, когда она была такой, как в первое время в Ресифе, он сочинил для нее одно из самых нежных своих стихотворений:
С тобой мы в мире тишины и тени; Едва мерцает трепетный ночник. О, дай мне целовать твои колени И позабыть: то вечность или миг! О женщина моей любви! На лоне Твоем в блаженство был я погружен. И слаще райских песен и гармоний Звучали поцелуй, и вздох, и стон!«Женщина моей любви» называл он Эужению. Он полагал, что не только чувства, но и душа любимой приходила в волнение от соприкосновения с его любовью.
В эти часы, когда он не видел печали на ее лице, она по-прежнему казалась ему и возлюбленной и женою. Он не знал, что, когда Эужения «смеется, вздыхает, рыдает, томится и плачет», сердце ее не принимает участия во всех этих переживаниях.
Однажды он нашел ее спящей в гамаке, она выглядела беспомощной, и это совершенно преобразило ее. Он увидел ее невинной девочкой, в его грезах играющей с полевыми цветами. В то время когда она ему изменяла и причиняла столько горя, он, одурманенный страстью, видел в ней цветок чистоты;
В саду меж цветов ты дремала, Качаясь на дне гамака. Волос твоих прядь ниспадала И нежно касалась цветка. Любуясь той странной игрою, Не в силах был взгляд оторвать. Мне девочкой вдруг озорною Представилась милая прядь.Такой он еще ощущал ее в последние месяцы своей безумной любви. Она в душе и, возможно, из сострадания к себе пыталась преуменьшить эту любовь, которая была для него жизнью. Ежедневная мелкая ложь, постоянный обман, ссоры привели к тому, что страсть печально умирала. Но поскольку он любил ее сильно и искренне, даже то, что было в ней самого дурного, не могло лишить красоты и блеска' эту любовь, которая свела с ума и лишила жизни величайшего поэта американского континента. Этой любви Кастро Алвес отдал свою жизнь.
Но однажды он узнал про существование соперника. Сказал ей об этом, и она, не будучи в силах вопреки всему видеть его страдания, велела ему уйти из ее дома. И он ушел к смерти{85}.
Что ему теперь оставалось? Его ночи бессонны, голова горит и не находит места на подушке, глаза не закрываются, они видят тень любимой в каждой детали комнаты, где она незримо присутствует в каждую минуту этой нескончаемой ночи. И он молит, чтобы сон смежил ему веки, избавив его от этих страданий. Этот последний период пребывания в Сан-Пауло был для него самым тяжелым, подруга. Что с того, что все были добры и ласковы к нему? Что ему помогли сдать экзамены, которые оказались под угрозой, потому что он не посещал занятий?{86} Какое это имеет для него значение, раз Эужения ушла? Если бы ему хоть удалось заснуть.
О сон! Мне веки ты смежи! Смири тревогу и томленье, Пошли желанное забвенье — Бальзам для страждущей души… Я злобным роком разлучен С моей возлюбленной прекрасной. И день постыл теперь мне ясный, Отрадней ночь и сон. О милый сон, скорей приди И затумань мое сознанье! От жгучих мук воспоминанья Мой бедный ум освободи!Ночи бессонницы, кошмарные дни. Он уезжает на охоту, в лесную глушь, далеко от всех, он остается наедине с природой, которая тоже была его музой, но никогда ему не изменяла.
И вот однажды, подруга, в конце этого, столь славного и заполненного столькими страданиями года, с ним произошел несчастный случай. Когда он перепрыгивал через ручей, ружье выстрелило и ранило его в ногу.
Рана оказалась тяжелой, его отвезли в дом доктора Луиса Лопеса дос Анжос, где Синья сделалась его преданной сиделкой. И даже когда его перевезли в студенческое общежитие, она последовала за ним, не оставила своего больного. И друзья — Руй Барбоза, Жоаким Набуко, Бразилио Машадо, Карлос Феррейра, Пауло Родригес, падре Шико и многие другие не отходили от его изголовья. У него открылось сильное кровотечение. Весть о том, что он в тяжелом состоянии, облетела весь город. Все приходят навестить его, не появляется только Эужения. Она знает, что он страдает из-за нее, но у нее не хватает мужества увидеть, как он мучается. Шесть месяцев жизни, которую нельзя назвать жизнью… Шесть месяцев, в течение которых состояние раны все ухудшалось, а потеря крови и сил все ослабляли легкие поэта. У него пошла кровь горлом, и только нежное отношение друзей, ласка Сан-Пауло спасают его в ту ночь. Лишь Эужения к нему не приходит:
И нету дружеской руки, И нет защиты и опоры…{87}Вокруг его постели — самые известные люди факультета права, которые вскоре станут самыми знаменитыми людьми Бразилии. Но только Эужения могла бы заставить его подняться, только она могла бы вернуть ему снова здоровье. Ибо он чахнет от любви, подруга.
Болезнь прогрессирует. Легкие не выдерживают, ноге угрожает гангрена. Возможно, говорят врачи, найдется в Рио-де-Жанейро средство спасти его. Его перевозят в Сантос, и оттуда он едет в Рио. Однако, подруга, если его коллеги и врачи еще питают надежды, у него их нет. Он носит смерть в своем сердце. Любовь стоит жизни, моя негритянка.
ГЛАВА 21
О вы, которых я любил когда-то!
Мадонны, ангелы и Магдалины!
Предстаньте предо мной на миг единый!
Ужель навек ушли вы без возврата?
Вокруг его постели в доме преданного ему Луиса Корнелио дос Сантос собрались друзья поэта: Мело Мораис, Феррейра де Менезес, Жоаким Серра. Уверенному скальпелю Матеуса де Андраде предстоит рассечь ногу Кастро Алвеса и извлечь осколки кости, чтобы спасти поэта от гангрены{88}. Поэт бледен, из-за плохого состояния ему нельзя дать хлороформ. В углу, как скульптурная группа, замерли Мария Кандида, Дендем, которую также зовут Кандидой, и Эулалия Филгейрас, невестка Корнелио дос Сантос. Все его сиделки с трепетом ожидают операции. Первой из комнаты выходит Дендем, Кандида Кампос — в глазах невинной девушки огонь любви. Прежде чем уйти, она смотрит на поэта; сердце ее принадлежит ему с того самого момента, как она его впервые увидела… Он так красив, бледный, со сжатыми губами. Но она не в силах видеть, как скальпель разрезает это прекрасное тело. И она выходит, на ее глаза, обычно полные лукавства, навернулись слезы.
Выходит и Мария Кандида Гарсез. На ее спокойном лице тоже слезы. Поэт будет страдать, а его лицо так благородно, так красиво, она отдала бы ему свое сердце, попроси он только.
В другой комнате скрещиваются взоры Дендем и Марии Кандиды. Каждая из них чувствует любовь другой. И они плачут, обнявшись; слезы на спокойном лице Марии, слезы и на тревожном лице Дендем.
Эулалия Филгейрас не выходит. Она тоже, подруга, полюбила его, как только увидела. Он прибыл таким больным, со впалыми щеками, с пораженными легкими, хромой и грустный! Он был так красив в своем несчастье!.. Сделав над собой отчаянное усилие, Эулалия садится у изголовья Кастро Алвеса, берет руку поэта, сжимает ее в своих руках. И он улыбается, когда скальпель рассекает его тело.
Из разреза ноги выпадают свинцовые дробинки. Он видит кусочки раздробленных костей, нога безнадежно потеряна. И теперь это уже не просто извлечение осколков — это ампутация ноги.
Его глаза смотрят в глаза Эулалии, на лице та же улыбка{89}, он мужественно переносит боль. Нога отрезана, его тело, которым он так гордился, уже не будет таким совершенным, теперь он калека. Полон печали его взгляд, устремленный на Эулалию. Из ее глаз катятся слезы на бледное лицо Кастро Алвеса. Потом он засыпает, подруга, и в полумраке комнаты еле слышны тихие рыдания Эулалии. А поэт спит, подобно больному ребенку…
* * *
Дендем — олицетворенная радость. Полусидя в постели, Кастро Алвес удерживает ее за руку. Она то смеется, то принимает серьезный вид, ее глаза излучают любовь. Любовь невинной девушки, которая знает, что эта любовь — ее судьба. Стоит июнь, красив Рио-де-Жанейро радостной ясной зимой. Поэт привлекает девушку к себе, говорит ей о любви, она отвечает, напоминая ему про Эужению.
Он грустно улыбается, просит у нее бумаги и чернил. Он пишет для нее — это его первые стихи после операции. Теперь он поправляется{90} и глубоко чувствует радость утра с мягким солнцем, оживленную радость Дендем, Кандиды Кампос. Он просит ее сесть рядом, хочет прочесть ей те, что написал. Дендем соглашается с условием, что он будет вести себя хорошо. Кастро Алвес обещает, она садится рядом. И он читает, и его еще слабый голос становится звонче с каждой строфой:
К твоей я обращаюсь благостыне: Мольбу мою услышь, ответь на зов! О, стань ключом живым в моей пустыне, Ее пескам — покровом из цветов! Я знал: меня из необъятной шири Швырнет на берег смерти океан. Иду к тебе, как шел к своей Эльвире В последний час несчастный Дон-Жуан. Мне волосы пригладь рукою нежной, — Их долго ветер рвал и дождь мочил. Дай отдохнуть, забыться безмятежно, Дай на груди твоей набраться сил…Почему она подчиняется этому голосу, подруга, почему кладет поэту руку на лоб, почему позволяет ему склонить к своей груди голову? Откуда ей это знать? От него, от его черных глаз, от его ласкового голоса исходит обаяние, которое ее увлекает. Зачем он спрашивает: «Когда огнем твой взор наполнен, не видишь разве, как оживает радостно душа моя?» Зачем он прижимается головой к ее груди? И почему она касается губами его волос? Потому что, подруга, он говорит ей:
Ты своей улыбкой ясной, Звонким смехом, блеском глаз От хандры, как врач прекрасный. Всех излечиваешь нас!И оттого, что он говорит ей это, она, которая уже давно любит его, сейчас в волнении склоняется над ним. Замирает голос в последних стихах:
Снегом белым, серебристым Бог покрыл вершины гор, Для поэта девы чистой Сотворил он ясный взор.* * *
Они шли по лесу. Солнце умирало в сумерках. Она сопровождала поэта, который теперь уже ходил на протезе, пользуясь костылями. Она шла рядом, поддерживая его. Мария Кандида Гарсез с надменным видом и кротким взглядом идет, слушая стихи, которые он сочинил в этот день. Она полюбила его с первого взгляда, как все влюблялись в него. Но она его любит, как несбыточную мечту, она знает, что сердце его принадлежит другой, той, которая ушла, она знает, что он идет к смерти, его легкие поражены, сердце полно горечи. И если он сочиняет стихи для Кандиды Кампос, то лишь для того, чтобы отвлечься от тяжких мыслей. Так же будет и с нею, вот почему она до сих пор избегала его. Они идут в сгущающихся сумерках, медленно шагают в прохладе леса. Она чувствует на руке тяжесть его тела. Из леса исходит опьяняющий запах земли. Скамья впереди — приглашение к отдыху. Они сидят рядом, поэт слегка опирается на нее, он читает ей свои стихи:
Цветок любви, моя Мария! Со мной гуляешь ты в саду. Бегут мгновенья золотые, Я — в сладкой грезе, я — в бреду. Цветок любви, моя Мария! О ангел, в деве воплощенный! С небес сошедшая звезда! Твоей красой заполоненный, Твоим я буду навсегда! О ангел, в деве воплощенный!Романтический взор Марии Кандиды теряется в сумерках. Стихи заставляют ее забыть о том, что она решила проявить сдержанность. Умирает вечер, Кастро Алвес тоже скоро умрет, грустны его глаза, быть может, она сумеет его утешить. Что с того, что это будет лишь на мгновение? Что с того, что это безнадежная любовь? Беспредельная радость охватывает ее при мысли, что она может вызвать у него нежную улыбку, заставить его забыться хоть на мгновение. В наступающем вечере его голос звучит горячей просьбой, мольбой:
Открой же мне свои объятья — Блаженства райского залог. Все муки сердца без изъятья Забыть тогда, наверно б, смог! Открой же мне свои объятья!Его губы касаются ее щеки, ее губ. Мария Кандида Гарсез смотрит Кастро Алвесу в глаза и видит в них радость…
* * *
Эулалия Филгейрас подходит к окну. Из сада доносится запах жасмина. Поэт отдыхает в гостиной, в кресле. Костыли рядом, щеки у него еще впалые, но кашель перестает его мучить, врачи питают надежду. Он уже начал лучше ходить, даже порой смеется, разговаривает и сочиняет поэмы. Но Эулалия хорошо знает, подруга, что сильнее, чем от туберкулеза и ампутированной ноги, он страдает от другого недуга. Он страдает от отчаяния из-за утраченной любви, от тоски по Эужении. Врачи обещают, что вылечат его. Так почему бы ей не стать сиделкой его сердца?
Она садится рядом и улыбается. Она красива, чистое, хорошее дитя, глаза у нее робкие, руки, которые держат руки Кастро Алвеса, робки еще более. Она улыбается, и в этой улыбке к нему обращена вся ее душа.
Он понял это еще раньше, с того страшного дня операции. Она его полюбила, хотела принадлежать ему, стать его женой и подругой жизни, принести ему здоровье и радость, возможно, детей, приятную и спокойную жизнь. Ей хотелось оживить его увядшее сердце.
Она прекрасна, но сердце Кастро Алвеса умерло для любви… К тому же он, подруга, честен, и благодарность для него один из способов быть честным. Эулалия — невестка Луиса Корнелио, самого верного из друзей поэта. Вот почему в тот вечер, когда она предлагает ему свои губы, он отказывается от них. И когда она убегает, чтобы выплакаться, он с трудом поднимается, берет свои костыли и идет за нею. Эта любовь его трогает, и именно чтобы поблагодарить ее за такую любовь, он отталкивает Эулалию. Но он не хочет, чтобы она обманывалась. Приди она раньше, раньше другой, возможно, все было бы иначе — прекраснее стала бы жизнь, далеко отодвинулась бы смерть. И он читает ей свои стихи:
Зачем, о ангел, ты, покинув рай, Нашла меня в моей ночи беззвездной? Уже достигнут мною бездны край. Увы! Пришла ты поздно, слишком поздно!Слишком поздно, Эулалия, и к тому же от тебя он не хотел только плотской любви, как от Марии Кандиды. Он хотел твою душу и сердце и тебе хотел дать любовь, которой сейчас у него уже не было в сердце. И даже твоя возвышенная и святая любовь не может затмить воспоминание о той, что ушла:
Душа горит, и лишь могилы хлад Во мне остудит этот пламень грозный. Вернись же в рай, когда сойду я в ад! Прости, сеньора… Поздно! Слишком поздно!{91}Кастро Алвес замолкает. Подходит к ней, берет в руки ее прекрасную головку, целует в лоб. И тогда она, рыдая, хватает его руки и целует их с грустной, непримирившейся благодарностью. И они остаются стоять рядом у окна, смотря на тысячезвездную ночь. Эулалия плачет и сквозь туман, застилающий ей глаза, видит, как ей кажется, слезы и в глазах Кастро Алвеса. Только из-за Эулалии, из благодарности за любовь, которую она ему подарила, он плакал, подруга. И эти слезы оказались горячее всех поцелуев. Беспредельный мир опускается на сердце Эулалии.
ГЛАВА 22
Любовь твою навеки отвергая,
Душой твоим останусь навсегда.
Он вышел, закутавшись с ног до головы в черный плащ, как человек, собирающийся совершить преступление. Коляска ожидала его у входа, и сейчас, когда костыли были у него под плащом, никто не мог сказать, что он калека.
Его бледное лицо резко выделяется на фоне черных волос и черного плаща, скрывающего его от мира. Эулалия наблюдает из окна за отъездом Кастро Алвеса. Он не сказал никому, куда направляется. Но любящее сердце Эулалии угадало грустную правду: он едет в театр «Феникс Драматика» на премьеру труппы комика Васкеса, где примадонной Эужения Инфанта да Камара. Уже несколько дней Эулалия следит за развитием этой драмы в душе поэта. Она началась в тот день, когда пришли друзья с замкнутыми лицами, чтобы объявить о предстоящем начале представлений труппы. И она увидела вспышку радости, сверкнувшую в его глазах и составлявшую контраст с гневом, который она прочла на лицах и Мело Мораиса и Луиса Корнелио. Они возненавидели Эужению за то зло, которое та причинила Кастро Алвесу. Но он не мог ее ненавидеть. И на мраморной бледности его больного лица это известие вызвало лихорадочный румянец. С той минуты лихорадка не покидала его до этого вечера, когда он, завернувшись в черный плащ, уехал в коляске в театр, чтобы увидеть ее хотя бы издали, укрывшись в ложе. Эулалия чувствовала, как он страдал все эти дни, стремясь в театр, чтобы снова взглянуть в любимое лицо, услышать этот голос, похожий на птичье щебетание, чтобы снова ощутить ее присутствие. Но Эулалия видела и охватившее поэта унижение, ведь он рвется к женщине, которая изменила своей любви и «убила в нем радость жизни. Это были дни лихорадки, тоски и страдания. С далекой сцены звала она его каждый вечер голосом песенок, шумом аплодисментов. Она, которую он так любил, узнала, что он чуть не при смерти, но ни разу не пришла навестить его, не нанесла ему даже дружеского визита.
Однако любовь, моя негритянка, когда она на самом деле велика, не требует взаимности. Обо всем этом думал Кастро Алвес, и за ним следила нежным взором Эулалия, которая страдала вместе с ним от его тоски.
И вот в этот вечер он, наконец, решился. Он поедет, спрячется в ложе, услышит, как любимая поет, увидит лицо ее, будет жить часы, пока длится представление. Потом он вернется к своей грусти и к своему одиночеству, возможно, еще более грустный, еще более одинокий, но эти мгновения счастья, которые он испытает сегодня вечером, окупят дни и ночи его тоски. Когда он, наконец, решился, его охватила радость. Поэт помнил, что он калека, не забывал, что он ковыляет на одной ноге, опираясь на костыли. Но она ведь не увидит его. Да и от других широкий черный плащ надежно его скроет, кроме лица, которому бледность лишь придает красоты. Его увидят только на короткие мгновения в антрактах.
Эулалия не обманывается: он охвачен безумной радостью. Он увидит любимую! Коляска несется в темноте, она везет его к Эужении.
Он приезжает первым, чтобы никто не видел его поднимающимся в ложу на костылях. И когда публика заполняет зал, он уже сидит на своем месте. И никто не думает о нем ка» о больном человеке, как о красавце с ампутированной ногой. Думают о поэте, об авторе жгучих стихов, о гении, поднимавшем народные массы на восстание. Уже почти два года, как он не появлялся ни в театре, ни на балконах зданий, чтобы воспламенять своим словом возбужденные массы. Но о нем не забыли, его стихи читаются повсюду, они и сегодня знамя — знамя освобождения от рабства и борьбы за республику. Все помнят его: он великий Кастро Алвес, поэт негров, певец свободы, кондор Бразилии. И сейчас на него указывают, ему улыбаются, девушки и дамы поглядывают на него со страхом и надеждою, они находят его прекрасным и соблазнительным. И Кастро Алвес в этот страшный, трагически горестный и трагически счастливый час своей жизни чувствует все понимание, всю ласку, всю любовь, которую испытывает к нему его народ. И он улыбается, взволнованный, и глаза его блестят снова. Этот народ там внизу — тот народ, который всегда внимательно слушал его голос и с радостью поддерживал его благородные дела. После почти двухлетней разлуки, в этот октябрьский вечер 1869 года он встретился снова с самым дорогим в своей жизни: с народом и с Эуженией Камарой. Он чувствовал, что не сможет умереть, не завершив свою освободительную миссию и не увидев свою любимую. «Умереть после того, как жизнь завершена». Если бы он мог, подруга, воспев горе рабства и праздник свободы, если бы он мог
…во сне, под гробовой покоясь сенью, Свободное услышать поколенье: И песни радости и танцев шум.И в ложе театра он понимает: он будет продолжать писать свои стихи, стихи, полные огня. Народ, который никогда ему не изменял, который сейчас улыбается ему с симпатией и любовью, этого заслуживает.
Но вот поднимается занавес, и Эужения поет, Эужения танцует… Все преображается в мире, но она такая же, как в тот далекий вечер в Ресифе, в 1863 году, когда он увидел ее впервые. Это сон, сердце его бьется, он задыхается, глаза устремлены на нее, поэт словно в гипнозе. Она увидела поэта, она уже знает, что он здесь, и это для него она поет грустную песню тоски по родине, песню о своей печальной женской судьбе:
Стала я рабой твоею, Давят путы все сильней. Что же медлишь? Мне на шее Затяни петлю скорей!Его глаза теперь веселы, живы и счастливы оттого, что видят ее, но они и печальны и скорбны от тяжелых воспоминаний. И со сцены Эужения, взор которой тоже прикован к нему, к его бледному лицу, выделяющемуся на фоне, угадывает слезы в глазах Кастро Алвеса. И она поет для него, и голос ее напоминает ему пение птиц в далеком домике на дороге в Жабоатан, в Ресифе:
Что страшнее, я не знаю: Смертью ль быстрой умереть Иль, весь век изнемогая, Муки долгие терпеть?{92}Ее мучает гордость — лучше умереть, чем заплакать, но она признается себе, что очарована им и снова прикована цепью его любви. Перед нею падает занавес, и видение исчезает. И народ, аплодируя ей и комику Васкесу, снова взволнованно взирает на своего поэта, певца его надежды. На него смотрят не только из партера, окутывая его дуновением симпатии. Смотрят и с галерки, заполненной студентами и самыми бедными людьми, отовсюду доносится шум голосов, произносящих его имя: Кастро Алвес. Тут те, кого он любил больше всего: самые бедные, наиболее нуждающиеся в свободе, те, для кого он написал свои самые замечательные поэмы. А там, за сценой, видимо, плачет в своей уборной женщина, которую он больше всех любил, для которой написал самые нежные стихи своей лирики. Улыбка осветила лицо Кастро Алвеса, он позабыл о своей больной груди, об искалеченном теле. Он снова встретил, тех, кого любил, подруга.
Кто-то входит в ложу. Кастро Алвес оборачивается, Эужения бросается к его ногам и обнимает его колени. Он поднимает ее. Забыв о толпе, которая может увидеть их из зала, они падают друг другу в объятья, и она прижимает его к груди. И они смотрят друг другу в глаза, она улыбается сквозь слезы.
— Дорогой! Дорогой! Ты пойдешь со мной?
* * *
В ее комнате он вначале держится, как чужой. Лишь его портрет, тот портрет в двадцать лет, в цилиндре набекрень, напоминает здесь прежнюю любовь. Никакого другого. следа от него, от его вкусов не сохранилось ни в убранстве комнаты, ни в расцветке занавесей, ни в книгах, которые она читает. Он садится в кресло, поставив сбоку костыли, держится молчаливо и отчужденно. Войдя в эту комнату, оставшись один, — она пошла взглянуть на спящую в комнате рядом дочку, — он понял, что между ними ничего уже быть не может и что это пламя, которое снова было разгорелось, обязано лишь волнующему моменту встречи в театре. Продолжать совместную жизнь нельзя — снова начались бы те же мелкие ссоры, что и в Сан-Пауло. Она изменила ему, все больше отдаляется от него. Он должен уйти, унеся с собой воспоминание о радостных мгновениях в театре. Они как бальзам для язвы в его сердце.
Эужения приходит из комнатки рядом, где спит дочка. Она уже переоделась, теперь она в пеньюаре. Она подходит; Кастро Алвес обнимает ее… И остается. Они знают, что это их последняя встреча после двух тоскливых лет разлуки. Тоской будут заполнены и годы, которые им предстоит прожить после этой встречи, — всего лишь два года ему и десять ей.
Утром Эужения просит его остаться, вернуться к ней, простить ее. Обещает, что больше не заставит его страдать, будет хорошей и верной подругой. Она искренна, когда говорит это, но он знает, что она никогда не сможет выполнить свои обещания, что они никогда больше не обретут покоя и радости.
Нужно уходить и не видеть ее больше. Надо умереть, подруга!
И он отвечает ей стихами, нежно и горестно прощаясь с любимой:
Прощай! Уже мне в путь пускаться надо, И кораблю сигнал к отплытью дан Сейчас из миллионов волн преграду Поставит между нами океан.Дело в том, негритянка, что в эту самую ночь, убедившись в невозможности начать снова совместную жизнь с Эуженией, он решил как можно скорее уехать в Байю, подальше от нее, от искушения, подальше от соблазна испытать горе в ее объятиях. Он рассказывает ей, как и почему пошел в этот вечер в театр:
Из-под сводов подземелья, Сбросив тяжкий груз оков, Я пошел на шум веселья, На оркестра громкий зов. Захотел с толпой смешаться, В освещенный зал вступить; Улыбаться и смеяться, О прошедшем позабыть. О, послушай и пойми ты, Что я за год пережил, Нелюбимый, позабытый, Без надежды и без сил. Дней печальных, монотонных Я утратил скоро счет. А ночей моих бессонных Кто страдание поймет? Нет, напрасно говорю я, Не поймешь ты все равно, Муку выдержать какую Здесь мне было суждено.Она плачет, просит прощения. Она хорошо знает, как сильно заставила его страдать. Но теперь она обрела его снова, он снова принадлежит ей, она умоляет его остаться. Разве он не видел, как она обрадовалась, узнав, что он находится в ложе? И Кастро Алвес вспоминает момент, когда увидел ее на сцене:
Все та же! Вся прежней, такой же осталась, Какою когда-то ее я любил! Вот этой улыбкой она улыбалась, Не этот ли взгляд мне блаженство сулил?Но он, подруга, не откликается на ее просьбу. Зачем оставаться, если волнение момента пройдет и она вернется к той же прежней жизни, унижая его большую любовь?
Конец! Зияньем бездны С тобой навек разделены. Землей и морем, высью звездной Расстаться мы обречены. Тебе горит заря востока, А для меня настал закат; Я осужден решеньем рока, А пред тобой — цветущий сад. Еще полна ты жизни, силы, А у меня их больше нет. Мой путь ведет на дно могилы, Тебя же ждут тепло и свет.А когда она говорит, что он ошибается, что он жесток и мстителен, что она всегда любила его и будет любить вечно, что она снова охвачена страстью, Кастро Алвес, внешне спокойный и бесстрастный, не теряя присутствия духа, хотя чувствует жар ее тела и страдание ее сердца, отвечает:
Не тешь себя надеждой тщетной: Нам к прошлому возврата нет. Меня увидя, ты хотела Поверить, что жива любовь. О друг мой бедный! Все напрасно, И счастье не вернется вновь! За твой порыв я благодарен, Но он минует без следа. Все кончено теперь меж нами. Прощай, прощай, и навсегда!И тогда, подруга, она, видя, что он собирается уйти, снова страстно обнимает его. Но он не остается. И прежде чем он уходит, спрятав костыли под черным плащом, она тоже посылает ему свое последнее прости:
Прощай! Но если все ж судьбою Еще нам встреча суждена, Я стану любящей сестрою, Тебе отдам себя сполна!{93}Его силуэт исчезает в темноте коридора. Он уходит к смерти, она это чувствует. Уходит, чтобы больше никогда не вернуться…
ГЛАВА 23
О странник на дороге пыльной!
К сертану ты направил путь…
Корабль идет по морю, подруга, волны разбиваются в пену при столкновении с корпусом судна. Руки, машущие на прощание, сливаются на расстоянии: какая из них рука Эулалии, какая — Луиса Корнелио дос Сантос, какая — Мело Мораиса, какие — других друзей, не разобрать. В стороне от остальных одна рука машет в безнадежном прощании, и на эту-то руку он и смотрит, ей и машет в ответ Кастро Алвес, Ибо это Эужения стоит на краю пристани, отдельно от всех. Когда он ее увидел, судно уже отходило. Она замахала ему платком, слезы покатились у нее по лицу.
Волны обдают пеной борт, машущие руки исчезают вдали. Судно набирает скорость. Поэт погружен в раздумье. На море спускаются сумерки, по юту прохаживается Инес. Она останавливается, увидев этого высокого молодого человека с удивительно красивым лицом, который все еще машет рукой, отвечая на прощальные приветствия тех, кого уже теперь нельзя различить. Инес улыбается и идет дальше.
С наступлением вечера поэт любуется небом, сидя в кресле на юте. Немногие пассажиры устояли против качки, почти все попрятались по каютам. Кастро Алвес глядит на звезды в небе, им нет числа, они сияют над его головой, отражаются в голубом море. Над судном нависла тишина. Инес садится рядом с ним. Ее волосы черны, ее красота напоминает Кастро Алвесу красоту матери и теток, ибо Инес, моя подруга, — испанка, возвращающаяся из Буэнос-Айреса на родину. У нее томные глаза, красиво очерченный рот, у нее стройное гибкое тело.
Они беседуют, она уже знает его имя, слышала, как пассажиры рассказывали о нем, кто в двадцать лет стал крупнейшим поэтом Бразилии. Она знает также о его любовной драме, об операции. Сейчас она понимает, как трудно ему ходить с палкой, а прибегать к костылям он не хочет. Она находит его красивым и говорит ему это. Он напоминает ей людей ее родины, романтических смуглых испанцев. Она просит поэта, чтобы он продекламировал ей свои стихи. Она любит поэзию и произносит несколько строк по-испански;
Нарушив неожиданно и властно Моих печальных дней усталый бег, Ты кровь во мне зажгла мечтою страстной, Неутолимой жаждой ласк и нег.{94}И он декламирует ей стихи, стихи, в которых говорится о море и о страданиях негров, стихи, в которых говорится о любви. Ют пуст, его освещают лишь редкие огни. Его голос волнует ее, приводит в трепет. И лицо поэта, освещенное лунным светом, грустное и бледное, полно неизъяснимого очарования. Он берет ее руку, декламирует ей вполголоса свои стихи, она приближает лицо к его лицу…
Настанет день, незадолго до его смерти, и он вспомнит этот вечер, подруга, и обратится с призывом к этой иностранке, которая в тот час, когда он морем отделил себя от своей любимой, подарила ему минуты забвения. Он напомнит о «мягкой ночи, огромной ночи…». Он будет посвящать Инес грустные стихи, которые, возможно, ей никогда не доведется прочесть, но которые сохранят для поколений эту ночь в море, подруга. Ты хорошо знаешь, моя негритянка, как приятно, когда морская вода хлещет в лицо, когда капли падают с твоих волос и у губ твоих появляется соленый привкус. И Кастро Алвес — также узнал все это в ту ночь на борту, когда море бросало на него и Инес брызги воды и лунный свет одел ее как бы «подвенечной вуалью»:
И как будто блестящей эмалью Свет луны океан покрывал, Подвенечной прозрачной вуалью На лице у тебя трепетал. Она вздрогнула от его прикосновения. На палубе были одни мы Под куполом звездным небес. Желаньем единым томимы… О ночь! О любовь! О Инес!Какая женщина могла бы устоять против его ласк, нашла бы в себе силу уклониться от его поцелуев?
Была для меня ты Хименой, И Сид[37] во мне древний воскрес. Морскою обрызгана пеной, Меня целовала Инес. Запомню, и будут мне сниться И глаз твоих черных разрез И нежного шелка ресницы — Глаза у ресницы Инес.Море и небо, лунный свет и звезды, песнь, которую пели моряки, — все они были их сообщниками в этот вечер любви. Он говорил ей обжигающие слова, декламировал любовные стихи. Она слушала его, очарованная, окутанная подвенечной вуалью из серебряного света луны, кругом них было лишь море да небо. И когда они слились в страстном объятии, брызги от разбивающихся волн обдали ее белой пеной:
В твой взор проник я взором… Огромная волна окатила их.* * *
Семья скрывает слезы при его возвращении. Они видят мертвенно-бледное лицо, впалую грудь, слышат глухой голос. Старые друзья с Аугусто Гимараэнсом во главе собираются вокруг него, они уговаривают его объединить свои стихи в один том — единственный сборник, который ему было дано увидеть при жизни. Он рассказывает с воодушевлением о плане поэмы «Водопад Пауло-Афонсо». Он снова видится с еврейками Эстер и Сими, по-прежнему флиртует с ними, посылает им в окно поцелуи. Отправляет Луису Корнелио дос Сантос, верному своему другу по Рио-де-Жанейро, оригинал «Плавающей пены». Врачи не теряют надежду спасти его. И они советуют ему уехать в сертан, в леса Курралиньо, где он родился, ибо тамошний здоровый воздух, возможно, возродит его снова к жизни.
И в Курралиньо он снова встречает, негритянка, двух муз, которых он уже когда-то воспел и которых любил. Они еще раз соединяются, чтобы помочь ему в этой попытке исцеления: дикая, суровая природа сертана и Леонидия Фрага.
Нежная девочка в годы его юности, слабенький подросток, встреченный им некогда на каникулах, сегодня — самая хорошенькая девушка в округе, самая красивая обитательница сертана. И сердце свое она сохранила нетронутым для Кастро Алвеса, свободным от малейшей тени иной любви. Я уже тебе говорил, подруга, что она оставалась самой верной из его возлюбленных, той, которая любила его больше всех, той, которая обезумела от страдания, когда он умер. Он отдыхал у нее на груди, взбирался на романтические балконы, чтобы при лунном свете похитить у нее поцелуй. Теперь, когда болезнь и горе угнетали его сильнее, чем слава, она любила его еще больше, была еще более отзывчива на его ласки. Вот почему, моя негритянка, она заслужила от него бессмертные стихи.
Природа тоже встречает его с прежней любовью, деревья принимают его в свои объятья, журчащая вода рек освежает его лихорадочно горящее лицо, пение птиц убаюкивает его, чистый лесной воздух дарит ему здоровье. Он скачет верхом, охотится, бродит по лесам, и на глаза его набегают слезы радости от сознания, что он еще в состоянии наслаждаться близостью земли, в состоянии воспевать природу, мать его поэзии;
Прими меня, благая мать природа! Как блудный сын, прошусь к тебе назад, Туда, где в пене низвергает воды В непроходимой чаще водопад; Где травы и лиан живые своды Отдохновенье путнику сулят. К родным я возвращаюсь ныне ларам[38], Как долго рвался к ним с тоской и жаром! Для ослабевших струн усталой лиры. Природа, добрым мастером явись: Чтоб вновь они, как ветвь аукупиры, Для новых песен гибко напряглись. Чтоб мог на них я славить прелесть мира. Зеленый лес и голубую высь; Чтоб стал я сам, подобно этим струнам, По-прежнему счастливым, сильным, юным!Его поэзия полна описанием лесов Бразилии, природы ее тропиков. Певец рабов, свободы и любви, он был также великим певцом бразильских деревьев, ручьев и рек, водопадов и певчих птиц{95}.
И, отзываясь на зов леса, он уезжает еще дальше, подруга. Он едет на фазенду, его по-прежнему волнует судьба рабов. И зрелище могучей природы побуждает его к работе. На фазенде, когда он не ездит верхом и не охотится, он пишет стихи — он пишет поэму «Водопад Пауло-Афонсо». Едва он чувствует себя достаточно сильным, как он берется уже снова за свою лиру — свое боевое оружие — и снова ведет борьбу за идеалы свободы.
И здесь, в этой поэме, в известной степени самой сложной из всех его поэм, снова повторяются постоянные мотивы его невольничьей поэзии: бунт раба, его непокорство:
Пылая жаждой мщенья, Покорность рабскую забыв, Явился Лукас за расплатой. Весь — гнева ярого порыв.В этой поэме, подруга, столь полной красоты лесов и рек Бразилии, столь полной любовной тревоги, поэме, которая вся — борьба с существующим социальным режимом, он рассказывает нам романтическую и трагическую историю Марии и Лукаса, которые однажды под сенью сензал полюбили друг друга. Мария — «цветок мимозы средь рабынь», Лукас — сын лесов, «невольник-дровосек». Они полюбили друг друга однажды, и он пел ей песни любви по вечерам в лесу:
Моя Мария так красива… Стройнее пальмы гибкий стан. У ней чернее ночи косы И гуще зарослей лиан.Он жил ее улыбкой, и, наверное, настал бы день, когда они поженились, у них родились бы и выросли дети — сильные негры, которые рубили бы деревья в лесу, как Лукас, у которых были бы нежные глава, как у Марии. Но красивая рабыня — собственность хозяина, подруга, он ее господин. И он, а не Лукас, срывает цветок ее невинности. Судьба невольницы в руках ее хозяина, печальная это судьба. На богатой кровати из жакаранды Мария сжимается в комок, дрожит от ужаса, теряет сознание от одного прикосновения хозяина. Ее слезы не трогают человека, который заплатил за нее деньги и который является ее господином. Ее владельцем, подруга.
Этой же ночью, в пустынной сензале Лукас угадывает правду. И гневным голосом Кастро Алвеса он дает клятву отмщенья:
…Отмщенья! Врага постигнет злая месть За то, что предал поруганью Марии девственную честь! За кровь расплата будет кровью — И скоро час ее пробьет. Враг не найдет нигде спасенья, Сам бог элодея не спасет!Обесчещенная Мария уплывает на лодке по реке, Лукас бросается в воду и догоняет ее. Потрясающе скорбен диалог двух рабов. Мария говорит Лукасу, взывающему о мщении:
Дай умереть мне, любимый! В смерти позор мой сокрыть.. В сердце вонзилось глубоко Змея коварного жало. Лучше бы воды потока Челн наш разбили о скалы!Она умоляет его, чтобы он ушел, чтобы вернулся домой. Но он отвечает ей волнующим зовом. И они плачут вдвоем, погруженные в «темный лабиринт горя». Лукас хочет знать все, так как должен за все отомстить. Мария хранит молчание, но Лукас намеревается броситься в реку, и перед этой угрозой она сдается, она рассказывает ему о своем горе.
Лукас встает, «весь — гнева ярого порыв», — говорит Кастро Алвес. И Лукас обращается к Марии, подруга, обещает ей за все ее страдания прекраснейший из подарков — отмщение:
За слезы все, что пролила ты В тоске, терзаема стыдом, Явился Лукас для расплаты: Он отомстит своим ножом! Закон земной не даст отмщенья, И от небес его не жди; Уже готова для свершенья, Созрела месть в моей груди.Кастро Алвес любил, подруга, вооружать негров для мести и восстания. Что с того, что бедная невольница дрожит и не хочет назвать имя своего соблазнителя? Этот разговор, в котором она старается заставить Лукаса отказаться от мщения, а он спрашивает, не хозяева ли внушили ей столько ложных представлений, ценен как красотою стихов, так и той сознательностью, которой поэт наделяет раба:
— Греха боишься ты и преступленья… Поверь, Мария, это страх пустой. Тебе его для большего глумленья Внушил, наверно, сам хозяин твой: Чтоб выполняла все его веленья. Была покорна телом и душой. Однако ж сам, греха не видя в том. Стегал тебя без жалости кнутом. Нет! Наша правда выглядит иною! Они о ней молчат или бесстыдно лгут. И правду эту я тебе открою: Бесправье имя ей и рабский труд. Запрета нет хозяйскому разбою, — Его права законы стерегут. И если правду эту ты поймешь, Просить не станешь, чтоб я спрятал нож!И она решается. Но сначала напоминает Лукасу его собственную историю. Она напоминает, что его мать перед смертью открыла ему, что он сын хозяина, брат белого юноши, почти его ровесника, который был наследником фазендейро. И что у смертного одра матери он дал клятву не мстить. Этот белый брат Лукаса и обесчестил Марию.
Солнце за рекой клонится к закату. Лодка спускается вниз по течению. Лодка, в которой плывут мученица рабыня и невольник-мститель, все ближе подплывает к водопаду:
Вот Пауло-Афонсо! Водопад! Вспененных вод кипит гигантский ад!Мария заснула. Лукас будит ее. И оба они, единые в своем порыве, видят в пропасти водопада свободу. Суровая природа вокруг, река, водоворот Пауло-Афонсо.
И к ночи челн доплыл до водопада. Что клокотал на ложе из камней. Но мнилось им: за этих вод громадой Их ждут и брачный пир и Гименей. Был поцелуй последнею усладой Перед концом мучительных путей. В пучине грозной жалкий челн исчез. Раскрылись душам их врата небес.Мщение невозможно, и потому Лукас предпочитает убить свою любимую и умереть. Воды Пауло-Афонсо несут тела черных возлюбленных, которые не свободны даже в любви.
В далеком лесу Кастро Алвес, подруга, собирает последние силы, чтобы послать миру этот душераздирающий крик протеста. Даже в любви не свободны негры! И он, негритянка, назвал свою поэму «Песнью надежды, песнью будущего». Чтобы негры в один прекрасный день стали свободными для праздника жизни!
ГЛАВА 24
Сегодня ветер в утра час туманный
Про смерть мою завел со мною речь,
Я слушать не хотел! Еще желанна
Мне нагота твоих прекрасных плеч…
Чистый воздух сертана принес больной груди облегчение. На фазенде Оробо он написал «Водопад Пауло-Афонсо», и это было возвратом к его прежним аболиционистским стихам. Его освободительная лира почти замолкла с тех пор, как он заболел в Сан-Пауло. Дело освобождения рабов и республика жили поэмами, которые он уже написал. Но он считал, что этого мало, что ему еще надо многое сделать. Поэтому, вернувшись из сертана в Байю, он решает еще раз бросить свой боевой клич. Письма друзей, моя негритянка, говорили, что сборник «Плавающая пена» должен вот-вот выйти в свет.
В один из первых вечеров после возвращения Кастро Алвеса у него в доме собрались поэты — теперь вся Байя признала его, и он стал лидером самых молодых интеллигентов города. Поэт прочел собравшимся свою новую поэму, которую он привез из сертана. И был доволен тем волнением, которое отразилось на их лицах. И он пространно объясняет им, что поэзия должна отвечать чаяниям народа, должна служить делу народа, что никто не имеет права запереть ее в башню из слоновой кости, будто она хрупкая девушка. И что даже самая большая и самая несчастная любовь в мире не должна заглушить голоса поэта, если он выразитель народных чаяний. Кастро Алвес создает в Байе свой литературный кружок, как некогда в Ресифе и Сан-Пауло. На его зов откликаются голоса с севера и юга и из центра страны. Поэзия, подруга, покинула башню из слоновой кости и спустилась в народные массы.
На празднике «Литературного кружка» четырнадцатого октября, вскоре после того, как Кастро Алвес прибыл из сертана, была прочитана его поэма, посвященная прессе. Он написал ее накануне, специально для этого вечера, и попросил Жозе Жоакима да Палма, чтобы тот продекламировал ее вместо него. Чтобы прочел эти величественные стихи, которые Кастро Алвес сочинил, чтобы приветствовать оружие прессы, родственное оружию поэзии. Поэт стыдился декламировать перед публикой своим хриплым и глухим голосом чахоточного. Тот же стыд мешал ему ходить по улицам пешком, опираясь на костыли. Ведь народ всегда видел его красивым, здоровым, гордым, всегда слышал его ясный голос звучащим громко, четко долетавшим до самых отдаленных уголков театров и площадей. Так пусть же народ запомнит его только таким, каким он был когда-то, пусть не увидит его на костылях, не услышит его больным.
Он остался позади друга в ложе. Это было в театре Сан-Жоан, где поэт впервые был еще ребенком. В тот день его дядя — младший лейтенант — разорвал на сцене декорацию, и ребенок впервые созерцал это зрелище разгневанного, гордящегося своей силой взбунтовавшегося народа.
Жозе Жоаким да Палма начал декламировать «Бескровную богиню». Кастро Алвес, моя негритянка, коснулся всех благородных тем своего времени. Он не мог забыть про прессу — силу века, связующее звено между народом и интеллигенцией, этот таран, которым разбивали стены рабства и тирании:
Когда на страх владыкам и тиранам Народ всесокрушающим тараном Бастилий мрачных стены пробивал; И Мирабо, как новый Квазимодо, От имени французского народа Бурбонов самовластью угрожал; Тогда впервые в мире эта сила, Богиня новая, свой лик явила: И то была свободная печать. Пресса — это бескровная богиня. Нет, не мечом она врагов сражала. Она всегда бескровно побеждала, И суждено ей мир завоевать!Новый день начинается для человечества. И Кастро Алвес напоминает народу Баии, каким мощным оружием является пресса.
Поэма воспламенила толпу. Присутствующие требуют, чтобы сам поэт показался в ложе. И без устали рукоплещут, выкрикивают его имя, как имя друга, которого долго не было и который, наконец, неожиданно вернулся. Присутствие в зале поэта плодотворно для дела освобождения. Уже оно одно вызывает воодушевление. И Кастро Алвес, подруга, вернулся в этот вечер домой более счастливым, чем обычно. Любовь народа — это великое благо, и оно еще осталось поэту, лишившемуся здоровья и любви.
Болезнь все больше донимает Кастро Алвеса. Городской воздух вреден для его слабой груди. Его голос становится все глуше, лицо бледнее и худее, он теперь передвигается с трудом. Он выезжает лишь верхом и выглядит отличным наездником; так, на коне его чаще всего и встречают на улицах города. Он радуется, подруга, при виде отпечатанной «Плавающей пены», и первый экземпляр посылает Жозе Аленкару, другому писателю, революционизировавшему бразильскую литературу. Он уже нег декламирует на праздниках и редко бывает в театрах. И уж если решается появиться там, то приезжает первым. Чтобы все видели его уже сидящим и не заметили изменений, которые претерпела его фигура. Он все еще тщеславно гордится своей красотой. А с каждым днем легкие его разрушаются.
И вот наступает этот день 9 февраля 1871 года. Французская колония проводит в Торговой ассоциации митинг, чтобы собрать пожертвования в пользу семей солдат, погибших во франко-прусской войне. И когда собрание в разгаре, произносятся речи и читаются стихи, Кастро Алвес приезжает на своем сером в яблоках коне; Он одет во все черное, и глаза его лихорадочно блестят. Поэт входит, все устремляют на него взоры. Он просит слова, и на этот раз говорит сам — в зале по-прежнему звучит его голос. Однако он знает, что говорит для своего народа в последний раз:
Замутнены все чистые купели: В Европе ныне духом Макьявелли Сменился благородный дух Руссо; И грубой силы торжество все ближе, На шею злополучного Парижа Она взметнула подлое лассо.А раз так, то нужно, подруга, чтобы в защиту свободы и будущего подняла свой голос протеста печать Америки:
В защиту мира, вольности, прогресса, Звуча сильней, чем грохот канонад, Ты подними свой мощный голос, пресса, Печать Америки, ударь в набат! За два тысячелетия Европа Сумела драгоценный клад скопить. Наш долг — спасти его от нового потопа, Для поколений новых сохранить. Свободы палачи, вы слишком рано Над ней собрались ставить крест. Так пусть же вольный ветер с океана Домчит до вас наш гнев и наш протест!{96}Толпа, поскольку он уже не был в состоянии ходить, отнесла его домой на руках. Этот последний триумф был его крупнейшим триумфом, подруга. Над городом Байя громче, чем бой барабанов атабаке, разносится голос Кастро Алвеса, голос протеста, борьбы и возмущения. Голос свободы против угнетения.
Ему трудно выступать из-за болезни, но у него еще остается перо. И так как он создает вместе с другими поэтами и агитаторами Аболиционистское общество, он пишет баиянским женщинам послание{97}. Женщинам, которые всегда его поддерживали и любили. Он просит их в своем послании о пожертвованиях на общество, чтобы оно могло существовать. Он обращается к ним от имени рабов. Но он не просит. у «банкиров или миллионеров, богатых и могущественных. Нет! У меня, — говорит он, — есть в этом отношении инстинкт и стыд». Заметь, подруга, это тот же голос, что звучал в театре. То же бесстрашное мужество, та же правда водят его пером, это человек, который борется. Это письмо, революционное и лирическое, обращенное к женщинам его родины, — самая красивая страница в его прозе. Его последний клич в пользу рабов, последнее звено разрываемой им цепи, которая сковывает ноги, руки и сердца негров. Затем — неосуществленная мечта написать поэму о Палмаресе. Он умрет с этой мечтой, подруга.
* * *
Среди этих кондорских декламаций, этих аболиционистских посланий, этих перемен в состоянии его легких он как-то прочитал на одном вечере стихи о любви.
Я расскажу тебе, подруга, о последней женщине его жизни. В составе одной оперной труппы она, певица, колоратурное сопрано, приехала из Италии, из Флоренции. Но осталась в Байе и стала учить пению девушек из общества. Она учила сестер Кастро Алвеса, Муж ее бросил, и она поняла: для того чтобы заработать себе на хлеб насущный, ей необходимо в обществе с предрассудками строго соблюдать свое «вдовство». Сердце у нее было из бронзы, сказал Кастро Алвес, подруга. Оно было сделано из бронзы всех предрассудков, заметим мы. Высокомерная, бесстрастная, холодная. Мрамор из Флоренции, заброшенный в тропики. Имя её — Агнезе Тринчи Мурри — звучало, как стихи, моя негритянка.
И так как она всегда отказывала ему во взаимности — хотя и любила его{98}, — опасаясь сплетен, боясь потерять свое спокойствие, если она отдастся любви, он был в исступлении от страсти к ней и так и умер, грезя о ней. Она была его мечтой умирающего, эта холодная женщина с Адриатики, блондинка с пшеничными волосами, с кожей белой, как морская пена.
На этом вечере, который устроили в честь поэта и на котором Агнезе должна была петь, он поднялся, чтобы в последний раз прочитать ей публично стихи о любви. Чтобы попросить в них Агнезе уехать с ним… Так он держал себя по отношению к ней все эти месяцы, которые последовали после знакомства с ней и которые предшествовали его смерти. А ее отношение было весьма печальным и дурным, трусливым и бессмысленным: она все время отказывала ему во взаимности, испытывая в сердце желание уступить, но все же страх оказался сильнее этого желания. Она не захотела, подруга, принести в жертву любви земные блага, и в этом ей придется раскаиваться всю жизнь. Она поймет, что ее жертва была бесполезной: что блага жизни, как бы велики они ни были, не стоят бессмертия любви. Итак, он просит Агнезе уехать с ним вместе:
Пусть вымысла яркого ленту Фантазия нам разовьет: Поедем с тобою в Сорренто, Сейчас наш корабль отплывет!Стихи, которые он пишет для нее, для музы последних месяцев его жизни, — все об одном. Это призыв ответить ему взаимностью, это мольбы о поцелуе, потому что достаточно одного поцелуя, и ему уже легче было бы умереть:
…одного поцелуя… Пока не зарделась заря… Одного лишь прошу я…Последнее желание его жизни — чтобы его полюбила Агнезе Тринчи Мурри. Он называет ее неблагодарной, всячески искушает ее: «моя душа — цветущая западня для твоих ласк, женщина», — говорит он ей. Она, однако, продолжает оставаться «ледяной и спокойной».
Как мрамор статуи, прекрасно тело, В душе же у нее лишь лед и снег. В холодном сне она оцепенела. Не пробудить ее для ласк и нег.Даже его творчество, столь соблазнительное в свое время, его стихи, которые завоевали для него любовь стольких женщин, и таких разных женщин, — ничто не тронуло этот бездушный мрамор. Единственное, чего он хочет, это «выпить мед с розы этих уст», но она отказывает ему даже в поцелуе, боясь, что не устоит, если даст себя поцеловать.
* * *
Поэт чувствовал, что смерть приближается с каждым днем. Он уже не в силах ходить, просит, чтобы его кровать перенесли в большую гостиную в фасадной части дома, где он может наблюдать солнце, освещающее толпу на улице. Стоит июнь, и к небу поднимаются воздушные шары Сан-Жоана, маленькие звезды, которые создает народ. На небе, говорят негры, сияют звезды — души живших когда-то мужественных героев. Вот Зумби, негр из Палмареса, Кастро Алвес смотрит на него с постели. Он лег на эту постель двадцать девятого числа, чтобы уже больше никогда не встать. И попросил, чтобы не впускали Агнезе, — пусть она не видит его умирающим. Он все еще мечтает о ней, хотя это уже несбыточные мечты, он грезит о Палмаресе, о поэме, которую он так и не успел написать. Мечтой его последних дней было воспеть негритянскую республику Палмарес{99}.
Из этой поэмы до нас, подруга, дошли лишь несколько стихов, его приветствие республике беглых негров. То было «смелое орлиное гнездо», «край храбрецов», «оплот свободы»:
Только в порожденном жаром Ты присниться можешь сне: О приют, где с ягуаром Обитает кондор наравне!Пусть другие поэты воспевают празднества королей:
Скован рабства крепкой цепью. Евнух жалкий воспоет И дворцов великолепье И тиранов подлый гнет…Он же будет воспевать Палмарес, и этот гимн станет вершиной его гения:
О Палмарес несравненный, О свободы цитадель!.. Неприступным равный скалам, Будто обнесенный валом, Смог оплотом небывалым Для раба ты ныне стать. Незадачливым сеньорам Раб в лицо кричит с задором: — Нет, ни силой, ни измором Вам Палмареса не взять!Ночью, которую лихорадка наполняет видениями, он ясно представляет себе эту свою поэму о Палмаресе. Дни умирающего июня и рождающегося июля залиты солнцем, ночи украшены воздушными шарами. И когда в сверкании этих шаров пропадает видение Агнезе, белокурой и голубоглазой, — мрамора, потеплевшего от его ласк, — он видит в своем горячечном бреду героев Палмареса, восставших могучих негров, готовых за свою свободу принять смерть. На этот раз он не слагает новой оды в День 2 июля, рука уже отказывается ему служить. Агнезе идет в театр, но кто из тех, что когда-то в другой День 2 июля слышали Кастро Алвеса, кто из них думал в этот вечер о спектакле? Они мысленно обращались к тому, кто всегда в эту знаменательную для Баии годовщину поднимал свой голос, чтобы приветствовать свободу, к тому, кто привел ее под руку, как невесту, в их среду, к тому, кто сейчас умирает от чахотки в большом доме на улице Содрэ. Агнезе принесла поэту из театра весть, что народ взывал к нему в театре, сетуя на его отсутствие, отсутствие своего вожака. Он улыбнулся, народ верен своим друзьям, моя негритянка, народ — хороший друг.
Лихорадка поглощает последние дни из его двадцати четырех гениальных лет. На рассвете с пятого на шестое июля, когда все спят, он, один в своей постели, грезит об Агнезе. Но вот он слышит бой атабаке. Нет, подруга, эти звуки доносятся издалека, с далеких гор. Бьют барабаны в Палмаресе, там собираются негры, их целая армия. Зумби останавливается возле его постели. Уходит Агнезе, исчезла ее белокурая головка. Сейчас на ее месте негр-освободитель. На заре, занимающейся над Байей, Зумби и Кастро Алвес беседуют, моя подруга, о Палмаресе.
ГЛАВА 25
Призыва пламенного сила
Жила всегда в его речах;
В народе мужество будила,
В тиранах — злобный страх.
Как красив к вечеру таинственный город Байя! От домов, от замощенных огромными камнями улиц, от голубого неба, от гор веет поэзией.
Заходящее солнце проникает через окна. «Я хочу умереть, любимая, глядя в бесконечную лазурь», — сказал он и попросил перенести его кровать из спальни в гостиную. И вот он сейчас наедине с красотой наступающего вечера. Все вышли из комнаты, полагая, что ему стало легче. Это хорошо: его не будут волновать и печалить разговоры вполголоса, едва сдерживаемые слезы. Он сможет безмятежно созерцать июльский вечер. Его сестры, друзья, Агнезе Тринчи Мурри, врачи — все удалились…
Но вот кто-то легкой походкой входит в комнату; это женщина с застывшей, странной улыбкой. Он всегда был любезен с женщинами, и они тоже были добры к нему. Он и теперь любезно приветствует вошедшую, улыбаясь, произносит любовный стих, он уже узнал ее: это Смерть, последний из «ангелов полуночи». Поэт поднимает голову, берет Смерть за руку и еле слышно говорит ей:
Кто ты, подобная невесте, В наряде белом и венце? Из мира тайн пришла ты с вестью О наступающем конце.Еще одна возлюбленная, прекрасная, как и все остальные.
«Я был Дон-Жуаном, — говорит он, — но ты будешь моей последней любовью. Я уйду с тобой и буду счастлив, моя божественная».
Смерть улыбается; какая женщина может устоять против соблазна его голоса, против обаяния его прекрасного, благородного облика?
А между тем он продолжает говорить: «Но прежде чем уйти с тобой в нашу первую ночь любви, которая будет полна нежных ласк, дай мне проститься с моими прежними возлюбленными и моими друзьями».
И она соглашается. Разве можно в чем-либо отказать поэту?.
И, закрыв свои черные глаза, он целует чистый лоб Эулэлии Филгейрас, которая приближается к нему. Подходит и Дендем с лукавой улыбкой; он целует уста Марии Кандиды. Приходят три красавицы еврейки: Мари, Сими и Эетер, — ведь он любил всех троих. Из далеких краев появляется Инес — его черноволосая возлюбленная испанка. Перед ним возникает Мария Каролина из Сан-Пауло, за нею Идалина, которую он так любил в Ресифе! Вот Леонидия, невинная девушка из сертана, на груди у которой отдыхала его горящая в лихорадке голова. В руках она несет полевые цветы, на устах ее играет улыбка. А вот окутанная туманом Синья Лопес дос Анжос из Сан-Пауло. И, наконец, Агнезе, холодная Агнезе, а за нею, с глазами, покрасневшими от слез, с руками, протянутыми к нему, такая прекрасная и любимая — Эужения!
Теперь наступила очередь друзей… Тобиас — этот гигант мулат декламирует стихи. Подходит согбенный Машадо де Ассис; как всегда, он насмешливо улыбается. За ним появляется еще один гигант — Аленкар. Жозе Бонифасио произносит речь в честь либералов. Подходят Руй, Набуко, Бразилио Машадо, они идут впереди студентов из Ресифе, из Сан-Пауло. Во главе своего батальона марширует Масиэл Пиньейро, доброволец родины. Подходят актеры — Жоаким Аугусто, Васкес, Фуртадо Коэльо и Аделаиде. Фагундес Варела с грустью во взоре декламирует стихи. Луис Корнелио склоняется над поэтом, прощаясь: «До свиданья, друг». Подходят родители, брат, сестры, свояки, Аугусто, мукама Леополдина…
Теперь они уже не следуют друг за другом. Они идут толпой, их много, во главе их с кинжалом в руке, с пылающим взором идет младший лейтенант Жоан Жозе… Какая у него свирепая улыбка! А вот Леолино и Порсия, они проносятся галопом, он везет свою возлюбленную на крупе коня. За ними майор Силва Кастро и всадники из семейств Моура и Медрадо. Меткий стрелок Эзуперио едет рядом с Леолино.
К поэту устремляется толпа; она идет с площадей Ресифе освобождать народных трибунов и арестовывать деспотов; шагает восставший народ из Баии; движется масса людей из Рио-де-Жанейро, чтобы отпраздновать победу при Умаите; подходит толпа из Сан-Пауло — она требует провозглашении республики.
И как бы заключая это нескончаемое шествие, идут негры. Их столько, будто вся черная раса Бразилии пришла проститься с любимым поэтом. Они несут свои оковы, которые разорваны с помощью его оружия — поэзии. Впереди всех Зумби, за ним восставшие негры из Палмареса, Лукас и Мария, которые могут, наконец, свободно любить друг друга. С разорванными цепями идут белые и черные, идут мулаты и метисы, мужчины и женщины… Они движутся по дорогам, которые указал поэт, по путям, которые он для них проложил.
Но это еще не все… Из глубины жизни возникают герои, которых он воспел в своих бессмертных творениях. Тирадентес с веревкой мученика, Андрада с земным шаром в руке, Педро Иво на своем черном коне. И над ними изумительно прекрасная, самая любимая из возлюбленных поэта — Свобода. Все они проносятся в фантастическом, сказочном галопе, поют написанные им песни, гимны восстания и любви. Они устремляются к будущему, и нет таких оков, которых им не разорвать… Вся эта гигантская толпа движется под звучный гул его стихов. И впереди всех шествует Свобода.
И тогда, моя негритянка, Кастро Алвес еще раз берет руку Смерти, приглашает ее любезным жестом и уходит вслед за всеми.
ГЛАВА 26
Любви, о жизнь моя, одной любви!
А теперь, подруга, когда я убаюкал тебя этой повестью о поэте и сказал, что мы снова увидим его на заре, услышим его голос над морем, горами и городами, теперь, когда ты несешь его в сердце, закрой глаза на ночь, дай мне отдохнуть у тебя на груди, ибо ночь создана для любви. Сядем на песок, побелевший от серебряного света луны. Пусть твои распущенные волосы покроет сияние луны и мерцание звезд.
Мы отдохнем с тобой, а завтра, подруга, я расскажу тебе историю о неграх и моряках…
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Книга Жоржи Амаду «Кастро Алвес» — не просто биография поэта, хотя написана она на основе всех существующих в бразильской историографии источников, хотя жизненный путь Кастро Алвеса воссоздан с документальной точностью на широком общественном и литературном фоне. И это не исследование поэзии Кастро Алвеса. Книгу писал не ученый-биограф, не литературовед, а большой писатель с оригинальным, глубоко национальным талантом. Законченная в 1941 году, она стоит в ряду романов, созданных Амаду в тридцатых годах, связана с ними внутренним единством, хотя там говорилось о современности. Недаром Амаду упоминает на первых же страницах «Кастро Алвеса» свои романы «Жубиаба», «Мертвое море». То были особые книги. Амаду пытался в них воспроизвести строй народного сознания, черты бразильского национального характера, запечатленные в художественном творчестве народа. Героями романов были простые люди: негр — народный певец, моряк, беспризорник, ставший рабочим-активистом. Вокруг героя теснился мир предместий города Баии с его горестями и надеждами, поисками правды и счастья, суевериями и удивительной поэтической фантазией. Амаду умеет оживлять в своих книгах подлинную народную среду, это сказалось и во многих главах «Кастро Алвеса». Но Амаду не только описывал, как живет народ; в самой структуре повествования, в композиции, в образных средствах, в языке он передал особое, народно-поэтическое восприятие жизни. Амаду опирался на бразильский фольклор. Он строил свои книги, как «АВС» — популярнейший вид народной баллады, рассказывающей о жизни и подвигах какого-нибудь прославленного в народе разбойника, силача, уличного певца. Это не только прием композиции: деление произведения на короткие главки, напоминающие строфы «АВС», начинающиеся с каждой следующей буквы алфавита. Амаду рассказывает о своих героях так, как это делает фольклорное повествование, писатель как бы прячется за легендой, отождествляет себя с уличным певцом, с рассказчиком историй, передающихся из уст в уста среди портового люда Баии. Для фольклора вообще характерно «укрупнение» образа. Народная легенда не дробит человеческий характер, а рисует его обобщенно, в самых сильных движениях души, немногими напряженными красками, избегая полутонов. И Амаду не подвергает характеры своих героев скрупулезному психологическому анализу, достигшему такого совершенства в современной литературе, а сохраняет их цельность, так что подробности кажутся скрытыми дымкой народной легенды. Эти черты фольклорного стиля мы узнаем и в книге о Кастро Алвесе: и в приподнятой, чуть декламационной интонации, и в лирических отступлениях, и во всем строении повествования. Как в народной песне, каждый образ здесь несет свою неизменную лирическую тему (Леонидия — верность, Идалина — нежность, Эужения — трагическая страсть и т. п.). Психологические нюансы сглажены, в людях выделена какая-то одна главная черта характера, определяющая их отношение к Кастро Алвесу и его поэзии. Читатель погружается в стихию народной лирики, из которой выросла поэзия Кастро Алвеса, ощущает страстность в утверждении и отрицании, страстность в любви и борьбе, присущую поэзии бразильского народа и вобранную музой Кастро Алвеса. Мы не только узнаем о жизни и творчестве поэта, мы переживаем с ним и за него, его история трогает и потрясает, как песня. Сопереживание, которое вызывает в народе созданный его же гением фольклор, — вот к чему стремился Жоржи Амаду.
Но это обязывает нас к некоторым пояснениям и уточнениям. В книге идет речь об одном из важнейших этапов в истории Бразилии и ее литературы, о сложных общественных и эстетических процессах. А путь, избранный Жоржи Амаду, не всегда позволял ему вдаваться в исторические и тем более теоретические рассуждения, некоторые важные проблемы он не анализировал, а упрощал, чтобы повествование было понятно и воздействовало бы эмоционально на читателей любого уровня.
Прежде всего это вопрос о происхождении бразильского романтизма и европейских влияниях на бразильских поэтов. Романтизм в Бразилии не был ни следованием европейской моде, ни подражанием европейским романтикам. Эпоха общественных сдвигов и потрясений, начавшаяся с провозглашения независимости Бразилии (1822) и вооруженных демократических движений тридцатых-сороковых годов, затем тяжелый затяжной кризис рабовладельческой монархии и, наконец, новый общественный подъем, вызванный борьбой за отмену рабства и установление республики, — вот основа бразильского романтизма, источник его оригинальности. И в движении литературы, в смене одного романтического течения другим ясно прослеживается глубокая связь с историческими судьбами страны. Выдающиеся романтики старшего поколения: Гонсалвес Диас и Жозе де Аленкар (тот самый, что радушно принял Кастро Алвеса и способствовал его общенациональной славе) были вдохновлены эпохой достижения независимости. Они основали «индианистскую» школу в литературе, ибо этический идеал они связывали с индейцем как исконной, подлинно национальной, наиболее близкой к родной природе частью бразильского народа. Индейцы в их книгах наделены самыми благородными, рыцарскими чертами характера — в этом многие критики усматривали подражание Шатобриану. Но нельзя забывать, что там, где Шатобриан искал экзотики, убежища от европейской действительности, бразильские романтики приближаются к действительности, к прошлому своего народа, к его борьбе за независимость. Индейцы в их книгах противопоставлены всему португальскому, колонизаторскому, чужеземному. И даже идеализируя индейцев, бразильские романтики воссоздали впервые в литературе многие подлинные черты жизненного уклада индейских племен, их мировосприятия, познакомили современников с индейским фольклором.
Уже опыт индианистской школы убеждает, что европейская литература служила как бы эстетическим университетом для молодой, не имевшей еще собственных традиций бразильской литературы. У европейских романтиков черпались формы и образные средства (так, Аленкар учился строению романического сюжета у Вальтера Скотта), но сам отбор этих средств определялся прежде всего отношением писателей к проблемам национальной жизни.
Гонсалвес Диас и Аленкар были в поре творческой зрелости, а в бразильской литературе уже раздались тревожные голоса молодых поэтов, почувствовавших «неладное что-то» в бразильском королевстве (присвоившем себе громкий титул «империи»). В 1848 году было подавлено последнее крупное антимонархическое восстание. Рабовладельческая монархия казалась незыблемой. Рабство становилось тормозом всякого прогресса, источником застоя и реакции. Конечно, подспудно накапливались экономические изменения, развивалась промышленность, но эти изменения были медленны и скрыты, не заметны для глаза художника. Патриархальная закостенелость сковывала общественную жизнь. Для огромного большинства общества, для складывающейся интеллигенции (а поэты-романтики были в основном студентами, молодыми интеллигентами) активная политическая деятельность была практически недоступной, ибо вся власть сосредоточивалась в руках немногих крупных помещичьих семейств. Идеологическая отсталость была страшна — до семидесятых годов в Бразилию почти не проникали достижения передовой европейской мысли, господствовала католическая ортодоксия. В застойной атмосфере тосковали, сходили с ума, умирали от раннего туберкулеза и алкоголя юноши-поэты. Конечно, они были далеки от народа — ив этом была их беда, их трагедия. Они искали опоры для своего творчества в реальном мире — об этом свидетельствуют чудесные, хрустальные стихи Фагундеса Варелы или Казимиро де Абреу о природе Бразилии. Но преодолеть трагический разлад с жизнью они были не в силах. Им казалось, что их тоска и отчаяние имеют космическое, извечное происхождение, раз их стихи перекликаются со стихами прославленных поэтов Европы и США. Не только Байрон, но и Гофман, Мюссе, По были спутниками их духовного поиска. (Сильным влиянием Э. По отмечено единственное прозаическое произведение этого поколения — «Ночь в таверне» Алвареса де Азеведо) Их восприятие Байрона было односторонним — они упивались «мировой скорбью» и не видели революционности великого поэта. Это как раз и подтверждает их оригинальность: они выражали свой исторически объяснимый трагизм и впитывали из мировой поэзии лишь то, что было созвучно их душевному миру.
Что же. помогло Кастро Алвесу отбросить их смертельное уныние и обрести жизнеутверждающий пафос борца? Алвес был гениальным поэтом, и его гениальность состояла прежде всего в могучем историческом чутье, позволившем ему уловить надвигающиеся перемены и выразить их. Движение за освобождение рабов и свержение монархии еще не превратилось тогда в грозную силу, которая заставит правящий класс отступить и принять в 1888 году закон об отмене рабства, а через год — пожертвовать монархией перед лицом общественного протеста. Но уже при жизни Кастро Алвеса то там, то здесь вспыхивали мятежные огоньки. И поэзия Кастро Алвеса, как увеличительное стекло, собрала эти огоньки и превратила их в обжигающий огонь и тем разожгла еще большее пламя. В последующие десятилетия стихи Алвеса вдохновляли аболиционистов, собирали силы аболиционистского и республиканского движения.
Меняется и идейная, интеллектуальная атмосфера. Именно в Ресифе, где сформировалось революционное направление творчества Алвеса, уже складывается группа передовых мыслителей, которые спустя несколько лет много сделают для просвещения голов в Бразилии, ополчатся на безраздельное господство теологии, пропагандируя новые течения европейской науки. Надо сказать, что облик одного из виднейших мыслителей этой эпохи, Тобиаса Баррето, представлен в книге Амаду неполно и не всегда объективно. Правда, Амаду описывает только молодость Баррето, но все-таки жаль, что в этом юноше мулате трудно угадать будущего замечательного философа, бесстрашно атаковавшего религиозный обскурантизм и схоластику, впервые познакомившего бразильскую интеллигенцию с немецким материализмом. Это отчасти объясняется тем, что к 1941 году, когда была написана книга Амаду, философское наследие Тобиаса Баррето еще не было исследовано с должной глубиной. Лишь в наши дни благодаря работам прогрессивных бразильских историков открылось подлинное новаторское значение труда Баррето.
В мировой поэзии Кастро Алвесу, поэту-агитатору, ближе всего была гражданская лирика Гюго с ее трибунным пафосом. Но это не означало, что он разочаровался в поэзии Байрона. Наоборот, именно Кастро Алвес сказал о Байроне не как об учителе отчаяния, а как об учителе борьбы: в книге Амаду приведены строки из послания Алвеса к его другу Пиньейро: «Для Новой Греции ты Байрон новый…» Он читает по-новому Байрона, он ищет новый идеал поэта в Гюго, потому что абсолютно нова его собственная творческая программа.
Творчество Кастро Алвеса — орлиный, «кондорский» взлет революционного романтизма. Вместе с тем это последний, решающий этап подготовления реализма в бразильской литературе. «Поэзия негров» (как ее называет Амаду) была реалистичнее «поэзии индейцев» не только потому, что в XVIII–XIX веках негры составляли большую часть той «армии труда», что создала богатства Бразилии: плантации сахара, хлопка и кофе, рудники и порты. Но прежде всего потому, что в середине прошлого века рабство негров было той кардинальной проблемой, от решения которой зависело все дальнейшее существование страны. И, обратившись к негру, литература сделала огромный шаг к исследованию важнейших закономерностей социального развития.
Не только политические, но и любовные стихи Кастро Алвеса связаны с историческим переворотом в бразильском обществе и литературе. Пожалуй, самое очевидное в бразильской поэтической традиции — это исключительная роль любовной лирики. Традиция идет от Грегорио де Матоса, первого национального поэта, еще в XVII веке изливавшего в стихах нежные чувства к мулаткам города Баии. Поэт и мыслитель, участник антипортугальского республиканского заговора, Томас Антонио Гонзага прославился двумя томиками любовных элегий, многие из которых стали народными песнями. Второй томик написан им в тюрьме, накануне суда и африканской ссылки, где он погиб. В книге Амаду подробно рассказана история драмы Кастро Алвеса «Гонзага, или революция в Минас-Жераис», свидетельствующая об отношении Алвеса к Гонзаге как к своему прямому предшественнику, любимому герою.
В преобладании любовных мотивов в бразильской поэзии многие критики усматривали проявление «тропического темперамента», свойственного национальному характеру. Мы думаем, что прежде всего в этом повинны исторические обстоятельства, та идеологическая атмосфера в стране, о которой сказано выше. Абсолютное господство религиозной доктрины сковывало литературу. Бразильским поэтам было неизвестно богатство философских идей, которое было впитано европейской поэзией и стало содержанием лирики Гёте или Шелли. Особенно это относится к XIX веку: если Гонзага хорошо знаком с литературой Просвещения и его этические и эстетические идеалы определены просветительскими идеями, то поэты-романтики до Кастро Алвеса, по существу, и не представляли, какие новые горизонты открылись перед европейской наукой и философией. В стихах множества посредственных и даже не лишенных таланта (как Гонсалвес де Магальяэнс) поэтов XIX века религиозные раздумья составляли первейшую задачу поэзии. Поэтому для Алвареса де Азеведо любовная тема становилась единственным путем утверждения своей индивидуальности, ценности личных переживаний, отмежеванных от всеобщности веры. Любовная лирика романтиков, ее подчеркнутая реальность, ибо она отражает подлинную душевную жизнь поэта, бросала вызов и господствующей идеологии и господствующей морали. До Кастро Алвеса, расширившего границы поэзии и включившего в них необозримые области политики, идейной и социальной борьбы, любовная лирика была в руках романтиков, быть может, самым действенным орудием отрицания окружающего мира. Кастро Алвес вырос из этой традиции, он не мог отказаться от национальной почвы своего творчества. Но как меняет всю эмоциональную гамму любовного чувства новое направление, открытое искусству революционным романтизмом Алвеса! У Алвареса де Азеведо мучительная неразделенная любовь, неутоленное желание как бы собирают все его смертельное отчаяние, неприятие жизни. А у Кастро Алвеса откровенно земная, радостная чувственность раскрывает совершенно другую человеческую личность: активную, стремящуюся к полноте жизни, к завоеванию счастья.
Лицо этого Человека, пылкого, ослепительно талантливого, не разделяющего свое и народное, политику и любовь, способного, как птица кондор (любимый его поэтический образ!), далеко видеть и упиваться парением в опасной вышине, — это лицо смотрит на нас со страниц книги Жоржи Амаду.
И. ТЕРТЕРЯН
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА КАСТРО АЛВЕСА
1847, 17 марта — В Курралиньо, в семье доктора Антонио Жозе Алвеса и Клелии Бразилии, родился сын — Антонио Кастро Алвес.
1860 — Кастро Алвес пишет первые стихи в колледже в Байе.
1862 — Поступает в Ресифе на подготовительное отделение факультета права.
1863 — Зачислен на факультет права. Пишет поэму «Песнь африканца».
1864 — Принимает участие в республиканском митинге в Ресифе.
1865 — Создает поэмы, проповедующие освобождение негров от рабства: «Век», «Рабы» и «Черный мститель».
1866 — Организовывает в Ресифе первое аболиционистское общество.
1866–1867 — Пишет в Ресифе пьесу «Гонзага».
1867 — Едет в Байю, где создает кондорскую литературную школу.
1868 — Отправляется из Баии на юг (Рио-де-Жанейро, Сан-Пауло). Пишет в Сан-Пауло поэмы «Голоса Африки» и «Негритянский корабль».
1869 — Создает поэмы «Ода Второму июля» и «Мать пленника».
1870 — Уезжает в Курралиньо, где пишет поэмы «Плавающая пена» и «Водопад Пауло-Афонсо».
1871, 9 февраля — Выступает в последний раз на благотворительном митинге в Байе.
1871 — В ночь с 5 на 6 июля скончался в Байе от туберкулеза.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Отец Кастро Алвеса.
Мать поэта.
Дом, где родился Кастро Алвес
Рисунок Кастро Алвеса.
Усадьба в Курралиньо, где жил поэт. Рисунок Кастро Алвеса.
Рукопись стихотворения Кастро Алвеса «В альбом», написанного в марте 1865 года.
На хлопковой плантации.
Сушка хлопка.
Рубка сахарного тростника.
Кабры на привале.
Крестьяне бегут от засухи на юг.
Скульптура пророка Иоиля в городе Конгоньянс-до-Кампо работы известного бразильского скульптора Антонио Франсиско Лисбоа, по прозвищу Алейжадиньо.
Одна из скульптур Алейжадиньо, украшающих храм в Конгоньянс-до-Кампо.
Алейжадиньо в скульптуре — Кастро Алвес в поэзии.
Характерные для Баии лепные украшения.
Дом в колониальном стиле.
Байя гордится своими 365 церквами.
Одна из центральных площадей Ресифе.
Вид на Ресифе с моря
Ресифе называют бразильской Венецией.
Общий вид города.
Типичный пейзаж на побережье океана.
Народные певцы-музыканты.
Незавидна судьба молодых матерей негритянок.
Жилища негров.
Рыбный базар на набережной Баии.
Баиянские негритянки.
Баркас с изделиями гончаров-кустарей.
Баия славится своей керамикой.
Панорама Рио-де-Жанейро
Сахарная голова — гора при входе в бухту Гуанабара.
В бухте Гуанабара.
Канал Манго.
Примечания
1
Лампиан — прозвище знаменитого бразильского бандита Вирголино Феррейра да Силва (1900–1933). (Здесь и далее примечания переводчика.)
(обратно)2
Сертан — внутренние засушливые районы Бразилии.
(обратно)3
Антонио Балдуино, Безоуро, Лукас да Фейра, Роза Палмейран — герои романов Жоржи Амаду «Жубиаба» и «Мертвое море».
(обратно)4
Жулио Афранио Пейшото (1876–1947) — бразильский писатель и ученый. Написал книгу «Кастро Алвес, поэт и поэма».
Мусио Севола Лопес Тейшейра (1858–1926) — бразильский поэт и прозаик. В числе других книг написал: «Поэзия и поэмы» и «Исторический синтез бразильской литературы».
Франсиско Шавиер Феррейра Маркес (1861–1942) — бразильский писатель и политический деятель Автор исследования «Жизнь Кастро Алвеса».
Эдисон Карнейро (род. в 1912) — бразильский писатель-социолог. Автор книг: «Кастро Алвес», «Киломбо Палмарес» и др.
Педро Калмон (род. в 1912) — бразильский литературовед, автор многих монографий, в том числе о Кастро Алвесе.
Эуклидес да Кунья (1866–1909) — бразильский писатель, автор монументального произведения «Сертаны». Написал книгу «Кастро Алвес и его время».
Руй Барбоза (1849–1923) — бразильский политический деятель, писатель, журналист. Он был одним из виднейших трибунов своего времени, юристом международного масштаба. Был президентом Бразильской академии словесности.
Жилберто Амадо (род. в 1887) — бразильский писатель-эссеист, поэт, правовед и дипломат. Автор книги «Дух нашего времени» и др.
Пиньейро Виегас (род. в 1888) — баиянский поэт-сатирик.
Агрипино Гриеко (род. в 1888) — бразильский литературный критик. Автор многих работ о Кастро Алвесе, а также трудов: «Эволюция бразильской поэзии» и «Эволюция бразильской прозы».
(обратно)5
Каатинга — зона лесов с низкорослыми деревьями и колючими кустарниками.
(обратно)6
Фазенда — поместье, плантация.
(обратно)7
Каза-гранде — помещичий дом.
(обратно)8
Сертанежо — уроженец, обитатель сертана.
(обратно)9
Мукама — негритянка-рабыня (прислуга или кормилица).
(обратно)10
Жозе Бонифасио де Андрада э Силва — (1763–1838) — бразильский политический деятель и писатель, патриарх борьбы за независимость Бразилии.
(обратно)11
Канжика — каша из кукурузной муки.
(обратно)12
Мунгунза — лакомство, приготовляемое из зерен кукурузы. Они варятся в сахарном сиропе, иногда с молоком.
(обратно)13
Мануэ — пирог из кукурузной муки с медом и другими сладостями.
(обратно)14
Капоэйра — в данном контексте исполнитель народного танца, имитирующего борьбу.
(обратно)15
В городе Коимбра находится знаменитый португальский университет, основанный в 1307 году.
(обратно)16
Кандомблэ — негритянский религиозный обряд, сопровождаемый танцами и пением.
(обратно)17
Жоаким Аурелио Баррето Набуко де Араужо (1849–1910) — бразильский поэт, историк и дипломат.
(обратно)18
Жоан Морис ван Нассау (1604–1675) — голландский генерал и политический деятель, генерал-губернатор голландских владений в Бразилии.
(обратно)19
Энженьо — сахарный завод с плантацией сахарного тростника.
(обратно)20
Тобиас Баррето де Менезес (1839–1889) — бразильский философ, юрист, поэт, прозаик.
(обратно)21
Селва — тропические леса Бразилии.
(обратно)22
Луис Николау Фагундес Варела (1841–1875) — бразильский поэт-лирик, последователь Мюссе и Байрона. В течение всей жизни подвергался преследованиям со стороны своих противников, но сумел извлечь из этого пользу, создавая волнующие песни страдания. Им написаны поэмы: «Ноктюрны», «Песни глуши и города», «Песни и фантазии», «Южные песни», «Золотисто-зеленое знамя», «Аншиэта» и др.
(обратно)23
Огни святого Эльма — светящиеся электрические разряды, возникающие на верхушках мачт при приближении грозы.
(обратно)24
Руководители освободительного движения либералов в 1848 году.
(обратно)25
Антонио Боржес да Фонсека — один из лидеров республиканского движения, в свое время вождь повстанцев в Пернамбуко (1848).
(обратно)26
Луис Каэтано Перейра Гимараэнс Жуниор (1847–1898) — бразильский поэт и дипломат.
(обратно)27
Египетский царедворец, жена которого пыталась обольстить целомудренного Иосифа.
(обратно)28
Томас Антонио Гонзага (1744–1810) — бразильский поэт. Прославился своей книгой «Дирсеева Марилия». Участник Инконфиденсии Минейры.
Алваренга Пейшото — бразильский поэт, друг Гонзаги, участник Инконфиденсии Минейры.
(обратно)29
Мануэл Мария Барбоза дю Бокаж (1765–1805) — португальский поэт, специализировавшийся на эпиграммах, резкой, грубой сатире.
(обратно)30
Луис Жозе Жункейра Фрейре (1832–1855) — бразильский поэт. Уйдя в монастырь, он стал поэтом-субъективистом. Из сомнений и отчаяния рождается его эгоцентристская поэзия. Им написаны «Вдохновение монастыря», «Поэтические противоречия», «Элементы национальной риторики». Он был членом Бразильской академии словесности.
(обратно)31
Алешандре Жозе до Мело Мораис Фильо (1844–1919) — бразильский поэт и этнолог.
(обратно)32
7 сентября 1822 года была провозглашена независимость Бразилии от Португалии.
(обратно)33
Жозе Мартиниано де Аленкар (1829–1877) — один из крупнейших писателей Бразилии, романист и драматург, основоположник «индианистской» литературы. Был членом Бразильской академии словесности. Занимался также политической деятельностью — был депутатом национального конгресса, министром юстиции. Его перу принадлежат: роман «Ирасема», пьесы «Гуарани», «Гаушо», «Сертанежо» и др.
(обратно)34
Жоаким Мария Машадо де Ассис (1839–1908) — бразильский прозаик, поэт и драматург. Считается бесспорно крупнейшим романистом Бразилии. Его произведения отличаются чистотой стиля, они проникнуты горьким юмором. Он был первым президентом Бразильской академии словесности. Его наиболее популярный роман «Дон Касмурро» переведен на русский язык.
(обратно)35
Тижука в то время была предместьем Рио-де-Жанейро; ныне это один из районов города.
(обратно)36
Сражение у прохода Умаита на реке Парагвай произошло между бразильскими и парагвайскими войсками 19 февраля 1868 года. Бразильская эскадра, поддержанная наземными войсками, одержала победу, форсировав проход Умаита и нанеся парагвайцам большой урон.
(обратно)37
Сид — герой национального испанского эпоса; Xимена — его возлюбленная.
(обратно)38
Лары — древнеримские божества, покровители домашнего очага.
(обратно)39
Журити — бразильские лесные голуби. (Прим. перев.)
(обратно)40
Гонгоризм — испанская поэтическая школа, следовавшая образцам испанского поэта Луиса Гонгора и Аргота (1561–1627). Она характеризуется обилием метафор, антитез, инверсий, каламбуров и т. п. (Прим. перев.)
(обратно)41
Кондорская школа — литературное направление в Бразилии, возглавлявшееся Кастро Алвесом. Характеризуется приподнятым, возвышенным стилем поэтических произведений. (Прим. перев.)
(обратно)42
Жоаким Теофило Фернандес Брага — португальский поэт (1843–1924). (Прим. перев.)
(обратно)43
13 мая 1888 года в Бразилии был издан «Золотой закон».
(обратно)44
Жозе Мария Эса де Кейрос — португальский писатель (1846–1900). (Прим, перев.)
(обратно)45
Мария II да Глориа (1819–1853) — королева Португалии, дочь бразильского императора Педро I. (Прим. перев.)
Грегорио де Матос Герра — бразильский поэт (1623–1692). (Прим. перев.)
(обратно)46
Жоржи Амаду имеет в виду вторую мировую войну — эта книга была написана в 1941 году. (Прим. перев.)
(обратно)Комментарии
1
Во многих поэмах Кастро Алвеса из сборника «Водопад Пауло-Афонсо», где в замечательных стихах описана страстная любовь Марии и Лукаса, места действия навеяны, видимо, обстановкой, в которой протекал роман Порсип. Как знать, не использовал ли поэт слышанные им в детстве истории о его тетке и Леолино для описания любви мукамы и негра, любви, протекавшей в борьбе против всего, что их окружало? Во всяком случае, иные сцены явно напоминают эпизоды несчастной любви Порсии. Исследователь, который сопоставит историю Порсии и стихи Кастро Алвеса, несомненно, это установит. Я же пишу не критическое исследование и поэтому ограничусь лишь тем, что приведу некоторые из подобных стихов:
К ее жилищу я вернулся, Чтоб вновь любимую найти… Позвал, прислушался… Все тихо. Лишь где-то пели журити[39] Счастливый, думал на пороге: Она обрадуется мне! Быть может, милая уснула И я приснился ей во сне?.. Но почему в ее жилище Царит такая тишина? И почему на голос друга Не откликается она? Тоской внезапной сжалось сердце. Дом пуст и тих — ее здесь нет. — Мария! — крикнул громко. — Где ты? — Но все молчало мне в ответ. Вот здесь висит ее распятье; Увядший перед ним цветок. Вот здесь она творца молила. Чтоб сократил разлуки срок. Перед какой загадкой страшной Стою я в этой тишине? Где для нее искать решенья И правду кто подскажет мне? Ушла! И ждать меня не стала! Ушла, нарушив уговор! Меня печали безысходной Навек обрекши с этих пор. О нет, прости! Как усомниться В любви твоей я только мог? И чьей рукой злодейской сорван Сертана дикого цветок? Тебя похитили отсюда, Как похищает волк овец. Иначе ты б меня дождалась — Ведь нерушим союз сердец! — Отмщенья! — я воззвал. — Отмщенья! Клянусь тебе твоим крестом, Перед которым ты молилась, И этим полевым цветком. Что мне оставила залогом: Врага постигнет злая месть За то, что предал поруганью Марии девственную честь! В моей руке довольно силы, Со мной мой верный друг кинжал; Удар же мой хоть чуть неточным Еще ни разу не бывал. За кровь расплата будет кровью, И скоро час ее пробьет. Враг не найдет нигде спасенья, Сам бог злодея не спасет.(Здесь и далее примечания автора.)
(обратно)2
Об участии деда Кастро Алвеса в борьбе за независимость Шавиер Маркес пишет: «В июне 1822 года он оказался среди бразильцев, которые в поселке Кашоэйре после трех дней ожесточенной перестрелки вынудили к сдаче капитана и команду португальской шхуны, начавшей обстрел поселка. Затем он направился с вооруженным отрядом в Назаре, чтобы защитить ею жителей и ускорить провозглашение дона Педро императором. По возвращении, в августе, он остановился в Санто-Амаре-до-Кату на острове Итапарике и поднял там восстание в поддержку движения за независимость. Когда рыночные торговцы Баии, в большинстве своем португальцы, подали жалобу правительственной хунте провинции на вождей «освободительной революции», обвиняя их в «гнусных» преступлениях, то одним из первых они назвали Жозе Антонио да Силва Кастро, которого вместе с братом причислили к «закоренелым преступникам». В октябре, уже будучи майором, он сформировал батальон егерей-добровольцев и обратился к временному правительственному советнику с просьбой привести его батальон к присяге. По договоренности с полковником Франсиско Марией Содрэ Перейрой он задумал создать патриотический легион из войск трех видов оружия и добился поддержки правительства. С прибытием Лабатута для принятия командования независимыми силами майор Кастро отправился со своим батальоном в Пиражу, чтобы присоединиться к войскам нового правительства. Там его воинственная энергия развернулась в самых широких масштабах. Преемник Лабатута, полковник Жозе Жоаким де Лима э Силва, реорганизуя армию, назначил его командовать батальоном «попугайчиков» — так они назывались по значку, который носили на мундирах. Во главе своих семисот солдат майор Кастро 3 июня 1832 года в окрестностях столицы участвовал в сражении против войск генерала Мадейры. Приказ полковника Лимы э Силвы, изданный после этого боя, свидетельствует о том, что все передовые посты противника в Круз-до-Косме были захвачены 3-м батальоном под командованием Жозе Антонио да Силва Кастро, причем у противника остались в живых только двое солдат, которые были взяты в плен, тогда как потери «попугайчиков» выразились лишь в одном убитом и четырех легкораненых».
По поводу суда над солдатами Шавиер Маркес сообщает: «Военная комиссия, назначенная для суда над обвиняемыми, приговорила четверых к смертной казни. Они были расстреляны в Кампо-да-Полвора. Некоторые офицеры и солдаты разбежались, а оставшиеся были отправлены в глушь Мато-Гроссо».
(обратно)3
Дона Ана Виегас… Мне вспомнилось: однажды Пиньейро Виегас сказал, что он тоже испанец и происходит из семьи Кастро Алвеса. Не родственник ли в самом деле Кастро Алвесу великий баиянский поэт и сатирик, имевший с ним столько точек соприкосновения? Как бы там ни было, он был последним духовным потомком поэта, ступавшим по улицам Баии. Наши современные стихотворцы могут считать себя наследниками всех крупных поэтов Бразилии. Но только Пиньейро Виегас да еще Доривал Каимми, этот прославленный сочинитель народной музыки, поэт негров-рыбаков и богини вод Иеманжи, певец тайн Баии, обладают той же народной силой, что отличала автора «Баркаролы любви». Этот композитор самб и песен и Пиньейро Виегас — поистине потомки Кастро Алвеса.
(обратно)4
В поэзии Кастро Алвеса замечается известное пристрастие к испанским именам, к некоторым повторениям испанских мотивов. Он не забыл своего происхождения, и это мне кажется существенным в его поэзии.
(обратно)5
Курралиньо — ныне город Кастро Алвес. Жилберто Амадо считает, что «если бы Амазонка запела, ее бы следовало назвать «Кастро Алвес».
(обратно)6
Как мне сообщил Арлиндо Силвейра, адвокат из Сержипе, Медрадо с того времени, как началась эта борьба, никогда уже больше не возвращались на свои фазенды. Они превратились в своего рода цыган и на богато украшенных конях, с серебряными стременами объезжали поселки сертана Баии. Они потеряли, как мне сказал этот адвокат, все характерные черты фазендейро, и их трудно было отличить от цыган-воров, которые группами бродят по сертанам северо-востока.
(обратно)7
В своем исследовании о Кастро Алвесе, отличающемся туманностью, Марио де Андраде временами все же делает удачные открытия. Одно из них таково: «Кастро Алвес был у нас первым пропагандистом развода». Это приводит нас к установлению связи творчества поэта с судьбой Порсии и Леолино, обреченных на тайную и трагическую любовь из-за «вечных уз», ибо Леолино был женат и, таким образом, не мог соединиться с любимой женщиной в законном браке. Это утверждение литературоведа и поэта — одно из метких наблюдений критика, в целом плохо относящегося к поэту (я бы даже сказал, что модернистский поэт Марио де Андраде доходит на этих страницах до ненависти по отношению к социальному поэту Кастро Алвесу), — заставляет нас думать, что семейная трагедия, происшедшая в первые годы жизни поэта, видимо, значительно повлияла на его отношение к жизни, на его мировоззрение. Так или иначе, история Порсии и Леолино должна была иметь значение для Кастро Алвеса, как живой пример гнета предрассудков, которые душат свободу человека в его самом естественном праве — праве на любовь.
По поводу этого влияния на поэзию Кастро Алвеса Аманда Нассименто в своем труде «Негр и Бразилия» (1940) пишет: «Жоаким Набуко и Кастро Алвес, два великих борца за освобождение негров от рабства, во многом обязаны происхождением своего гения и его пламенем влиянию окружавших их в детстве нянек негритянок».
(обратно)8
Афранио Пейшото относительно няни мулатки Леополдины (в книге «Кастро Алвес, поэт и поэма», Лиссабон, 1922) пишет: «…Здесь прошли самые нежные годы детства поэта, убаюкиваемого своей кормилицей, мулаткой Леополдиной, которая рассказывала ему грубые и фантастические истории сертана — первое очарование для пылкого воображения ее приемного сына; сын Леополдины — Грегорио — впоследствии прислуживал Кастро Алвесу». И Шавиер Маркес говорит: «…Поэт провел почти все свое детство, окруженный материнскими заботами и ласками отца и оставаясь на попечении служанки майора Силвы Кастро — мулатки Леополдины, которая была его кормилицей. Она, говорили родственники, хорошо воспитала мальчика, и он питал к ней привязанность и нежную дружбу. Она возбудила воображение ребенка фантастическими историями, легендами и описаниями сцен рабства».
(обратно)9
Кстати, о призраках… Я был учеником-интерном в Ипиранга-колледже в Байе, в доме, где умер Кастро Алвес. Зала, в которой скончался поэт, была в то время классной комнатой, и среди учеников ходила молва, что Кастро Алвес нередко появляется там по ночам. Ученики помоложе не спускались в класс ночью, боясь встретиться с поэтом. Вспоминаю, как однажды я с двумя приятелями решил провести ночь без сна в ожидании появления Кастро Алвеса. Мы выскользнули из спальни, спустились в залу, где умер поэт, и замерли там, дрожа от холода и страха. Я не могу утверждать, появился поэт или нет, так как меня охватил сон и я проснулся, только когда классный надзиратель, встававший раньше учеников, обнаружил меня спящим за партой и решил отменить мне воскресный отпуск.
(обратно)10
Любопытно, что биографы Кастро Алвеса пренебрегают некоторыми важными фактами и значительными в его жизни личностями, в особенности в период его детства. Относительно младшего лейтенанта Жоана Жозе Алвеса я сумел найти сведения только у Педро Калмона. Остальные же не имели понятия об этом интересном человеке, который не мог не оказать влияния на поэта.
(обратно)11
Эдисон Карнейро пишет («Кастро Алвес», Рио-де-Жанейро, 1937): «Этот старый театр, один из самых древних в Бразилии, был открыт 13 мая 1812 года, причем пожар разрушил его в ночь на 6 июня 1923 года, меньше чем за месяц до столетия независимости Баии (2 июля 1923 года)». И я отмечаю, что этот театр был ареной некоторых важнейших фактов из политической и артистической жизни Бразилии.
(обратно)12
Отец Кастро Алвеса был довольно видной личностью в Байе Его биография, как известного врача, была опубликована Антонио Пасифико Перейрой в «Медицинской газете Баии» (1897).
(обратно)13
Об этих стихах Кастро Алвеса написал Эуклидес да Кунья («Кастро Алвес и его время»): «Теперь часто вспоминают самые живые, вернее сказать, самые гонгорские[40] или кондорские[41], стихи, звучащие с такой силой, что они навсегда запечатлеваются в народном сознании. Так, в 1867 году в Ресифе, когда конная полиция разгоняла собрание республиканцев, поэт выступил против полицейских, декламируя резкие стихи, которые начинались так:
Принадлежит народу площадь. Как кондору — небес простор.Видите, как здесь революционер принес в жертву лирика. Такие стихи сочинил бы любой импровизатор-сертанежо. Между тем, хотя их и нет в книгах поэта, эти стихи все же существовали».
(обратно)14
О влиянии поэзии Эдисон Карнейро пишет: «Я думаю, что Поэзия (именно с большой буквы) непременно присутствует во всех человеческих неосознанных действиях, сколь банальными они ни показались бы. Она самая суть жизни. Она связующее звено между людьми, которые с ее помощью чувствуют себя равными. Но, будучи неразрывно связана с их экономическими условиями, поэзия в нынешнем обществе отражает антагонизм между буржуазией и пролетариатом, отражает и предсмертные хрипы класса, который продолжает господствовать только по инерции, и первые признаки нового, непокорного поднимающегося класса. Поэзия в классовом обществе не может не быть классовой, то есть боевым оружием и орудием пропаганды…»
(обратно)15
Эдисон Карнейро в одной из своих книг по африканологии («Негритянские религии», Рио-де-Жанейро, 1936) говорит, что Энженьо Вельо (самый древний и самый известный из негритянских храмов Бразилии) существовал под землей, причем входили в него через дупло дерева — так было в эпоху рабства, когда религиозные церемонии баиянских негров усиленно преследовались.
(обратно)16
Касаясь поэм, которые Кастро Алвес написал для Леонидии Фраги, Афранио Пейшото отмечал: «К числу самых красивых стихов Кастро Алвеса, несомненно, относятся «Гость» и «Духи». Оба эти произведения написаны в Курралиньо в 1870 году. Я интуитивно чувствую, что они вдохновлены одним и тем же лицом, «Духи» содержат загадочное посвящение — «Л». В переписке поэта есть письмо к сестре, в котором он просит послать Л. «Парижскую жизнь». О ком идет речь? Я убежден, что Л. — это Леонидия Фрага, красивая девушка, умная и нежная, которую поэт знал еще ребенком, увидал снова в 1865 году, когда у него был с нею невинный флирт и от которой он отказался в 1870 году, когда вернулся со смертью в душе». И в примечаниях к Полному собранию сочинений Кастро Алвеса (Рио-де-Жанейро, 1938) тот же Афранио Пейшото, который знает все, что относится к жизни поэта, писал: «Ее влиянию (Леонидии Фраги) обязаны «Духи», «Гость» и сонет «Мариэта» из «Ангелов полуночи».
(обратно)17
Относительно природы в поэзии Кастро Алвеса Агрипино Гриеко (в «Живых и мертвых», Рио-де-Жанейро, 1931) пишет: «Хотя он и не злоупотребляет местными выражениями, Кастро Алвес — поэт, обладающий, больше чем кто-либо, местным колоритом, он самый бразильский из всех поэтов. Он никогда не писал простой бездушной кистью. И если можно так сказать, любовно интерпретировал нашу природу. У нашего поэта деревья строго классифицированы, это мангенры, ипежекитибабы, их легко узнать. Как никто, он умел передать свойственную нашим сельским краям прозрачность воздуха и дрожание света. Астры услаждали его, как вино из золотистого винограда, а девственные леса приносили ему своего рода зеленое опьянение, причем шум их, видимо, был подлинной материнской песней над его колыбелью. Само безмолвие сертана казалось ему музыкальным. Когда он проезжал по полю, все представлялось ему темами для творчества, пластическим материалом для его умелых рук. Без Кастро Алвеса-пантеиста мы не ощутили бы так остро красоты Бразилии; лучше сказать, мы еще и поныне видим эти красоты его глазами»
(обратно)18
«Гость».
Стихи принадлежали Теофило Браге[42] и, в сущности, были красивым и правдивым эпиграфом не только к поэме, но и ко всей любви Кастро и Леонидии. В них говорилось:
Я плачу горько потому, что знаю: Ко мне не возвратишься больше ты; Как не вернется ветер, что, играя, Беспечной ласкою дарил цветы. (обратно)19
Шавиер Маркес пишет о методах Абилио Сезара Боргеса: «Осуждаемый одними, полностью поддерживаемый другими, Абилио Боргес был предтечей нынешней системы среднего образования…»
А Элой Понтес в своей превосходной биографии Раула Помпейи так отзывается об Абилио Боргесе: «Абилио Сезар Боргес был просветителем, влюбленным в свою профессию, умевшим заполучить в ученики своего колледжа всех выдающихся юношей. У него был инстинкт учителя, наставника. В общем он преобразовал у нас методы обучения».
Несмотря на возможные преувеличения, на мой взгляд, лучшим из материалов об Абилио Боргесе является его портрет, написанный Помпейей: «Абилио Боргес прославился как выдающийся педагог. Он рассылал пропагандистские бюллетени по провинциям, часто выступал с докладами, писал книги и статьи по вопросам образования, всячески пропагандируя в них свой метод воспитания, и буквально наводнил ими местные школы».
(обратно)20
Шавиер Маркес говорит, что должны существовать другие стихи, написанные раньше этих, но не указывает какие. Эти — самые ранние из тех, что включены Афранио Пейшото в Полное собрание сочинений Кастро Алвеса.
(обратно)21
Вот эти невинные и неуверенные стихи:
И в незабвенный день его рожденья. По бесконечной благости своей. Нам ангела послало провиденье, — Чтоб он хранил и защищал детей.Вся поэма представляет собой откровенное восхваление наставника.
(обратно)22
Гораздо интереснее его «Поэзия», написанная, когда ему шел четырнадцатый год. В этом стихотворении он говорит об Андах, о ветре и урагане и воспевает свободу, противопоставляя ее рабству.
Вот строфы из этой «Поэзии»: Пусть индеец, африканец. Даже пусть и сам испанец Не свободны от оков; Цепи рабства не сковали, И сковать-то их едва ли Для Бразилии сынов. Мститель грозный, разъяренный. Вражьей кровью обагренный, Совершает правый суд. Перед этим ураганом Устоять ли злым тиранам? Перед ним они бегут. Разве сможет враг надменный Нас свободы драгоценной Хоть на день один лишить?И последний стих:
Будем век ее хранить! (обратно)23
Эунапио Дейро отмечает, что Кастро Алвес в то время плохо знал португальский язык. Сейчас можно сказать, что он не владел им в совершенстве всю свою жизнь.
(обратно)24
Прокопио из храма Матату — жрец, «отец святого», который подвергался в Байе наибольшим религиозным преследованиям.
(обратно)25
Омер Монт Алегре в своей биографии Тобиаса Баррето, говоря о Тобиасе, прибывшем в Ресифе, отмечает притягательность города для будущего поэта и философа: «Борьба за свободу (в Ресифе) не имеет конца; мятежный дух будет жить здесь всегда; сегодня уснувший, подземный; завтра бурлящий, страшный; сталь стремится к движению; меч не может оставаться в бездействии. В конце концов Тобиас тоже хочет испытать силу этого порыва и просит:
Приникнуть дай и мне, Ресифе, К твоей груди, что львов вскормила…И это желание Тобиаса припасть к груди Ресифе, чтобы укрепить в себе любовь к свободе, повторено бесконечным множеством писателей, которые в то время и впоследствии избирали Ресифе как отправную точку для своей общественно-политической деятельности».
(обратно)26
Касаясь революционного восстания Педрозо, Жилберто Фрейра пишет: «Судя по популярности, которую Педрозо завоевал среди цветных в поселениях беглых рабов, видно, что в Ресифе начала XIX века наряду с жителями особняков имелась масса черных, уже обладавших революционным потенциалом».
(обратно)27
И поныне среди наиболее видных представителей пернамбукской интеллигенции или писателей, связанных своим творчеством с Пернамбуко, играет большую роль литература, имеющая социальную функцию. Достаточно упомянуть имена Жилберто Фрейры, Жозе Линса до Рего и Сисеро Диаса с его живописью, столь близкой и понятной народу.
(обратно)28
Юридическое учебное заведение было основано в Ресифе вскоре после того, как город стал театром двух революций на протяжении десяти лет. Экономические социальные условия Пернамбуко, крупнейшего очага сахарной цивилизации, были таковы, что наряду с могущественной сельской аристократией тут имелись круги, проявлявшие живые народно-демократические тенденции. Это приводило к тому, что учившаяся там молодежь становилась скорее радикальной. На нее оказывала влияние сложная социальная действительность, которая здесь сильнее разделяла людей и строже дифференцировала их, чем, например, в Сан-Пауло.
Элой Понтес приводит высказывание одного студента факультета в Ресифе: «Вы там на юге — поэты. Мы же здесь — философы!»
(обратно)29
Мне кажется, что если бы вместо Ресифе Кастро Алвес отправился в университет Сан-Пауло, возможно, его поэзия не приобрела бы того социального характера, который обессмертил ее. Если бы поэт ограничился песнями любви, мы бы имели в нем лишь соперника Алвареса де Азеведо. В Сан-Пауло проявилась бы только часть его темперамента, тогда как в Ресифе он раскрылся полностью. Шавиер Маркес отмечает влияние на Кастро Алвеса Виктора Гюго. Рядом с французским поэтом я поставлю город Ресифе с атмосферой, которая царила на факультете, они ответственны за направление, которое приняла поэзия Кастро Алвеса. То была скорее атмосфера политическая, чем литературная.
(обратно)30
Призывы идут и из современных сензал. И по сей день их подхватывают голоса многих литераторов. Нынешнее положение негров требует нового Кастро Алвеса. Писатель Кловис Аморим, крестьянин из Реконкаво Баияно, так отзывается о положении негров: «Работник — это батрак, испольщик, который орудует серпом, болеет, пьет кашасу и даже умеет петь. И песня его грустна:
В брюхе пусто, горек труд, Я спины не разгибаю. И невольно вспомнишь тут Про тринадцатое мая[43].Действительно, печальна эта песня:
Злой надсмотрщик мне грозит, Словно пес, рыча и лая: — Позабудь ты, паразит. Про тринадцатое маяИ Кловис Аморим продолжает: «Школа негритенка — работа на плантации. Там он все познает, все начинает понимать.
— Негритенок, шевелись И работай веселее, Чтобы плети не прошлись По твоей спине и шее! День прошел, сгустился мрак… Отдохнуть бы до рассвета. — Нет, шалишь, лентяй батрак! Поработай при луне ты!На плантации учатся погонять быков в упряжке, вырубать кустарник, боронить землю, возделывать сахарный тростник, резать солому в сараях. И тут негритенок находит свою школу, а в ней хозяина, сахарный завод, рабство».
(обратно)31
Эти стихи были еще довольно слабыми, но одно они дают возможность заметить: тяготение к театру, которое уже начало проявляться у Кастро Алвеса и постепенно становилось все сильнее. Существует также сонет поэта, посвященный артистке Аделаиде до Амарал, который должен относиться к периоду до разрыва с Тобиасом, то есть к 1863–1865 годам. Эти стихи гораздо лучше тех, что он посвятил Фуртадо Коэльо.
(обратно)32
Афранио Пейшото говорит об этих экзаменах: «Именно поэтому ему был поставлен зачет только по римскому и естественному праву, хотя говорят, что он мог блестяще выдержать испытания. Дело было в том, что поэма «Век», прочтенная на празднике факультета, была воспринята как оскорбление религии и политики, поскольку в ней звучало возмущение против господствующих консервативных и авторитарных идей и содержались либеральные и освободительные призывы к молодежи».
(обратно)33
Большая часть «Рабов» была написана в этом году. Педро Калмон отмечает: «За один только июнь 1865 года он создал шесть поэм, взбудораживших весь город».
Это Кастро Алвес написал:
«Взгляните: пара обрученных!» — Про них так люди говорят. «Мы славословим двух влюбленных!» — Так хоры птиц про них звенят. (обратно)34
Говоря о стихах, которые Варела Фагундес написал в этой поездке, Эдгар Кавальейро замечает: «Он восхищается всеми ее красотами (Баии), но против того, что «следы ног рабов» марают «столь благородную землю». На него произвел большое впечатление невольничий рынок, который отнюдь не является свидетельством спокойной и счастливой жизни народа».
(обратно)35
Помимо Стихов Варелы, поэма, которая называется «Перелетные птицы», имеет и другой эпиграф — из Томаса Рибейро: «Птицы, это весна! К розе! К розе!»
(обратно)36
Говорят, что Эса де Кейрос[44], прочтя в этой поэме две следующие строки:
Там в селве солнце на закате Разводит вечера костры, —пришел в восторг и заявил: «Здесь, в этих двух строках, — вся поэзия тропиков». А другой португальский писатель, Антонио Нобре, назвал Кастро Алвеса первым бразильским поэтом.
(обратно)37
Поэт Эдисон Карнейро задает вопрос: «Не был ли Кастро Алвес знаком с Карлом Марксом?» Этот же вопрос возник и у Силвио Ромеро, который квалифицировал поэзию Кастро Алвеса как социалистическую.
(обратно)38
Эваристо де Мораис пишет об эпохе, когда поэт начал свою аболиционистскую кампанию: «Это было в 1865 или, по другой версии, в 1863 году, когда работорговля еще фактически не закончилась; когда в Валонго еще происходили публичные аукционы, на которых товаром для продажи были человеческие существа всех возрастов, выставляемые в полуобнаженном виде для осмотра покупателями; когда закон — обратите на это внимание! — закон разрешал разъединение ребенка и матери-невольницы, чтобы эта последняя, будучи продана или сдана в аренду, могла дать чужому ребенку то, чего не хватало ее собственному, — молоко ее груди; когда правосудие — заметьте снова! — санкционировало наем молодых невольниц для явной проституции, причем суды объявили, что это логическое следствие права собственности на этих рабынь; когда коллективное сознание не восставало против юридического положения невольников, которые считались просто животными и заносились в ту же инвентарную опись, что и быки, лошади и свиньи; когда репрессивный закон установил для рабов наказание розгами без ограничения; когда практиковалось клеймение каленым железом «человеческого скота», которым были населены фазенды и энженьо; когда политический престиж и социальное влияние почт и всегда зависели от масштабов пашни и сензалы, соответствуя большему или меньшему числу невольников, которыми владеет хозяин; когда, наконец, все обладатели светской и духовной власти — от императора до судей и полицейских, от епископов и религиозных конгрегаций до приходских священников в деревнях — были рабовладельцами».
(обратно)39
Пиньейро Виегас пишет: «Я думаю, что счастлив только тот, кто может сказать: «Я родился свободным и умру свободным!» Трусы всегда рабы. Мятежник, сам по себе, исключительно свободен».
(обратно)40
Бесконечная дистанция отделяет Кастро Алвеса от посредственных стихоплетов «искусства для искусства» и «внутренней действительности» нашего времени. Наша благоразумная критика широко использует такой аргумент: общественная деятельность художника уродует его, истощает источники «чистой лирики», той абстрактной лирики, которая является опорой плохих поэтов. Выдвигается и другой аргумент, весьма излюбленный некоторыми поэтами, что поэзия — это только «воображение». Творчество Кастро Алвеса самым уничтожающим образом опровергает эту концепцию. Никто из тех, кто утверждает эти глупости, никогда не был и не будет способен написать страницы нежной лирики, которыми певец «Рабов» обогатил бразильскую литературу. Эти страницы и сегодня нельзя читать без волнения. Нельзя поэтому говорить, что общественная деятельность поэта повредила его поэзии. Наоборот. Его большая, глубокая и непревзойденная лиричность исходит из его гуманизма, из его близкой и тесной связи с жизнью людей и идеями эпохи; мышление не только не сделало поэта бесплодным, наоборот, оно оплодотворило его и расширило резонанс его поэзии, — его мировоззрение и поныне волнует нас. Если бы Кастро Алвес уединился в своей башне из слоновой кости, его наследием, возможно, были бы красивые стихи, но не большая поэзия. «Поэту нужно быть человеком действия», — считал он.
Деянье с мыслью — две сестры родные, Их связь навек закреплена. И если мысль — простор морской стихии, Деянье — в море том волна. (обратно)41
Педро Калмон пишет о смерти отца Кастро Алвеса: «Он стал жертвой бери-бери (авитаминоз, болезнь обмена веществ; проявляется множественным воспалением нервов. — Прим. перев.) — болезни, которая появилась недавно. Доктор Алвес как бы интуитивно предчувствовал, что она его убьет, и привлек к этой болезни внимание коллег, поставив вопрос об ее изучении на факультете».
(обратно)42
О трех еврейках, дочерях Исаака Амазалака, Афранио Пейшото пишет: «Их было три сестры (Сими, Эстер и Мари), и они отличались такой красотой, что хотя и были некрещеными, однако сравнение с тремя грациями напрашивалось у каждого, кто с восхищением любовался ими». Это была наследственная красота: мать их была так прекрасна, что народ останавливался, встречая ее на улицах Баии.
(обратно)43
Агрипино Гриеко, один из современных писателей, который много занимался Кастро Алвесом и. многое сделал для пропаганды творчества поэта, написал, о «Еврейке»: «Он, как никто, сумел здесь рассказать о еврейке, и вся сентиментальная и даже романтическая библия сосредоточена в нескольких его стихотворениях. «Еврейка», его Песнь песней, заключает все, что можно поэтически сказать о Палестине, доказывая тем самым, что эта книга о евреях является лучшим из источников поэзии и еще не устарела: в «Еврейке» есть лилии долины, ветки мирты, оливковые деревья, склонившиеся к Иордану, источники и стада, среди которых купаются Суэаны, поток Седрон и арфа Давида; там, в этой дивной музыке, есть все».
Еще одна любопытная деталь относительно «Еврейки». Тобиас Баррето рассказывает, что ему довелось услышать в глухой провинции эту поэму Кастро Алвеса, распеваемую в церкви под аккомпанемент органа как религиозный псалом, посвященный деве Марии.
(обратно)44
Я уже правил гранки этой книги (это было в 1941 году. — Прим. перев.), когда увидел в рио-де-жанейрской «Диарио да Нойте» телеграмму, помещенную под заголовками: «Затруднения одной баиянки, пожелавшей выйти замуж в Германии, — все испортила капля еврейской крови».
«Салвадор (Баия). Сенсацию вызвал опубликованный здесь репортаж о деле одной девушки, которая, собираясь выйти в Германии замуж, послала в Байю письмо, в котором запросила в местном архиве справку о генеалогическом дерева ее семьи с целью доказать свое арийское происхождение.
Марго Мейншель — таково ее имя — сообщила в письме, что у нее имеются данные по материнской линии, но недостает сведений по отцовской линии.
Были наведены справки, и одна вечерняя газета объявила, что бабушку Марго звали Эстер Амаэалак, она была одним из увлечений Кастро Алвеса и имела еврейское происхождение. Эстер упомянута в книге писателя Жоржи Амаду «Кастро Алвес».
Газета ссылается на примечания Афранио Пейшото к Полному собранию сочинений баиянского поэта, документируя этим свое утверждение.
Эстер была упомянута как «белый цветок лиры Давида».
В заключение газета говорит, что Марго, возможно, разочаруется, узнав о своем еврейском происхождении, так как это, вероятно, помешает ее браку с арийцем».
Действительно, как я отметил ранее, Эстер Амазалак вышла замуж за немца, а в наше время ее внучка не может выйти замуж из-за того, что ее бабушка оказалась еврейкой.
Внучка одной из муз Кастро Алвеса подверглась нацистским преследованиям (что еще больше связывает поэта с современными событиями). Это приводит нас к мысли, что голос Кастро Алвеса, если бы поэт жил сегодня, с огромной силой протестовал бы против преследования еврейской расы мировым фашизмом. Он любил называть себя евреем и не раз говорил: «Я еврей». После негритянской расы его поэзия была ближе всего к еврейской.
(обратно)45
Кастро Алвес любил рисовать и оставил нам различные рисунки, включая весьма интересный автопортрет. Он был неплохим художником-любителем.
(обратно)46
Стихи, приводимые в этой главе, — из «Черной дамы», одной из многих поэм, которые Кастро Алвес посвятил Эужении Камаре в том, 1866 году.
(обратно)47
Коуто Ферраз пишет по этому поводу: «И я подумал, что Кастро Алвес» очевидно, понял, что простая ликвидация рабского труда с приспособлением бывших рабов к капиталистическому режиму представила выгоду для господствующего класса. Он, видимо, понял также, что большой негритянский контингент нашего населения, будучи уже в ту пору связан с экономическими интересами зародившегося пролетариата, рано или поздно приобретет идеологическое сознание своего класса».
(обратно)48
Весьма примечательны в этом смысле следующие стихотворения Кастро Алвеса: «Слова консерватора» (где он доходит до утверждения, что «плод труда — общественное достояние»), «Ясновидящий», «Признание», «Прощай, моя песня» и ряд других.
(обратно)49
Агрипино Гриеко пишет (в книге «Эволюция бразильской поэзии», 1932): «Кастро Алвес был гением-самородком… Для него сочинение стихов было больше, чем простое ремесло. К тому же он был совершенно безупречен в личной жизни; ему была чужда моральная нечистоплотность, и, мало того, что он был гениален, он был к тому же исключительно добр, побуждал других к благородным чувствам, был творцом жизни и вдохновения, живым гуманным маяком». И далее: «Для него честь была наслаждением».
(обратно)50
Вот слова Набуко об этом 1866 годе: «1866 год был для меня годом французской революции: Ламартин, Тьер, Минье, Луи Блан, Кинэ, Мирабо, Вернье и жирондисты, все это прошло последовательно в моем уме. Конвент в нем, казалось, заседал постоянно».
(обратно)51
Некоторые современники Кастро Алвеса так отзываются об очаровании его слова: «Когда он показывался толпе, приходившей в воодушевление только оттого, что она его видела, когда вдохновение зажигало в его глазах ослепительный блеск гения, он становился велик и прекрасен, как гомеровский бог» (Лусио Мендонса). А вот другой отзыв: «Очарование этого голоса неотразимо, он из тех, что преображают оратора или поэта и заставляют вспоминать прославленного глашатая Агамемнона, которого обессмертил Гомер, — Тальтибиоса, голос которого походил на голоса богов» (Руй Барбоза). И, наконец, еще один отзыв: «Всех, кто его слышал, охватывала дрожь изумления, и они видели в стройном и симпатичном молодом студенте скорее полубога, чем поэта, меньше поэта, чем ясновидящего; аудитория улыбалась или плакала, немела от сильнейшего волнения или разражалась исступленным» возгласами «браво!» (Карлос Феррейра).
(обратно)52
Палмарес составлял постоянную заботу Кастро Алвеса, который намеревался написать эпопею о «негритянской Трое». Ему не удалось осуществить это намерение, и по сей день Зумби ожидает своего поэта.
(обратно)53
Книга Эужении была опубликована сначала в Португалии под названием «Поэтические наброски». При переиздании в Сеаре она была озаглавлена «Секреты души» и, помимо собственных стихов актрисы, в приложении были напечатаны стихотворения Фагундеса Варелы, Залуара, Виториано Пальяреса, Франсиско Инасио, Феррейры и других поэтов. Это была своеобразная антология произведений об Эужении Камаре. Книга служила хорошей рекламой для артистки.
(обратно)54
Фагундес Варела, между прочим, сказал о ней: «На лице у тебя красота, гений в душе».
(обратно)55
Вот письмо, написанное Кастро Алвесом: «Уважаемый сеньор Тобиас Баррето де Менезес. Прошу Вас сделать милость и сообщить мне в ответ на это письмо, Вы ли являетесь автором статьи в «Ревиста Илюстрада», напечатанной в приложении, как Вы любезно попросили передать мне это в устной форме. Если Вы окажете мне эту милость, буду Вам весьма признателен. Ваш покорнейший слуга Кастро Алвес».
Тобиас ответил на это письмо: «Точно, сеньор Кастро Алвес. Именно я. Хотите ответить? Сделайте одолжение. Прошу Вас рассмотреть меня со всех точек зрения, чтобы Вы меня потом не называли благородным. Да, сеньор. Рассмотрите меня как человека, как писателя — прозаика и поэта, как гражданина и даже как сына… Ударьте меня по обеим щекам… Я жду этого. И чтобы облегчить и еще более сократить Ваш ответ, посылаю Вам несколько моих стихотворений, которые один мой друг объединил в сборник; прошу Вас о любезности послать мне также кое-какие свои стихотворения, по крайней мере из числа тех, что были здесь опубликованы. Ваш покорный слуга Тобиас Баррето де Менезес».
(обратно)56
Отрывок из статьи Кастро Алвеса, написанной в ответ Тобиасу: «Публика, которая нас читает, видит, что каждая фраза этого монумента (статьи Тобиаса) представляет кучу нелепостей. От падения к падению катится сеньор Тобиас, начиная с первой строки приложения. Каждую ступеньку, на которую он на наших глазах опускается, мы полагаем последней; но у него есть еще в запасе. Он продолжает опускаться, причем на такой низкий уровень, что совершенно исчезает из наших глаз, как из глаз любого порядочного человека. Он говорит в заключение, что нам нужно бежать «по переулкам и улочкам до тех пор, пока мы не очутимся погрязшими в недостойном виде… в пучине разврата». Мы передаем эти слова на суд публики; это образец воспитанности и утонченности человека, который гордится собой; критика, который называет себя литературным критиком. Возможно, там есть выражения посильнее, слова еще грязнее; но мы люди, и мы не можем не выразить негодования при виде того, как коллега становится пасквилянтом, друг становится иудой».
(обратно)57
Конечно, драма «Гонзага» написана совершенно не на том литературном уровне, как поэмы Кастро Алпеса. Он родился поэтом и не был драматургом… В целом это оратория, не имеющая, по существу, действия. В подтверждение достаточно привести несколько суждений о «Гонзаге» выдающихся людей того времени. Так, например, Машадо де Ассис написал следующее: «Поэт как бы объясняет, что хотел сказать драматург, в драме снова появляются стихотворные качества; много метафор в стиле Пиндара (греческого поэта VI века до нашей эры). Поэтому казалось, что сцена слишком мала; он прорезал парусиновое небе и набросился на свободное голубое пространство». Мне кажется, что эти слова Машадо де Ассис дают полное представление, чем явилась встреча поэта Кастро Алвеса с театром. Свободный взлет фантазии поэта сковывает театральная бутафория, он выходит за ее пределы. Кстати, и Жозе Аленкар отметил, что в драме Кастро Алвеса наблюдается «изобилие поэзии». Руй Барбоза сказал: «…драма эта должна просуществовать долго…», а Набуко назвал Кастро Алвеса «республиканским поэтом «Гонзаги». И, что всего любопытнее, Руй Барбоза увидел в драме мечту поэта о будущем: «Нет больше рабов! Нет больше господ!..» — таков крик, вырывающийся из пламенной души Гонзаги; это достоянный мотив всего поэтического и драматического творчества Кастро Алвеса».
(обратно)58
Развивая этот интерес Кастро Алвеса к Тирадентесу. Сосиженес Коста, крупнейший из живущих сейчас в Байе поэтов, написал поэму, одну из самых значительных, созданных в Бразилии в наши дни. Она озаглавлена «Час эпопей», и в ней говорится:
День настанет долгожданный. Час великих эпопей. Кастро Алвес спит в могиле, Но проснется в этот день. Тирадентес с бледным ликом, Так похожий на Христа, Не страшись орудий пыток. Призывай народ к борьбе! Не страшись жестокой казни, На Марию[45] ты восстань! На безумную в короне Ты бразильцев поднимай! Смертным саваном одетый. Увенчанный блеском звезд, Тирадентес с бледным ликом, Призывай к борьбе народ! Вот идет Фелипе Сантос — Призывать народ к борьбе. Не его ли привязали К лошадиному хвосту? Не его ль разбил о камни Дикий конь, пустившись вскачь? Далеко за Вилу Рику Уходил кровавый след… Жить свобода будет вечно — Этот свет неугасим. Тирании ночь глухую Как звезда осветит он. «Жить свобода будет вечно — Этот свет неугасим», — Под Баии вольным небом Кастро Алвес так сказал. Вот идет Фелипе Сантос — За свободу смерть принять. Не страшись, Фелипе, смерти. На Марию ты восстань!.. (обратно)59
Из стихотворений Кастро Алвеса, датированных 1866 годом, я нашел следующие, причем почти все они посвящены Эужении Камаре (я не включаю в этот перечень импровизации и стихи, написанные в Байе для трех сестер): «Фатальность», «Три любви», «Полет гения», «Актрисе», «Эужении Камаре», «Мечта богемы», «Часы страдания», «Любовь»., «Тройная диадема», и только Шавиер Маркес говорит, что Кастро Алвес начал в этом году «Водопад Пауло-Афонсо». Я не нахожу документа, который бы подтвердил точку зрения Шавиера.
(обратно)60
Муниз Баррето, чистый импровизатор, сочинил такой сонет:
К законам никакого уваженья, И добродетель втоптана здесь в грязь; Зато надменно, кары не боясь, В павлиньих перьях ходит преступленье. Суду благоприятное решенье Подскажут взятка, кумовство и связь. Преуспевает всяческая мразь, На человека честного — гоненье. Мошенник тут живет в родной стихии И на успех всегда имеет шанс. Плохая проза и стихи плохие — Таков журналов и газет баланс. Вот панорама города Баии, Французский где танцуют контраданс.Видимо, это была попытка нарисовать портрет Баии по образцу написанного за несколько веков до того стихотворения Грегорио де Матоса, у которого, кстати, Муниз Баррето заимствовал последний стих. Остается заметить, что там, где в этом сонете Муниз касается поэзии, он довольно самокритичен.
(обратно)61
Сам Кастро Алвес рассказывает об этом триумфе в письме Аугусто Алваресу Гимараэнсу: «Как тебе известно, моя драма поставлена на сцене. Я очень счастлив. В день 7 сентября был успех, какого, говорят, еще никто не имел в Байе. В общем победа, какую только можно себе представить…»
(обратно)62
Афранио Пейшото рассказал мне, что много лет спустя, когда он писал свою книгу о Кастро Алвесе, он беседовал со вдовой Жозе де Аленкар, и та взволнованно рассказывала ему о поэте. Она вспоминала о его посещении, как будто это было вчера. И припомнила мельчайшие детали — сказанные им слова, его манеру говорить. И добавила, что посещение поэта оставило у нее большое впечатление. Она сразу поняла, что перед ней могучий талант. И была счастлива, когда увидела, что и у Аленкара создалось такое же впечатление. Эта столь известная чета открыла молодому поэту свой дом, как отчий.
(обратно)63
Отрывок из письма Аленкара: «После чтения своей драмы г-н Кастро Алвес прочитал мне несколько своих стихотворений. «Водопад Пауло-Афонсо», «Острова» и «Видение мертвых» не уступают лучшим произведениям такого рода на португальском языке. Послушайте их вы, знаток секрета этого естественного размера, этой мягкой и богатой рифмы». Другая выдержка из письма: «Не удивляйтесь тому, что я ставлю знак равенства между поэтом и гражданином, двумя понятиями, которые в сознании многих существуют совершенно раздельно. Гражданин — это поэт права и справедливости; поэт — это гражданин красоты и искусства».
(обратно)64
В том же письме Аленкар говорит: «Один поэт уже приветствовал его в печати; однако приветствия недостаточно; нужно открыть для него театр, журналистику, общество, чтобы этот цветущий, полный жизненных сил талант приобрел известность».
(обратно)65
Вот отрывок из письма Машадо де Ассис: «Впечатление — как нельзя лучшее. Я нашел у него литературное призвание, полное жизни и силы, позволяющее в великолепии настоящего видеть надежды на будущее. Считаю его оригинальным поэтом. Беда наших современных поэтов в том, что они копируют других в языке, идеях и образах. Копировать других — значит аннулировать себя. Муза г-на Кастро Алвеса имеет собственное лицо». И далее: «Г-н Кастро Алвес воспевает одновременно то, что велико, и то, что мало, причем с одинаковым вдохновением и с помощью тех же художественных средств: высокого стиля, звучного слова, тщательно отработанной формы, причем за всем этим чувствуются вдохновение, непосредственность, порыв».
(обратно)66
Силвио Ромеро говорит, что все поэты в Рио-де-Жанейро и в провинциях юга слагали в то время стихи, подражая манере Кастро Алвеса.
(обратно)67
Замечательную панораму Сан-Пауло периода, предшествовавшего прибытию Кастро Алвеса, рисует Эдгар Кавальейро. Вот выдержка из его очерка: «Сан-Пауло следовало рассматривать через две призмы: столицы провинции и факультета права. Нет ничего более различного, ничего более противоположного. Первая призма — это рутина, воплощенная в его постоянном населении; вторая — дерзкие попытки прогресса, воплощенные во временном и текучем населении. Буржуа и студент, тень и свет, неподвижность и действие, недоверие одних и откровенность других — таковы контрасты, которые Сан-Пауло представлял даже самому поверхностному наблюдателю в том году, когда туда прибыл Луис Николау Фагундес Варела».
(обратно)68
Кассиано Рикардо, один из самых видных современных поэтов Бразилии, выступая с интереснейшим докладом о Педро Луисе, дал ему следующий титул, почетный в особенности для Кастро Алвеса: «Педро Луис — предтеча Кастро Алвеса». Вот выдержки из этого доклада: «Как отрицать, однако, это влияние (Педро Луиса на Кастро Алвеса), которое проглядывает в некоторых стихах, настолько сходных, что любой злобствующий критик счел бы это сходство компрометирующим? Я далек от такой гипотезы. Я принимаю даже любопытное оправдание, пользуясь которым Анатоль Франс нашел вполне законным, что поэт большого таланта пользуется сюжетами и образами, которые испортили менее талантливые поэты. И прихожу к заключению, что Педро Луис все же был крупным поэтом уже потому, что он оказал влияние на Кастро Алвеса. Он был большим поэтом не только оттого, что создавал высокохудожественные произведения, но и по тому «историческому отпечатку», который наложил на бразильскую поэзию». А еще дальше Кассиано высказывает следующие совершенно справедливые суждения о значении поэзии; «Наш народ — народ поэтический, так сказать, народ-поэт, который пишет, излагая свои чаяния, чернилами всех рас. Инконфиденсия была большой и замечательной мечтой группы поэтов. Почва, по которой мы ступаем, — это не просто земля с определенными географическими координатами. На ней всходят лилии, которыми мы украшаем чувство бразильского единства, характерное для национального поэта. На ней взошли красные розы, которыми Каоро Алвес расцветил курчавые волосы негров, призывая в кондорских и лирических стихах к освобождению их от рабства. В стихах, которые остались жить в «народе-поэте» и которые в моменты национальной ярости были брошены в цитадель сильных мира сего».
(обратно)69
Кастро Алвес написал много поэм, предназначенных для переложения на музыку. Многие серенады того времени — на его слова. Еще совсем недавно Алмир де Андраде рассказывал мне, что он написал различные музыкальные произведения на слова Кастро Алвеса и эти произведения с успехом передавались по радио.
(обратно)70
Интересно, что у современников Кастро Алвеса образ «молодого бога», «полубога» повторяется почти всегда, когда речь заходит о Кастро Алвесе.
(обратно)71
Кастро Алвес написал об этом вечере Аугусто де Гимараэнс: «…Если я когда-либо и выступал с триумфом, то это именно тут».
(обратно)72
Карлос Феррейра пишет: «Великий Кастро Алвес!» — так говорили все на факультете права».
(обратно)73
Вот слова, которые он произнес перед чтением «Оды Второму июля»: «Ипиранга знает Парагуасу 7 сентября — брат 2 июля. Нет славы для одной провинции, есть слава для всего народа. Бразилия всегда — великая наследница героев, возвышенных патриотов».
(обратно)74
Шавиер Маркес отмечает, что стихотворение «2 июля», которое Руй Барбоза прочел по этому случаю, носит заметное влияние поэтики Кастро Алвеса. «…Оно явно отражает манеру кондора», — пишет он.
(обратно)75
Кастро Алвес написал своему большому другу в Рио-де-Жанейро, Луису Корнелио дос Сантос, по поводу представления «Гонзаги» в Сан-Пауло: «…Огромный успех, подлинный триумф…»
(обратно)76
Газета называлась «Индепенденсиа», и в состав ее редакции входили Жоаким Набуко, Мартин Кабрал, Кампос де Карвальо и Руй Барбоза.
(обратно)77
Афранио Пейшото пишет по этому поводу: «Он сам сказал в эпиграфе к своим песням: ему мало дела до того, будут ли хвалить его стихи или издеваться над ними; поэзия, как бы он ее ни любил, всегда была для него средством, помогающим священному делу: он был лишь бравым солдатом освобождения человечества».
«В самом деле, — продолжает Афранио Пейшото, — Кастро Алвес не только был одним из самых горячих аболиционистов, чья пропаганда принесла наилучшие результаты, — он был одним из первых, кого услышала Бразилия… Уже в 1863 году он начал писать свои аболиционистские поэмы и основал в Ресифе освободительную ассоциацию. Правители Бразилии были чужды этим идеям и невосприимчивы к гуманному мышлению, но учащаяся молодежь с увлечением слушала его и подхватывала лозунги поэта: эти девушки и юноши, читавшие его стихи и восхищавшиеся ими, составили поколение, которое двадцать лет спустя добилось освобождения рабов».
Кастро Алвес — «национальный поэт, если не сказать больше — социальный, человеколюбивый, гуманный поэт» (Жозе Вериссимо), — напоминает тот же Афранио Пейшото.
(обратно)78
Пиньейро Виегас пишет о «Негритянском корабле» и «Голосах Африки»: «Рабовладельцы всегда имели в нем самого страшного эпиграммиста и самого потрясающего мастера разящего памфлета. В «Негритянском корабле», «Голосах Африки» и других революционных поэмах содержатся призывы, самые сильные и самые волнующие из всех, которые наши более или менее бесстрашные и убежденные мечтатели и романтики когда-либо осмелились опубликовать против деспотов…»
(обратно)79
Омеро Пирее пишет о баиянских писателях — поэтах и прозаиках того времени (в книге «Жункейра Фрейре: его жизнь, его эпоха, его творчество», 1929): «Многочисленные литераторы Баии в то время вели большую просветительную деятельность в различных областях общественной жизни. Но в их среде не родилась какая-либо литературная доктрина или новое течение. Писателей было немало, они трудились, но не творили. Они импортировали идеи, язык, даже направление своего творчества — и все это делали медленно и неповоротливо».
Шавиер Маркес пишет: «Характерно, что Байя, будучи для Кастро Алвеса ласковой, но надменной матерью, оказалась, пожалуй, тем бразильским краем, где его стиль, заимствованный у Гюго, нашел меньше всего приверженцев. Произведения поэтов Баии того времени либо вовсе чужды кондорской школе, либо отражают ее влияние лишь в отдельных случайных произведениях. Публика здесь, как и всюду в стране, где он побывал или куда доходили о нем слухи, слушала его, как наэлектризованная…»
(обратно)80
Чистое тщеславие и только тщеславие привело меня к тому, что я цитирую ниже фразу Освалдо де Андраде из его статьи о бразильском романе: «Лирическая линия найдет продолжение в лице Жоржи Амаду. «Жубиаба» — это самое прекрасное произведение такого рода о Бразилии после «Негритянского корабля». Эта связь между Жоржи Амаду и Кастро Алвесом должна укрепиться».
(обратно)81
Жайме де Баррос пишет: «Голоса Африки» — это сильнейший крик отчаяния, который рабство исторгло из человеческой души».
И Алмир де Андраде высказывает следующие весьма справедливые суждения о Кастро Алвесе и современной ему поэзии: «Следует отметить и со всей твердостью провозгласить большое гуманное значение творчества Кастро Алвеса, в особенности потому, что мы переживаем период, когда во всем мире распространяется литература отрицания, где мир изображается как неизлечимый больной и поэты становятся выразителями страдания, задыхаясь от собственного убожества и теряясь в жалобах и стонах».
(обратно)82
Айдано де Коуто Ферраз пишет о «Лусии»: «Поэма «Лусия» отражает одновременно формирование бразильской семьи при патриархальном режиме и упадок невольничьего патриархата. По заглавию и накалу ее стихов я считаю «Лусию» лучшим негритянским произведением Кастро Алвеса. Не будучи произведением для декламации, поэма эта является одной из вех поэзии масс, появление которой я предвижу в Бразилии после нынешнего периода упадка».
(обратно)83
Один старожил Сан-Пауло описал свои впечатления от постановки драмы «Гонзага»: «Мне было одиннадцать лет, когда я присутствовал в Сан-Пауло на представлении в старом театре Сан-Жозе, где Кастро Алвес прочитал свое стихотворение «Актеру Жоакиму Аугусто». В этот день там шла замечательная премьера «Гонзага», шедевр поэта. Жоаким Аугусто, актер огромного дарования, воплотил славный образ главного персонажа пьесы. Много раз впоследствии я слышал в запомнившихся мне спектаклях таких мастеров сцены, как Сальвини, Росси. Но блеск этих знаменитостей, вместо того чтобы затмить, только оживил мои воспоминания о большом сан-пауловском актере, который так взволновал меня в детстве. После финальной драматической сцены, когда Гонзага отправляется в изгнание, Кастро Алвес появился в ложе бельэтажа, примыкавшей к сцене, и заговорил, стал читать свою оду. Потрясающее впечатление! Его сильный, звучный, ясный, проникновенный голос падал волнами на аудиторию, превращая ее волшебством гения в молчаливую и восторженную массу! Вечер восторга и очарования, который я никогда не забывал в течение всей моей долгой жизни».
(обратно)84
Эти стихи — из «Песни богемы», они были написаны им в этом году и положены на музыку Эмилио Лаго.
(обратно)85
Один из друзей Кастро Алвеса, поэт Лобо да Коста, принадлежит к числу тех, кто возлагает на Эужению ответственность за смерть Кастро Алвеса. По этому поводу он написал сонет «Последнее признание Эужении Камары», который я привожу, как свидетельство современника:
Ее священник в храме встретил строго: — Ты душу, дочь моя, открой до дна! — Красавица дрожит и смущена, В исповедальне жмется у порога. Пустынно в этот час в жилище бога: Царят здесь полумрак и тишина. Еще бледней, еще смятеннее она, — Грехов у ней, как видно, очень много. — Ты усомнилась в боге? — Нет, о нет! — Так в чем же ты, скажи, подвластна плену? Греховной плоти — суете сует? — Отец мой, я люблю успех и сцену. Несчастный Кастро Алвес, наш поэт, Скончался, не снеся мою измену…Эужения умерла спустя восемь лет после смерти Кастро Алвеса.
(обратно)86
Родригес Алвес, коллега Кастро Алвеса по факультету права, сообщил Афранио Пейшото любопытную подробность о последнем экзамене Кастро Алвеса. Накануне поэт попросил «натаскать» его по разделу, о котором Кастро Алвес ничего не знал. Родригес Алвес, отличный студент, дал ему необходимые объяснения. В результате поэт блестяще сдал экзамен, а Родригес так волновался, что с трудом получил удовлетворительную оценку.
(обратно)87
«Когда я умру» — таково заглавие этой тяжелой поэмы, о которой сам Кастро Алвес сказал: «Эти стихи были написаны, когда я считал, что автор скоро успокоится в земле. Жар и страдание повлияли на то, что они не были закончены».
(обратно)88
Матеус де Андраде и Андраде Пертенсе были его врачами в Рио-де-Жанейро. О первом Педро Калмон пишет: «Матеус де Андраде прибыл из полевых лазаретов на парагвайском фронте. Прекрасный и удивительный человек! Еще в 1861 году «король гуляк на карнавале», принц рио-де-жанейрской богемы, он почти не имел знаний. Сейчас ни один хирург страны не орудует скальпелем так, как он».
(обратно)89
Шавиер Маркес рассказывает: «Кастро Алвес держался стойко, не испустил ни одного стона. Хирургу, который огорченно смотрел на него, он с улыбкой сказал: «Отрезайте ее, отрезайте! Ничего, что. я останусь с меньшей плотью, чем все остальное человечество».
(обратно)90
Сообщение в газете «Коррейо Паулистано» от 29 июня того года информировало сан-пауловских поклонников о состоянии здоровья поэта: «Болезнь легких не усилилась, она даже ослабла, и врачи дают больному твердые обещания вылечить его. Мы искренне радуемся этим вестям, которые так определенно предсказывают выздоровление поэта. Величавый кондор бразильской поэзии снова готовится взмахнуть крыльями и взлететь к сияющим высотам, которые открывает ему литература».
(обратно)91
Эти стихи — из поэмы «Поздно», написанной в ноябре 1863 года для Эулалии Филгейрас. Стихи, приведенные в сцене с Марией Кандидой Гарсез, были написаны для нее в октябре того же года и опубликованы с посвящением: «Марии Кандиде». Это «Вечерний шепот». Стихи, приведенные в сцене с Кандидой Кампос, — «Возвращение весны». Они были первыми, которые Кастро Алвес написал после операции, и были вдохновлены Кандидой Кампос.
(обратно)92
Эта песня, которую я привожу, относится примерно к данному периоду. Португальский писатель Луис Мота датирует ее 1870 годом, а мы в этой главе находимся в конце 1869 года.
(обратно)93
Я приведу здесь полностью поэму, которой Эужения Камара ответила на «Прощай!» Кастро Алвеса, — учитывая ее документальный характер. Как поэтическое произведение она не представляет интереса, но показывает, что Эужения действительно любила Кастро Алвеса (впоследствии она писала ему в Байю, прося вернуться; это письмо затерялось) и что признавала его гениальность. Она писала: «Тебя люблю и буду век любить», «Тобой от бога несравненный великий был получен дар». И далее: «Тебя Бразилия в анналы внесет истории своей». Вот эта поэма, которую я привожу для удовлетворения интереса наиболее любознательного читателя:
Пора настала расставанья. О брат души моей, прощай! Тебе господь за все страданья Готов открыть свой вечный рай. Тобой от бога несравненный Великий был получен дар: Огонь поэзии священный — Души неостудимый жар. Увенчан славой дивный гений, Народом признан и любим; И длинным рядом поколений Наш Кастро Алвес будет чтим. Уже проник твой стих и в залы И на просторы площадей. Тебя Бразилия в анналы Внесет истории своей. О славы баловень бесспорный, Грозит тебе безвременный конец! Наступит скоро траур черный Для наших горестных сердец Мы жизнь твою забыть не смеем — Она была так хороша. Ей станет лучшим мавзолеем Моя плененная душа. Но мне в последние минуты Все высказать, молю, позволь; Хоть я терзаюсь мукой лютой, Хотя мешают плач и боль. Мое признанье я не властна В груди истерзанной таить: Тебя любила нежно, страстно, Люблю и буду век любить! Смогу ли разве позабыть я Блаженство наших вечеров. Когда творил ты по наитью Поток изысканных стихов? И, даже выходя на сцену, Я только помню милый взор; И для меня утратил цену Восторг толпы, хвалебный хор. Осталось мне воспоминанье — Твой образ в нем хочу сберечь: Твою улыбку, глаз сиянье И мелодическую речь. О! Если б, смерть превозмогая. Меня к себе бы ты позвал, Вернулась радость бы былая, Мир снова б мне желанным стал. Когда могла бы услыхать я Твое последнее «Приди!», В твои упала бы объятья, К твоей приникла бы груди. Прощай! Но если все ж судьбою Еще нам встреча суждена, Я стану любящей сестрою, Тебе отдам себя сполна!Каетитэ, 17 ноября 1869 г., в 2 часа утра. Прощай!»
Есть, без сомнения, что-то трогательное в этой поэме. И еще больше, чем в поэме, чувствуется страдание в этом последнем «Прощай!», написанном еще раз после даты, места и часа, которым закончилось это прощальное послание.
(обратно)94
Строфа из сонета «Никогда больше» испанского поэта Педро Маты (1811–1877).
(обратно)95
Кастро Алвес написал: «…На родине таких людей, как Андрада, Педро Иво и Тирадентес, она (поэзия) должна быть величественной, как девственные леса Америки, бурной, как ее гигантские реки, свободной, как ветры, которые проносятся, завывая над ее равнинами, и стекают по каменистым стенам ее гранитных гигантов. Поэзия в конечном счете должна быть отражением этой земли».
Эдисон Карнейро пишет: «Сын, брат природы? Кастро Алвес был более чем сын и брат — он был певцом природы Бразилии и Америки…»
(обратно)96
Если бы эта поэма была опубликована сегодня, то разве не показалось бы, что она написана специально против нынешней войны?[46]
(обратно)97
Вот отрывок из этого письма: «В важные для человечества часы, у колыбели или у могилы великих событий, когда раса вымирает, когда народ поднимается, когда королевство рушится, когда куется революция, появляется женщина… и над массой нерешительных душ возникает лихорадочное вдохновение Кассандры-пророчицы… Кинжал Юдифи — убийцы короля! Жанны д’Арк — освободительницы».
(обратно)98
Существует знаменитое письмо Агнезе к одной из сестер Кастро Алвеса, в котором она признается, что любила его и что только предрассудки вынудили ее избегать его: «Я признаюсь также, что очень его любила, испытывала к нему беспредельную любовь. (Ни одна женщина не могла устоять против этого таланта, против этой сверхъестественной гениальности, не говоря уже о его физической красоте.) Но, смиряя себя, я сказала своему бедному сердцу: «Замолчи, спрячь это свое чувство, оно тебя разрушает, убивает тебя, разве ты не видишь, что любовь для тебя — преступление?» И так и случилось: я приказала, оно послушалось. Но одному богу известно, как я страдала!»
Я нахожу очень любопытной эту фразу в скобках относительно силы соблазна поэта, вместе с тем это сильнее подчеркивает то, что было малоприятного в этой' итальянке с предрассудками. Агнезе — самая антипатичная из всех возлюбленных поэта, мещанские предрассудки она поставила выше своей любви. Из личностей, которые прошли через жизнь Кзстро Алвеса, еще более несимпатичной, чем эта красавица Агнезе Тринчи Мурри, была все же сестра поэта, которую он так любил и которая после его смерти стала величайшей противницей его славы.
(обратно)99
Собственноручная запись Кастро Алвеса подтверждает, что у него была идея написать поэму о Палмаресе.
Об этом упоминал Афранио Пейшото. В записи поэта говорилось:
«РЕСПУБЛИКА ПАЛМАРЕС Поэма Кастро Алвеса 1870».
Неутомимый исследователь жизни и творчества поэта Афранио Пейшото приводит и другую запись — следующего содержания:
«РЕСПУБЛИКА ПАЛМАРЕС Действующие лица:
Измаэл. Оби. Африканка.
Бранка. Последний Зумби. Эфиопский колдун.
Жубала. Невинная девушка. Охотники, негры-воины,
женщины, колонисты и т. д..».
(обратно)
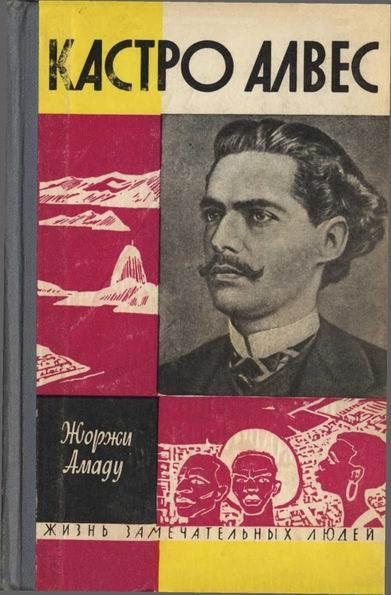

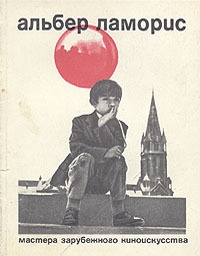
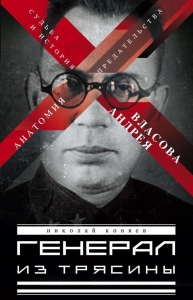
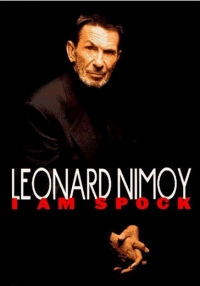

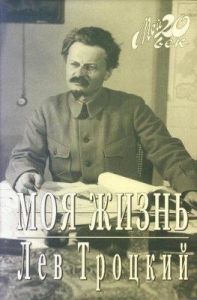
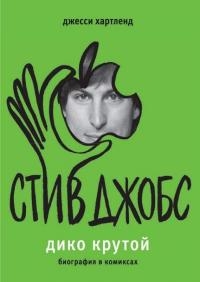


Комментарии к книге «Кастро Алвес», Жоржи Амаду
Всего 0 комментариев