Анамор
Опубликованно в 1-2 журнала “Талинн” за 2011 год. Роман номинировался на премию «Капитала культуры» в 2011 году.
Маня Норк{1}
Роман
Жила она без цели, враждуя с целым миром...
Андерсен. Предки птичницы Греты
1.
В шесть лет я уже знала: из покойников, стариков и психов никогда не возвращаются. Поэтому я не любила, когда отец водил меня на кладбище.
Толстая старушка, эстонка, жила недалеко от меня, в деревянном доме. Она каждый день тащилась на ближайшее кладбище — в галошах, с огромной корзиной — и торговала цветами. Мне почему-то казалось, что и яблоками. Для жмуриков. Я уже знала, что покойники встают из могил только по ночам — и тогда вырывают у людей сердце, печёнку и почки. Так в страшилках. А днём покойники спят. А если и встают, то для того, чтобы купить у старухи яблоки. Захочет жмурик яблочка, выкопается из могилы. Пройдёт мимо всех, и никто его не увидит, кроме старухи. Купит он у неё яблочко и пойдёт обратно. И снова закопается в могилку. Чем платили покойники, меня как-то особо не волновало. Ну нет у них наших денег, значит, у них свои рубли и копейки. Они ведь как иностранцы.
Старуха носила галоши в любое время года. Ещё помню её чёрный капюшон из плащёвки и длинную хуторскую юбку в клетку.
Мы с Катькой, моей подружкой, думаем, что эта бабка ненастоящая и что она ночью спит в могиле, а утром выкапывается. Яблоки и цветы у неё тоже ненастоящие, могильные. Скушаешь такое яблочко — сам скоро покойником станешь.
— А зачем ей деньги, раз она мёртвая? — спросила Катька.
Я немного подумала и сказала:
— Да низачем. Просто она очень жадная. Наторгует много денег и похоронит их глубоко-глубоко. Чтоб никто не увидел.
Уже тогда, в семьдесят пятом, старуха выглядела лет на восемьдесят. Она ещё в девяностых сидела на кладбище. И одежда у неё была неснашиваемая. Всё так же блестели галоши. Всё так же громоздилась юбка. Всё так же кукожился капюшон.
Я так ничего и не купила у этой старухи.
Психов ещё называют «шизиками». Им хуже, чем покойникам, — их никто не любит и никто о них не плачет. Все хотят, чтоб они поскорее стали покойниками. Для того чтоб плакать по ним, наверно.
Бабушка моей подруги выходила на улицу голая, но под зонтиком. Другая бабушка ела цветы. Даже розы вместе со стеблями. Третья ничего не хотела выбрасывать, вся помойка у неё оставалась и воняла, и соседи жаловались. Когда одна сердобольная тётка предложила помочь выгрести весь этот срач, бабка той чуть глаза не выцарапала. «Сикуха! — орала она. — За собой лучше смотри!» Ещё у этой бабки была собачка. Бабка её не выгуливала, а собачка гадила по всей квартире и почему-то рожала щенят. Потом за бабкой приехала дочь. Бабка кинулась на неё с топором... бабку скрутили... Она оказалась 1876 г. р. Столетней.
Психи здесь, но они всё время смотрят т у д а. Это я и в детстве понимала, только сказать не могла. Жмурятся они туда, где жмурики. Поэтому нормальные так недовольны шизами. «Раз ты в этом мире живёшь, так и будь в нём. Целиком — с ногами-руками, глазами, головой. с почками-печёнкой-селезёнкой... А то ты прям как говно в проруби — эк тебя болтает, взад-вперёд, туда-назад. Нельзя же быть и здесь, и там, и там, и здесь!».
Жмурикам лучше. Они там — на родине. А психи и здесь не к месту, и там чужие. Лезут они на кладбище, а мертвяки им орут: «Да куда ты прёшь, дурак! Вот помри сначала!» А они всё равно лезут, жмурятся, в могилы рвутся, как в дом родной. Задолбали и живых, и мёртвых.
Однажды меня почему-то отправили с Лёшкой к бабе Гале в Талдом. Баба Галя была Лёшке бабка, а мне никто. Она жила одна в маленькой квартирке. С нами баба Галя почти не говорила. Так, несколько слов, самых необходимых. Она просто сидела, уставившись в одну точку. Часами. И я уверена: под её ухом можно было гаркнуть или хлопушку взорвать — баба Галя бы не пошевелилась. Может, баба Галя и умерла бы, но просто свалившись на пол, не двинув ни рукой, ни ногой. И всяко же, не ойкнув.
Дома у бабы Гали были серые стены, окна без занавесок, стол, покрытый газетой, и железные кровати. Думаю, что всё это даже не от бедности, а оттого, что баба Галя ни в чём не нуждалась, раз она была почти т а м. В углу стояло подобие серванта, и это подобие казалось застиранным — да-да, будто сервант прокипятили, выварили в щёлоке, а потом чуть подсинили.
Ни телевизора, ни радио у бабы Гали не было, только допотопный проигрыватель и кучка старых пластинок. В их числе и нелюбимая мамой Гелена Великанова:
Только мне всё кажется,
Да, почему-то кажется,
Что между мною и тобой
Ниточка завяжется...
Вот умора! Она что — этого мужика собирается на ниточке за собой таскать, как Пятачок — лопнувший шарик?!
Ещё были пластинки времён Первого московского молодёжного фестиваля, то есть конца пятидесятых. Например, кубинские песни «Каждая самба должна иметь свою пандейру» и «Веселись, негритянка!». Ещё «Песня ковбоя» и что-то совсем уж сусальное под названием «Двадцать маленьких пальчиков», про малыша, причём младенца. С припевом: «Оп-поп-опп-попп... ля-ля-ля-ля!» Будто кто-то громко пердит после сытного обеда, а потом ни с того ни с сего делает губки бантиком. У Лёшки тогда к грудникам было отношение воистину хармсовское:
— Опять про малышей этих дебильных! Да я бы их всех.
— Что — убил?
— Ну не убил, а отвёз бы куда подальше, пусть там сами живут как хотят. хоть помрут...
Мне было тогда девять лет, Лёшке — десять.
Даже пластинки у бабы Гали кажутся вываренными, а еда — застиранной, поэтому я ела очень мало. Да и вообще весь Талдом страшно блёклый, и всё в нём блёклое — дома, собаки, кусты, люди, сараи. Небо тоже серое и чуть тронутое синькой. И тронутое, как баба Галя. Уже взрослой я однажды подумала: «А "Сталкера" случайно не в Талдоме снимали? Ведь в этом фильме всё — как там. И даже звучат похоже: сТАЛкер, ТАЛдом...».
Мне казалось: сейчас баба Галя уйдёт туда, в варёный город, в туман, и не вернётся. И мы с Лёшкой останемся одни, доедим весь хлеб и пойдём воровать липкие «подушечки». Нас за это посадят в Детскую комнату милиции, а потом и в настоящую тюрьму, и мы навсегда останемся в Талдоме. А баба Галя будет жить в своём городе, дружить с психами и жмуриками, есть кладбищенские яблочки и слушать Гелену Великанову.
Мне ещё долго снились вываренные сны про вываренный город.
Тарту, 1972. Мне три года. Мы с мамой идём домой по улице Тяхе. Пьяная тётка, высунувшись из окна, воет стихи. «Это Пушкин. «Вещий Олег», — сказала мама. Дом был полуобгоревший, а тётка старая, с накрашенными морщинами. Она всё воет и воет и вдруг прогибается вперёд. из окна выпасть хочет? Но мужик, не видный раньше за шторой, хватает тётку за шиворот и, ругаясь, тащит в глубь квартиры. Мама берёт меня за руку, а я всё смотрю на почти сгоревший дом, на его стены, деревянные, местами чёрные, а местами в нахохлившейся жёлтой краске. и знаю, что это Пушкин.
С того дня я поняла: Пушкин — пожар.
Мы живём в маленьком деревянном доме на тихой улочке. Мама, папа и я. Наши соседи — эстонцы. Среди них одна старушка, и я её страшно боюсь. Из-за бани — однажды я там её увидела, голую, и закричала. То ли у старухи не было одной груди, то ли была, но изуродованная. Потом я узнала, что во время войны старуха помогала подполью и её пытали в гестапо.
Эта отрезанная грудь — чёрная дыра моего детства. Будто все мои кошмары и страхи вытекли из неё.
Пить, воровать и влюбляться я начала в раннем детстве. Первый свой алкоголь я попробовала, когда мне был год девять месяцев. Мама рассказывала: «Мы оставили на журнальном столике бокал, там на донышке было вино, и отошли буквально на минуту. а ты выпила эту капельку и легла на пол. Пьяная и счастливая».
Первая любовь. К отцу пришёл его студент. Я вздрогнула от красоты этого юноши и прикрыла глаза — будто боялась ослепнуть. Моя самая короткая и самая правильная любовь. В двухлетнем возрасте. Увидеть, вздрогнуть, прикрыться, постоять, отойти. И всё.
В три года я украла у своей няни медвежонка. Рыжего, целлулоидного, довоенного. С откушенным ухом.
Няню мою звали баба Оля. Она была очень толстой и всё время что-то жевала — даже когда спала, даже когда говорила.
Однажды я поняла: это баба Оля отъела медвежонку ухо, и тогда он, настоящий, живой, превратился в игрушечного. Чтобы баба Оля его совсем не съела. Но я-то знала, что баба Оля его обязательно сожрёт, хоть живого, хоть неживого. Мне стало страшно. Я положила медведя в карман и принесла домой.
Когда меня дома ругали, было нисколечки не стыдно. Только очень жарко. Мама крикнула:
— Как можно брать чужие вещи?! Может, ты просто положила мишку в карман и забыла...
— Нет. Не забыла. Просто взяла. И не вещи, а медвежищи!
Медвежонок вернулся к бабе Оле, она его поставила высоковысоко на сервант, а я стала ей мстить. За то, что она ела медвежонка. За то, что она всех может слопать — меня, маму, папу, бабушку. Я пряталась от неё под стульями, столами, диваном — зная, что ей трудно нагибаться. Я сбрасывала с её тарелки котлету и подкладывала своего пластмассового пупса, но баба Оля почему-то его не ела, а только причитала: «Ой, а где же мой котлетик?». Я нарочно пачкалась, рвала себе платья, писала в штаны и думала: «Вот мама выгонит бабу Олю и не будет ходить на работу, будет только со мной, и медвежонок ко мне прибежит — ночью, когда баба Оля заснёт».
Няня сама отказалась от меня — после того, как я навесила себе на язык прищепку для занавески, а баба Оля металась по комнате, не зная, что делать. Но мама не осталась со мной, а отдала меня в детский сад, и медвежонка я больше не видела.
В детском саду я упала с лестницы, и тогда меня отправили к бабушке в Рыбинск.
Мама спит. Я зову её: «Мама!» Потом чуть громче: «Ма-а-ама!» Мама не шевелится. «Ма-ма! Свинья!» И каменею от ужаса. И через несколько секунд — снова и отчётливей: «Сви-нья!» Мама сквозь сон: «Мммм... что?», но не открывает глаза. А мне страшно с места сдвинуться. Только что я была ЗДЕСЬ, а теперь уже ТАМ. И это не исправить.
2.
Читать я научилась позднее, чем воровать, любить и пить. В городе Рыбинске Ярославской области, где жили мамины родные, дворничихи писали свои фамилии масляной краской на мусорных ящиках. Чтоб было понятно, кто где убирает. Мы с мамой идём к тёте Марине Воскресенской. Я вижу мусорку и вдруг читаю: «ыко-ва», хотя уже умею выговаривать «р».
— Что-что?
— Ты же видишь, мама, здесь написано — ыкова! ыкова!
— Рыкова?
Фамилия дворничихи была первым моим прочитанным словом. А другие слова мне не нравились, и я в них переставляла слоги: «ре-мо», «кла-ку». Потому что я их понимала и не боялась, в отличие от «рыковой».
Ещё помню, что мне стало — стыдно и плохо, когда я сказала «рыкову». По-настоящему стыдно и плохо, а не просто жарко, как с медвежонком.
«Как душегубкой себя морю первым прочитанным словом.».
И стыд этот был не обычный стыд, а красный. Будто я на бойне, и меня всю с ног до головы обдало кровью. Страшной, бычьей. И этот бык, уже убитый, мёртвый, смотрит на меня — долго — и вдруг бодает. И я заливаю его своей кровью.
… и меня до сих пор не покидает вот этот красный стыд за что-то нелепое или просто плохо сделанное. И жалость ко всему этому. Недавно мне в руки попалась книжка дебильнейших детских стихов. И я чуть не застонала: «Господи, ну, как так можно. да я б им всем по репе настучала. да я.» И осеклась. Потому что мне стало жалко не детей, которые это прочтут, а авторов, зачем-то сочинивших всё это. Художника, нарисовавшего отвратные картинки. Корректоров, вычитывавших всю эту хрень. Даже бумагу. Даже причины, по которым всё это писалось, вычитывалось, правилось.
А в Рыбинске, в детстве мне было стыдно и жалко книг Матильды Юфит, их я увидела у бабушкиной соседки — ведь никто их не прочтёт из-за такой страшной, совиной фамилии! И детский садик «Мотылёк», потому что у него не то названье. Надо — весёлое: «Земляничка», «Колокольчик». Ну, хотя бы «Светлячок». И в универмаге — коврик для ванной. Поролоновый, на который нашиты какие-то усатые птички и цветы тоже усатые, из поролона, и ноги об него вытирать неудобно. И заколку с розовыми розочками — её и открыть-то нельзя.
Это оттого, что я сама плохо сделанная и нелепая.
За всё это было стыдно. И всё это было красно от стыда. Даже комок в горле был красный, как гланды. Это не сентиментальность, нет. От сентиментальности ведь хочется бродить по лужкам, цве-туёчки собирать, акварельки мазюкать. А вместо этого — бычьей кровью тебя. насквозь, и ты уже не знаешь, где твоя кровь, где бычья, и нету тебя.
А ещё мне было стыдно за лису. Меня повели в цирк, и там лиса ела из одной миски с петухом и так жалобно глядела, что я чуть не заплакала. Лиса и есть лиса! Она должна есть кур! Ну да, это плохо, но должна! И зачем её переучивать. ведь людей никто не заставляет есть воздух или землю. И петуху этому тоже плохо. Он ведь боится лисы, дрожит. кажется, что глаза его сейчас выпадут и он их склюёт, как семечки. Глупо. Плохо и глупо. И кто это всё придумал?
И у меня такой же красный стыд за клоунов — когда они говорят всякие несмешные шутки, вроде: «А шарик во-о-он в том ряду, вон у то-о-ого мальчика. с косичками!» И за медведиц в блестящих юбочках. И за акробатов с фамилией Сорваловы. И за усталую жонглёршу — щас все её палки и шарики задремлют на лету, а потом упадут на головы зрителям, и директор её выгонит.
Мама рассказывала, что в конце пятидесятых девчонки сходили с ума по Асадову. «Не все, конечно, — говорила она. — В нашем классе я, Марина Воскресенская и ещё несколько Асадова просто презирали. А другие в альбомчики переписывали, плакали. Было у него про студентов — что-то совершенно психохулиганское. как они друг друга любили, а потом стали инженерами, и жена изменила мужу, а тот ушёл из дома и всё оставил ей и любовнику. Даже рубашки. Все плакали, а мы осуждали. Презирали».
«Психохулиганство» — это мамино словечко, обозначающее гипер-выбивание слезы.
Мода на Асадова дошла до моей юности, переступила через неё и потопала дальше. Особенной популярностью пользовались стихи о брошенной рыжей дворняге, которая в тоске по хозяину ложится на шпалы и умирает. Кажется, её перерезал поезд.
Перерезанных рыжих дворняг я не видела, зато видела лису. На железнодорожном пути. Разрезанную надвое и очень красивую. Мы с мамой увидели её и обе вскрикнули.
Мне никогда потом не было так страшно ни от чьей смерти — ни от людской, ни от звериной.
Я несколько раз видела живых лис на воле. Издалека. И очень коротко. Дважды — из окна междугороднего автобуса. В первый раз лисы вились и почти расстилались в воздухе — у самого края дороги. и по фигу им было, что их могут сбить. «Брачные игры», — сказал водитель. Во второй — лиса стояла в углу загона, а овцы сгрудились в другом углу и смотрели на неё.
Секунда. Нет, split second — щепка секунды, занозившая тебе глаз.
Сплит лис.
У меня появляются свои лисы. Октябрь. Я иду на урок музыки. Листья, хрустя, проворачиваются в воздухе. Словно суставы. Небо дёргается от них. Я останавливаюсь, хоть и опаздываю. Листья — это не листья, а лисы. Самые лисные — это красные. Это они проворачивают небо, как в мясорубке. Это от них мне так хорошо, и я стою, и мне не хочется никуда идти. Лисопад. У лисопадных лисов нет морд и лап, и тел нет. Зато у них — хвосты. И этими хвостами они таранят друг друга, но не убиваются. А потом таранят и меня, и я отталкиваюсь от них — ладонями, подошвами, ртом. Лисопад лезет в меня, а потом резко отталкивается и летит дальше.
У моей мамы — такие же резкие развороты. Она может быстро куда-то идти, не останавливаясь, не оборачиваясь, и меня понукает: «Ну, быстрее!» и ещё за руку меня тянет. И кажется — сейчас мама взлетит. В своё небо. Как лис. А она вдруг останавливается и не двигается — минуту, две. И я её не спрашиваю, почему это она так. Знаю — бесполезно. А её словно током отшарашивает от места, на котором она стоит. И мама хватает меня за руку, и мы опять идём — часто в другую сторону.
Потом я заметила лисопадность в Энни. Я — длинная, Энни — очень маленькая, и я за ней еле поспеваю. Хотя мы никуда не опаздываем — так, идём в наше «знаковое» место — «Пюссель». То есть «Пюссироху кельдер»{2} Выпить шерри-бренди — вместо уёбищной методики или педагогики. У Аньки — огромные шаги. И глаза Петра Первого — именно такие, мечущие молнии — страшно даже. И шаги его. «Маленький Пётр Первый» — так я её и называю, и Энни это нравится. Вдруг Энни будто заклинивает. Кажется, что её намертво приворотило к асфальту — чугунными шурупами, и щас прилетит орёл — тоже чугунный и начнёт ей клевать печень. Анька не глядит ни на кого, ни на что. Она вообще не здесь. Мимо спешат наши однокурсницы на лекцию, окликают нас. Энни не отзывается. Потом — как проворот, как хруст сустава: «Ну, пошли!» И мы идём в «Пюссель».
У меня в детстве был ещё один лис — капюшон, отороченный лисьим мехом. Я с ним разговаривала — не с капюшоном, а с мехом, то есть лисом. Я носила его зимой, и мне нравилось смотреть, как он индевеет, а потом вдруг оттаивает. Остановлюсь по дороге в му-зыкалку и говорю ему: «Мой лис». Потом чуть громче: «Мой — лис!» Лис обернулся вокруг моего лица и всё слышит. Он ест иней. А те, осенние лисы, наверно, ухряли жрать небо.
Я и сейчас иду-иду, а потом резко останавливаюсь. Не потому что устала, а будто приученная мамой и Анькой.
Надо остановиться. А потом развернуться — так, чтоб воздух взвизгнул — и идти дальше. Или не идти. Но развернуться надо. И провернуться в воздухе. И щёлкнуть, как сустав.
Щёлкнуть, как лис в воздухе. Сплит лис.
3.
Город Рыбинск. Старухи играют в карты. Их лица я не запомнила, только руки. Большие, страшные, коричневые. И как эти руки сдвигают столбики монет, и тусклые глаза тоже сдвигают, и карты задубевшие, как руки. Если картами щёлкнуть по носу, вот так — хрясь! — то от носа останется одна дырка. Но старухи не бьют друг другу носы, просто пререкаются: «Ты што ж это в мои карты заглядываешь, матушка? В свои смотри! Ишь, какая!»
В квартирах брежневских старух всё было твёрдо, жёстко, несгибаемо. Настенные ковры. Напольные ковры. Серванты. Фотографии внуков в пластмассовых шариках и ракетах. Гравюра на дереве «Девушка с травинкой». У девушки волосы подстрижены, как у мамы в шестнадцать лет, то есть в 1960-м. Бюсты — обычно Пушкина и Чайковского, гипсовые. Фарфор, похожий на цемент: мужичок-с-ноготок в нагольном тулупе и с нагольным лицом, девочка-обрубок с мишкой-обрубком. Или поизящнее: бело-золотая балерина в шпагате.
В таких квартирах всегда был физалис — оранжевые фонарики. Мне хочется сдавить их. Но я боюсь — вдруг ещё руки пораню. они только кажутся хрупкими, фонарики — Бог знает, какие они на самом деле. Ещё были бессмертники и искусственные цветы. Будто бы специально пыль собирать.
Старухи и не вытирали пыль, и она ложилась — слоями, и все эти слои окаменевали и становились — почти фарфор, который почти цемент. И если бы кто-то уронил эту пыль, она бы точно разбилась. Но не со звоном, а так, как падают камни, глухо так: Бамм! Но пыль намертво приросла к сервантам, бюстам, паласам. К зеркалам-наждачкам. К салфеткам-тёркам. К подушкам, внутри которых бритвенный пух. Фиг её сдвинешь, пыль эту. Хули нам пули, нас и штыки не берут.
На пыль наслаивалась моль — тоже оцепенелая. Она не летала, а ползала, огромная, как махаоны, зажравшаяся, и никакие нафталины её не брали. Но старухам это было по фигу.
Хули нам пыли. Хули нам моли.
Сам воздух в таких квартирах дыбился, топорщился. Крахмалился — только не белым, а серым. Поэтому дышать было трудно.
Любая мягкая вещица — например, подушка-думочка — тут же роговела так, что об неё можно было орехи раскалывать.
В парках города Рыбинска стояли гипсовые девушки. С вёслами, мячами и какими-то доисторическими палками-копалками. Правда, многие девушки были уже не с веслом, а с весломтиком. ханыги и шпана бросали в статуи бутылками или слишком рьяно опирались о вёсла. и гипсовые девушки их не уважали, а ханыги сердились и раскурочивали всё — и вёсла, и руки. и стояли безрукие и безвёслые физкультурницы тридцатых. а иногда и без-грудые, и безголовые, и вообще почти никакие.
Я думаю, старухи бы с удовольствием приволокли вёсельных девушек к себе. Для новой пыли.
Иногда у бабок попадались книги. Совершенно случайные — типа фельетонов, бичующих стиляг и рассказов удмуртских или туркменских писателей. Зачем их покупали? Кто их читал? Да никто. Это были книги, изначально обречённые на нечитание. В этом и заключался их кайф.
Когда я научилась читать, то просто влюблялась в названия: «Не проходите мимо!», «Тайны отца Афанасия», «Сын рыбака».
Влюблялась, не раскрывая самих книг.
В начале 90-х мои знакомые нашли на общежитской кухне «Так было, так будет» Ю. Убогого. После этого хоть других книг не пиши!
Старухи книг не писали и не читали. Они играли в карты, стояли в очередях, а в остальное время сидели на лавочке. И обсуждали всех и вся. Не зло, а так, для порядку. Прошёл кто-то — так почему бы о нём не покалякать? Он что, не человек?!
Мама говорила: «Как сквозь строй проходишь.»
Тётя Валя на лавочке не сидела и никого не обсуждала. Моя бабушка — тоже. За это старухи прозвали их «прынцессами». «Ишь, прынцессы какие! Ни с людями поговорить, ни с праздником их проздравить... "Здрасьте!" — и почапали себе.»
Тётя Валя была бабушкина соседка — пожилая пьяница с заячьей губой. Во дворе её так и называли: «Валька-губа». Больше всего на свете она любила бухло и чтение. Предпочитала романы, чем толще — тем лучше. Типа шишковских «Угрюм-реки» и «Емельяна Пугачёва». «Жизненное», — говорила о них она. Она брала книги у бабушки и однажды упрекнула её за то, что та читала детектив: «О серьёзном надо! О жизненном!» У тёти Вали был муж, злобный ханурик, и взрослые дети: муж умер, дети не желали её знать. Тётя Валя ве,чером брала роман потолще, бутыль «Солнцедара» и кейфовала,покачиваясь. Спирт и слова равномерно переливались по её жилам. Телевизор она не смотрела, презирала. И умерла — голова на романной странице, чуть ли не аннокаренинской («Ведь жизненно-то как!»), и на книгу натекла бормотуха.
Я бы похоронила тётю Валю с бутылкой «Солнцедара» и с «Угрюм-рекой», как Боба Марли похоронили с его любимыми вещами — Библией, футбольным мячом, гитарой и коноплёй.
В 9 лет я стала сочинять пьесы. Одна из них называлась «Лесная война». Я прочитала эту пьесу тёте Вале, и она её очень хвалила. Не помню, за жизненность или ещё что. Наверное, ей просто нравились все пишущие люди. Не важно, как писать, главное — писать. Ведь другие-то этого не умеют — ни хорошо, ни плохо, вообще никак.
Пластинок в квартирах старух обычно не водилось. У моей бабушки был проигрыватель 60-х годов — на длинных ножках — и два десятка пластинок. Некоторые явно мамины — типа Тома Джонса и итальянской и французской эстрады, тоже шестидесятых. Помню забавную Риту Павоне, как она выкрикивала: «Ши! Ши!» (потом я узнала, что это «лыжи» по-итальянски). Над отечественными песнями мы с Лёшкой откровенно стебались. Особенно нас смешила песня Эдиты Пьехи про семнадцатилетнюю дылду, которой «сегодня доверили ключи дверь открыть самой» — она что, до 17 лет ключами не умела пользоваться? А какой-то дядька пел: «Тихо по имени Ты позови меня. Лишь губами меня позови — я приду. ду-дуду, дудуду, дудуду.». Эти пластинки мы любили ставить на скорость в 45 (по-буратиньи) и 78 оборотов. За что нам и попадало.
Ещё у деда имелся бобинный магнитофон. Он иногда включал его. На бобинах был записан мой и Лёшкин детский лепет и песни конца шестидесятых. Дед слушал эти песни только для того, чтобы их ругать. Какая-то тётка пела о войне, о том, как «. обнимет и мужа и сына И даст на дорогу вина». Дед оживлялся: «Ну, да-да, главное — вина! И побольше! Делать им нечего.» Непонятно, зачем он вообще это записывал. Дед неродной, мамин отчим.
В другой песне тётка кричала о том, что какая-то баба родила двух сыновей, одного чёрного, одного рыжего. И сама не ведала, от кого: «Я от солнышка сыночка родила». Это рыжего. А чёрного — потому что «ночь была черна». Ну, в общем, как Буратино, без папы. Только у Буратино и мамы не было. Я хоть и маленькая, но знала, что ни от солнышка, ни от ночи, ни от бревна не рожают. Рожают от всяких дядек, которые женятся на всяких тётках. Или не женятся.
Мы с двоюродным братом презираем эту самую любовь. Лёшка даже рисует карикатуру, на которой толстый, жирный дядька влюбляется в толстую, жирную тётку. Он так и говорит: «толстый, жирный». И аж кривится. Ну, в общем, толстый, жирный дядька влюбляется прямо на улице и бежит к толстой, жирной тётке. И тётка бежит к нему. А на голове у тётки сидит другой толстый, жирный дядька, потому что ревнует. И ещё на тёткиной голове — дурацкая круглая шляпа с развевающимися лентами.
Старухи тоже презирали любовь. И осуждали молодых. «Щас обжимаются, через неделю расплюются!». Не нужна была любовь старухам, давно не нужна. У многих мужей уже не было... Кто на войне погиб, кто спился, кто просто взял и умер, незнамо от чего. У некоторых сыновья докирялись до смерти, у некоторых в тюрьме сидели. Внуки-подростки бухать тоже начали, бродили, длинноволосые, с гитарами. С внуками-детьми я носилась по двору, и старухи на нас покрикивали.
Семья в жизнях старух не была главной. Главной была скамейка. На ней старухи собирались пересидеть все дожди, все грозы, все режимы. Всех детей и внуков. Всех брежневых, громыко, устиновых, андроповых. Все обжимания и разрывы. Вообще всё.
Покрыться вековой пылью, многими слоями пыли. Скукожиться, окаменеть, одубеть — вместе с яркими фланелевыми и ситцевыми халатами, белыми платками, белыми тапочками. Намертво врубиться в скамейку, с которой давно сошли все краски. Но выжить.
А другие пусть как хотят.
4.
В детстве у мамы были кошки. Сначала кот Пушок, потом Муха Первая и Муха Вторая. Муха Вторая дожила до моего рождения. Ей было тогда больше десяти лет. Она приревновала маму ко мне и ушла — насовсем. «Когда тебя принесли из роддома, она так на тебя посмотрела, что мне страшно стало. И ушла — через несколько часов____Когда я её во дворе заметила и позвала, она даже не обернулась».
Иногда мне кажется, что я — не в родителей, не в бабушек-дедушек, не во всяких боковых родичей, а именно в Муху Вторую. Не могу забыть обид, хоть мщу далеко не всегда, а если и мщу, то как-то по-дурацки — так, что это и не месть выходит, и мне самой хуже. И дело даже не в маленькой примеси черкесской крови, а в этой самой Мухе. Мне кажется, я помню, как она сидела около лимонного деревца и смотрела на меня, а было мне всего несколько дней.
Мать мало рассказывала о своём детстве. Наверное, и я, подростком, не слишком этим интересовалась. А когда мне было 18, мама умерла.
Маме год. Они возвращаются в Рыбинск из эвакуации. Их дом разбомбили, и они идут к тёте Маше, бабушкиной сестре. Где-то лает собака. Этот лай — мамино первое воспоминание.
Потом они жили в коммуналке. Там двухлетняя мама била тараканов бабушкиной туфлей на шпильке. Когда бабушка увидела, что мама тянет таракана в рот, то на миг обомлела — и даже закричать не смогла.
В три года мама била чечётку под неизвестно как попавшую в российскую глухомань пластинку с песней «Putting on the Ritz». Пластинка была старой, 30-х годов, заезженной до дыр. А потом мама проглотила ключик от патефона.
У мамы была изначальная обида на меня. Оттого, что её роды сопровождались страшными муками. «Как тяжело ты выходила из меня! Будто вообще не хотела появляться на свет. Как я орала — казалось, умру от одного крика этого. о, Господи! Кровати в доме были старые, со спинками из металлических прутьев, так вот — я схватилась за эти прутья и их раздвинула. такая боль.» Пауза. Мама смотрит на меня чуть ли не с ненавистью: «Зато ты будешь рожать легко — бёдра-то у тебя широкие. Вся в бабу Любу!». Баба Люба — это мать отца. Та, которая увидев меня, двухнедельную, сказала: «Ты, конечно, извини меня, Наташа, но скажу откровенно: Танечка — очень некрасивый ребёнок! И в кого это она?! Володя маленький был просто картинка, все на него оглядывались.»
«Я тогда всю ночь проплакала.», — сказала мама.
Я молчу. Мне стыдно, что я так тяжело родилась, и бёдра у меня широкие. Что я некрасивая и неправильная и вообще хуже всех. Что я выходила из мамы, будто какашка при запоре — ну, когда какашка огромадная и кажется, что она тебе всё разорвёт, а не выйдет, сволочь такая. Значит, я какашка. Говно, одним словом.
Или даже хуже — наверное, внутри моей мамы были железные прутья, как на кровати, и я их раздвигала, и они маму всю искорёжили, и кровь из неё вся вышла, и мама чуть не умерла. Значит, я виновата. И вообще как те, которых в тюрьму сажают.
Уже в раннем детстве я поняла, что раздражаю маму. Мы как-то очень не совпадаем. Когда ей хочется помолчать — я болтаю. Когда ей хочется постоять — я бегу. И наоборот. Я делаю всё или слишком быстро, или слишком медленно («копаешься!»), либо вообще ничего не делаю. Таких, как я, в Ярославской области называют «пононо» — с ударением на последнее «о», слово непонятного происхождения, похожее на японское. У меня «руки, как крюки» и косолапые ноги. Когда мы в Москве, я боюсь эскалаторов. Я не могу ходить в уборную в поезде — грязно и трясёт — даже «по-маленькому». Я иногда называю взрослых на «ты». Я дерусь с другими детьми и даже с воспитательницами. Я вырезаю криво, рисую размыто и всё какие-то головы. Про меня говорят: «грубая», «дерзкая». Я отрываю куклам руки и ноги. Я раскрасила черепахе панцирь — и рассказала об этом в детском саду, а другие дети потом обвиняли меня в том, что я «черепашку замучила». Мама кричит, даёт мне шлепки и подзатыльники.
Больше всего маму бесит моя безрукость. Все женщины в её семье прекрасные хозяйки. А я ничего не умею и ничему не хочу учиться. Даже книги читаю «не так» — только для себя и запоминаю совсем не то. И не умею их пересказывать. Чтобы исправить это, мама берёт в библиотеке книгу какой-то польской писательницы, про барсука, и требует, чтобы я её прочитала. Я не читаю, а только смотрю картинки. Мама задаёт мне вопросы по книге. Я молчу. Мне насрать на этого барсука, и как он из дома ушёл, и хоть бы он вообще сдох. Я читаю, что мне самой хочется. Даже мамины книжки и журналы. Просто открываю на первой попавшейся странице и читаю. Там было, например, про девчонок-американок, как они наворовали всего в магазине — и помаду, и расчёску, и самолётик. А в другой раз я прочла про то, как девушку выпороли шомполами. За то, что она спала с карабинером и вообще «развратная» была. И страшно, и не знаю я, что такое «шомполы» и «карабинер», и «развратная» вроде бы понятно, но не совсем. Но всё равно здорово! Не то что про барсука этого.
Меня мама тоже порой раздражает. Она жуёт кофейные зёрна. Она пьёт чай с молоком или кофе с лимоном. Она выглядит моложе других матерей. Те правильные, солидные, в платьях джерси, донашиваемых с шестидесятых, и в кримпленовых костюмах. И голоса у них нерушимые — гудят и вещают, даже когда смеются. А моя мама — в залихватских клешах с цветочками, в браслетах, в мини— и макси-юбках. Браслеты звенят, сумочка твистует. На ушах — металлические клипсы-фонарики, отец привёз из Венгрии, ни у кого таких нет. Мама часто меняет причёски — например, в 73-м она носит нечто в стиле афро (процесс Анджела Дэвис!). Да, моя мама красивая и модная, но мне иногда становится стыдно перед девчонками из садика и их мамашами. Особенно перед Иркой — у той отец алкаш, а мать оплывшая, и в шляпе ночным горшком и негнущемся пальто, чуть ли не габардиновом. Лицо у неё тоже, как ночной горшок. И Иркина мать, и шляпа, и пальто сытые, самодостаточные и осовелые в своей самодостаточности. Шляпа в каком-то пуху. Ещё неудобнее мне перед рыбинскими девчонками. Одна из них, увидев мою мать в развевающихся клешах, обтягивающей кофточке и тёмных очках, выдохнула: «Это — твоя мама?!» И мне захотелось убежать.
В матери есть гордость, даже гордыня, но нет самодовольства. Это раздражает многих. И то что она — невпопад: невпопад ласковая, невпопад настороженная. С беспричинными приступами дикой тоски и дикого смеха. Совсем как у лермонтовской Бэлы. Но только я вижу мамины слёзы. Да и то редко.
Мамины вещи. Несколько пар тёмных очков. Мне больше всего нравятся круглые, конца шестидесятых, с блёстками на оправе. Духи «Мажи нуар». Деревянная баночка с крышкой-куполом, а внутри болгарское розовое масло. Серебряные узкие браслеты. Янтарные нити. Испанский перстень с соловьём и розой, испанский, и соловей будто испугался розы. Цепь — крупными звеньями — с висюлькой-солнцем. Клипсы-фонарики. Клипсы гроздьями, пластмассовые, ярко-синие. Джинсы «Jaguar» — на лейбле и впрямь прыгающий ягуар, эти джинсы мама уже не надевает, но и не выкидывает. Оранжевое мини-платье с чёрной вышивкой — его мама носила, когда была мной беременна. Я меряю это платье лет в семнадцать и, отнюдь не толстая, еле в него влезаю. Журнал «Бурда» за декабрь 1967-го: пряничные домики, золотистые жареные куры, золотистые блондинки в розовых мохеровых джемперах и розовых мини-юбках. Пластинки: сорокопятки «Битлз» (одна из них — польская, с «Hello-goodbye»), Джонни Холлидэя, Тома Джонса и Мирей Матье. Азнавур, Пиаф, Рози Армэн. Польская эстрада: «Червоны гитары», Чеслав Немен, «Но то цо?», Марыля Родович. Наши «Поющие гитары». Диск Новеллы Матвеевой.
Я просто балдела от червоногитаровской «Nie zadieraj nosa» и крутила под неё бёдрами.
Ещё у мамы есть картина. Совсем маленькая, серо-голубая, и краски на ней плывут. Её нарисовал знакомый мамин художник. Нарисовал и ушёл в монастырь, и больше о нём никто ничего не слышал. Фамилия у него была простая — Коробов? Коробков? Мне было как-то зябко от этой картины и тревожно, и тревога стягивалась к её центру, и я не могла смотреть на неё больше нескольких секунд. Боялась, что она меня утянет — в эти голубые воды, качающиеся серые камыши. Я вспомнила эту картину, когда в 15 лет услышала песни Донована «Reedy river» и «Ferryman's daughter»{3}. Хотя в них вода серая, и небо серое, и серые гуси в сером небе, и плеск выдры в реке, или это не выдра, а тело юной богатой наследницы, «лилии Килларни». Мне иногда хочется уехать в Шотландию — навсегда, никогда не покидать её, жить в самой глубинке, бродить у реки. Зябко, ноги вязнут в иле, но мне больше ничего не нужно.
Бродить-бродить, а потом плюхнуться с обрыва в реку и камнем пойти на дно.
Самой главной маминой вещью был талисман — крохотная костяная обезьянка. Когда мне было шесть лет и мы жили в новой квартире, я его потеряла. До сих пор не могу себе этого простить. Всё остальное — свою невнимательность, грубость, жестокость — да, а это нет. Никогда не прощу, вот что самое страшное. Главное — ведь я не взяла эту обезьянку без спроса, мама сама мне дала её — зачем? И не потеряла — её отняли эстонские дети, проходу не дававшие немногочисленным русским ребятам в нашем дворе. Но я даже не побоялась, а застыдилась сказать маме об этом.
«Потеряла» — это всё-таки не «отняли». Когда у тебя что-то отнимают — это стыдно. Все презирают тебя, раз ты не сумел защититься, и вина, получается, твоя, а не того, кто тебя ограбил. Всё это я и тогда понимала, только не могла высказать. Промямлила, не глядя на маму: «Потеряла.» И мама не стала ругать меня, не заплакала, только: «Ну, как же так…» — и всё, но таким голосом, что я поняла: наша жизнь с этого момента будет совсем другой.
… зачем, ну, зачем я тогда понесла обезьянку во двор? Зачем я стояла около Катькиного подъезда и вглядывалась в обезьянкино печальное личико, будто знала, что сейчас она уйдёт от меня. Вот пошла бы я сразу к Катьке и ничего бы этого не случилось. а тут налетели эстонские дети, закричали непонятное, и одна девчонка подошла совсем близко и что-то спросила. Я не поняла и замотала головой. У девчонки плохо пахло изо рта — мышь у неё там сдохла, что ли?... и сама эта девчонка была похожа на мышь — с коготками на тонюсеньких ручках, с остренькой серой мордочкой, с писклявым голосом. Эта девчонка просто выхватила у меня обезьянку и сунула себе в карман, и сказала что-то другим детям, а те засмеялись.
А я — ничего не сделала. Не заорала на весь двор, не заплакала, не бросилась на эту девчонку, на них всех. И к Катьке не пошла. Просто долго стояла не двигаясь, как будто вся земля на меня навалилась. Стояла и шептала: «Почему. почему. почему.», ещё не понимая, что потеряла всё. Потом вздрогнула, опустила голову и пошла домой.
Мне кажется: если бы обезьянка осталась, мама не умерла бы так рано. И не болела бы так долго и страшно. Кто подарил ей этот талисман? Валера, её жених, который был ещё до отца? Да, кажется. У жёлтой обезьянки было грустное жёлтое личико. Вообще все обезьяны печальны, поэтому люди над ними так смеются.
У мамы лицо становится грустным и жёлтым, будто она сама стала своим талисманом, и такое грустное лицо я встретила только ещё один раз в жизни — у моей подруги Энни. У Энни и у мамы лица буквально желтели от грусти, становились монгольскими. Или даже теми самыми, обезьяньими. Ведь ни у кого нет таких грустных лиц, как у обезьян. Это какая-то пра-печаль. Архетип вселенской тоски. Я видела на одной картине, она так и называлась «Тоска»: девушка сидит на берегу, лицо её кажется стёсанным этой самой тоской.
В новой квартире мне всё время холодно. Я ищу себе закуток потеплее, но не нахожу. Прижимаюсь к обоям, они в каких-то странных узелках, пытаюсь согреть их, но не получается, и соседский ребёнок играет гаммы, и маме тоже холодно, она кутается в пончо и никак не может согреться.
Я понимаю: это ведь не обезьянку украли, а мою маму. И не просто украли — убили. Из-за меня. Ведь это я позволила её отобрать. Нет, это я, я сама украла и убила свою маму. Украла и убила, и отобрала. У себя самой отобрала. Ну зачем, зачем, зачем она позволила мне вынести обезьянку на улицу?! То есть себя саму, а вовсе не обезьянку. Она что — хотела умереть? И поэтому позволила?..
Господи, только не это. и меня бьёт колотун и всю меня измораживает, и не деться мне никуда от этого холода, хоть к ста печкам меня прислони, хоть сто любовей на меня напусти. Потому что я бомба, урод, говно! Я убийца! И мама меня никогда не простит и уйдёт от меня, как Муха Вторая, как жёлтая обезьянка. Нет, мне самой надо сбежать — в узелковые обои, а из них — в стенку, а из стенки — дальше, в прутья железные, из которых я вышла. Господи, холодно-то как.
До сих пор у меня этот озноб.
Обезьянка-талисманка выплакала все свои слёзы — жёлтые, как она сама. И её глаза от этого скисли и слезли. И теперь прикрывает обезьянка пустые глаза пустыми руками.
5.
Когда мне четыре с половиной года, мы переезжаем из деревянного дома в каменный, в стандартную двухкомнатную квартиру.
На одной стороне нашей улицы — до автобусной остановки — частные эстонские домики. Тихие. Только собаки иногда гавкают. Но не выбегают за ворота и не кусаются, как злая рыжая шавка на Ропка. Просто сидят на цепи и лают для порядка. А хозяева для порядка сажают картошку, клубнику, укроп. И собак на цепь. А на ворота вешают табличку «Kuri koer»{4}
Злая собачонка выскочила из-за угла и тяпнула мамин сапог. Да-да, та самая асадовская рыжая дворняга, только вот её уж точно не убьют — ни люди, ни поезда. Она сама кого хошь перережет, засранка.
На другой стороне — деревянные и недеревянные полубарачные здания и многоэтажные кирпичные общаги. В одном из полубараков живут «химики», то есть условно заключённые. В других — кто угодно: рабочие, пенсионеры, незнамо кто, эстонцы, русские, даже немцы — всё смешалось. Много спившихся и спивающихся. Есть и психи — большей частью безобидные. Типа старика, который у всех проходящих с сумками спрашивал: «Ну, что ты так много всего накупил(а)? У меня ведь к чаю уже — два кило орехов, три пряников». Пряников всегда было три кило, орехов — два, пенсионер никогда не путал.
Этот пенсионер всегда выходил в старомодных кальсонах. Кальсоны были с завязочками — может, из дурки.
Ещё в одном из этих бараков жила тётка. Злющая-презлющая.
Она вешала бельё по двадцать часов в сутки и орала на детей. Даже если они ничего такого не делали, только проходили по двору. Даже если далеко от простыней её зассанных — всё равно вопила, по-эстонски. И грозила кулаком. Я, когда видела эту тётку, перебегала на другую сторону. Однажды чуть под машину не попала.
У тётки был сплющенный нос, белые глаза и почти чёрные губы. Волосы всегда прятались под уродским беретом, кримпленовым, четырёхугольным. Может, волос и не было совсем — как и бровей, и ресниц. Сосисочными пальцами тётка развешивала простыни. На них бы и последний бомж не польстился, такие страшные они были — забуревшие, покрытые чёрт знает какими пятнами, и пятна эти ничем не отстирать, не вывести никакими отбеливателями. Казалось, что на тёткиных простынях сношались, блевали, гадили, изрыгали пищу многие поколения алкашей и дебилов и зачинали новые поколения себе подобных. И все эти поколения простыни не стирали, даже не проветривали, а потом вдруг тётка спохватилась, вот и развешивает бельё по двадцать часов в сутки.
Однажды мы с Катькой осмелели настолько, что подошли к тёткиным простыням чуть ближе. Так просто — чтоб её подразнить. И тётка тогда схватила огромную палку и погналась за нами. Неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы не пенсионер. Тот самый, в кальсонах с завязочками. Он замахнулся на тётку костылём: «Ах ты, гнида, фашистка недобитая! Тебе бы только с детьми воевать, ё... твою!» Первый раз мы с Катькой слышим, как этот старик ругается матом. Тётка отступает, бормоча что-то по-эстонски. Пенсионер снова грозит ей костылём: «Я те покажу «мине перс-се»!{5} Я сам тебя в какую хошь п...ду пошлю!»
Мы с Катькой вздрагиваем от слова «п. да», но как-то радостно. Перебегаем дорогу и показываем тётке нос и язык. Слышим, как пенсионер громко объясняет кому-то: «Да вот опять эта фашистка на ребят накинулась. а девчонки-то хорошие. одна в очках даже». Это он про близорукую Катьку.
На следующий день, когда я возвращаюсь из магазина с молоком и хлебом, пенсионер снова говорит про орехи и пряники. И вдруг: «Ну, иди, иди, внучка. И не бойся ничего».
В окне одного деревянного домика стояла фигурка чёрта, держащего в руках светловолосую девочку. Фигурка была явно не советского происхождения.
Как вспомню её, так вздрогну.
Барак был и с другой стороны. Длинный, узкий. С клетушками. С некоторыми барачными девчонками я играла. Имён их я не помню. Все эти девчонки были друг на друга похожи — худые, белобрысые, и руки в цыпках. Ещё в бараке жила маленькая старшеклассница Рая, кроткая, рыженькая, со сбившейся улыбкой. Будто ей стыдно перед всеми за ханурика-отца, отставного прапорщика, мать-пьяницу и сестру в тюрьме. У сестры был ребёнок. На Раином столике лежала единственная книга — хрестоматия по литературе. Над столом висели «Три богатыря», вырезанные из журнала.
Барачные девчонки научили меня некоторым словам. Хотя я кое-что слышала и раньше. Ещё они рассказывали страшилки — про чёрную и красную руку, про «отдай моё сердце», про гроб на колёсиках. И поют песни — о том, как Оля любила Колю, и как потом её труп нашли, а на нём рыбаки прочитали надпись: «Олю любовь погубила». О том, как парень ограбил и перерезал целую семью, а потом увидел на них всех какие-то родинки, понял, что это его родители, братья и сёстры и сам зарезался. Ещё поют весёлое:
Лежал я на верхней полке,
Лежал и полетел,
Какому-то еврею
Я по носу задел.
И всё. Песня мне нравится, и я пересказываю её родителям. Меня ругают, а я не понимаю, за что. И больше ничего не пересказываю.
Иногда по вечерам из всех этих бараков и общежитий доносились крики. А однажды там одну тётку убил муж. Топором. Из ревности или по пьяни, какая разница. Главное, что убил. Совсем. Насовсем.
В нашей благополучной пятиэтажке никого не убивали, но всё равно погиб один парень. Молоденький, только школу закончил. Обмывал аттестат с друзьями. В конце вечеринки девушки решили прибраться и выставили парней на балкон покурить. А парень этот захотел напугать девиц и перелезть с балкона в открытое окно кухни. Раньше он уже это делал. Но теперь он был пьян. У него нога соскользнула и он упал. С пятого этажа.
Крик не помню, похороны помню. Было лето, но казалось, что осень — всё почему-то было жёлтым. И литавры бухали так, что мне стало смешно.
Иногда я, Катя и ребята постарше — Сашка, Лиля — доходим до угла нашей улицы. Там продуктовый магазин, киоск для сдачи стеклотары и телефон-автомат. Денег у нас нет, поэтому мы звоним бесплатно — по 01, 02 и 03. По 01 мы говорим: «У нас блины подгорели, пришлите, пожалуйста, сметаны!», по 03 не помню что, а по 02 — «Милиция, приезжайте скорее, сегодня на улице Тяхе меня убили!» И тут же вешаем трубку. Нам очень весело. Но сквозь смех пробивается ужас: а вдруг нас вычислят, и приедет милиция и нас арестуют? И от всего этого кто-то начинает икать.
Однажды мимо нас и в самом деле проезжает милицейская машина. Мы рассыпаемся в разные стороны. Сашка прячется за киоск, Лилька перебегает дорогу, мы с Катькой впрыгиваем в автобус, хотя билетов у нас нет, и выходим на следующей остановке.
— Катька, представляешь, нас сейчас заберут в милицию!
— Но мы же ничего в трубку не говорили, только смеялись. Это Сашка звонил. И вообще он большой, ему уже десять почти.
— Всё равно заберут — ведь мы смеялись, а они там всё слышали! В Детскую комнату милиции, мне рассказывали, есть такая. Там детей сажают в тюрьму!
— За что?
— Ну, украл там, убил кого.
— А разве дети убивают?
— Ну тогда если родителям нагрубил. двоек получил целую тыщщу.
— А-а, понятно.
Мы воруем в соседнем саду яблоки. Ветки перевешиваются через забор, и ребята быстро срывают крохотные, совершенно зелёные шарики. Я стою на стрёме. Потом мы делим яблочки и тут же их выплёвываем. Есть их невозможно.
Катин двоюродный брат Мишка хвастается, что он уже украл кучу всего. «Я и в нашем магазине крал, и шоколадку, и чай — он мне и не нужен вовсе, а я украл!... и в «Каубамая»{6} воздушные шарики и телефон почти настоящий.и когда мы ездили к маминой подруге на дачу, тоже воровал. везде! Даже велик могу украсть!» Я не верю Мишке. Он младше меня с Катькой и страшно хвастается. Пусть не врёт, ничего он не украл. Зато он, когда ему было три года, съел мыло и закусил зубной пастой. Это оттого, что ему не дали третью тарелку манной каши. Все дети плачут, если в них эту самую кашу набивают, а Мишка — что набивают, да слишком мало. Ему потом клизму делали.
Совсем маленькой я вижу в Тарту плакат. Две тётки заболтались, а вор тем временем тянется к авоське с хлебом и молоком. Я хоть и маленькая, но понимаю, что хлеб и молоко не крадут. Воруют деньги. Или конфеты.
У «Стеклотары» толчётся много ханыг. Иногда они ругаются с приёмщицей, если та не хочет принимать их треснутые бутылки. Приёмщица одна и та же в течение многих лет. А может, их на самом деле сменилось несколько — неотличимых друг от друга. Мы с мамой тоже сдаём бутылки. Молочные, лимонадные. Иногда из-под вина и шампанского. Про шампанские на киоске висит смешное объявление, что с них нужно снимать «фольгу и кольеретку». Тётки-алкашки трутся рядом с ханыгами. Они ещё страшнее и почему-то все в буром и синюшно-лиловом. Бурые плащи, бурые стоптанные туфли, бурые кримпленовые юбки и скособоченные синюшные кофты, с бантиками и галстучками. И лиловые носы, фонари под глазами. У одной алкашки аж два фонаря. И брошка-сердечко. К ней пристают ханыги: «Ну, что, б... дь, поцелуемся?»
Когда мы выезжали из деревянного домика на тихой улочке, по ТВ показывали передачу о болгарских розах. У меня в руках был оранжевый чемоданчик с ненастоящими наклейками. Чемоданчик пахнул пертуссином. Мой любимый запах в раннем детстве.
Я смотрела болгарские розы и не хотела уезжать.
Мы с мамой идём по улице Ропка. Злая рыжая дворняга лает на нас, но за ворота выбежать не может. На цепи потому что.
6.
Пяти лет меня отдают в детский сад. Там меня заставляют есть селёдку, а я не могу и реву. Мне силой впихивают её в рот. Меня тошнит.
Ещё нянечка, уж не помню из-за чего, хватает меня за одежду и волочит по полу. Я упираюсь, а потом рву её платье. За это меня чуть не выгнали из детского сада.
У меня в детском саду одна подруга, Таня, с которой мы сочиняем бесконечную сказку, и две любви: Эрик, которым я помыкаю, и Серёжа, который помыкает мной. Из-за Серёжки меня всё время наказывают. Например, он меня смешит, когда воспиташки читают нам стихи и называют авторов, например: «Якуб Колос». Серёжка тогда: «Ой, не могу! Якуб Горшок! Ян Пирожок!» Я громко ржу, и меня гонят в угол.
Эрик был сыном алкоголички и неизвестно-кого. Мать иногда кормила Эрика, а иногда и забывала, и тогда его к себе забирала полусумасшедшая бабка. У неё Эрик ел только булку с вареньем. Я ему завидовала:
— Ты что, и правда — одну булку с вареньем? И ни супа не ешь, ни мяса, ни картошки, ни каши этой противной, ничего такого? Везёт тебе!
— Ну да. У бабки моей, знаешь, сколько банок этих?! Двадцать, наверно. А может и тыщща. Сто лет можно лопать — не перелопаешь. Я, когда бабка не видит, прямо из банки ем. Руками. И без булки. И руки потом не мою. Чтоб подольше вкусными остались. А супа бабка вообще не варит, не любит она этого. сама булку с вареньем жрёт и ничего больше. Я слышал, соседи говорили, это потому что психованная она. Её дед скалкой по башке стукнул, когда он ещё жив был, после этого она такая.
— А вот меня мама заставляет есть суп. И картошку. Только рыбу не заставляет, потому что у меня на неё. ну, как это?... аллегрия какая-то. ну тошнит меня от рыбы этой вонючей.
— Так и меня мать есть заставляет и суп, и всё такое, когда трезвая. Ух и злая она тогда! Кричит, дерётся. Моет меня аж до крови. А вот пьяная она — так ничего. Песни поёт, а потом храпит. Только вот есть она мне не даёт тогда. Не-е, у бабки лучше. Ей всё равно.
Иногда я приносила в детский сад книжки с картинками. Однажды Эрик показал на принца из «Земляники под снегом»:
— Ты знаешь, кто это? Это мой папа.
— Но ведь это японские сказки. у тебя что — папа японец?
— Ну да. Он такой, как на этой картинке. Страшный. Всех может убить. Вот этой штукой железной — как она называется?
— Мечом?
— Ну да, им самым. Он как начнёт этим мечом махать, все так и лягут, и кровь потечёт. А потом меня к себе заберёт — в эту самую....
— В Японию?
— Да, в Японию. Только ты никому не говори, ладно? А то мать узнает, спрячет меня так, что никому не найти. Вот так, нарочно. Потому что злая она, как Баба Яга. Она и не мать мне по-настоящему. Украла меня у папки моего — просто так, от злости.
— А настоящая твоя мама где?
— Да нигде. Её и не было никогда. У меня только папа.
У Эрика было красивое лицо с огромными карими глазами и необыкновенно длинными «девчонскими» ресницами. «Совсем как у Элли в мультике этом — «Волшебник Изумрудного города», — как-то подумала я. И румянец на щеках был девичий, в старину такой сравнивали с цветущим миндалём. Эрик был не худенький, но хрупкий, совсем не приспособленный для «войнушки», вообще для мальчишеских игр. Его невозможно было представить с рогаткой.
Если в него попадал мяч или снежок, мне казалось, что Эрик не разлетится на тысячи кусочков, а брызнет тысячами капель варенья.
Мальчишки не звали его играть в свои игры, а в «девчонских» ему было участвовать неудобно. Салки, догонялки и прочие забавы «для всех» он сам презирал — не любил резких движений. Поэтому мы обычно играли вдвоём. А когда мне становилось с ним скучно, он одиноко бродил по площадке и ждал меня.
Эрика даже особо не дразнили, не обижали — на него почти не обращали внимания — и дети, и воспитательницы.
Но вот у Эрика обнаружили вшей. Помню, как Лилькина мать возмущённо говорила моей маме: «Господи, ну зачем таких детей пускают в садики для нормальных?! От них и вши, и болезни всякие, и мат, и чёрт знает что.» Дома мама внимательно обследовала мою голову, облегчённо вздохнула («Уфф, не переползли, слава Богу!») и сказала: «Ты бы от него подальше, от Эрика этого.»
Но я продолжала дружить с Эриком, то есть нещадно его эксплуатировать. Я нарочно забрасывала мячик в кусты, чтобы Эрик бежал через всю площадку и его доставал. Он терпел, когда я называла его «грязным» и «дураком недоразвитым». Он безропотно отдавал мне половину своего сладкого. Мне однажды стало стыдно, но я подумала: «У бабки его и так варенья много!» и за милую душу уплела Эриков кисель со взбитыми сливками.
Мы ходили, взявшись за руки, и его вши почему-то не переползали на меня. Иногда я позволяла ему целовать меня в щёчку, тогда мы оба зажмуривались: это казалось и сладким, и страшным. На щеке у меня оставался липкий след: похоже было, что Эрик наелся варенья на всю оставшуюся жизнь.
Однажды Милка сказала, что раз я влюблена в Эрика, то, значит, я такая же психованная, как он, и нас скоро обоих посадят в психушку и никогда не выпустят. И ещё она почему-то сказала, что нас, может, и не в дурку посадят, а пошлют на самую настоящую войну, в Америку, и там убьют. Я ничего не ответила, кинулась на Милку и расцарапала ей лицо. Воспитательницы тогда опять вызывали моих родителей и возмущались: «Какой у вас злой ребёнок!»
А Ленка Карасёва придумала, что я вообще бесстыжая и перед всеми мальчишками юбочку поднимаю. Девчонки тогда на меня пальцами показывали и гудели: «Ууу, бессовестная какая!», но я не плакала. А Карасёву вскоре дети побили за то, что она ябедничала и требовала у всех конфет: «Не принесёшь конфетку — убью! И «коровок» этих дурацких больше не носите мне». Ленка чувствовала себя безнаказанной: её бабка работала в нашем детсаду нянечкой.
И всё осталось по-прежнему. Серёжка смешил меня, и из-за него меня ставили в угол. Его зелёные глазки тогда совсем прищуривались, и эти щёлочки сочились торжеством. Однажды Серёжка разрешил мне поцеловать себя: «Ну ладно, только быстро, и не расслюнивай». Он, как всегда, был снисходителен и высокомерен. А Эрик тихо ревновал, может быть, даже плакал.
А потом мы пошли в школу, и я потеряла Эрика из виду на много лет.
Встретились мы в восемьдесят шестом, когда я была на первом курсе. В филологической общаге тогда тусовался художник-неформал Харри, и не просто тусовался, а прятался от ментов — ему шили статью за тунеядство. Харри рассказывал, как к нему домой пришёл милиционер, увидел на стене репродукцию Вийральта и спросил: «Это что — вы сами рисовали?» Харри ответил: «Да, я сам», на что милиционер заметил: «Да, ничего так себе — только больно уж мрачно.»
А ещё Харри был бисексуалом. Тогда это слово было не в ходу, и все говорили: «Ну, тот, который и с мужиками, и с бабами». Как-то раз я зашла к своей однокурснице Сашке. У неё сидел Харри с каким-то незнакомым парнем, совсем юным, лет восемнадцати, не больше. У мальчика этого были большие карие глаза с длиннющими ресницами и девичий румянец на щеках. И когда Сашка сказала: «Это Эрик», я стала вспоминать, где это я раньше его видела.
И Эрик тогда пристально посмотрел на меня:
— Привет, мы, кажется, знакомы.
Теперь он говорил по-русски с лёгким акцентом, но акцентом не эстонским, а близким к литовскому.
— Ты Эрик из детского сада?
— Ну да. Я несколько раз тебя потом видел на улице, но ты меня не узнала.
И Эрик рассказал, что его мать лишили родительских прав, а бабка умерла, когда ему было девять лет (позже он рассказал, что «она подряд три банки варенья слопала, потом вот так воздух глотнула и упала»). И тогда Эрика отправили в детдом, но оттуда его скоро взяла на воспитание одна бездетная пара: он — эстонец, она — литовка. Учился Эрик в эстонской школе, ушёл после восьмого класса: «Так, надоело». Потом я узнала, что на самом деле его выгнали — после того, как он появился на школьном вечере в женской блузке и с косметикой на лице.
У Эрика и сейчас были накрашены ресницы. Ему это очень шло — больше, чем многим женщинам.
— Что ты сейчас делаешь, Эрик?
— Да так, ничего. Живу.
После школы Эрик учился в ПТУ, бросил. Сейчас он работал сторожем. С приёмными родителями он рассорился и жил то у одного, то у другого богемного любовника. Сейчас вот прибился к Харри. Эрик научился жить на двадцать копеек в день. В гости к студентам он ходил не ради угощения, но если ему предлагали поесть, он не отказывался. И подарки (язык не повернулся бы назвать их «подачками»!) принимал так же — со сдержанной благодарностью.
Книг Эрик не читал: «А зачем они? В них ведь об одном и том же. Скучно. Я, если мне нужно, лучше сам что-нибудь напишу. Или нарисую».
Рисовал Эрик только тени: тени-силуэты людские и звериные, тени-кляксы, тени-полосы. И подписывал их: «Suur vari», «Vaike vari», «Keskmine vari», «Suur vari-1», «Suur vari-2»{7} и так далее.
После той встречи мы с Эриком виделись несколько раз. Один раз пошли в кафе, сидели до вечера, и официантка погнала нас: «Пора, девушки, мы закрываемся». Когда мы шли на остановку, Эрик вдруг сказал:
— Ты знаешь, а у меня ни с одной женщиной не было. один раз пробовал — не получилось. Мне вообще они не нравились. ну, может, только ты — тогда, в детском саду.
Мне вдруг стало страшно, я сглотнула снежинку и поперхнулась ей, как будто она была чёрствой крошкой, и заговорила — о другом:
— Эрик, извини, что я тебя об этом спрашиваю — а что с твоей матерью?
— Да ничего. Пить бросила, нормальной такой стала. И с финном поженилась. В Финляндию с ним уехала, ребёнка родила. Мне пишет, посылки посылает. Только я ничего не беру. Не потому что она пила или била меня, нет. просто я с самого начала не хотел, чтоб у меня была мать. ты понимаешь? Не хотел, чтобы меня кто-то родил. просто вот как хотелось: мой отец выходит в снег — ну такой, как сегодня — и видит, я лежу в большой снежной куче. забыл, как по-русски это.
— В сугробе?
— Да, в сугробе. И он берёт меня на руки и несёт — туда, где тепло. А мамы не надо. Я сам себе мама. Я сам женщина, но я лучше любой женщины. и я лучше любой (он так и сказал: «любой») мужчины. я не как они. я сам. ты понимаешь?
— Да.
— А они не понимают.
Снежинки летели на его ресницы. Казалось, что каждая снежинка крутится вокруг каждой ресничины, превращая глаза Эрика в карусели. и вдруг я увидела, как в красивые эти глаза набивается снег, что он убивает их цвет, они становятся прозрачными, и из глазниц льётся вода — и это не растаявший снег, а глаза Эрика.
На прощание Эрик сказал:
— Наверно, я скоро уеду из Тарту. Здесь темно. Здесь скучно. Я в Таллинне поживу. А потом туда уйду, где людей нету. Совсем нету. Я людей не люблю. Я тени люблю. Тени больше. Тени лучше. Я тогда напишу.
— Из тени?
Эрик ответил совершенно серьёзно:
— Ну да. Из тени.
Больше я никогда не видела Эрика. Он уехал в Таллинн, там тусовался с «голубою» богемою. Несколько раз его сильно избивали, один раз даже порезали — любовник, что ли, из ревности. но он оклёмывался, выпутывался, вертелся снежинкой вокруг ресниц, но не таял, не таял. Косил от всего — от армии, от постоянной работы. Когда им вплотную занялись соответствующие органы, Эрик бежал в глухомань к каким-то дальним родственникам. Там его и зацапали. Эрик изображал психа, и его положили на обследование в дурку.
В дурке Эрик и умер. Ему было девятнадцать лет. Про его смерть говорили разное. То ли его там по голове стукнули, то ли вкололи что-то не то. Ничего определённого.
Может быть, Эрик просто стал тенью. Вот так: сейчас он Эрик, а через секунду — чёрный силуэт на жёлтой больничной стене. И никакого трупа, никакого тела, никакой души — ни в небесах, ни на земле. А потом выключили свет и тень исчезла.
За месяц до смерти Эрика я получила от него письмо:
«Привет как ты здес то же плохо я уже пачти совсем ушол куда хотел с новым годом».
К письму был приложен рисунок, который назывался «Тень от креста в каторую вбит гвосдь» — с гвоздём, самым настоящим, измазанным красной краской.
Я взглянула на конверт: штемпеля не было.
7.
Жара. На город нахлобучена жёсткая неснимаемая кепка, и из-под неё парит. Недалеко от нашего дома — мясокомбинат. Там постоянно жгут всякие рога, кишки, копыта, будто им мало убийства коров и свиней. Запах, забивающий все поры-зазоры-застрехи, любую щербинку, любое игольное ушко, любое-любое. От него не спастись, застрелиться только. Броситься в печь к этим самым коровам и свиньям. Закрытые окна ничто — запах сбривает и их.
Осень лучше. Мясокомбинат продолжает вонять, но отовсюду — листья. Они будто обрывают небо. Мы с родителями гуляем по Тоомемяги возле развалин аббатства, собираем листья и делаем из них гирлянды. Осенью Тарту кажется разрушенным. Или недостроенным. Заплесневевшим — как в погребе. Недоконченным или совсем уж приконченным. Мы идём есть трубочки с кремом в кафе «Вернер», которое тогда было не «Вернер», и все называли его «Старые девы». Там сидят старушки-эстонки в больших беретах или шляпах. И осенью эти шляпы особенно похожи на опрелые грибы.
Было ещё кафе под неофициальным названием «Ева Браун».
Вернеровские пенсионерки оскорбились бы, если бы их сравнили с рыбинскими бабками. Но и те и другие были типичными «брежневскими старухами». И то, что эстонки лучше одевались и пользовались косметикой, не имело на самом деле никакого значения. Да, эстонские кафешные пенсионерки читали книжки и не играли в карты и знали немецкий, а рыбинские бабки играли и не читали, и сидели на лавках, и всем промывали косточки. А эстонки если и сидели на скамейках, то с вязанием. Или с журналом. Но и те и другие были будто одетые в чёрствую корку. В их присутствии не то что слово лишнее сказать боишься — лишний сантиметр занимаешь с опаской. При них хочется вжаться в стену, даже если ты не толстый и маленький — словно бы ты виноват только в том, что живёшь. И как они могут осудить — если не словом, то взглядом. Поджатыми губами. Раздувшимися ноздрями. И ты вытягиваешься, как копчёный сиг на палке, и гортань прилипает к нёбу.
Мама берёт для меня трубочку с кремом, и я притворяюсь, что это не трубочка, а большая гусеница, и что сейчас она меня укусит, как настоящая. В раннем детстве я брала в руки кого угодно — лягушек, жуков, червей. И ни капельки не боялась — пока однажды мохнатая гусеница меня не укусила.
Мама разрешает мне отпить кофе со сливками из своей чашки.
… и играл лонг-плей{8}, и Брежнева смежил Андропов. Андропова смежил Черненко. Черненко — Горбачёв, а потом всё покатилось. Но старухи не кончались, не кончались, не кончались. Некоторые из них дожили до новой Эстонской Республики, но такого хорошего кофе, как до войны, у них никогда не было. А те, что не дожили, притворились, что умерли — так, для отвода глаз, дань условности. Чтоб это не показалось подозрительным: живут, мол, живут, пора и честь знать. До сих пор они по ночам собираются в «Вернере» и трындят, трындят, трындят. Всё в тех же больших беретах и шляпах-грибах. А рыбинские бабки сидят на лавочке и трындят тоже, до первых петухов, до новых веников. Старухи лонгплейнее всех долгоиграшек, и никакие иглы их не доскрежещут до конца. Иглы притупятся, сменятся на новые, а старухи останутся — скрипеть, хрипеть, сипеть. Но всё равно останутся и переживут все синглы, сорокопятки, все эпохи. А видит их кто или не видит, старухам без разницы.
Помню, где-то через неделю после смерти матери я зашла в кафе и, глядя на кафешных пенсионерок, подумала: «Мама умерла в сорок три. А этих бабок я помню ещё по детству — и тогда им было за 70.». Нет, я не пожелала старухам смерти, просто удивилась их жизни.
… я жила, как подошва, в которую вонзались взгляды-гвоздики этих старух. Мне казалось, что они всё обо мне знают. Что я вчера двойку получила, а позавчера с мамой поссорилась. Когда я подросла, они знали, когда у меня менструация, какой мальчик мне нравится. Сидели старухи в кафе за кофе с пирожными, обсуждали мою жизнь и хихикали тихо и презрительно. И смотрели, будто гвоздики в меня забивали, маленькие совсем, да и не больно, но, Боже мой, как их много, гвоздиков этих. вовек их не вытащить.
Некоторые старухи были модные, в кримплене. Я и сейчас поражаюсь стойкости этого матерьяла. Он практически не рвался, не мялся. Он не пропускал ни воздух, ни тепло. Кримпленный человек только делал вид, что живёт на свете, а на самом деле он существовал в кримплене. В его несгибаемости, непотопляемости, неудаляемости. Кримплен словно диктовал человеку, как жить, куда ходить, чего не делать. Не поддаваться на нежное, лёгкое, милое, слабое. Не уступать своего ни на пядь. Поэтому кримплен так успешно пережил всех девушек 60-х и их реалии, и девушек «платочных» начала шестидесятых, и «сигаретных» конца шестидесятых, и все их клипсы-бутоны, и платья-рубашки, и джинсы «Ягуар», и очки «с брызгами». Не говоря уж о чулочках сеточкой. Кримплен был неумираем, как Брежнев, непродираем, как Андропов, шероховат и необтёсан, как сама фамилия «Черненко». Он, как старухи, пережил вождей, и его упорно донашивали в 80-е, 90-е и донашивают даже сейчас — не пропадать же добру! А он всё не донашивался, не кончался, не разлагался. Не знаю, горел ли он. Если да, представляю, какой вонючей гадостью.
У моей мамы кримплена немного, всего два платья — и как же я их ненавидела. Как мне хотелось сказать: «Мама, да выкинь ты их».
С кримпленом я встретилась и на своём первом курсе, уже в 86-м. У нас была однокурсница, старше нас всех. Ей было 34, но выглядела она на 45. И ходила в кримпленовом платье — с погончиками и круглыми пуговицами под золото. Среди молодёжи того времени это выглядело дичайшим анахронизмом. Валя была хорошим человеком, но уж как-то слишком её определял этот кримпленный стиль, дух, режим. Я тогда — в семнадцать — была дико и безнадёжно влюблена, прямо на стенку лезла. И рассказала об этом Валентине — сама не знаю, почему. Наверное, из-за её возраста — думала: какой-никакой опыт. Но, как оказалось, Валентина и целовалась-то всего раз в жизни, и. ну, в общем, не понравилось ей это. Моё увлечение она не одобрила. «Ну, посмотри на себя, ты же ещё ребёнок. Несовершеннолетняя, а вешаешься ему на шею. Ходишь за ним по пятам. Об этом уже сплетни всякие. И вообще — не об этом думать надо, а об учёбе. А аборт всегда успеешь сделать.». И ещё что-то в очень асадовском духе, хотя сама Валя терпеть не могла Асадова — про то, что любовь — душа, а не тело, и опять что-то ужасное про аборты и вендиспансеры.
Тут я не вытерпела:
— Я что — должна, значит, как великий Ленин, только учиться, учиться и ещё раз учиться?
— Ну, не только, но есть и другие духовные интересы.
И тут я взвыла и убежала, чуть не крикнув на прощанье: «Да пошла ты сама знаешь куда со всеми твоими учёбами и духовными интересами! С твоим кримпленом грёбаным! Я щас с целым миром трахнусь вам назло!!!»
Вендиспансер в Тарту находился на улице Бурденко. Эту улицу студенты называли «Трипперштрассе». В вендиспансеровском доме жил Юрмих.
Про вендиспансер ходило много историй. Вот одна из самых колоритных. Некий студент заразился гонореей. Из диспансера на него пришла «телега» в универ. И тогда студент стал уверять всех, что виновница его трипака — банная скамейка! («Я просто чуть-чуть посидел на ней, и вот.») Самое смешное, что находились люди, ему верившие. Более того — студент и сам стал думать, что так оно и было, и когда пошёл на очередной приём в вендиспансер, пытался втюхать эту историю врачу. Но тот был неумолим: «Послушайте, вы могли заразиться от скамейки, только если вы её. ээээ. ну, понятно что».
Говорили, что этот студент — с горя и сильно поддатый — выбросился из окна пятого этажа, упал в лужу, проспал там несколько часов, встал и пошёл...
Также город перешёптывался о рыжей тётке, которая шныряла около этого диспансера. Тётка была с помятым лицом цвета гнилого абрикоса. Возраст её оставался загадкой. Чего только про неё не говорили .
Одни утверждали, что ей лет шестьдесят и что во время войны она была студенткой Тартуского университета, спала с немецким офицером, а после войны её отправили в лагеря, и оттуда она вернулась уже совершенно спятившей, работала уборщицей на швейной фабрике и мыла голову в унитазе. Другие — что ей на самом деле не больше сорока, а выглядит эта рыжая так, потому что сильно киряет. Причём пьёт она не водку, а только «благородные» напитки — коньяк, бренди, вермут, которые ей дарят высокопоставленные хахали («Как. и этот? Из КГБ? Правда?!...Ну-ну.»). И все эти хахали прям на руках её носят, несмотря на то, что рыжая их всех периодически заражает, а те передают болезни своим законным жёнам.
Третьи морщились: «Да нет. ну что вы придумываете! Просто, я сам слышал, эта баба когда-то работала в психушке санитаркой, и у неё самой в конце концов шарики за ролики зашли. И когда она подцепила триппер, то стала заражать своих психов. Её за это с работы выгнали. Хотели под суд отдать, да повезло ей — объявили невменяемой...»
Слухи о рыжей бабе с каждым годом становились всё страшнее и страшнее. У нас в школе шептались, что она каждый год рожает детей и сдаёт их в детдома. Что она сидела в тюрьме за детоубийство («Схватила ребёночка своего, только родился он, за ноги да и об угол!» «Да не только своего, она вообще детей воровала и кровь из них пила, сука ржавая!») Что она поселилась на кладбище и ночью вырывает трупы и воет на луну.
Когда я однажды увидела рыжую тётку на улице Бурденко, то перебежала дорогу, встала у дверей Этнографического музея и оттуда наблюдала за ней. Тётка направлялась к вендиспансеру. Она была в ярко-лиловом плаще, полосатых клешах и красных туфлях на огромной платформе. В прозрачной сетке позвякивали баночки с анализами. Тётка остановилась, взглянула на солнце и блаженно улыбнулась. На пороге вендиспансера сидел рыжий кот с покарябанной мордой.
Через десять лет я увидела эту женщину в «Вернере» за одним столиком со старухами. На ней было то же самое лиловое кримпленовое пальто.
Я знаю, этот сон опять может мне присниться, сон о старухах.. Вернеровские пенсионерки в своих шляпах-грибах и больших беретах сидят в кафе и громко грызут тропсы, совсем по-собачьи. Тропсы — это леденцы моего детства, круглые, продавались они в столбиках. Из старухиных ртов летит скользкая крошка и оседает на столики, на пол, на стойку, на окна. Старухи играют в карты, тоже леденцовые. Только очень тонкие — раскатанные тропсы. Бьют этими картами друг друга по носу, и от этого ещё больше этой самой крошки. И вместо монеток у них — тропсы, тропсы, тропсы. Целый корпус тропсов. Трупсов. Хруст, треск. Хрясь! Рядом — рыбинские бабки в белых тапочках и цветных халатах: «Ишь, насвинячили! Гнать бы их отседова.» И скользят по леденцовому полу, и падают.
Старухи ложатся в гробы, как монпасье в жестяную банку — нерасхрумканные. «Это вы, молодые, шелестите, журчите, звякаете. Это вы порхаете и падаете и разбиваетесь. Мы — нет. Это вас, молодых, можно мять, давить, корёжить. Взбалтывать и впитывать. Мусолить и мямлить. Опрокидывать, раскидывать и выкидывать Нас — нельзя. Мы — твёрдые. Мы не кончимся! Не дождётесь.»
У некоторых вернеровских старух были семьи, но они относились к ним точно, как рыбинские бабки. Ну дети, внуки. Наше дело — не вытирать внукам носы, не вязать шарфики, а сидеть вот за этим столиком, пить кофе, есть пирожные «картошки» или эклеры, с кофе — не таким, как до войны, но выбирать-то не приходится. И говорить, говорить, говорить.
Несмотря на обилие поглощаемых пирожных, вернеровские старухи не были толстыми.. Очевидно, весь сахар и все жиры сгорали в пересудах. А среди рыбинских бабок попадались и полные, даже очень. Будто всё в них впитывалось, да так и оставалось.
Сегодня я почти не спала. Утром задремала и в дрёме увидела старух — тех, вернеровских, 70-х годов. Они пили современный кофе — эспрессо. И свет постучал в мою каменную морду, и я открыла глаза.
Вчера я не спала вообще и видела, как старухи положили меня в бессонницу, как в белый гроб. Или в гриб — тот, белёсый, дождевичный, в который мы когда-то вступили с мамой и думали, что это просто туман, а это был анамор. И я стучусь в стенки этого гроба-гриба, и меня выпускают наконец — кто? Не старухи же. И я тут же оказываюсь в новом гробе-грибе.
Я не проснулась — потому что совсем не спала. А старухи удалились туда, где начинается закат.
Хрупс, тропс, гробс. Хрупс, тропс, гробс. Хрупс, тропс, гробс.
Пришли старухи, пришли страхи. И не ушли.
8.
В детском саду я отшатнулась от пластмассовой буратининой головы — там копошились дождевые черви, вывалянные в песке. Страхи пришли.
Тогда же я увидела во сне свой фильм. Вокзал. Огни крадутся сквозь темноту, но не прорезают её. Мужчина держит в одной руке чемодан, а в другой — голову. Свою. Оторванную. Именно оторванную, а не отрубленную. Лицо на этой голове растерянное какое-то. Может, сам мужик и оторвал её и буквально через секунду пожалел об этом, но обратно ведь не прирастёт голова. Вокруг столпились люди. Одна из женщин похожа на мамину двоюродную сестру Тамару — тип голливудской блондинки пятидесятых. Кто-то напевает: «На вокзале. У человека. Оторвалась. Голова». Не грустно, не весело, вроде «мммммм.». Фильм очень короткий. Когда я потом пересказывала его знакомым, мне говорили: «Да придумала ты это всё. Ну, не может маленький ребёнок видеть — такое! А если и видит, то не запоминает». А кто-то вообще сказал, что у меня очевидная шиза. И только один человек поверил мне.
Как жаль, что я его не любила.
Мы с мамой идём в сарделечную. Там, кроме сарделек с кислой капустой, ещё круглые булочки с изюмом и жидкие чай и кофе. Но для меня главное — горчица. То, как её выжимаешь из тюбика, и то, как ею взрывает нос. Буквально сносит его. Ну и правильно, ведь нос — для того, чтобы его сносить. И для того, чтобы он выносил, терпел этот самый снос. Обычно пишут о радости, когда разрезаешь сардельку и оттуда брызжет сок. А у меня не было другой радости, кроме горчичной. Забегаловка пропитана этим бурым цветом. Цветом застарелой горчицы. И всё будто процарапано в нём — вилки, тарелки, булки, посетители. И сардельки — розово-серые в этом буром — как младенцы, брошенные в нужник. Или поросята в навозе. Как-то не в тему они.
Горчица — радость. Горчица — опасность.
Опасность — она везде. В милиции и скорой помощи, увозящих людей. В «детской комнате милиции», куда сажают даже самых маленьких. На кладбищах. В алкашкиных фонарях. В моём надувном гусе Феде, которого в Рыбинске проткнул какой-то мальчишка. В мамином талисмане. В старухах. В их отрезанных грудях. В Лёшкиной бабе Гале. В эстонских детях. В злой рыжей собачонке, бросившейся на маму. В подвалах и чердаках — там всегда прячут страшное и нехорошее. В пьяницах. В папашах — как тот, о котором мне говорила одна девчонка: дочка его просит: «Пап, расскажи мне сказку!» А он: «Про п… ду-голубоглазку?» В закрывающихся дверях автобуса. В неоткрывающейся квартирной двери. В моче, текущей у меня по ногам, когда ключ заклинивает в замке. В поездах, в туалетах которых я не могу сходить даже «по-маленькому». Во льду. В грязи. В печной золе. В отце. В маме — даже когда, после ссоры, она целует меня и называет «котёнком»: «Вот теперь тебя люблю я,/ Вот теперь тебя хвалю я,/ Наконец-то ты, котёнок,/ Маме грозной угодил!» Во мне самой. В этой снулой сардельке. И, конечно, в горчице, горчице, горчице. Нос уже взорван, теперь очередь глаз, ресниц, бровей. Хоть бы её вообще не было, сволочи этой.
Есть — и пострашнее. Году в 75-м в Тяхтвереском парке вдруг появляется маньяк. Он душит женщин. О нём шепчутся. Говорят, что у него чёрная борода и рыжие волосы — а откуда они знают, раз его никто не видел и маньяк всех убил? Не знаю, сколько женщин он задушил, одну или десять, поймали ли его, был ли он вообще. Но этот страх помню.
В шесть лет я узнаю, что есть дядьки, которые пристают к девчонкам. Именно к девчонкам, даже совсем маленьким. «Даже к колясочным?» «Даже к колясочным. Даже вот так: девочка родилась минуту назад. А к ней уже лезут». Рассказывает большая, десятилетняя. Всё это очень страшно. Страшнее маньяка.
Позднее, когда я уже учусь в музыкалке, девчонки говорят о каком-то «щекочущем» дядьке. Он совсем старый, рыжий, как тяхтвереский маньяк, страшный и щекочет в автобусах. Везде, даже «там». Что такое «там», я уже знаю, но не верю девчонкам. Вот недавно они болтали, что в кино «Экран» нельзя в туалет ходить. Пойдёт туда какая-нибудь тётка, муж её ждёт, ждёт — 10 минут, 20, полчаса. уже и фильм начался, а её нет. Тогда муж сам идёт в уборную, смотрит, ищет — нету её. Нигде нету. Пропала. А потом труп этой самой тётки находят в канализации.
Не верю — и вскоре натыкаюсь на него. В автобусе, где битком набито народу. И он вправду щекочет меня — не «там», а в бок, почти в живот. И я становлюсь совсем холодной, хочу кричать, а не могу. Резко поворачиваюсь и начинаю пропихивать людские спины, сумки, ноги. На меня огрызаются, говорят что-то обидное, но я не слышу — и вклиниваюсь в уже закрывшуюся дверь. И дверь открывается, и я выпрыгиваю, подскальзываюсь и падаю. Но не плачу, а только выдыхаю: «А! А!А!» Остановка пустая. На улице — пурга, а у меня только один талончик, уже пробитый. Но я сажусь в другой автобус и никто меня не штрафует.
Больше мне этот дядька не попадался.
Я ничего не говорю об этом маме. Не только потому, что стыдно. Просто сегодня мама не грустная и рассказывает смешную историю про кота тёти Марины Воскресенской. Как Марина, совсем маленькая, стояла со старшим братом на балконе и они играли с котёнком, а внизу работали пленные немцы, и кот упал одному немцу прямо на лысину. И немец — ничего, не рассердился, даже принёс этого котёнка обратно. Но тот после этого сделался очень злым и нападал на всех гостей, особенно на женщин, драл им чулки, и кота поэтому запирали в отдельной комнате. и от мамы пахнет «Пани Валевской» — как я люблю этот запах и синий флакончик, в котором эти духи. и мама обещает испечь в субботу пирог-утопленник, смешной, как история о коте. нужно тесто положить в воду, а потом оно всплывает. как тётка из «Экрана» в канализации. нет, не буду я ничего рассказывать. Никогда не расскажу.
Ведь если бы я и попыталась это сделать, то все слова бы застряли в горле, как в туннеле, и бросились под поезда-ледышки. И ничего бы от них не осталось, даже сплющенных тел — так холод убивает тепло.
Мой двоюродный брат Лёша, он живёт в России, немного старше меня и уже ходит в музыкальную. Играет он хорошо. Например, «Турецкий марш». Но музыкалку ненавидит — из-за училки, которую зовут Лариса Леонидовна. Он даже сочинил песню, как он пришёл в музыкалку, а та уже развалилась по кирпичику, и пианины все раздолбаны, и контрабас висит на дереве. Заканчивалась песенка так:
В углу валялся скелет, А на нём грубым почерком написано: Это скелет, это скелет, это скелет Ларисы Леонидовны!!!
Вскоре после ухода Лёшки музыкальная школа сгорела. Никто не погиб, и Лариса Леонидовна продолжала мучить детей в другом помещении. Лёшка хвастался, что он с другом Петькой утащил с пепелища музыкалки саксофон.
— Ну и где же саксофон этот? — спросила я.
— У Петьки. У меня — нельзя, родители сразу увидят. А вот у Петьки кладовка большая, фиг там что заметишь. Я тут недавно к нему в гости ходил, так мы в этот саксофон воды налили, потом стали на эти штуки, ну, клапаны нажимать и дворничиху облили. Прямо с балкона. Вреднющая она: чуть бумажку бросишь, даже конфетную, так сразу хай поднимает.
— Ну и что дворничиха?
— Да ничего. Поорала и заткнулась. Потому что пьяница она, её всё равно скоро выгонят. А ещё мы упёрли из музыкалки кучу всего, для смеха просто, ну то, что осталось — треугольники какие-то, литавры, блин. а деревянное всё тю-тю, конечно — пианины там, скрипочки эти дурацкие. или директор притворился, что сгорели они, а сам всё себе под шумок. он с Лариской. потому что любовница она ему.
Тут Лёшкино лицо становится бледным и таинственным, совсем как у привидения.
— А я знаю, кто на самом деле музыкальную поджёг, — говорит он.— Директор.
— Да ну? А ему-то зачем это?
— Да потому что нахапал он много всего, растратил. Ну и боялся: комиссия приедет, под суд его. вот и поджёг.
— А кто это видел?
— Да Петькин приятель один. Он как раз напротив музыкалки живёт. И когда пожар был, он ночью вышел на балкон, потому что лунатик, и увидел всё. Как дирик этот с Лариской из школы выходят, а в руках у них канистры с бензином. Лариска не такая, как всегда, а в юбке до самого пупа и блузке неприличной, аж сиськи наружу вываливаются, волосы растрёпаны, накрашена-намазана. ну шлюха прямо. небось в ресторане перед этим с директором сидела... так вот, вышли они, бензину плеснули, спичку зажгли, бросили и дёру. ну и всё, звездец музыкалке!
— Так что же Петькин приятель этот в милицию не позвонил?
Лёшка мнётся, потом продолжает уже не очень уверенно:
— Так он звонил. Только ему там никто не поверил. Потому что лунатики — они, ну, как психи считаются, вроде как не все дома у них. он, этот знакомый Петькин, и на крышу может залезть, и по жёлобу вниз. вот я бы тыщщу раз уже убился, а ему хоть бы хны, лунатику.
— А может, на самом деле придумал он всё. Или Петька придумал про психа этого.
Лёшка бледнеет ещё больше. Он отчеканивает:
— Ты-как-знаешь, а-я-лично-верю. Петька — мой лучший друг, и уж кому-кому, а мне он врать не будет. А тот, приятель Петькин, ну да, лунатик, но не полный псих же.
Помолчал и добавил:
— И вообще гад он ползучий, этот директор. Жалко, он сам не сгорел. ну, ничего.
И Лёшка начинает рассказывать о том, как они с Петькой спрятались в кустах, выстрелили из рогатки, и сбили с директора шляпу. И как тот как завопит: «Спасите! Убивают!» и как припустит, шляпу даже не стал поднимать, но я уже почти не слушаю. и думаю: как было бы здорово, если бы и наша музыкалка сгорела. Дотла, от пианино до последней паршивенькой дудочки. И чтоб никакого помещения для занятий не нашли.
Мы с отцом идём по кладбищу. Моя первая школьная осень, тёплая. Эстонское кладбище чистое. Серые плиты без фотографий. Фото — на русских надгробных камнях. Эстонские камни какие-то подтянутые — наверное, как те, кто под ними лежит. На некоторых плитах стихи. На некоторых — фигуры ангелов, похоронные урны и тётки с опущенными головами — будто они что-то мелкое потеряли. Серёжку, например. На других — год рождения, а года смерти нет. «Это значит, — объясняет отец, — что человек ещё не умер, но уже заранее вырыл себе могилу». Мне это непонятно. Не всё ли равно, где лежать. Я уже знаю, что сначала человек гниёт, и его черви обгладывают, и эти черви почти как черти — те тоже всё время кого-то грызут и гложут. А потом остаются кости. И эти кости, скелет то есть, выходят из могилы и по ночам пугают пьяниц. И вообще всех тех, кто в темноте ходит по кладбищу — а зачем они, дураки, ходят? Вот и нарываются.
Говорят, что один ханыга и впрямь умер на этом самом кладбище чуть ли не у этой самой могильной плиты. Он лёг и привалился к ней и стал пить прям из горла, а скелет вылез из земли и его за шею ухватил и задушил. Тот и ойкнуть не успел. Так и нашли алкаша с почерневшим горлом и с закусью в кармане. И решили, что умер он от разрыва сердца. Враки всё это. Скелет его убил.
Где-то на этом кладбище похоронен парень, у которого нога скользнула по подоконнику, и тот разбился. Но у нас на этом кладбище никого нет. У нас вообще нет родственников в Эстонии. Мы одни тут — папа и мама и я. Родители приехали сюда в 63-м, примерно за шесть лет до моего рождения. Но тогда они не были женаты, вообще знакомы не были.
Мне не нравится на кладбище. Да — красиво, да — деревья, птички, вон даже белки прыгают. Их тогда в Эстонии называли «Микки», и они были везде. Но мне как-то не так. Я не понимаю, зачем бродить по кладбищу и будить покойников. Разговорами, громкой музыкой — вон опять тарелки бухают, и трубы охают, и старушка плачет, а потом лысый дядька речь говорит чуть ли не пять часов. Я не понимаю, зачем отец читает стихи — Жуковского, кажется. Хрестоматийное «Не говори с тоской: их нет.». И меня раздражают эти стихи, как всё на кладбище, и мне хочется в туалет, а какая на кладбище уборная? Не положено. Так что надо терпеть до дома — он в 10 минутах ходьбы, но всё равно. И я начинаю ныть и кукситься.
До сих пор ничего с собой не могу поделать — не люблю кладбища. Ни запущенные, ни ухоженные, ни новые, ни старые. Никакие. Ведь мы ничего, по большому счёту, не должны мёртвым, а они — нам. И всё равно их больше, и они выйдут — ни души, ни тела, а что-то своё, для чего у нас нету названия. Выйдут и сделают всё что хотят. И никто их не увидит, и никто им не помешает.
9.
Катька живёт в соседнем доме. Мы часами ходим вокруг наших домов и болтаем о чём угодно. Иногда играем в двух глупых старых тёток, которые всем возмущаются и всё теряют. Однажды за нами увязываются эстонские девчонки, совсем маленькие. Они нас передразнивают. Катька ходит в эстонский детский сад. Она говорит этим девчонкам: «Lollid»{9}. Те ещё больше хихикают.
Бегаем мы только тогда, когда нас атакуют эстонские дети постарше, чем эти соплюхи. Они бросаются камнями и песком. Дёргают за волосы. Натравливают на нас собак. Сталкивают с горки — крошечного холмика на самом деле. Просто дразнятся — я почти ничего не понимаю. Родители эстонских детей сами их подзуживают. Один папаша так прямо и говорит: «Тут какие-то русские дети с соседних дворов стали к нам заходить — как хорошо, что наши их выгнали!» Ненависть даже не чёрная — она такой концентрации, что почти отстранена. Так люди не бьют людей. Так самолёты таранят здания, а что самолётам до чужой боли? Это даже не садизм, не наслаждение тем, что кому-то плохо. Там всё-таки отношение, хоть и ужасное. А тут — в тебя врезаются с размаху, тебя пытаются разрушить — так сносят бесполезные старые сараи. Или просто сбивают пустоту. Вот именно — ты для них не человек, пусть и самой низшей расы, даже не предмет, а непонятно что. И «непонятно-что» в человеческом облике. Это и бесит больше всего.
Я пытаюсь понять эту ненависть. Мы с Катькой и другими немногими русскими детьми из ближайших многоэтажек ничего плохого не делаем этим эстонцам. Не трогаем их. И шумим мало. Просто ходим вокруг дома, болтаем и играем в свои игры.
И главное — они отняли мамин талисман, и мама сейчас умрёт. Или уйдёт. А это одно и то же. Господи, я бы простила их всех, и пусть они меня хоть каждую минуту за волосы дёргают и орут: «Vene russ kapsa uss»{10} только бы обезьянка вернулась.
Мне иногда хочется бежать куда глаза глядят от их ненависти. Но и она не может меня отвадить от двора и от прогулок с Катей.
В старом доме было гораздо лучше. Там было всего двое детей — я и Эха. Маленькая и большая девочки. Эха была тоже эстонкой — доброй, тихой. С голосом, который любого мог успокоить. Она почти не смеялась. Мы с ней рисовали принцесс на песке.
В квартире под Катькой живёт эстонская семья. У них мальчишка, Свен. Этот Свен хоть нас не бьёт — он маленький и вообще трус — зато дразнится. Катька говорит: «Ты знаешь, Тань, этого Свена порют — по-настоящему порют, ремнём. Не так, как нас папы с мамами: ну шлёпнут, ну покричат. ну не ремнём же! А его — ремнём. И он орёт на весь дом: «Эма, иса, эй тохи!{11}»
Иногда мы с Катькой обмениваемся письмами — например, когда болеем. Я вырезаю девочку с шоколадки «Аннеке» или котёнка с «Нурр» и приклеиваю на конверт. Но содержание писем не очень девчонское. «Танька давай кагда ты выздравеш мы нападём на снешный штап естонцев и всё у них забирём».
На «штаб», то есть на снежную крепость, мы и в самом деле скоро нападаем — с помощью русских ребят из других домов. Не помню, как нам это удалось — то ли эстонских детей в тот день во дворе было слишком мало (к бабушкам разъехались на Рождество?), то ли русских — много. Но крепость мы разрушили и разграбили. «Разграбили» — это просто забрали какой-то фиговенький ёлочный шарик и тут же раскокали с досады. Больше у эстонцев ничего в крепости не было. Все рассказы об их несметных богатствах — банках с жёвами, конфетами и значками заграничными — оказались полной лажей. «Вот курады{12} поганые! Небось, в землю всё попрятали, только б нам не досталось!», — кричит один мальчишка, прыгая по шариковым осколкам, почти что пыли. Потом мы рушим снеговика, пинаем ведёрко, только что бывшее на его голове, забираем ни на фига нам не нужную морковку. И убегаем.
На холмике во дворе опять Свен и опять дразнится. Он в иностранных джинсах и куртке. На джинсовом лейбле — какое-то слово, непонятное. Я говорю Катьке: «У него на джинсах написано «Дурак». По-иностранному». Катя хихикает. А Вадик поправляет: «Не «дурак», а «ж.а». Раз на ж.е, так про ж…у и написано». «Ха-ха-ха! Жопа! Свен — ж…а! Свин и ж…а! Мине, мине перссе!». Вадик запускает в Свена снежком и попадает ему в плечо, и Свен хнычет, но ничего сделать не может. Потому что видит: с Вадькой шутки плохи.
Мы с мамой сидим в автобусе. За нами — пьяные парни. Они что-то начинают говорить про наши «очаровательные носики и глазки», потом переходят будто бы на английский. Даже я понимаю, что это не настоящий иностранный — слова-то они говорят совсем как по-русски. Мама: «Не оборачивайся!» И сидит, будто ей всё равно. Но как только дверь открывается, дёргает меня за руку: «Пошли!» И мы выходим, а до дома — ещё целых две остановки. И тут мама начинает всхлипывать: «Господи, сколько мрази в этом паршивом городишке! Нормальных людей здесь нет. совсем нет. И никто за нас в автобусе не заступился, никто. надо отсюда уезжать!» Я молчу. Я уже знаю, что в России ещё больше пьяных, а за границу не пускают. Куда ехать-то?
Мы в Таллинне с маминой подругой тётей Инной и её сыном Васей. Ваське четыре года, и он страшно рыжий. Мне восемь. Сначала мы идём в зоопарк. Нам там жутко не нравится. Звери заморенные, худые, некоторые даже с язвами и ранками. Шерсть у них — клочками, вот-вот отвалится. Особенно страшный — кенгуру. Он бьётся о стенки клетки и стонет. Васька заплакал: «Их бы туда самих, в клетки — ну самых главных.» «Директора?» «Ну. И чтоб он там умер!» Мамы уводят нас. Им самим не очень хорошо. Я не плачу, но меня начинает подташнивать.. И чтоб совсем не стошнило, я вспоминаю московский зоопарк. Конечно, плохо, что звери в клетках. Но клетки-то большие, и звери не раненые. Не бьются ни обо что. Там даже есть тигр, который ест сено. Да-да, совсем как корова! И ещё там есть какой-то лори, но его днём не видать, только глаза горят из домика. И белый медведь страшно попрошайничает, а там ведь написано: «Кормить зверей строго воспрещается».
После зоопарка мы с мамами гуляем в парке, а потом идём обедать в ресторан. Я раньше никогда в ресторанах не была — только в тартуском привокзальном, ну это не считается, почти как столовка. А тут красиво. И горчица не в тюбике, а в баночке. И официанты — дядьки, а не тётки. Мы долго ждём. Наконец официант подходит к нашему столику. Он старый и краснорожий, наверное, пьяный. Тётя Инна делает заказ на русском. И тут официант говорит что-то очень плохое — то, чего я до конца не понимаю. Может, даже про «русских свиней». Тётя Инна сначала страшно краснеет — так, что мне кажется: она сейчас сгорит, ведь волосы у неё рыжие, как у Васьки. Потом она так же страшно бледнеет, срывается с места и требует жалобную книгу. Ей ничего не дают, просто обещают провести воспитательную работу с официантом: «Да-да, мы поговорим. мы объясним.» А сами нагло ухмыляются, и я вижу, что им по душе то, что он сделал.
Самое ужасное — мы не уходим из этого ресторана. Сидим серые, голодные и молчим. Только Ваську иногда прорывает: «Его бы самого. в клетку с тигром. этого сволоча. пусть тигр его сожрёт.» Официант приносит еду. В этот раз он ничего не говорит. Мы съедаем жареную картошку с гуляшом, расплачиваемся и собираемся уходить.
И тут я: «Мам, меня тошнит!» — «О, господи!» И мама тащит меня в уборную. И мне по пути хочется затошнить всех в этом ресторане — официантов, посетителей, блестящие баночки с горчицей, четырёхугольные столики. Но я сдерживаюсь, и меня рвёт над унитазом. Но рвоты так много, что она и на полу, и на стенах, и на раковине.
Меня тошнит этой жареной картошкой с коричневым слизистым соусом, и этим горошком, и этим официантом, и его красной рожей и голубыми глазами, и этой уборной, и говном в унитазе, и тётей Инной, и Васькой, и мамой. Всем миром. Только мир не замечает, что он уже съеден, размолот, прошёл сквозь все желудочные соки до моей гортани и изрыгнулся.
Хули ему пули. и я тоже ничего не должна ему, этому миру, где людей обзывают «русскими свиньями», «курадами», «чучмеками», «жидами». Ничего не должна. И пошёл он — в эту рвоту, в это говно, и пусть там гниёт, пока не сдохнет. А мне, русской свинье, на него насрать. Ну свинья так свинья. Русская так русская. Хоть японская.
Мама быстро вытирает рвоту салфеткой и даже не ругает меня.
Только ухмыляется — почти как официант: «Да уж. русские свиньи. вене сеад{13}»
Я выхожу из уборной, освобождённая от этого мира. Он забил на меня, а я — на него.
10.
Мама ещё на старой квартире слушает заезженную пластинку Новеллы Матвеевой. Кажется, что поёт обиженный ребёнок. Или старушка, впавшая в детство, но не буйная. Может, и не ребёнок, и не старушка, а ёж, у которого колючки — внутри. На магнитофоне — бобинном — звучат другие барды, запретные и полузапретные. Мне от них хочется выть. У кого-то из них голос — уксусный войлок, косящий под бархат. Как будто долго и нудно мочатся в шляпу. Но Матвеева кажется с самого начала обиженной — неважно кем и на кого. Это голос человека, никогда не любимого и любовь которого никому не нужна. Меня эти песни и пугают, и притягивают.
Недавно мне встретился писающий голос у одного поэта. Именно писающий, даже писяющий, а не ссущий. Стихи его были про Византию, и про Германию времён Веймарской республики и Третьего рейха, и когда он читал их, мне слышалась моча, льющаяся на мрамор и на солдатские сапоги. Сквозь этот самый войлок. И ещё — будто кто-то приговаривает: «Пись, пись, пись, да ну же.»
Поэт оказался мудаком и ничтожеством, как и следовало ожидать.
Я примеряю мамины украшения. Серебряные узкие браслеты. Длинные и короткие янтарные нити. Клипсы-фонарики. Цепь с висюлькой-солнцем. Потому что понимаю: мама меня любит, но не так, как это нужно ей и мне. Как будто она собирает, собирает всю эту любовь, подносит к губам, но тут налетает ветер и уносит их — любовь и маму. Нужно начинать всё сначала. Поэтому мама недоумевает и злится, и снова собирает, и снова всё не так. И ей, наверное, хочется, чтобы ветер унёс ребёнка, раз она не умеет его любить. Как мне становится страшно. Она не умеет, но ведь и я не умею. А может быть, и не хочу. Мы обе не хотим. Все наши попытки — это крахи. Какое воронье слово — «Крах. Крах. Крах». Мне надо хотеть. Надо хотеть любить. И для начала — надеть мамины побрякушки — тогда я стану похожей на неё и наконец-то понравлюсь.
Нет, не «похожей» — стану ею самой, и всё. Мы пойдём по улице и нас никто не отличит друг от друга, и никакой ветер не унесёт.
Мама входит в комнату. «Как ты смела копаться в моих вещах — без спросу?!»
Я не знаю, как в маме начался этот анамор.{14} «Анамор» — это когда любовь и не подозревает, что ты есть на свете и поэтому не прикасается к тебе. Ты сам при этом можешь любить, ждать любви — больше, гораздо больше, чем многие. Но тебя просто нет.
Вы с любовью друг для друга даже не иноплеменники. Даже не обитатели разных галактик. Просто твоей галактики никогда не было и нет. Когда ты появляешься, тебя никто не видит, ибо ты не нужен вообще. Прозрачен, но не воздух — воздухом дышат, его глотают, им давятся. Грязен, но не земля — по земле ходят, в землю ложатся, пятачками её роют. Высок, но не небо — на небо глядят, в него плюют, его ищут. А в тебя-то и не плюнет никто. Как плевать в то, чего нет? Вот ты и мотаешься — даже не как дерьмо в проруби, а как прорубь в поисках дерьма. Но хули толку.
Все анаморские связи — любовные, родственные, дружеские — только глюки. И анаморы бьются, как ласточки о стекло, прячутся, как пауки по углам, выпрыгивают, как лисы на железнодорожные пути, ибо здесь, в этом мире нет им такой любви, как надо. и сами они любят — не как люди. и мир пугается их любви. и от этого они всё больше леденеют, и помочь им нельзя.
Ведь войнам — не помогают.
Мама начинает терять все свои цвета, и в желтизну её лица вступает серость, и это не только от конторских будней. Я понимаю, что скоро все цвета сойдут с неё, и она станет совсем прозрачной и тогда умрёт. Превратится в ледышку и растает. И её жёлтая обезьянка давно превратилась в порошок. а со мной-то, со мной что будет?
«И они пошли собирать оливки и вернулись испуганные и потеряли цвета в Хаэне»{15}. С мамой было то же самое. Когда её настиг анамор? Когда у меня отобрали обезьянку или раньше? Не знаю. Может, это зёрнышко-анамор родилось вместе с ней. Нет — родилось в ней. Оно-то и было её настоящим ребёнком, а не я.
И это зёрнышко росло — сначала незаметно для мамы, а потом стало просто огромным — но так и не вышло из неё. Самое страшное — что анамор оказался наследственным, как болезнь, и я чувствую, как я им зарастаю. он заполнил мою утробу, глаза, ноздри.. я им хожу, и его отхаркиваю, и ненавижу, и пытаюсь любить. А когда становится совсем невмоготу, просто делаю вид, что его нет.
… будь у меня ребёнок, я бы относилась к нему так же, как моя мать ко мне. Я старалась бы всё делать по-другому, но нас бы всё равно зашкаливало анамором. Меня и моё дитя.
Туман. Мне три года. Мама крепко держит меня за руку. На ней узкое чёрное пальто, как чехол. А туман — не лондонский pea soup{16}, не марево, не дымка. Он — гриб-дождевик, белый, круглый. И мы с мамой вступаем в него. Гриб колышется, но не взлетает. И мы с мамой выходим из него, всё так же крепко держась за руки. И вступаем в другой гриб.
В новый анамор.
Без земли, без воды, без воздуха.
Мама в горести начинает кружить по комнате, почти биться об неё — как ласточка. А ласточки — зловещие птицы, это не мной замечено. Не помню, кто сравнил их с пауками — я сама? Маленькое круглое тело и множество концов: лапки, клюв, крылья, раздвоенный хвост. В ласточке слишком много смерти. Странно, что поэты её так воспевали: мол, домовитая она, и певунья, и деткам радость от неё и всё такое. Будто другие птицы гнёзд не вьют и щебечут. Мне кажется: мама вот-вот налетит грудью на стену и разобьётся. Или сломается. Вот так — Крак! Крах! Прах! Но мама останавливается, садится на диван и молчит не двигаясь. Всё равно страшно.
Бабушке когда-то было очень больно, но она сумела всё это даже не скрыть — захлопотать. Износить боль, как прошлое. Сделать вид, что её и не было. И самой в это поверить. И не испугаться этого. Бабушка — не война и не мир. Она — перемирие, затянувшееся перемирие, когда уже подсчитали трупы, подлечили раненых, но ещё не построили новые дома и не поставили монументов. Войну уже начали забывать, а о мире ещё не договорились. Бабушка живёт в этом затишье. Не грустно, не весело. Спокойно.
А мама — война, поэтому ей так плохо. Вот почему я так люблю маму — даже когда ненавижу. Даже когда она мне противна — и жестами, и походкою, и запахом. Даже когда мне за неё стыдно. Даже когда я делаю вид, что её нет и вообще никогда не было.
Я замечаю, что на всех фото у мамы глаза грустные — или никакие. Только на тех, где ей год, они счастливые. Мама на этих фотографиях в толстой шерстяной кофточке, а солнце яркое, и бабушка прикрывает глаза. На другом детском снимке мама с братом в пионерском лагере. Мама коротко стриженная и светловолосая. Потемнеет она к десяти годам. Где-то далеко — портрет Сталина. На третьей фотографии — мама в купальнике. Рядом её лучшая подруга Марина Воскресенская.
Мы с мамой вступаем в кокон анамора, думая, что это туман.
11.
Я почти ничего не знаю о своём деде по материнской линии. Вот обрывки о нём. Родился в конце 1916 года. Его отец погиб на войне за несколько месяцев до его рождения — и он сам, Георгий, сгинет за два месяца до рождения моей мамы. А мать в Гражданскую войну исчезла — куда? Будто её и не было. Георгий воспитывался у дальних родственников, бывших либеральных помещиков. И было ему так плохо, что он совсем маленьким два раза уходил с беспризорниками. Может быть, и с отцом Валеры, маминого жениха, тот тоже был беспризорником и однажды с товарищами угнал тепловоз.
Потом он метался по разным городам, бился об них — боялся ареста? Или без всяких причин? Какие там причины у ласточки? Высшего образования он не получил, работал чертёжником. Перед самой войной у него был роман с какой-то полубогемной женщиной гораздо старше его, чуть ли не на двадцать лет. У этой женщины родилась его дочь. Кто они были? Куда делись? Вступили в анаморный гриб, и он оторвался от земли?
Однажды, подростком, я рылась в старых фотографиях. На одной из них была девушка лет восемнадцати с лунколиким лицом. Именно так: не «луноликим», а «лунколиким». Это лицо, нечёткое, чуть размытое, затягивало, как полынья. В него хотелось долго глядеть, а потом отшатнуться от него.
На обороте снимка было написано: «Нина. 1917 год, январь». Я спросила у мамы, кто это. Она ответила: «Та женщина.». И я поняла.
Я стала придумывать истории про Нину. Придумывать её любови, её стихи, её смерти — ведь у таких, как она, не одна смерть, а много. много смертей понарошку перед настоящей. Я представляла себе всех затянутых этой лункой и не выбравшихся из неё.
Однажды на глаза мне попалось название сборника стихов, вышедшего в семнадцатом году — «Хулиганка». И я подумала, что эту книгу могла написать Нина. Написать и замолчать — надолго. Господи, где её носило, куда её шатало, кому она была нужна?! В каких кабаре она выступала со своими стихами, какие наркотики пробовала, от кого убегала? Зачем незадолго до войны она встретилась с моим дедом? Зачем у них родилась дочь? Что случилось с Ниной и её ребёнком во время войны? Погибли? Может быть, Нина была еврейкой и оказалась на оккупированной территории? Может, бомба попала в поезд, в котором Нина с дочерью эвакуировались? Может, они умерли в блокадном Ленинграде? Или выжила Нина и скончалась уже в наше время неприметной пенсионеркой.
Я пробовала расспрашивать об этом мать, но она ничего не знала. Или не хотела мне говорить. И мне осталось только — придумывать, домысливать. падать в это лицо, барахтаться в нём — в этих глазах и губах, затянутых тонкой наледью, в этом зыбком абрисе. и вылезать, и снова падать.
Моя бабушка тоже была старше деда. На пять лет. Познакомились они во время войны. Их короткий роман, ещё более короткий брак, гибель деда и мамино рождение заняли около года. Бабушка до того уже побывала замужем. Её первенец умер в роддоме — инфекция какая-то. Потом у бабушки родился ещё один сын. В самом начале войны она развелась с первым мужем, инженером, дико ревновавшим её.
Инженер дико ревновал бабушку, но сам изменял ей направо и налево. Когда она ушла от инженера, то или из мести, или ради забавы прихватила все письма его любовниц — инженер их не выбрасывал, они лежали у него на самом видном месте, будто он хвастался всеми своими победами.
Потом бабушка вышла за моего деда. Дед погиб. После войны бабушка вступила в третий законный брак. И продолжала хранить эти письма.
Однажды до них добралась я. На каждой стопочке, перевязанной ленточкой, стояло имя автора писем: «Лиза», «Наденька», «Татьяна», «Фанни». Я начала их читать и не могла оторваться.
Первые письма ворковали, мурлыкали, поводили плечиками, сладко потягивались, надували губки. Но чем ближе к концу пачки, тем они становились горестнее, напряжённее, косноязычнее. даже безграмотнее. это касалось писем и бывшей институтки Лизы, и вчерашней крестьянки Клавдии. Потому что когда тебя бросают, когда вообще горе — до точек ли тут, до запятых, и разве крик может, разве он должен быть красивым?!
Последние письма в каждой стопке просто выли, корчились, извивались от боли. «Ради Бога, скажи, почему ты хочешь меня убить?{17}» как в старинном испанском стихе.
«Я никого так не любила. Господи, зачем? Почему ты хочешь меня в землю втоптать, именно сейчас, когда.».
И тут я задёргалась — как лягушка под током, как таракан под тапкой. меня всю задёргало Лизиной болью, у меня дёргались руки, ноги, глаза, кожа, даже кровь у меня дёргалась, извивалась: «Господи, зачем?»
Нет, я ненавижу любовь, пусть она дёргает других, пусть других убивает, только не меня. потому что я не лягуха какая-то склизлая, не таракан помойный, я хоть какой-никакой, а человек. за что же так меня? Я сру на любовь, я плюю ей в рожу, в рожу гладкую и похабную, как у этого инженера. Я кричу ей самые страшные, самые грязные слова, потому что сама она грязная и страшная.
Я говорю ей: «А ну издохни, сука. А если не можешь, то от…бись от меня навечно, слышишь? Не надо мне тебя».
Потом я достала единственную оставшуюся у бабушки фотографию инженера, долго смотрела на неё, как можно любить такого? А потом взяла маникюрные ножницы и выколола инженеру глаза. Потом отчекрыжила ему голову. И наконец — изрезала его самого на тысячу кусков.
… я знала, что инженер уже умер. ну и что, пусть там, в аду, ему будет ещё больнее. Пусть он попросит, чтобы его там черти убили, совсем убили, а они захохочут прямо в его поганую морду и ещё больнее сделают.
Пусть ему там совсем невмоготу станет. За бабушку. За Лизу. За всех. За меня.
Было мне тогда двенадцать лет. Бабушка и не заметила пропажу фотографии.
Мне кажется, что она развелась бы и с Георгием — он бросил бы её — и продолжал биться об новые города. Пока совсем не убился бы.
— Мам, а почему бабушка вышла замуж за дедушку? Ну не за деда, а за того, настоящего.
— Не знаю. Они были очень разными — и по происхождению, и по воспитанию. Наверное, ему тогда было совсем плохо. А бабушка поддержала его как-то.
Я в это поверила. Бабушка не умела жалеть, но поддержать могла.
Бабушка никогда не говорила о Георгии. Только однажды, когда я раскапризничалась и совсем её заколебала, упомянула «дедову кровь». Я тогда ничего не поняла.
Потом я узнала, что у деда в роду были черкесы.
От деда осталась всего одна фотография, а ещё пара писем и несколько страниц дневника.
Георгий писал грамотно и без знаков препинания. Наверное, они ему мешали. Сохранилось несколько страниц его дневника. Вот запись от 21 апреля 1935 года — Георгию тогда было восемнадцать:
«я знаю это была она, она исчезла когда мне было два года но я запомнил её помнил семь лет и когда я прибежал домой и посмотрел на украденное зеркальце я понял что это её я понял что это она я смотрел в него и пытался увидеть её но видел только себя и я шептал покажись ну покажись сука она не появлялась она забыла меня она не узнала меня она мне не мать она мне теперь не нужна и на обороте зеркала не было её имени Наталия ничего не было и я плакал и выл и топтал это зеркало чтобы она умерла если жива а если умерла то чтоб ещё раз умерла совсем умерла чтоб даже тени от неё не осталось чтоб не было её нигде ни на том ни на этом свете я растоптал осколки до пыли а серебряную оправу выкинул хотя дядя с тёткой могли продать её тогда мы жили совсем бедно я топтал свою мать не было у меня её больше и после этого я уже никогда не плакал и никого не любил и не буду любить»
… Петроград нэп родственники Георгия шепчутся тётя да не умерла она просто бросила своего собственного сына содержанка бездушная падшая и дядя тссс Лидия при ребёнке и Георгий в первый раз сбегает из дома прибивается к беспризорным идёт с ними на первое дело вожак подмечает хорошо одетую парочку выходящую из кабака Георгий должен их отвлечь подайте мол сироте на пропитание а в это время другой шкет вырвет у дамы сумочку Георгий подходит к буржуям смотрит на женщину и вдруг начинает я знаю кто ты это ты не помнишь а я-то всё помню теперь ты не отвертишься а ну вези меня во Францию сука а то прирежу дама Господи что это он а спутник её пойдём скорее может отвлекает а может и в самом деле припадочный эпилептический укусить может тут Гошка выхватывает у женщины сумочку но пробежав несколько метров бросает её подбирает выпавшее зеркальце и драпает мужчина кричит караул грабят свистки милиционера беспризорники разбегаются Георгий прячется в тёмной подворотне от милиции от беспризорных от всего долго стоит и выдыхает почти неслышно сука сука сука и это слово летит к его ногам зеркальцем и не разбивается сука не разбивается.
12.
В пять лет я вдруг начинаю дико расти, ноги особенно. Всё нужно было тянуть. Юбки — вниз, чтоб трусов не было видно. Гольфы — вверх, чтоб их за носки не приняли. Морока. Через год, когда я иду в школу, я выше всех девчонок в своём классе.
В нашем классе — человек 30 с небольшим. Некоторых я уже знаю, с детского сада. Ирку, например. У неё отец-алкаш, который маслёнку разбил и всё масло на пол упало, а мать: «А-а-а, чем я тебе хлеб буду мазать?!» и по лбу его. А он мамашу тоже по лбу.
Ещё у нас в классе девочка, которая выглядит года на четыре. У неё интересное имя — Анджела Пузякова. Есть Жора, он толстый. Близнецы Яанус и Эрнест, которые плохо говорят и по-русски, и по-эстонски. И много кого ещё.
Зойка — училкина дочка. Её мать преподаёт в старших классах историю. В Зойке что-то ласковое — и змеиное. Она вьётся, как змейка, прошмыгивает между рядами, как змейка, уворачивается, выкручивается, жалит и незаметно уюркивает. Однажды она подошла к моей матери, которая ждала меня после уроков. Прижалась к ней и вдруг выдала:
— Вы знаете, а меня мама вчера побила. (Пауза.) Линейкой. По голове.
— Как?! Почему?!
— А мне мама задачу объясняла, а я не поняла, и тогда мама сказала, что я тупая, вот и побила линейкой по голове.
— А что в это время делал папа?
— А папа газету читал. На кухне.
Мне всё не нравится в школе: и тошнотворный запах варёной рыбы в столовой, и учительница Валентина Альбертовна, у которой кличка Швабра из-за старомодной причёски, и то, как руки от мела корчатся и от тряпки. Я мечтаю слепить огромный снежок и сбить с директрисы шляпу. Или порвать ей платье, как тогда, в детском саду — воспитательнице. Тогда меня точно выгонят из школы.
Но директриса ходит не в платьях, а кримпленовых костюмах. Так что я ничего не рву и продолжаю ходить в школу. Учусь я хорошо, кроме физры и математики, и в школе всё время говорят о Брежневе, какой он хороший, совсем как Ленин, и очень любит детей.
Знакомый мальчишка скачет на одной ноге и поёт во всё горло: «Раз-два-три-четыре-пять,/ Вышел Брежнев погулять! / Вдруг Косыгин выбегает /Прямо в Брежнева стреляет./ Пиф-паф, ой-ой-ой, / Умирает Брежнев мой!!!» Из кабинета выходит директриса. Наша, кримпленная. Мальчишкиных родителей вызывают в школу.
Брежнев не умирает. «Наверно, у него есть живительный клей», — говорит Лёшка, мой двоюродный брат. Он старше меня на полтора года, и я ему верю. Только спрашиваю: «А зачем он ему?» «Ну как зачем?! Вот упадёт он, развалится на кусочки, или Громыко его убьёт или Пиночет, а он возьмёт и склеится. И так — хоть сто раз!»
Мне казалось, что Брежневу очень понравилось бы кафе «Вернер» и старухи, которые там сидели. Правда, кафе в то время называлось не «Вернер», а как-то по-другому, может, просто «Кохвик».{18} Но старухи-то не умирали.
В тот день, когда объявили о смерти Брежнева, у меня началась первая менструация. Но это уже другая история.
1975 год, декабрь. Деда Мороза на школьной ёлке изображал военрук, а Снегурочку — старшеклассница, высокая, худющая и некрасивая.
— Вот уродина. зачем её вообще выбрали Снегурочкой, ведь она Баба Яга. — шепчу я Ларке.
— Ну и что, а зато она отличница, ни одной четвёрки у неё, представляешь? Мне Витька говорил. И ещё — она, Ленка эта Кузина — блондинка. вот тебя бы и меня никогда не выбрали, хотя мы красивее. Потому что у снегурочек светлые волосы, а не такие, как у нас.
— А почему Дед Мороз — военрук?
— Да потому что непьющий он. Вот в прошлом году, мне тоже об этом Витька рассказывал, Дедом Морозом был второгодник один. представляешь — он почти такой старый, как наши папы, ведь он в каждом классе сидел по два, по три года. ну вот, значит, этот второгодник совсем пьяный напился и ёлку свалил. его тогда совсем из школы выгнали.
В нашей школе часто менялись учительницы пения и военруки. Учительницы — они все почему-то, как на подбор, были рыжими — уходили в декрет, а с военруками творилась настоящая чернуха. Один из них пьяный упал с балкона и разбился насмерть. Другого убил любовник его жены.
Теперешний военрук был трезв и суров. Даже в роли Деда Мороза. Даже когда он со Снегурочкой взывал: «Раз, два, три, ёлочка, гори!», выходило у него это всё как-то по-собачьи — будто лает старый охрипший бульдог. Даже не «гав», а вот так: «Рррхав! Рррххххаввв-хав-хав-хав!» Снегурочка же пищала, как крыса, отведавшая сиропа — мерзко и сладко: «Ну, ребята, хором, дружно.»
Ёлочка не зажигалась.
— Ну и дураки, — пробурчала я. — Лучше бы подарки поскорее.
Ёлка зажглась только после пятого призыва, и нас погнали плясать летку-еньку под старую дебильную песенку про пингвинов, которые дружат с полярниками. Ну кто же сейчас так танцует?! Сейчас все трясутся, как хотят.
После пингвинов поставили тоже старьё, «Идёт снег» Адамо.
Ларка шепчет:
— Слушай, Тань, я тебе сейчас одну очень неприличную вещь скажу. Только ты никому не говори, хорошо? Наша старшая пионервожатая. беременная! (Последнее слово — совсем тихо.)
— Что, правда? Ребёночка ждёт? Ой, как неприлично!
— Угу. Уже видно.
— А она не родит прямо щас, на ёлке? Вот будет ужас!
— Угу. Может, и родит. Я не знаю.
Но вожатая продолжает носиться, помахивая животом, и никого у неё не рождается.
Праздник окончен. Нам раздают конфеты и выпроваживают из зала.
— Опять ананасных этих, с вафельками наложили, а трюфелей нет, — обижается Ларка.
К нам подходит Витька из третьего «б», Ларкин сосед.
— Ой, девчонки, что я вам покажу.
И мы идём за ним к комнатке, в которой хранится всяческая бутафория. Витька прикладывает палец к губам, и мы осторожно заглядываем в приоткрытую дверь. В комнате полумрак, но мы различаем в углу высокое, светлое и узкое пятно, на которое лезет пятно маленькое и тёмное. И я сразу понимаю, что это Снегурочка и Дед Мороз. Снегурочка шепчет: «Ой, Фёдор Петрович, миленький, ой, не надо. ведь увидеть могут», но не отталкивает его. А Дед Мороз хрипит не разберёшь что, может, матерное. и становится на цыпочки, чтобы достать губами до снегурочкина лица, ведь Лена Кузина высоченная, а военрук маленький, как такого вообще в армию взяли?
— Так, ребята, вы что тут делаете? Вас родители ищут.
Это учительница физкультуры Людмила Адамовна.
— Да так, ничего, просто гуляем, — мнётся Витька.
Когда мы выходим из зала, он говорит:
— Эх, жалко, не видели вы, как он ей под юбку лез.
Через три года военрук и бывшая Снегурочка погибли в гараже, задохнувшись выхлопными газами.
13.
У нас в школе была одна учительница. Старая и в грязно-белой уродской шляпе, похожей на ночной горшок. И сапогах-чулках — тогда это был последний писк моды. Эти сапоги-чулки — лаковые, блестящие — выглядели на училке похабно. Похабнее, чем на длинноногих девицах в мини по-самое-моё. Потому что уж на ком-ком, а на ней эти сапоги-чулки были просто непредставимы. Даже запредельны. Как если бы наша старшая пионервожатая, беременная, заявилась в школу в одной набедренной повязке.
Старая училка ненавидела детей. Она вела какой-то младший класс — третий, кажется. И всё время орала — даже когда была полная тишина. Я сама слышала: «Если ещё — хоть звук, хоть слово, я выкину вас всех из класса, как щенков!» Ей было за семьдесят, а она всё работала. Она уже не могла без этого. Ей надо было каждый день идти в школу и орать на детей.
На лице этой училки было столько брезгливого отвращения, что дети просто каменели в её присутствии. И не сплетничали о ней, как о других учителях. И прозвища у неё не было. Даже имени её старались не произносить: «Ну, эта. такая. ну, сам знаешь.». И все понимали.
Когда я в 76-м пошла во второй класс, училки в сапогах-чулках уже не было. Умерла она.
Потом я узнала больше об этой учительнице. Она родила единственную дочь поздно — года в сорок три. Все удивлялись: старая дева, ни с одним мужиком её никогда не видели, детей ненавидела лютой ненавистью и тут — на тебе! Впрочем, что училка могла поделать? Аборты тогда, в сталинское время, были под запретом. Из школы ей пришлось уйти. Через несколько лет, в хрущёвские времена, она опять стала преподавать — уже в другой школе, нашей.
А дочь у неё получилась пьющая, гулящая, воровка. И немудрено — ведь училка на неё орала так же, как на учеников — жутко, исступлённо. так, что казалось: сейчас оконные стёкла вылетят, потолки обвалятся, вообще всё прахом пойдёт, синими огоньками, болотным хохотом.
Ну гуляла дочь, пила, наркотики, то, сё. Училка лупила её проводом, надевала ей на голову помойное ведро, связывала даже. А дочь тогда ушла из дому, но перед этим в отместку подкинула матери в сумку какой-то подозрительный свёрточек. И училка подумала, что это наркота и в ужасе бросила находку в соседский почтовый ящик. А соседи потом удивлялись: «Ну кому это нужно было в ящик класть сахар. ну да, сахарный песок вот в такусенькой упаковочке!»
Через несколько месяцев дочь вернулась к училке, потом опять ушла и попала в тюрьму — за воровство и наркотики. Тогда училка начала пить, но на её работе это нисколько не отразилось: каждый день она брела в школу на опухших ногах и орала на детей. И ни разу не опоздала.
Только вот за ней стали замечать некоторые странности. Например, на один школьный вечер училка заявилась в расклешённых брючках и в обтягивающей кофточке с люрексом. Шмотки эти явно принадлежали её дочери. Директриса, которую все боялись, но которая трепетала перед училкой, намекнула ей после вечера: «Вы бы всё-таки могли одеваться. ну, как бы это сказать?... не так по-молодёжному». На что училка гаркнула: «Я сама знаю, что мне носить! И вообще вы должны быть мне благодарны за то, что я этих дебильных детей учу, мерзавцев этих малолетних!» И директриса отступила, как побитая собака.
Директриса давно могла бы спровадить училку на пенсию, но не делала этого: «Ну, ведь вы понимаете — самый старый педагог в нашей школе. И такое горе у неё.» И все кивали. Ведь у большинства учительниц тоже было не всё в ажуре. У одной муж был инвалид, у другой — буйный жлоб, у нескольких — тихие, но ужасно докучные пьяницы. и от всех этих мужей у училок были дети, часто — не самые удачные.
Все понимали, и никто не жалел.
Но училка не нуждалась ни в чьей жалости. Она вообще ни с кем не общалась. Отбывала свои часы в школе и уходила, не обменявшись со своими коллегами и парой фраз. Если её о чём-то спрашивали, она отвечала — коротко и твёрдо, будто гвоздь забивала. И смотрела так, что второй вопрос скукоживался у спрашивающего в горле.
Училка не навещала дочь в тюрьме, не писала ей. И когда дочь, выйдя из тюрьмы, родила, не захотела видеть внука. В это время училка и купила свои знаменитые сапоги-чулки.
И вот она умерла.
Похороны. На кладбище собрались коллеги покойной. Ни друзей, ни знакомых, ни родных, кроме дочери, у старой училки не было. Директриса толкнула речь: «. вкладывала всю душу в работу честность принципиальность член партии с такого-то года старейший педагог нашей школы более. лет педагогического стажа». Учительницы всхлипывали. Покойную никто не любил, но теперь её, мёртвую, можно пожалеть: ведь она не встанет из гроба, не рявкнет, не гаркнет. Не посмотрит так, что душа у тебя не то что в пятки — в тартарары уйдёт, и глаза лопнут, и уши отвалятся — только бы не видеть это почерневшее от злости лицо, не слышать эти крики.
И вот к могиле шатаясь подошла дочь. Но шаталась она не от выпивки, а оттого что надела материнские сапоги-чулки, слишком ей тесные, колодки прямо.
Дочь внимательно осмотрела венки, ухмыльнулась и промямлила:
— Д-дайте мне тоже речь сказать. ой, блин, забыла, как там надо. а вот: с глубоким прискорбием сообщаю о смерти моей матери Кубаревой Зинаиды. ой, блин, забыла, как там её по отчеству.
— Матвеевны, — подсказал кто-то.
— Матвеевны. ну, вот и всё, блин.
И люди тут зашептались («Господи, пьяная заявилась.»), закивали, оттеснили её:
— Может, вам лучше домой?
— Ну да, д-домой. только ты скажи, где дом-то у меня.
Дочь отошла на пару десятков шагов и вдруг сняла сапоги-чулки, швырнула их в кусты и зашагала голыми, стёртыми до крови ногами. У кладбищенских ворот она всхлипнула — коротко, словно выбулькнула сгусток крови. И ушла не оглядываясь.
Наш класс ведут к памятнику Ленину возлагать цветы — жёлтые нарциссы и красные тюльпаны. Мы в парадной форме. Старая ветеранша, очень похожая на умершую учительницу, произносит речь. Я не слушаю, а думаю: «Может, это и вправду та училка? Из могилы выкопалась, сюда пришла, а потом — обратно на кладбище и снова закопается.» Мне совсем не страшно, но тут я вспоминаю то, что недавно прочла в «Литературной газете», её мои родители выписывают. Там было написано, что в капиталистических странах детей не только бьют, а ещё и «растлевают» — в котле, что ли, варят? До косточек, до мыла?
Я не хочу умереть я не хочу никаких памятников пусть их ставят ленину и училкам пусть их ставят брежневу когда у него кончится живительный клей всем только не мне и маме.
Нам в школе всё время талдычили о Ленине, а мама рассказывала, как в её родном городе Рыбинске стреляли в памятник. Рыбинский Ленин был совершенно заурядный, с протянутой рукой. Ребята из техникума напротив по ночам навешивали на неё то связку баранок, то ещё что-нибудь съестное — рука указывала на универмаг. А потом объявился человек, вернувшийся из лагерей. Он там сидел по 58-й статье, сошёл с ума и, выйдя на волю, решил отомстить Ленину как средоточию советской власти. Добыл пистолет и пульнул в несчастную, уже поруганную длань. Мужика, естественно, повязали и отправили обратно в дурдом. Такой вот «Медный всадник» двадцатого века. Памятник заменили на другой. Теперь Ленин прятал руку в пальто, будто лелея там чекушку. В народе новый памятник назывался «Сообразим на троих».
А тартуского Ленина во время перестройки облили валерьянкой, и на него забрались коты со всего города. Пришлось вызвать пожарную команду.
Ленин умер, да пусть хоть все умрут, но мне сегодня хочется — радости. Такой, чтоб забыть о мире, в котором надо виться змейкой, биться ласточкой, бросаться лисой под поезд. просто быть — без когтей, без бросков, без извивов, пятёрок, четвёрок, троек. без речей ветеранши. Господи, как она долго, у меня аж ноги затекли. быть бы — без всего этого. Просто прижиматься носом к стеклу и пытаться разглядеть, что делает у себя дома Катька. И помахать ей, даже если она не видит. Ржать, когда Лёшка сочиняет про пьяного Деда Мороза. Пугать мамину подругу деревянной змеёй — вот так: схватишь змею за хвост, а она вихляется, и мамина подруга в сотый раз визжит, хоть знает: змея ненастоящая, вон даже цветочки на ней. а я говорю: «А вот змея — верная подруга моя!» Сочинять стишки — про змею, про что угодно, даже как в три года: «Он слонихе шлёт. ШТАНИХИ!». Придумывать с Катькой всякие смешные праздники — например, День туалетника. Ходить в гости к маминой знакомой художнице — у неё можно рисовать на стенах. Плясать под «Солей, солей», французская тётка поёт, очень зыко. Или под другое «лей» — «Леди леди леди леди леди леди Лей», это неслось из каждого окошка. Пить рижское «Детское шампанское». Лизать горчицу. На речке намазывать руки глинистой грязью и смотреть, как их стягивает.
Ларка мне шепчет: «Таньк, а вожатиха уже родила. я сама видела — с коляской ходит.» А мне хочется — просто. Без рождения и смерти, как небо, которое всегда и везде. А не так — коляска, школа, работа, памятник, кто ревёт, кто речь произносит, кто цветы кладёт, а цветы мятые. и на фиг они тебе, когда ты уже — т а м?
Цветы — это обман. Я это поняла, когда мы с мамой однажды на рынке выбирали букет для её подруги. Ты возьмёшь цветы, а они на второй день завянут, а на третий — завоняют, почти как тухлая рыба. Так зачем же их выбирать? Всё равно они обжулят. Старуха роет носом бессмертники. Бессмертники — страшные, и не цветы, может быть, но в них меньше обмана. Толстая тётенька продаёт толстый подсолнух. Подходит мальчишка, начинает его вертеть, как колесо. Тётка на него прикрикивает.
Женщина вся в красном: кримпленовый костюм, туфли на платформе, сумка, блузка, бусы. Покупает цветы — багровые тюльпаны. Даже стебли их кажутся если не красными, то уж точно розовыми. И лицо у женщины рдеет, и глазки белокроличьи, и помада шарлаховая. Расплачиваясь, женщина вынимает алый кошелёк. И я с разочарованием вижу: монетки обычные, тусклые. И всё меркнет.
Ветеранша говорит о Ленине и об американской угрозе. О китайской тоже. Я знаю: китайцы чего-то там нарушают, границу переходят. А американцы гонят гонку вооружений. Им за это Брежнев кулаком грозит: зачем, мол, мирным людям жить мешаете?
Мне-то лично американцы жить не мешают. Мне нравится у них жвачка и мультики «Майти маус», которые показывали по ТВ, когда я была совсем маленькая. Ещё у них хиппи, я уже про них знаю, и хиппи мне тоже нравятся. Мама рассказывала, что когда я была совсем маленькой, наши хиппи лежали на газоне у театра «Ванемуйне» — спали, курили, целовались. Рассматривали на свет свои феньки.
О старом хипе Аме появились легенды ещё в те времена, когда я под стол пешком ходила. В те времена он учился в Тартуском универе и уже тогда состоялся как личность мифическая и мифотворческая. Мама рассказывала, что Ам приходил на лекции босой и бородатый. И лысый — он облысел необыкновенно рано, кажется, ещё в двадцать лет. На шее у Ама висела ручка от унитаза. Брюки были расписаны масляной краской всех цветов радуги. А один амовский приятель сшил к пятидесятилетию образования СССР красные клеша невероятной ширины.
Кончилось всё тем, что Ама выгнали из университета за то, что он, находясь под кайфом, выкинул из окна общежитской учебки всю мебель, включая этажерки с собраниями сочинений классиков марксизма-ленинизма.
Ещё до моего отрочества дошла история о том, как хиппи занимались любовью прямо на проезжей части в центре города и остановили движение. Хоть на пару минут, но остановили. И я представила эту мощную картину: машины гудят, водители и менты матерятся, студенты высунулись из окон — хэппенинг происходил рядом с общагой. Старушки охают: «Ох, батюшки светы, до чего дожили» и в обморок падают. Дети хохочут и улюлюкают. А хипы на дороге распластались, голые, весёлые, трахаются вовсю, и солнышко с их кожей трахается. И небо, совсем как в плохих контркультурных фильмах, выстреливает цветами, Люси с алмазами и всё такое. лепота, в общем.
Но кто-то мне сказал, что да, и в самом деле хипы остановили движение, но без всякого «make love not war», да и не хипы, а всего один волосатый — кажется, тот же самый Ам. И не просто так, от балды, ради кайфа, во славу психоделии, а протестуя против какой-то мелкой общественной несправедливости. Типа кого-то лишили стипендии. Или самого Ама не пустили на лекции за облик, несовместимый со званием советского студента.
Честное слово, всё это я восприняла как жутчайший, голимейший облом. Ведь нет ничего ненужнее и противнее развенчанной легенды.
Ветеранша говорит о Великой Отечественной войне.
Совсем недавно закончилась война во Вьетнаме, и мы в первом классе делаем для вьетнамских детей подарки. Какие-то пластиковые аппликации.
А ещё нам говорят о Чили. Там Луис Корвалан томится в страшной тюрьме, и ему там ни сесть, ни лечь нельзя. Только стоять можно. И тюремщики всё время зыркают. И в каком-то журнале даже печатают рассказ о мальчике, который посылает Корвалану в тюрьму буханку хлеба. А буханка эта не простая — в ней лобзик, чтоб распилить Корвалановы оковы. Не помню, чем этот рассказ закончился. Всё равно очень скоро Корвалана выпустили. Обменяли на диссидента.
Я не хочу томиться я не хочу делать аппликации я хочу заорать отнять у пионеров барабан и забухать по нему как черти-громовики из земляники под снегом, но нельзя, нельзя.
14.
В советских фильмах первой половины 60-х часто появляются девушки в белых платьях и косыночках. И эти девчата, тесно прижавшись друг к другу, выводят нечто протяжное. Типа: «Мы с тобой два берега у одной реки». Или про серых гусей. «Ты ведь мне напишешь, правда?» И дождь идёт, всё время, и ветераны забивают «козла». Девичьи взоры тоже протяжные и перетекают в этот самый дождь и в ветеранов. В конце 60-х девиц первого типа сменили более современные. Современные не только из-за мини-юбок и твистов-шейков, а ещё и из-за «сигаретности» взглядов — словно табачный дым закрылся в их зрачках, какого бы цвета ни были их глаза. И сами они были сигаретные — тонкие, лёгкие и вились, как дым. И эти девицы не пели, привалясь друг к другу, а сидели за барными стойками или бежали к возлюбленным, летели к ним, и из их сумочек выплёскивалась косметика, и казалось, что всё спотыкается об их длиннющие ноги в сетчатых чулках.
Моя мама была «сигаретной» девушкой.
Лучше всего, как мне кажется, такие девушки вышли в «Любить» Калика. Особенно в эпизодах — там, где они сидят над рюмкой коньяка и курят, смотря на часы. Или расстёгивают-застёгивают молнию на замшевом сапожке. Одна из этих девушек похожа на мою маму. И мне иногда приходит в голову дикая мысль: может, это на самом деле она — в том эпизоде? И снималась она осенью 68-го, то есть уже беременная мной. И сидела над этой самой рюмкой — в ожидании, но не меня. И я помню этот листопад. Сюр какой-то. Шиза.
Впрочем, «Любить» всё равно тогда покоцали и запретили показывать.
На студенческих фотографиях губы у мамы улыбаются, а глаза грустные. Отчего? Так просто.
… мне иногда хочется просто стукнуться об стенку и не убиться, а просто исчезнуть: «Ведь у Ирки мать совсем дура — на Новый год надела ей мокрые белые колготки, и Ирку бьёт и прутом, и ремнём, а Ирка всё равно плохо учится. а Вовкина мать — пьяница и не давала ему есть, и он стал воровать у соседей, а мать лишили родительских прав. а у Светки в доме нет книг, кроме одной — Ленина. а я неблагодарная, я самая плохая, самая подлая. я не умею любить, никого не умею. Даже маму. ведь мне тоже иногда хочется, чтоб она стукнулась об стенку и чтоб её больше не было.».
Мама не писала стихов и прозы, не рисовала, не играла на музыкальных инструментах, хотя могла бы это делать. Анамор сжимал, сдерживал, одёргивал её, не давал ей жить. Любой проблеск истощался даже не в зародыше — в зиготе. Анамор говорил: «Закройся. Притворись обычной. Чтобы никто не увидел твоей боли. Чтобы никто не допёр до всех твоих искр, пожаров, ожогов. Чтобы никто не догадался, что ты — в Анаморе, без земли, без воды, без воздуха».
И она закрылась.
Я понимаю, что мама меня обманывает. Зачем она придумывает всякие дурацкие истории? Ведь знает же, что я не поверю. Например, вот эту — что у неё есть такой специальный приборчик, вроде телевизора, и она в нём видит всё, что творится со мной, пока я не с ней — в садике, во дворе. «Поэтому ты должна говорить мне только правду!» Меня сердит не ложь, а то, что это — глупо. Или вот это — когда она вчера сказала мне: «Давай больше никогда не ссориться», и я соглашаюсь и страшно радуюсь. А сегодня она опять кричит на меня, а я ведь ничего такого не сделала.. Даже когда мама не обманывает, мне порой кажется, что она говорит не с теми и не то. Например, про обои: «Нет, мне голубые не нравятся, нравятся серые» — почему-то это так меня злит, что я готова — при маминой подруге — стукнуть по фонарному столбу. Но сдерживаюсь.
Мама учит меня не быть настоящей — при людях. Не показывать себя трусливую, грязную, глупую, нелепую. Ведь если над тобой смеются, ты унижен. А это значит, что тебя почти нет. А то, что осталось, брезгливо отодвигают ногой. Как дохлую мышь. Тебя обходят. Брезгливо огибают. Плач бесит даже тех, кто жалеет тебя. Непонимание. Недоумение. Поэтому мать кричит: «А ну перестань плакать!» А мне от этого ещё больше хочется реветь — так просто, без повода. Пусть видят меня глупую, трусливую, грязную. Я такая и есть.
Я вот недавно не сумела открыть дверь — ключ застрял — долго ковырялась, а из меня уже потекло — по колготкам, по полу, по двери — а я ведь уже давно не писаюсь. Я рыдаю, а слёзы — та же моча. И то и другое стыдное. Потом я иду к соседям, они помогают открыть дверь. А мама вечером: «И ты позволила над собой смеяться?! Этой маленькой стерве Элке и её мамаше?» В первый раз мама в разговоре со мной употребляет такое слово. «Стерва» — будто тебе отрезают что-то.
Нет, я больше никогда не выйду на улицу, даже по лестнице никогда не спущусь. Притворюсь, что меня нет — глядишь, и забудут, и никто больше не надсмеётся. Мама, ласково: «Иди кушать!» Кажется, она даже называет меня «котёнком». Я не отзываюсь. «Ну и сиди себе, и ешь потом холодное!» Я встаю, иду на кухню. Жую — всё и так холодное.
Я боюсь всего этого в маме. Да, моя мать умела быть нежной со мной. Играла в мои игры, читала со мной мои книжки — так, как играют и читают дети. И тут же — из-за пустяка — обрушивала на меня столько презрения, чуть ли не ненависти, что и мне тогда было понятно: «Как можно так — к ребёнку, к своему ребёнку? Как можно говорить ему — такое?». Иногда я думала: «Уж лучше б она меня побила — как родители бьют Ирку, Вовку, других. Только не это, не это! Когда я родилась, меня не любила кошка. И она ушла. А теперь не любит мама — и она тоже скоро уйдёт.»
Её прадед был черкесом, который принял крещение и женился на русской. В юности я боялась этой крови — жёсткой. Стоячей, ощетинившейся, непрогибаемой. Это у других кровь текучая, а эта колючая. Может, и вовсе не жестокая, а жёсткая. Но жёсткость бывает страшнее жестокости. Жилы твои закупорены железной стружкой и не впускают воздух. И такие люди воюют с миром. Даже если они не злые, всё равно они — войны.
Именно так: не воины, а войны. И кажется только, что у них семьи, друзья, знакомые. Ведь войны — при всём своём многолюдстве, избыточности, шуме — всегда одни.
Я подумала это и тут же осадила себя: «Но ведь у неё была я, её единственный ребёнок. И она любила меня, а если и враждовала с миром, то лишь из-за меня — чтобы он меня не обидел, не съел, не успел съесть — ведь я слабее, гораздо слабее, и эта жёсткая кровь во мне слабее, но я всё равно — война, анамор, такая же, как мама. и только она любила меня — пусть страшно, пусть презирая. но никому я на самом деле не нужна. а кому вообще нужны войны? Их ведь стыдятся — даже когда ими хвалятся.»
Наверно, она пыталась таким способом уберечь меня от будущего. Уберечь этим своим презрением, осуждением. Попытками подладить меня под стандарты. Она как будто бы видела меня взрослую — гнобимую, преданную. Моих неродившихся детей. Все мои бессонницы, болячки и умирания. Мою полноту и медлительность — а людей больше всего раздражают именно два этих качества.
И самое страшное — то, как я из этого выходила, выхожу и буду выходить. Размазываясь по стенке, а потом снова вмазываясь в обычные формы и при этом — слишком вталкивая себя в себя. Что пострашнее размазки.
Она видела всё это, знала, ибо и это всё гнездилось в ней: поэзия без стихов, какое-то особое умение быть предаваемой и другое. Но во мне-то этого было больше — и отчётливее, аж до рези. А если вот загнать в шаблон. Нет, даже не загнать, а научить делать шаблонно-картонный вид и при этом показывать фигу в кармане. И тогда меня оставят в покое. Не съедят, по крайней мере.
А если все эти картоны-шаблоны — псу под хвост, надо стать войной. Такой страшной, чтоб от тебя все отступились. Боялись тебя издали и считались с тобой. С войнушкой. С делибашем, рубящим головы на лету. С бреющим полётом. С камикадзе. Когда небо не страшно, а земля давно сгорела. «Хули нам пули, нас и штыки не берут».
Такая мать появилась в фильме «Белый олеандр». Моя мама не травила своих любовников, не попадала в тюрьму, но требовала того же, что Ингрид от дочери: не-плача при людях, жёсткости, не-сворачиваемости. И при этом умения выглядеть как все, но — «мы — это мы, они — это они». Ты сама не должна пожирать других, но быть сожранной позорно. И прощать нельзя. И все обиды помнить надо.
Моя первая обида на маму. Мне три года. Мама помогает своей знакомой, учительнице, делать маски для школьного утренника. Им не хватает картона и мама режет мою книжку — совсем не любимую, но всё равно больно. Я не плачу, ничего не спрашиваю, но становлюсь даже не каменной, а пробковой — будто я пробка в воде, меня качает в разные стороны. Хочется утонуть, а не могу.
И продолжает меня мотать.
15.
Мне нравится ездить на поезде. Нравится, что над нижней полкой на стенке — сеточка. Когда я была совсем маленькой, то клала туда своего мишку. Нравится чай — и слишком крепкий, и слишком слабый, «зависит от проводницы», как говорит мама. Нравится, что сахар можно грызть, а дома только песок. Нравится, даже когда простыни серые и влажные (однажды из них вылез таракан). Нравится вагон-ресторан, хоть там и пьяные. Нравятся попутчики — всякие, даже надоедливые. Вроде тётки, трындящей всю дорогу, где она и что и за сколько достала и как завидует завмагам. Я сначала думаю, что «завмаг» — это имя индейского вождя. Но мама объясняет, что это всего-навсего «заведующий магазином». Тьфу ты, как скучно.
Я в семь уже знаю, что такое дефицит и что в Рыбинске люди покупают второй холодильник — специально для мяса и колбасы, за которыми они ездят в Москву.
Единственное страшное в поезде — туалеты. Я стараюсь не думать о них перед поездкой и в самом деле не думаю. И уже в вагоне не думаю — до той минуты, когда мама ведёт меня в уборную. Уборных две на вагон. Они почти всё время заняты, поэтому нужно ждать, иногда долго.
Потом дверь открывается и настаёт страшное. Запах. На нём хоть слона вешай — выдержит. Дверная ручка. Её постоянно дёргают, и дверь в любой момент может открыться. И все тебя увидят — голую. И «то самое» — открытым. Страшнее всего — унитаз. Он забит говном чуть ли не по самую крышку, не смывается оно, что ли? И кажется, сейчас это говно совсем вылезет и тебя съест. Или вообще что-то нехорошее с тобой сотворит. Как в страшилках. И в это — нужно «делать».
И трясёт, о! Боже, как трясёт. сейчас я упаду — туда, в это самое.
Я леденею. У меня и ноги ледышки, и голова, и живот, и «там». Особенно «там» И если я пописаю, то одними ледышками. Сотни маленьких ледышек выйдут из меня прямо в то, страшное. А ведь ледышки — это больно. Они же мне всю письку раздерут, кровь будет, много крови. И мама, которая заставляет меня писать в это говно — преступница. Воровка. Убийца. Людоедка. Нет, хуже всех их. Гораздо хуже. И мне в голову лезет недавно услышанная «курва», и я чуть не говорю это слово. Вот именно, так — «кур-ва!», будто тебе череп сносит.
И я вижу маму всю в крови, и мне её не жалко. Потому что она — всё злее: «Ну, давай же! Быстрее! Хоть по-маленькому! Писай, писай! Ну же!.. Господи, это что за позорище такое растёт! Ничего сделать не может, даже в туалет сходить!» И ещё что-то ужасное — чего нельзя говорить ребёнку. И что почти каждому ребёнку говорит почти каждая мать. Какая мама жуткая — как то, жуткое, в унитазе. И мне самой страшно от этой мысли. И я ещё больше — не могу. И не хочу.
… и говорю теперь — опять не вслух — про маму и вообще про всё: «Гов-но. Гов-но. Говно!» Это невыносимее «курвы». Сейчас я разорвусь — вместе со всеми курвами, говнами. С тем, что во мне и снаружи. «Ну, слышишь, быстрее ты! В дверь вон уже ломятся!» Ну и пусть ломятся. Пусть увидят меня с голой писькой. Мне всё равно уже.
«Попей водички из-под крана. Поможет». И я пью — туго, тупо. И вдруг начинаю писать — сначала мимо унитаза, потом туда — и мне не остановиться. Нет ни ледышек, ни крови, но боль дикая. И в самом деле меня напополам раздирает. А мама уже подталкивает к раковине: «Быстрее, быстрее!» Но я едва касаюсь воды. Меня сломали, а потом раздавили — и после этого ещё умываться и вытираться?!
Когда мы выходим, очередь зло косится на нас. «Сидят тут по часу. будто в парикмахерской. Ничего нет хуже этих самых мамаш с детьми. Думают, что им всё позволено.» Мама не оборачивается.
В купе мама улыбается: «Вот теперь тебя люблю я.» Но я не отвечаю. Сижу не двигаясь, с каменной мордой. Вот именно — не лицом, а мордой. Так что меня сейчас лучше не трогать. И мама будто понимает это и пододвигает ко мне чай. Я пью чай, грызу печенюшку. Нет, за меня всё это делает каменная рожа. Я тут ни при чём. Потом ложусь. Мне холодно. Ледышка пробила — стены вагона, простыни, одеяла, мою кожу. Мне не согреться. Я не дрожу мелкой дрожью, просто цепенею. И совсем оцепенев, засыпаю. Но и во сне тоже холодно.
Однажды мама пытается мне объяснить, почему нельзя не ходить по-маленькому так долго. «И по-большому — тоже, но по-маленькому — особенно». Я делаю вид, что понимаю, а на самом деле не понимаю. И не хочу понять. Потому что гнать меня, и вообще любого, в это говно и заставлять над ним корячиться — это говно, то же самое. «Лучше б я там тогда умерла. умерла, а не пописала бы. пусть бы во мне всё это стало твёрдым. Колючим. Пусть бы все эти ледышки слиплись бы, и я с ними замёрзла. Или растаяли и тогда затопили бы меня и всех и всё. Жёлтые ледышки. Как леденцы. Лимонные. Как мамино лицо.».
Мама мама что ты со мной делаешь зачем мне снова рождаться через железные прутья мне больно мама мама зачем это.
Мамино лицо становится совсем белым и холодным. Будто что-то всасывает всю желтизну. Нет, не холодным, а «с холодком» — есть ведь такие конфеты, драже. Мятной ледышкой. Таблеткой под язык — хоть мамино лицо и не круглое. Мама — героиня-сиротка из японской сказки — идёт собирать синюю землянику. Землянику под снегом. Белая фигурка вступает в сугроб, и сугроб отрывается от земли. И всё это — анамор. Мама не говорит. Все нотки вымерзли и на губах её — индевелая задвижка. Снежная мята. Эти белые губы могут попробовать разве что синюю землянику.
Прошла мама в молчании. Прошли брежневские старухи. Прошёл поэт и его писающий голос. В руках у поэта был кислый войлочный колпак. Прошли страхи, почти не страшные. Прошли все мои мании, малые и большие, напевающие маму, меня, старух, поэта с писающим голосом, вообще всё. Прошли дети, растленные и растлённые, вываренные до мыла. Прошли физалисы и все их пыли и моли. И все хули и пули и штыки. И лисы, раздавленные и нераздавленные, и они подмигнули мне.
Прошёл мамин голос. Но я его не узнала. А когда узнала, уже проснулась.
В ридикюле одной из старух сидела мамина обезьянка.
Ласточка в этом сне была белой и билась о снег.
16.
Моё детство закончилось, когда я получила первую в своей жизни пощёчину. Мне тогда было одиннадцать лет.
До этого мама давала мне шлепки и подзатыльники. Я дулась на неё, но, в общем, было не больно и не очень обидно. Пощёчину я получила за то, что написала контрольную по русскому на двойку. Я оправдываюсь: «У нас почти все получили двойки». но мать не слушает, говорит, что приносить двойки по русскому, когда у тебя мать филолог, позор. и вдруг бьёт меня по щеке — несильно. но я от страха отшатываюсь так, что задеваю этажерку и ору: «Буду, буду получать двойки! Каждый день! Назло тебе!» Я валюсь на диван, рыдая, а мать выходит из комнаты. я плачу долго, мне кажется, что час.
Достаю кляссер с марками, смотрю на них долго-долго: шесть марок с дятлами («България»), марка с голой женщиной — Венера. На кубинских марках — картины: всё коричневое, зелёное, вязкое.
... а если взять и потонуть в этом жутком, зелёно-коричневом? Пусть пиявки меня съедят, всю кровь из меня высосут. Я захлопываю кляссер. Не хочу этих марок, не хочу школы и матери не хочу. Я её «мамой» называть не буду, только «матерью». Или «мамашей», как у нас двоечник один. У него отец пьяница, механизатором работает, а мать доярка и дура страшная. И маленькая сестрёнка тоже дура. Про них все говорят, что они недоразвитые. Мать двоечника всюду в красных брюках ходит. И моя мать такая же дура и злая. Не люблю её.
Мама открывает дверь и зовёт меня на кухню. Она пытается объяснить, что да, она погорячилась, но и я должна понять. я киваю, не слушая. А если бы и слушала, то всё равно не поняла бы и не хотела понять. Раз меня бьют по морде, я никому ничего больше не обязана, и отцепитесь от меня.
… мама, почему я не смогу простить тебе эту пощёчину и другие — я знаю, они будут?..
Наверное, все люди в мире делятся на тех, кого били по роже, и на тех, кого не били, и эти две группы людей антиподы, может быть, даже ненавидят друг друга. Битые, даже если они злые, сильные, наглые, всё равно живут, словно в ожидании новой пощёчины. И часто бьют первыми — совсем не обязательно кулаками. А в небитых, даже слабых и робких, этого страха, этого ожидания удара гораздо меньше.
Через две недели я опять получила двойку по русскому. Снова наша Алла обозлилась на весь класс, на всех накричала и наставила кучу двоек без разбора. Я захожу в наш подъезд, поднимаюсь на пятый этаж, но не звоню в квартиру, сажусь на скамейку, что стоит в подъезде, сижу долго-долго, хоть мне и холодно. Господи, я не хочу, чтоб меня били. Я здесь буду сидеть до вечера, а если мать откроет дверь, я убегу в мороз, в сугроб убегу. Замёрзну там, превращусь в снежную бабу, в большую снежуху. И мне на голову наденут ведро, и глаза вывалятся, и вместо них мне вставят угольки, а вместо носа будет морковка. Весной я растаю, все пройдут по луже и никто не подумает, что это я.
… я никогда не подойду к двери. Никогда не позвоню. Никогда не открою. Господи, как холодно! Пальцы твёрдые, лицо твёрдое, даже ресницы задубели. Я никогда не буду больше мягкой. Ну ничего, я привыкну. Я и сейчас почти привыкла. только вот в туалет хочется. а что, если я напущу лужу прямо в подъезде, и она замёрзнет, и все будут подскальзываться на этом жёлтом льде, ехать носом вниз по ступенькам, и мать пускай тоже. Пусть все переломают руки и ноги, а я убегу.
Я подхожу к нашей двери и нажимаю на звонок. Открывает мама. Она уже в пальто и сапогах, собирается уходить. Я говорю, не глядя на неё: «У меня опять двойка. По русскому». И жду пощёчины. Но мать только вздыхает: «О! Господи, опять! Поешь и сразу садись за уроки. Я, когда приду, тебя проверю».
Я беру холодную котлету и ем её без хлеба, запивая молоком. Беру маминого Сименона, там в названии «орешник», и читаю до вечера. Мне нравится читать взрослые книги и не нравится смотреть взрослые фильмы — кажется, что в них все слишком машут руками, слишком таращат глаза и слишком орут про любовь.
Через месяц я получаю вторую пощёчину. За то, что нагрубила матери. В тот же день мы с нею идём в кино, а потом — в кафе и едим мои любимые трубочки с кремом, но я глотаю с трудом. Какой у этого крема вкус, железный просто, будто ногти матери, скользнувшие по моей щеке. Господи, почему у меня металлическая мама и я сама металлическая? Почему мы не умеем прощать? Почему я такая нелепая, и меня все стыдятся?
... я опять болтаю с мамой, как с подружкой, и она рассказывает мне чудесные и смешные истории о своём детстве и юности. Но после этих пощёчин — всё не так. Как после сильного землетрясения, когда люди кое-как устраиваются и делают вид, что уже привыкли к новому способу существования. вот именно что — «к способу». Теперь — способ, а тогда была — жизнь.
… вот и мне — не приспособиться. Раз меня бьют, я буду нарочно, назло ещё ленивей, ещё неуклюжей, буду получать двойки, вообще учиться перестану, пусть меня хоть до смерти исколотят. Буду самой страшной, самой грязной, пусть все зубы у меня выпадут и волосы. Пусть я стану как Хрюша в «Спокойной ночи, малыши», как кошка помойная, как пьяница, который под забором валяется. У меня будет такой же нос, с одной стороны синий, с другой красный, как огромный карандаш, мне его уже давно подарили.
Вот так я стала отрочью, ещё до первой менструации. И сволочью тоже. Потому что понимаю: меня зря забросили в этот мир, и что я, раз не могу уйти, буду притворяться, что мне в нём хорошо. Притворяться и обманывать всех направо и налево.
17.
1984 год, март. Мне пятнадцать лет. Я иду к матери в больницу. У мамы — рак и жить ей осталось, может, несколько лет, а может, несколько месяцев. Я пытаюсь представить себе эту болезнь — и не могу. Что это — в твоём теле заводится гниль, и ты идёшь, мокрый, склизкий, и воняешь, как старая собака? Или наоборот — ты каждый день сохнешь, и в конце концов от тебя остаётся только какой-то один твой орган — сердце, к примеру. и сердце тоже сушёное, как вобла, и им, то есть тобою, можно об стол колотить? Или...
неужели во мне тоже будет это разложение эта гниль эта смерть и меня как и маму будут ремонтировать делать во мне ремонт а хули толку будут долбить мучать резать делать надо мной опыты вивисекторы чёртовы зажравшиеся живодёры а я всё равно умру стухну сдохну окочурюсь медленно очень медленно ведь быстро умереть мне никто не даст из гуманистических блин побуждений а они будут говорить мы мол сделали всё возможное кто его умирание это придумал лучше бы сразу бац кирпичом по башке или вот как лису перерезало.
Мама мама не надо мама Я я не надо я
Я захожу в палату. Молоденькая санитарка рассказывает об индийском фильме:
«… и когда мачехин сын крадёт эту девушку, Радха её звали, и снасильничать её хочет с дружками со своими, жених этот появляется на машине такой огромадной и гадов этих всех убивает. А потом они с Радхой женятся и по уши в цветах. ну, как это называется? Грильянды у них на шеях, и опять все пляшут и поют, ой, как красиво, ой как долго. И вот что мне ещё понравилось — не лапает он её, в постель не тащит, не то что наши. Вот я недавно с одним в кино пошла, так еле высидела, он мне под юбку, бок тоже весь исщипал, пришла вся в синяках. и в лицо перегаром. не надо мне этого. ».
Когда мы с мамой остаёмся одни в палате, она говорит:
— Она, Лена, санитарка эта, мне как-то рассказывала о своей семье. Достоевщина прямо. мать повесилась, отец алкоголик, муж старшей сестры тоже всё пропивает, там дети буквально голые бегают.
И тут мне словно моча в голову ударила — я подхватываю с издёвкой:
— Ну да, всё как в «Швейке»: один дедушка выбросился из окна, другого лошадь растоптала, бабушка спичками в тюрьме отравилась.
Мама устало смотрит на меня:
— Какая ты недобрая.
Потом, помолчав:
— Нет, ты, наверно, не злая. Но не добрая. Да, не добрая.
И по тому, как она это говорит, я понимаю, что жить ей осталось недолго. Я прощаюсь с матерью: «Знаешь, нам столько задали. завтра приду».
По дороге на автобусную остановку меня останавливает пожилая женщина.
— Скажи, девочка, как до больницы мне доехать. ну, до «Маарьямыйза» этой самой.
Я объясняю. Женщина трясёт головой:
— Нее, не понимаю я.
— Я могу ещё раз объяснить.
— Да нет, спасибочки, всё равно я не пойму. Недоразвитая я.
И тут я вижу, что эта тётка беременна, чуть ли не на сносях.
о Господи, она выглядит на все шестьдесят. сколько ей на самом деле — пятьдесят? Меньше? Я бегу от этой тётки, как от чумы, я понимаю, что она — Смерть и что пришла она по мамину душу, а может, и по мою. как только родит эта тётка, моя мама умрёт, и ничего нельзя сделать.
Я плача добегаю до остановки и там успокаиваюсь и начинаю думать о своей смерти — какая она? Может, и вовсе не страшная. например, гробик на колёсиках, как в детской пугачке. Ты открываешь этот гробик, а там никакого трупа и нет, зато много всякой весёлой фигни — ёлочные игрушки, дешёвые сласти. А ты, обсосав все леденцы, взорвав все хлопушки, примерив все маски, просто засыпаешь в этом гробике. И никаких чёрных рук, и никаких: «О т д а й м о ё с е р д ц е!!!»
… вот мне бы сейчас так умереть: за щекою — леденец, в руке — хлопушка, в ногах — каюк, в изголовье — хихик. Потому что у меня только два чувства — страх и смех. и нет ни к кому у меня жалости, у меня, отрочи, сволочи, морочи, только к себе. Да и то — не жалость, а тот же страх: в какую сторону тебя дёрнет? Какой кирпич пробьёт дыру в твоей башке? Или сама ты станешь кирпичом и ё… нешься о чью-нибудь голову?
Каюк и хихик — это одно и то же. Коротко, будто кирпичом: раз — и готово!
Дома я варю себе кофе и пью его с лимоном — так, как любит мама. И сама она — как лимонный ломтик в этой черноте. Его давят, топят, а он всё равно всплывает, растрёпанный, раздрызганный, потерявший цвет, но живой.
Я смотрю на мамину фотографию 1958 года. На ней маме четырнадцать лет. Я с удивлением, как в первый раз, рассматриваю её полосатое платье с широкой юбкой и сравниваю его со своими джинсами, вельветками, куртками, комбинезонами. думаю о том, как мы с мамой непохожи и как нетерпимы друг к другу. и что маму никто не любит — даже я. какое же я всё-таки говно.
На фото мамины глаза лисьи — хитрые и смущённые. Только на лисьих мордочках можно увидеть такое сочетание пройдошливости и смятения. Будто весь мир сейчас гробнется на узкие лисьи тела. и они видят этот миг, точно знают, когда он будет, но ничего не могут поделать. мечутся лисы — то дорогу перебегают перед поездом или машиной, то оборотнями становятся, то притворяются листопадом. смятённые, красные, они рвут небо зубами, впитывают последний свой воздух за миг до последнего мига.
Нет, я никогда не буду взрослой, а мама не будет старой, никогда, никогда.
Соседская девчонка играет гаммы. Она играет их уже пять лет, изо дня в день. Слава Богу, я ещё в позапрошлом году разделалась с музыкальной школой и не бацаю больше на фоно. Моё пианино называется «Красный Октябрь», но сзади на этикетке у него другое название — «Ноктюрн». Непонятно, какое из них правильное. Вот и мне бы — иметь два имени, два паспорта и трахать всем мозги. И пока меня-первую ловят, я-вторая уйду, скроюсь, смоюсь, не оставлю ни следа, а если оставлю, то нарочно, чтобы посмеяться — как рыжий кот-бандит Маккавити оставлял на месте преступления то клочок шерсти, то капельку крови, тоже рыжей, да хоть кучку, фиг такого поймаешь!
И поэты оставляют свои улики, свою кровь, свои кучки, свою отрочь, нечисть, бестолочь, глупь и мразь.
И никто их не поймает — разве что другие поэты.
… я включаю «Дорз» и кружу, как шаман, под «I looked at you», а когда гаммы за стеною кончаются, пишу стихи в тетрадке, и рву их, и снова плачу.
Не надо мне этого, смерти не надо, боли не надо. я лучше пойду на Ратушную площадь, буду там сидеть: вдруг появятся хиппи, как в прошлом году? Я тогда уйду с ними — куда угодно: хоть в Питер, хоть в Гаую, где у них лагерь, хоть к чёрту на кулички.
… я вспомнила, как я уже убегала — в прошлом году, когда поссорилась с мамой, и ночевала у подруги, у той мать была в командировке, а отцу мы наплели, что я ключ потеряла, а дома никого нет. и когда я перед сном стояла у зеркала в коротенькой ночнушке, то заметила, что взрослый брат подруги смотрит на меня сквозь стеклянную дверь, и мне стало жарко от этого взгляда.
… я надеваю куртку и иду — страшная, смешная, беззащитная, а значит — опасная вдвойне. Ведь нет ничего ужаснее гнева букашки — о, как она орёт, как она пинает и материт мир, который её давит! И к букашкину гневу добавляется гнев поэта — гнев всех букв, скобок и отточий. поэты только требуют, а что они дают?
Да ничего — только свои стихи — кучки, которые другие люди брезгливо обходят. Но если в них кто-то случайно вступит, то вовек не отмоется.
… я не хочу смерти, я буду жить — отрочь с потными подмышками, с прыщами на лице, со сбитыми каблуками, со снесёнными мозгами. Буду жить и притворяться и не знать, что делать со своим отрочеством. да ничего — просто идти по миру шелудивою кошкой, птичкой бескрылой, сучкой в нелюбовной течке, и засирать мозги, свои и чужие. А потом шарахнуться в юность. и будь что будет.
А пока остаётся писать никому не нужные стихи и глядеть в небо и слышать, как оно смеётся над тобой: — Где твоя радость, ну, где твоя радость, где?
Комментарии
1
Маня Норк (псевд.) родилась в 1969 г. Окончила Тартуский университет. Живет в Тарту. «Анамор» - ее первое прозаическое произведение.
(обратно)2
«Пороховой погреб» (эст.).
(обратно)3
«Камышовая река» и «Дочь паромщика» (англ.).
(обратно)4
«Злая собака» (эст.)
(обратно)5
«Иди в задницу» (эст.)
(обратно)6
«Универмаг» (эст.)
(обратно)7
«Большая тень», «Маленькая тень», «Средняя тень», «Большая тень-1», «Большая тень-2» (эст.).
(обратно)8
От англ. «long play» (долгоиграющая пластинка)
(обратно)9
«Дуры» (эст.)
(обратно)10
«Русский, руссь, капустный червь» (эст.)
(обратно)11
Мама, папа, нельзя! (эст.)
(обратно)12
Прозвище эстонцев, от эст. kurat («черт»)
(обратно)13
«Русские свиньи» (эст.)
(обратно)14
От песни Сержа Генсбура «Anamouro. Это слово можно перевести как «внелюбовь» или даже «алюбовь».
(обратно)15
«.. .iban a coger olivas i tornaban desmaidas i las colores perdidas en Jaen» (исп.) — из народной песни.
(обратно)16
«Гороховый суп» (англ.)
(обратно)17
«Porque tu me queres, ya-llah, matare?» (исп.) — народное.
(обратно)18
«Кафе» (эст.).
(обратно)
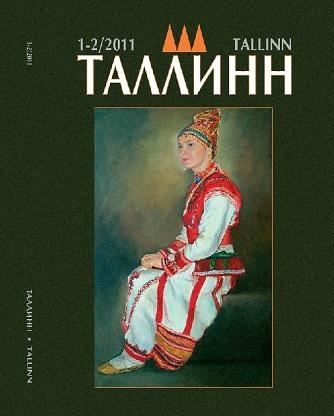





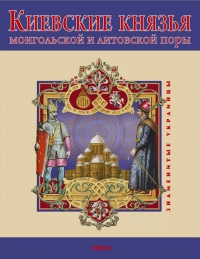

Комментарии к книге «Анамор», Маня Норк
Всего 0 комментариев