Александр Агафонов (Глянцев) ЗАПИСКИ БОЙЦА АРМИИ ТЕНЕЙ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Нет, на Героя Советского Союза или Российской Федерации он, конечно же, не тянет. Тут другой статус и другое измерение. Но по большому счету он - герой, хотя большую часть жизни он прожил с клеймом "опасного преступника". Гестапо проштамповало листовку с его портретом и грифом "Разыскивается опасный преступник". Это было в Париже в 43-м году, когда он бежал из-под расстрела. В МГБ он, скорее всего, проходил по разряду "Социально Опасного Элемента", пожизненно не выездного за кордон...
Еще бы! Кто и куда выпустил бы его в хрущевско-брежневские времена с такой вот его биографией, где, как ни смягчай формулировок, но между строк явственно читалось, как сын белого офицера был вывезен в Югославию и там учился в королевском военно-медицинском училище, и как попал в плен к немцам раненый, и как бежал во Францию и там примкнул к макизарам - бойцам Сопротивления, а затем сплошные аресты, побеги от немцев, от американцев...
Такая вот темная лошадка. Не зря и в советских лагерях посидел. Даром, что реабилитированный. Его судьбы хватило бы на семерых: на врача, на солдата, на подпольщика, на героя-любовника, на зэка, на учителя, а досталась она ему одному - Александру Михайловичу Агафонову. Он же Глянцев, он же Попович, он же... Кто он, работавший фактически на английскую разведку, будучи немецким шофером, французским подпольщиком, югославским гражданином и русским по рождению?
Однажды, сидя в камере смертников, - это уже в нашей тюрьме, - он, чтобы оттянуть срок расстрела, решил раскрыть наконец "тайны английской разведки" и сочинил весьма правдоподобную легенду о новом, неведомом на Лубянке, разведцентре под Лондоном, где он, якобы, прошел подготовку. Его сразу же увезли в МГБ на Лубянку выяснить, что и как. И уж потом, когда обман раскрылся, расстреливать все же не стали.
Какой переполох поднялся в крымском КГБ, и в киевском (и в союзном тоже), когда глава внешней разведки Франции Морис Монте вдруг пригласил в гости ничем не приметного учителя технического труда в сельской школе под Севастополем, с которым он сидел когда-то в одной гестаповской камере, и как Агафонову компетентные органы настоятельно рекомендовали отказаться под благовидным предлогом от поездки в Париж, а пригласить самому главного разведчика Франции не в севастопольскую Любимовку конечно, а в Ялту. И друг по подпольной борьбе, сделавший столь крупную карьеру после войны, все-таки приехал, и как старые друзья встречались, не обращая внимания на рой окружающих их советских штирлицев?.. Его биография легко читается по морщинам на лице. Складки на лбу - следы тех отчаянных раздумий, когда надо было находить выход из очередной смертельной западни. Чуть видимые шрамики на переносице - следы от пыточного шнура-удавки в гестаповской тюрьме "Фрэн" под Парижем. Ее накладывали на глаза и закручивали на затылке, и она врезалась в переносицу. Ему часто приходилось целиться, - морщинки быстро образовались у глаз. Он много улыбался, никогда не унывал, - следы былых улыбок навсегда запечатлелись у губ. А на руках, на запястьях и до локтя, - многочисленные круглые и длинные тонкие шрамики, - от пыток огнем и пилением.
Когда я вижу размалеванное лицо панка, когда пытаюсь поймать пустой взгляд юного наркомана, когда слышу сетования о неприкаянности нынешней молодежи, о том, что не с кого делать жизнь, когда в минуты душевной смуты и сам готов в это поверить, я вспоминаю лицо этого человека, чья судьба - сущий учебник жизни. И какой жизни!.. Порой кажется, что ее сочинил некий романист с неуемной фантазией. Он заставил пройти своего героя сквозь чужие страны, плен, ранения, бои, побеги, концлагеря... Он вынудил его играть со смертью в игры посложнее, чем "кошки-мышки". Но ведь всё это было, и не в романе, а в жизни одного человека.
Подумать только - четыре раза его приговаривали к смерти! Должно быть, он один из самых везучих людей на земле, ибо четыре раза, благодаря случаю, или друзьям по борьбе, или собственному мужеству и смекалке Агафонов оставлял "безносую с носом".
Первый раз его приговорил к расстрелу немецкий военно-морской трибунал во французском городке Ля Боль за разведывательную деятельность. Тюремный фургон, который вез его на расстрел, был отбит товарищами по Сопротивлению.
Второй раз смерть поджидала его в печах Бухенвальда. Лагерные подпольщики сменили ему номер, и он остался жив.
В третий раз он угодил в камеру смертников, как жертва произвола Берия. Спасло его вмешательство честных следователей.
Четвертый раз смертный приговор вынесли ему уголовники в Ухт-Ижмлаге, где он работал завмедпунктом, проиграв его в карты. Пришли ночью к дверям санчасти, стали стучать. Сказали, что в бараке погибает больной. Агафонов, предупрежденный об опасности, все же открыл дверь со словами: "Я знаю, зачем вы пришли. Но долг медика велит мне идти к больному". За смелость его простили.
Среди многих хороших людей, на которых ему так везло на всем протяжении его жизненной одиссеи, были двое французских мальчишек из лотарингского села Ремельфинген, где располагался штрафной лагерь военнопленных. С энтузиазмом Тома Сойера и Гекльберри Финна мальчуганы принялись готовить побег рослого обаятельного солдата, рискуя жизнью несравненно больше, чем их сверстники из романа Марка Твена. Снабдили "Алекса", - так назвался им солдат, - компасом, картой, малой толикой еды, отцовскими брюками, еле опускавшимися Агафонову ниже колен. Но самое главное, они сообщили ему адрес надежного человека, который помог беглецу, как только тот переполз через границу во Францию, связаться с патриотами из Сопротивления. Агафонов помнил ребят всю жизнь, как помнил и того парня -Мориса Монте, с кем превратная судьба подпольщика свела его в одной камере гестаповской тюрьмы.
Прошло полжизни - сорок три года - и вот соратники по борьбе с нацизмом встретились. Можно только догадываться, с какими чувствами ехал Агафонов в Париж, где его встречали оба бывших "Сопротивленца в коротких штанишках" - Жером Мурер и Поль Негло, а также Морис Монте и другие соратники, с которыми их русский друг делил тревожные дни и ночи антифашистского подполья. На перроне парижского вокзала его обняли двое седоватых мужчин - бывшие шахтер Жером Мурер и бухгалтер Поль Негло, оба ныне на пенсии. Они вручили ему маленький компас, почти такой же, какой когда-то передали ему за колючую проволоку. Сказали: "Именно благодаря нашему первому компасу мы встретились сегодня, через 47 лет. Пусть же этот второй и впредь всегда указывает путь к дружбе и взаимопониманию!". Лотарингские Гавроши стали отцами семейств, обзавелись домами и машинами... Агафонов не из породы завистников. Но, думаю, проживая у своих друзей во Франции, ему всё же не раз приходили грустные мысли о собственном семейном неустройстве. В 68 лет человек вольно или невольно подводит кое-какие итоги...
В последние российские годы Агафонов жил в доме, выстроенном в Колпино военнопленными немцами (есть в том своя справедливость!), на 5-ом этаже, где железный трап ведет прямо на чердак. Ему слишком везло на войне. Этого везения явно не хватило на личную жизнь. Жил "примаком", спал по-походному на диванчике. Из личного имущества был разве что шкаф с книгами и бумагами, да кассетный магнитофон, подаренный французскими друзьями с записью песен боевого подполья. Был у него еще старенький костистый ундервуд, с которым ему то и дело приходилось кочевать по тесной квартирке, чтобы не мешать остальным членам семьи. На машинке обрубками покалеченных пальцев он отстукал 900 страниц книги, которую писал по просьбе своих учеников и французского издательства "Мессидор". Книги о борцах-антифашистах разных национальностей, о своей необычной жизни.
У книги такая же трудная история, как и у автора. Агафонов, впрочем, живет не сетуя, не падая духом. Как ни странно, но больше всего для него сделали те, против кого он воевал, - немцы. Или, скажем так, потомки тех немцев, которые отправили его в Бухенвальд, - новые граждане новой Германии. Но Германии-таки, а не России, Франции, Англии или Югославии, хотя в каждой из этих стран осталась толика пролитой им за них крови. Мемуары Агафонова вышли в Берлине на немецком языке. Правда, не под родным названием "Записки бойца Армии Теней", а более, на взгляд издателей, интригующим - "Записки неисправимого дезертира". Обидно, он никогда не был дезертиром, беглецом - да. Но ведь это не одно и то же. Ну да ладно, главное - вышла книга, замечательное завершение его перекрученной жизни.
Конечно, и в России у него было много друзей. Мы пытались помочь ему получить удостоверение "Участника Великой Отечественной войны". Но по всем чиновным заковыкам он был участником второй мировой, а не Великой Отечественной, и в военном билете какой-то военкоматский чиновник недрогнувшей рукой вписал в графе "Бои и походы" - "не участвовал", и еще оскорбительное в своей нелепости - "рядовой необученный". Это он-то, обучивший молодых макизаров, как стрелять из всех видов стрелкового оружия, метать гранаты и ставить мины - "необученный"? О нем писали статьи в газеты и снимали телесюжеты.
Лишь в годы перестройки его стали выпускать за границу на ветеранские встречи. Августовский путч 91-го застал его во Франции. Как представил, что надо возвращаться снова под диктаторскую длань лизичевых и крючковых, так и порвал обратный билет. Решил остаться во Франции навсегда, тем более что встретил там свою бывшую возлюбленную, не беда, что с внуками. Прислал покаянное письмо: "Так, мол, и так - невозвращенец". Бог ему судья, а не чиновник из ОВИРа. Кто-кто, а он заслужил ничем не оскорбленную старость. Переписывались, перезванивались... Он поселился в маленьком городке на границе со Швейцарией. Нынешней осенью я приехал в Париж с твердым намерением съездить к нему в Шаркемон. Но знающие люди сказали, что его там уже нет, куда-то съехал. Не судьба...
Кто расчитал вероятность, с какой москвич может случайно встретить в Париже знакомого севастопольца, с которым не виделся лет пять? И всё-таки я его встретил в православной церкви на рю Дарю. Агафонов выходил из храма после обедни. А мне казалось, что он не верит уже ни в Бога, ни в черта, ни в карточный фарт... В Бога верит. Вот уж правда, как во сне. Мы идем с ним по парижским улицам, тем самым, о которых он столько рассказывал, ностальгически пригорюнясь за кружкой пива в какой-нибудь колпинской "забегаловке". Мы идем мимо его бывших засад, конспиративных квартир, сквозь растворившиеся во времени цепи облав, патрулей. Все пули давно пролетели мимо, все документы давно проверены... И никому на этих улицах уже нет дела до рослого седого русского старика, который еще не разучился улыбаться озорно и весело. Человек не может быть счастлив былым везением, как невозможно утолить жажду воспоминаниями о вчерашнем пире. И я смотрю на него с недоумением: неужели ты вышел из всех своих бухенвальдов, чтобы сегодня брести вот так неприкаянно по городу, в котором никому до тебя нет дела? Перед нами, о, Боже!, бульвар Севастополь. Вот и замкнулся круг!.. Ведь это там, в Севастополе, я узнал от него о существовании этого бульвара, ласкающего русский слух своим названием.
- Констан де ля Люби? - спрашиваю я. Это имя для нас почти пароль.
- Вон там он жил! - понимающе откликается Агафонов. И я в сотый раз выслушиваю историю о том, как макизар Алекс скрывался от гестапо на квартире земляка, бывшего морского офицера Константина Георгиевича Люби, покинувшего родной Севастополь с кораблями Врангеля. В оккупированном Париже Люби работал в полиции, снабжая бойцов Сопротивления бланками паспортов. Но вот что-то новенькое:
- Мы считали его предателем, после того как стали хватать одного за другим наших связных. Но теперь выяснилось, что он не виноват. Их провалила одна женщина... Боже, ну кому теперь легче в этом городе от того, что Люби не виноват? Разве что мне, потому что этот канувший в Лету человек еще до знакомства моего с Агафоновым стал героем моей книги. Как хорошо, что он не предатель! В двадцать лет трудно быть суровым бойцом-аскетом, да еще в Париже. Да еще с агафоновской внешностью героя-любовника. Ему чертовски везло в любви, но обратной стороной этого везения были смертные приговоры. Так было и в том советском лагере (он жил на положении ссыльного), когда комендант лагеря приревновал свою жену к своему подопечному и умудрился пришить к делу Агафонова еще и "измену Родине")...
И все-таки в это невозможно поверить - мы идем по Парижу. Как когда-то хаживали по Севастополю, Москве, Питеру... Мы выходим к вокзалу Гар-дю-Нор. Это название я впервые услышал из рассказов о его парижских приключениях. Мы стоим под стеклянным небом гигантского вокзала. Я уезжаю с Гар-дю-Нор. Он провожает. Но этот вокзал связан только с его немыслимой удачей, которую он пережил здесь полвека назад... Тогда, одетый в форму ефрейтора вермахта, он затравленно озирался здесь в поисках спасения. Фельджандармы проверяли документы, которых у него не было. И вдруг - носильщик с тележкой.
- Слушай, друг, - обращается он к нему. Тот вытаращил глаза: солдат в ненавистной оккупантской форме говорил по-французски как завзятый парижанин.
- Я - дезертир. Мне нужно выйти отсюда незаметно.
- Нет проблем, месье. Следуйте за мной! Рослый ефрейтор деловито зашагал за своим чемоданом, который уезжал на тележке носильщика в противоположную облаве сторону. Носильщик знал на Гар-дю-Нор все ходы и выходы...
Теперь снова проблема: до отхода моего поезда - сорок пять секунд. Турникет перронных билетеров. У меня нет квитанции доплаты за скорость. Мне нужно ехать только этим поездом: меня ждут в Брюсселе именно на нем. Агафонов приходит на помощь:
- Он доплатит в вагоне! - внушает он стражам дороги. И - о, чудо, они пропускают. Мы не успели даже обняться на прощанье. Вскакиваю на подножку, плывущую вдоль перрона. Эхо той давней агафоновской удачи спасает и меня. Увидимся ли когда-нибудь еще?
Ну а Россия? Чем она возместила ему лагерные годы, его дармовой труд в лагерях Коми, на Шекснинской ГЭС, его безвинные приговоры и несостоявшиеся по воле Божией "вышки"? Для военкоматчиков он как был, так и остался "рядовым необученным". Для консульских работников и чиновников МИДа - "невозвращенцем". Вряд ли в ФСБ он числится "изменником Родины". Вряд ли сегодня вообще там знают о нем... Хоть бы пенсию ему перевели в Монморанси, где он живет. Всё на пару лишних пачек сигарет хватит. Медаль к 50-летию Победы прислали бы. Как-никак Победа-то одна на всех, и он немало сделал по ту сторону Восточного фронта. Не перевели, не прислали, не догадались, не захотели знать... Ну, пригласите его хотя бы попрощаться с "исторической родиной". Опять нельзя. Честное слово, он уже больше ничем не опасен... Наверное все же опасен. Опасен для спецслужб всех времен и режимов. Опасен в том смысле, что умеет уходить от неминуемой смерти, опасен своей феноменальной везучестью, чутьем на западню, человеческим обаянием, которое ключом-вездеходом открывало ему многие спасительные двери. Петербург еще был Ленинградом.
Мы бежим с Агафоновым на электричку. Опаздывать нельзя, - нас ждет важное дело, прыгаем в вагон без билетов и тут же нарываемся на контролеров. Я вижу, как меняется его лицо. Это похоже на эсэсовскую облаву: люди в черных фуражках с крылышками на груди, напоминающими нагрудных орлов вермахта, сноровисто блокируют выходы из вагона. Слова "Ваш билет?" звучали столь же зловеще, как "Аусвайс?". В нем снова ожили рефлексы бывалого макизара. Что стоило ему уйти от вагонных ревизоров, когда он проходил сквозь цепи фельджандармов? Агафонов двинулся вперед, и, повинуясь его несокрушимой уверенности в себе, жандарм, пардон, ревизор, отступил, пропустил. Мы прошли!
* * *
Жизнь неуловимого Алекса разворачивалась и на моих глазах, она читалась как ненаписанный роман. За те пятнадцать лет, что мы знакомы, он переехал из Севастополя под Ленинград в Колпино, затем уехал во Францию и поселился у подруги боевой юности - Реми; затем узнал, что это именно она выдала его в гестапо, и перебрался в Монморанси, в русский старческий дом, где доживал свой век цвет белой гвардии. Куда дальше? На Сент-Женевьев-де-Буа? Но он бодр, полон сил и, как всегда, весел. Да, это его зима. Но зимы в Париже мягкие. На гонорар за изданную немцами книгу он купил себе простенький компьютер и подержанный дизельный автомобиль. Можно считать, что связь с внешним миром восстановлена. Как ни чудили французские бюрократы (не хуже наших родимых), а всё же определили бесподданного ветерана Сопротивления в русский старческий приют в Монморанси, что в тридцати километрах от Парижа. Условия -не в пример нашим домам престарелых... Агафонов доволен новым поворотом судьбы.
- Я самый молодой из всех тамошних стариков! - шутит он. Но так было и будет всегда - он моложе своих ровесников и даже иных юнцов.
Николай Черкашин
27.01.2010
Вместо предисловия
Выполнив наказ бывших моих учеников, посвящаю этот труд юности новой России! За помощь благодарю: Е.Болотова, А.Перхова, Н.Черкашина, Ю.Апенченко, кураторий "Шлосс-Эттерсбург" и еванг. пастора Томаса Зайделя, Мартина Станковского, Ярослава Трушновича, Объединение гимназистов 1-ой Русско-Сербской гимназии (Нью-Йорк), Феликса Бернинэ, франц. историка Анри Ногера, экс.министра Кристиана Пино и многих - многих других!
Ein - zwei... Ein - zwei... Links - links...
- Раз - два... Левой... левой..
- Вы слышите грохот кованных сапог? Не забывайте его!!!
1938... 1939... 1940... 1941... Как цунами, орды нацистов обрушились на Европу, не оставляя позади себя ничего, кроме руин, опустошения, варварских расправ и террора. Как мы до этого дошли? Ведь Германия высказывала желание " прийти к дружескому с другими народами урегулированию спорных проблем". - Так публично заявлял Гитлер. Но с 1934 года он уже не скрывает перед своими приближенными, что "Германия не будет настоящей Германией, пока не станет всей Европой". И он маневрирует, чтобы одного за другим нейтрализовать своих противников, поощряемый нерешительностью, скорее пособничеством, правителей западных демократий.
- Значит, я сделаю так и направлюсь сюда...
- Пусть будет так! Делайте, пожалуйста!
- Я веду переговоры, и мы договариваемся... Я подписываю, мы подписываем соглашения, в узком интимном кругу... "Усатик" тоже договаривается, тоже подписывает соглашения:
-"Потерпите, шут вас возьми! Я еще не готов!"
- Наплевать на другие нации и народы! Они не более, как разменная монета. Ein - zwei... Ein - zwei... Links - links... Левой.. левой.. После Австрии и Испании на очереди Чехословакия, Венгрия, Польша, Дания, Голландия, Бельгия. Франция, Румыния, Югославия, Греция, СССР. При каждой остановке на этом "Крестовом походе" парламентарии нового образца двух лагерей ездили друг к другу с визитом, чтобы сказать "Чур меня!" и выторговывать соглашения за счет третьих стран. Беспечность правителей и предательство генералов, или наоборот, если не всё вместе под одной крышей, развернули красный ковер для триумфальных встреч.
"Heili, heilo... Heili, heilo... Heili, heilo, heila... ha... ha... ha... ha... ha.. ha..." - распевали покорители в расстегнутых мундирах, с закатанными рукавами, маршируя в пыли дорог среди полей с недозревшей пшеницей. Из Кубка Коллективной Безопасности, разбитого под удвоенными ударами наших волшебников-подмастерьев на тысячу кусков, народы посыпались прахом. И понадобится много времени и крови, чтобы вновь его склеить. Дряхлые старики и провалившиеся на выборах нежеланные политики всплыли на поверхность мутной водицы, чтобы внедрить "то, над чем они работали так долго, но чего так и не достигли". И "Квислинги" местного производства воздают почести Оккупанту и поют льстивые оды его величию.
"Heili, heilo... Heili, heilo... Heili, heilo, heila... ha... ha... ha... ha... ha.. ha...". Порабощенные народы волей или неволей работают на гитлеровскую военную машину. Экономика оккупированных стран систематически разворовывается. Самые бедные категории населения, кто не в состоянии отовариваться на черном рынке, осуждаются на голодное существование. Собственность, принадлежащая патриотам, арестованным и сосланным на уничтожение евреям, и та, которая являлась государственной музейной коллекцией - художественные картины, стильная мебель, драгоценности и т.д. - была бесцеремонно разграблена в пользу "бонз" 3-его Рейха.
Но чем более оккупированные страны облагались налогами, давлениям, голоду, тем более крепли и разрастались оппозиции и сопротивление. Организованное Сопротивление вооружалось, переходило в атаку. Соответственно возрастали и репрессии со стороны оккупантов. Поезда с вагонами для скота потянули к центру Германии и к ее концентрационным лагерям и лагерям уничтожения патриотов и евреев всех оккупированных европейских стран, цвет их юности и их культуры. Сотни тысяч военнопленных всех стран влачили жалкое существование в бесчисленных лагерях. Под влиянием голода или пропаганды, ведомой некоторыми из них и обвинявших самих же себя, большинство покорилось своим узурпаторам и согласилось на безропотное существование. Малое же число отказалось от рабства. Бежать, чтобы продолжить борьбу стало ее целью. Клыки ищеек, штрафные лагеря, виселица и расстрел, - ничто не смогло заглушить волю стать свободным и продолжить борьбу. Неудачи товарищей служили уроком для тех, кто, несмотря ни на что, так и не отказался идти на риск.
Глава 1. ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ
Они меня жгли огнем, били чертежной рейсшиной и плеткой из воловьих жил, сжимали голову удавкой, накладывая её на глаза и закручивая на затылке - шнур врезался в переносицу; рвали тело щипцами; пилили предплечья расческами; наручниками стягивали запястья; кололи иглами. Боль жгла не переставая. И я думал, что страшнее и больнее им уже ничего не придумать. Но вот они приказали мне раздеться догола и повели по узким, еле освещенным крутым ступенькам, куда-то во мрак, всё ниже и ниже, будто в преисподнюю. С лязгом открыли железную ржавую дверь и с силой толкнули внутрь. Тело, будто кипятком, ожег ледяной пол, но я лежу неподвижно минуту, другую. Потом не выдерживаю и приподнимаюсь. Из зарешеченного окна, за которым темнота, в комнату струится облачко пара. Я догадываюсь, куда меня вбросили: мне рассказывали об этом. Морозильник! Пол, как лед. Я ужаснулся. Потом меня охватила страшная злоба, и я заметался. Вспомнил огонек в холодных глазах следователя, ухмылку на тонких губах: -"На отдых его!"... - Скоты! Нелюди! - сжимал я израненные пальцы. Уперся плечом в холодную серую стену. Во рту было сухо, горело, и я зарыдал без слез от бессилия. Распухшее от побоев тело болело, разбитые в кровь ступни ног приклеивались к бетонному полу. Я начал быстро ходить, но вскоре охватила апатия, вялость. И не было сил их превозмочь. Я присел на корточки, сжался в комок, обхватил колени и уткнулся в них носом. Ноги вскоре заломило. Закололо в ступнях. И тут в дальнем углу я увидел тряпочку. Схватил ее, присел на неё на цыпочках. Долго ноги не выдержали, задрожали от напряжения. Тонкая боль схватила суставы. Лизнул руку языком, - холодная. Тепло медленно уходило из меня... "Ничего не добьетесь!" - сорвался с места и кинулся на ледяной пол всей грудью: пусть лучше погибну от пневмонии! Меня вскоре начала бить судорога, тело изгибалось, корчилось и подпрыгивало в конвульсиях. О бетон разбил подбородок. Снова сел на корточки, наступив кончиками пальцев на тряпочку. Уткнулся в колени и стал ждать конца, медленно прощаясь с собой и с миром. Почему-то вспомнилась бабушка, и я окунулся в прошлое.
* * *
...Она была седой, ее добрые глаза улыбались мне. Интересно: почему в этом мрачном месте именно ее образ всплыл над всеми прочими воспоминаниями и выше всех дорогих мне людей? Не потому ли, что самое раннее детство оставляет неизгладимое впечатление сильнее всех последующих душевных ощущения? А в детстве самым близким человеком была моя любимая бабушка Маня. Ей были мои первые улыбки; она делила со мной мои первые радости, утирала первые мои слезы и облегчала первые горести, мыла изодранные коленки, студила своими губами ожоги, прикладывала медяки на шишки на лбу, водила моей рукой, когда я вырисовывал первые палочки и буквы в тетради, учила читать по слогам. Образ бабушки повлек за собой целый сонм воспоминаний. То отдаляясь, то охватывая меня с новой силой, они чередовались, сталкивались, перескакивая одно через другое как в чехарде, скрываясь в тумане и вновь накатываясь с еще большей силой...
* * *
Сентябрь 1927 года. Поезд мчит меня на Запад. Мне почти восемь лет. Сквозь мутные окна вагона мелькают телеграфные столбы с нитями проводов, проносятся полустанки, стации, села, города. В купе десять мальчишек. Из многих городов Советского Союза нас надо развести по разным странам, - к родителям. Самому старшему из нас двенадцать лет. Среди них я один из Харькова, с Мало-Гончаровской улицы, номер 28/30. Сопровождает нас женщина средних лет с белой повязкой на рукаве. На повязке - красный крест. Помню: были спешные сборы, слезы тетей Веры и Риты, дяди Вали и моей старенькой бабушки, которая еще вчера была для меня единственной мамой. О другой я не ведал. В козырек моей ушанки, с тыльной стороны (чтобы никто не отнял!), прикрепили красную металлическую звездочку, гордость всех моих сверстников с Мало-Гончаровки. Мне приготовили маленький фанерный чемоданчик, куда вложили пачку карандашей, несколько тетрадей и любимые мной журнальчики "Огоньки". Какая-то женщина, хорошая знакомая нашей семьи, ровесница бабушки, тоже пришла помочь снаряжать в дорогу. Обняв меня на прощанье, она приколола мне к курточке свой значок с надписью "Друг дiтей". Очень красивый: на вершине скалы стоят двое, мальчик и девочка, и держат развевающееся красное знамя. Надпись эта была внизу. С тех пор я долго не разлучался с ним, он мне был как бы высокой "правительственной наградой".
- Помни! Никогда не забывай! - последовал мало мне тогда понятный наказ. Потом бабушка привезла меня, вместе с чемоданчиком, в Москву. На первом этаже крытого пассажа, в одной из комнат с табличкой Красного Креста, мне был выдан полотняный мешочек с документами. Его надо было носить на груди. Среди бумаг в нем была книжечка в красном переплете с золотым тисненным гербом с серпом и молотом и надписью "Заграничный паспорт СССР". Я уже умел читать по слогам. Сколько раз я украдкой вынимал эту книжечку, чтобы полюбоваться надписью и гербом! Раскрывая её, растягивал сложенный гармошкой твердый листок бумаги: с него на меня удивленно смотрела пухленькая мордашка. В нашей квартире не было зеркала, но я понял, что это было моим лицом. Во вкладыше было написано много, но мелко. Зато моя фамилия "Агафонов" была выведена красивым крупным почерком и легко читалась. Было много подписей и печатей. Мне запомнилась четкая подпись красной тушью: "Ягода". Когда меня бабушка вновь усаживала в вагон, но на этот раз оставалась на перроне, я сопротивлялся и рыдал, упрашивая её ехать вместе со мной. - Я уже старенькая, останусь здесь. А ты поедешь к маме и папе, пробудешь там немного и вернешься. Я буду тебя ждать!
* * *
Иногда нашу группу ссаживали с поезда, на автобусах отвозили в дома, там купали, кормили, укладывали спать, чтобы затем через день-два отправить опять в путь. Менялись и наши сопровождающие. Первая остановка была в Варшаве. Люди там говорили на мало понятном шипящем языке. Вторая остановка была в Вене. Здесь взрослые разговаривали так, что ни мы их, ни они нас понять не могли. В двух- или трехэтажном доме нас разместили в большой комнате, где стояли кровати и длинный стол с табуретками вокруг. Принесли вареный картофель с подливой и кошелку темного хлеба, похожего на наш ржаной. Но когда мы поднесли его ко рту, в нос ударил какой-то незнакомый запах. Мы, как сговорившись, тут же с отвращением отбросили его от себя. Мы не знали, что такое тмин, и были возмущены: нам дали "провонявшийся" хлеб!!! Затем дружно схватили корзину, подбежали к раскрытому окну и с размаху выкинули её в сад: что с ними зря объясняться?! Всё равно не поймут. Присутствовавшие взрослые даже рты пораскрывали от недоумения. Надо сказать, что возбуждены мы были еще до того: во-первых, нас поразило, что взрослые нас не понимают. Во-вторых, незадолго до обеда, когда нас привели после бани, в нашу комнату забежали какие-то дети. Они стали нас дразнить, кривляться и обзывать, по-видимому, очень обидными словами. Произошла потасовка. Кому-то влепили в глаз, кому-то разбили нос, губы. Кровь! Мы осатанели. С криками: "Полундра! Наших бьют!" мы все разом, гуртом, тесно сомкнувшись плечами, по-бычьи наклонив головы, плотной шеренгой ринулись в бой. Мы погнали перед собой этих выхоленных, в коротеньких штанишках на подтяжках, в длинных белых носках-гольфах с кисточками по бокам, чужих и наглых мальчишек-буржуйчиков. Вышибли их из нашей комнаты, и помчались за ними по длинному коридору...
На крики и визг прибежали взрослые. Порядок вскоре был восстановлен, мы были водворены в нашу комнату. Мы были горды своей победой. И вдруг, этот "провонявшийся" хлеб! Вонючий! Не месть ли это взрослых? Не решили ли они наказать нас за их трусливых мальчишек? Мы объявили голодовку, отодвинули от себя миски. Наша взяла и тут! Нам снова принесли корзину с хлебом и, боязливо поставив на стол, отошли в сторонку. Самый старший из нас, всеми признанный "атаман", подошел, поднес к носу, понюхал: - Нормально, годится! - сказал он, и мы принялись за еду.
* * *
В пути наша группа постепенно таяла. В Будапешт прибыло нас меньше половины. Помню, переехали через широкую реку. Я узнал, что то был Дунай. В сгустившихся сумерках город по обе стороны реки был на возвышенности. Сияя огромным количеством огней, он, как сказочный, словно парил в небе. Ничего другого о нем в памяти не осталось. Потом я в купе остался совершенно один: сопровождавшая высадила последних двух моих попутчиков и сама не вернулась. Была поздняя ночь, когда поезд остановился. В вагоне я по-прежнему один. Было это не то на двенадцатые, не то на четырнадцатые сутки путешествия. Стало холодать. Я скрючился у окна, поджав под себя ноги и вскоре задремал. Возможно, прошло около часу, когда я вдруг, сквозь дрему, ощутил, что в купе кто-то посторонний. Я открыл глаза: двое штатских, наклонившись, светили фонариками под сидениями. Позже я узнал, что какой-то диверсант Матушка развлекался тем, что подкладывал в пассажирские поезда "адские машины" - бомбы с часовым механизмом...
Луч фонарика осветил меня, и штатский от неожиданности привскочил. Уставился на меня и второй. На языке, чем-то напоминавшем русский, но грубоватом, они обратились ко мне с вопросами. Вместо ответа я показал им на свой магический мешочек на груди: я уже знал, что в нем находится то, чем так интересуются взрослые. Один из штатских вытащил документы и стал их рассматривать. Какая-то из бумаг, видимо, что-то ему разъяснила: - Београд, Шуматовачка улица № 107. Глянцев... - прочитал он вслух, обращаясь к своему напарнику. Оба оказались полицейскими. Долго советовались, потом, взяв меня за руку и прихватив чемоданчик, вышли из вагона. Стояла гадкая осенняя погода. Моросил мелкий противный дождик, рывками дул пронизывающий ледяной ветер, качая фонари, тускло освещавшие перрон. Позже я узнал, что этот ветер называется "кошавой". Мы вышли на привокзальную площадь, где ждало пять или шесть тосковавших фиакров-извозчиков. Один из них знал, где находится Шуматовачка. Мы сели и поехали. Город освещен плохо. Некоторые улицы были вообще без фонарей. Мостовая из грубо отесанного камня, много ям, рытвин. Цокали копыта лошадей, фиакр грохотал. Иногда он, переваливаясь с боку на бок, одним из колес так проваливался в яму, что казалось, вот-вот опрокинется. Называют такую мостовую турецким словом "калдрма". Созвучие слова как нельзя лучше соответствует чему-то, что трясет, дребезжит, выворачивает кишки наизнанку... Скоро эта треклятая калдрма кончилась, но от этого не стало лучше: грунтовую дорогу размыло, её избороздили выбитые колесами колеи и размытые водой канавы. Нам надо было свернуть в еще более узкую, совершенно неосвещенную улицу, но тут извозчик наотрез отказался везти дальше: по-видимому, понял, что пассажиры - полицейские, а они, как известно, никогда не платят. Долго переругивались полицейские с извозчиком, но тот был непреклонен, как скала. Нам пришлось вылезти и продолжить путь пешком. Спотыкаясь и чертыхаясь, погружаясь по самые щиколотки в густую липкую грязь и с трудом выдергивая из нее ботинки, мы медленно продвигались вперед. Минут через двадцать добрались наконец до нужного нам номера 107. Высокий дощатый забор с узенькой калиточкой. Что за забором - не видно. У калитки на проволоке - деревянная ручка. Один из полицейских подергал ее. Где-то вдали послышался приглушенный звук колокольчика, и замер. Полицейский подергал еще несколько раз, более энергично. Безрезультатно: к нам никто не выходил. Тогда он перелез через забор и с той стороны отворил калитку. Тропинка, устланная кирпичом, вела куда-то в темноту. Слева от неё шел соседний забор. Справа угадывалась посадка каких-то деревьев. Вскоре лучи фонарика выхватили из темноты несколько шатких ступенек и покривившееся крыльцо. Полицейский забарабанил в дверь. Сквозь дверные щели завиделся свет.
- Кто там? - послышался женский голос.
- Полиция.
Сердце замирает: как меня встретят?
"Не плачь, Сашочек! Тебе приготовили много - много игрушек. Целый сундук! Там и самолеты, пистолеты, барабан... чего только там нет! А главное, ты будешь у папы с мамой!" - вспоминаются прощальные слова бабушки. Так я и узнал, что у меня есть еще одна мама, есть и папа. Какие они? И вот я здесь. За дверью - они! Дверь открыли. Перед нами стояла незнакомая высокая и очень худая женщина. В волосах - бумажные папильотки, на плечи накинут халат. Бледно-желтым неприветливым слабым светом горела в сенях маломощная лампочка, скудно освещая убогое убранство помещения. В конце сеней была приоткрыта дверь в освещенную комнату. Там виднелась кровать, на которой кто-то лежал.
- Ваша фамилия? - понял я вопрос полицейского.
- Глянцева.
- Точно! - и полицейский без обиняков сообщил, что доставил ей сына. Только тут женщина меня заметила. Она как-то странно замахала руками и повалилась набок. Полицейский еле успел ее подхватить и усадить на стул. Из видневшейся через приоткрытую дверь кровати послышался мужской голос. Скорее, то был стон. Со вторым полицейским мы подошли ближе к двери, но в комнату не вошли: на наших ботинках были огромные куски грязи. Тут женщина пришла в себя и, поддерживаемая первым полицейским, подошла ко мне.
- Это твои мама и папа! - понял я торжественно произнесенные слова полицейского, указывавшего мне на женщину и на лежавшего в кровати мужчину. Соблюдая долг вежливости, усвоенный еще в Харькове у бабушки, я поздоровался:
- Здравствуйте, товарищ мама! Здравствуйте, товарищ папа! Мама снова чуть не упала в обморок, а полицейские громко расхохотались. Таким было моё прибытие в эту, как пелось в одной из песенок, "страну, страну чудес - королевство СХС (королевство сербов, хорватов и словенцев).
* * *
В конце Первой мировой войны мой отец, Михаил Саввич, был тяжело ранен на русско-германском фронте. Лечился в ялтинском военном госпитале, где сестрой милосердия работала мама, Мария Анатольевна. Мне было уже несколько месяцев, когда перед своим отступлением "белые" генерала Врангеля первым делом эвакуировали госпиталь, а вместе с ним и моих родителей. Видимо, брак свой они зарегистрировать не успели, и я, оставшись с бабушкой в селе Кореиз, под Ялтой, получил метрическое свидетельство или на ее фамилию, или на девичью - мамы. Много операций перенес отец, и сейчас лежал после очередной: из бедра удалили еще несколько осколков шрапнели, а кость всё гнила. С большим трудом накопив необходимые средства, им удалось выписать меня через Международный Красный Крест. Зарабатывали они на жизнь разведением рассады цветов и саженцев деревьев, а также разбивкой садов и парков. Одновременно, оба учились на агрономическом факультете. От бабушки часто приходили посылки и бандероли: мне - с книгами, отцу - с лекарствами. Ему собирались, было, ампутировать ногу, но лекарства, присылаемые бабушкой из харьковской гомеопатической аптеки, спасли ее. Со свойственным детству эгоизмом и уже крайне принципиальный, я был обижен и раздосадован тем, что никакого для меня "сундука с игрушками" у родителей не оказалось. Я не понимал, в какой бедности они жили и с каким трудом сводили концы с концами в этой чужой стране. Примерно через месяц, после проверочного экзамена, меня приняли в младшую группу эмигрантской начальной школы. Долго пробыть в ней не довелось: несмотря на запрет родителей, я неоднократно демонстрировал перед сверстниками свой красивый советский паспорт и распевал песенки, выученные в Харькове. Одна из них особенно приводила в неистовство учителей школы:
"Во всем, что строим заново, Срубив старьё сплеча, Во всем заветы Ленина, Заветы Ильича! Так рушьте же, так рушьте же Всё старое смелей! Так стройте же, так стройте же Всё новое скорей!"Зависть у одних, негодование у других ребят вызывали мой значок "Друг дiтей" и красная звездочка. Хоть и прятали их родители, прятали и паспорт, но я их находил и опять брал в школу. И никто не мог их вырвать из моих рук, - такой я поднимал вопль. Возможно, именно потому, что эти реликвии вызывали такое негодование, они и были для меня высшей гордостью. С еще большей настойчивостью я злил ими людей. И они прозвали меня "большевичком". Для них, видимо, это было страшным ругательством, а для меня - высшей гордостью. Всё глубже и глубже разрасталась трещина в отношениях между мной и учителями. Наконец меня, как несносного, с треском исключили из школы. Не скажу, чтобы это было неожиданным для родителей и чтобы огорчило их. Однако, перед ними встала новая проблема: как всё-таки дать мне образование? Часто вспоминалась моя Мало-Гончаровка, вспоминались наши игры в "казаков-разбойников". Но то были "наши" казаки, "наши" разбойники. Хотя бы потому, что все были с нашей и прилегающих улиц, тех, что под Холодной Горой. А здесь были чужие, ненавидящие меня и наше. Хоть и ребенок, но я отлично ощущал это. Мы на Гончаровке жили намного бедней, чем здешние "барчуки". Мои родители так их и называли. Впрочем, в минуты сильного гнева, звали они так и меня: возможно, неутихавшие во мне претензии на "сундук с игрушками", которого у них не было, сильно ранили их. К тому же, среди эмигрантов мои родители оказались в числе бедняков, ввиду инвалидности моего отца. Здесь царил закон: "Богатому все карты в руки!".
На следующий год, после домашней подготовки, я сдал экзамен "экстерном" и поступил прямо в Русско-Сербскую гимназию. Число сверстников увеличилось, и я перестал чувствовать себя одиноким. Мне стали оказывать внимание и взрослые. Они интересовались моими рассказами о жизни в Харькове, а еще больше их внимание привлекли книги и журналы "оттуда", которые продолжала высылать дорогая бабушка. Родители и я охотно переводили им отдельные абзацы, рассказы из советской литературы. Эти взрослые тоже называли меня "большевичком", но это звучало по-иному, не так, как в начальной школе. Скорее, это звучало ласково, нежно... - Ну, как успехи у нашего маленького "большевичка"? Чем он нас сегодня порадует? - говаривали они, когда я приходил в гости, и тут же угощали меня всякими сладостями и любимыми орехами. Из книг, что я получал, мне запомнились: А. Дуров- "Мои звери", Арсеньев - "Дерсу Узала" и "По Уссурийскому краю", М. Зощенко - "О чем пел соловей", Н. Островский "Как закалялась сталь", М. Горький - "Мать" и, конечно, "Огоньки".
Я увлекся чтением. Часто приходилось обманывать родителей: под учебником им случалось находить прикрытую им постороннюю книгу. За это пороли меня нещадно. Чтение в ущерб учению не могло не сказаться на моих гимназических успехах. Но разве можно устоять перед романами А. Дюма, В, Гюго, Л. Буссенара, Д. Лондона, В. Скотта, Жюль Верна, Конан Дойля, Кипплинга, М. Твена, Хаггарда!? А их так много было в гимназической библиотеке, этих чудесных писателей! Надо торопиться читать. Читать и читать! Меня охватила жажда приключений, романтики, душевного благородства, бескорыстной и самоотверженной дружбы...
Я этим жил, витал в мечтах. И... даже сам занялся сочинительством: начал писать стихи! Их вывешивали на стендах в нашей гимназии, за них мне давали премии. А за сочинение на тему не то "Не единым хлебом жив человек", не то "Настоящее - сын прошлого и отец будущего", мне была присуждена высшая премия - пошитый по мне отличный суконный костюм! Первый за всю мою жизнь!
* * *
На фоне разгоравшегося в мире кризиса дела в моей семье шли всё хуже и хуже. Мне было уже четырнадцать лет, когда одно событие в корне подкосило бюджет семьи. Один министр, до сих пор помню его фамилию - Узунович, заказал родителям парк в своей огромной усадьбе. Больше месяца вычерчивали и раскрашивали родители различные варианты планов: стиль французский - с правильными геометрическими фигурами клумб и аллей; стиль английский - произвольные витиеватые формы; стиль итальянский - со всевозможными альпинумами и фонтанами... Один из вариантов был принят. Узунович уплатил аванс и стоимость деревьев и цветов. Почти четыре месяца трудились мы всей семьей, наняв в помощь и нескольких поденщиков-безработных. Копали грядки, сеяли траву, высаживали рассаду цветов, саженцы декоративных деревьев - туй, буксусов, елей, тополей, кленов, разбивали аллеи, посыпали дорожки гравием, трамбовали... Парк оказался на диво! Отец оделся попарадней и отправился к Узуновичу за расчетом.
- А платить я не буду! - заявил неожиданно министр.
- Как это, не будете? Вы же подписали контракт!
- Да, подписал. Ну и что? А платить не буду. Отец всё еще думал, что Узунович просто шутит: - Тогда мне придется подать на вас в суд!
- Не подадите. Вы же знаете: никакой суд меня не осудит. Я же министр!
- Может, вам что-нибудь не понравилось? - пробовал что-то понять отец.
- Нет, всё отлично. Даже здорово! Мне уже завидуют, спрашивают, кто это всё сделал. Так что я вам создал отличную рекламу. А за рекламу тоже надо платить. Будем считать, что вы уже заплатили... той суммой, что я вам был должен. Вот мы и квиты!
- Но в договоре нет и слова о рекламе!
- Хватит бесполезных разговоров! - отрезал министр: - А будешь шуметь, прикажу вот этому жандарму выставить тебя. Единственное, что ты можешь, это - ненавидеть меня. Но это - твоё личное дело, меня оно не интересует. Проваливай!
Итак, всей семьей мы почти полгода проработали впустую. Не менее нас возмущенные поденщики, проявили рабочую солидарность, отказавшись от части своего заработка.
* * *
Европу лихорадило. Болезнь, как зараза, распространялась всё дальше и дальше. То был КРИЗИС. Он пришел из Нового Света- из Америки, этого Эльдорадо переселенцев, и стал поражать Европу, которая благодаря заверениям политиков и шансонье, распевавших "Всё хорошо, прекрасная маркиза!..", считала себя неуязвимой. Во всех государствах, не пощадив ни единого, безработица дошла до критической отметки. Кризис охватил все отрасли экономики, за исключением завидно преуспевающей военной промышленности. В Бразилии кофе стали сжигать в топках локомотивов и ссыпать в океан. Овощи и фрукты закапываются в ямы. Молоко цистернами выливают на асфальт. Пахотные земли забросили, предоставив их перею и вьюнку, прочим сорным травам. Одновременно, население лишается покупной способности и обрекается на полуголодное существование. В январе 1933 года Шикельгрубер-Гитлер стал канцлером Третьего Рейха. Оппозиционной прессе тотчас же заткнут рот, многие партии запрещены и распущены. Коммунистам и социал-демократам запрограммирована Варфоломеевская ночь. Но Лейпцигский процесс, на котором Димитров обвинялся в поджоге Рейхстага, обернулся для Геринга конфузом. Тем не менее, в Рейхе, близ Мюнхена, у городка Дахау, был построен первый немецкий концентрационный лагерь. В Югославии, как с 1931 года (согласно энциклопедическому словарю "Лярусс", а мне и югославам известно, - с 3-го октября 1929-го!) стало именоваться Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, тоже стало неспокойно. Почувствовав приближение опасности с севера и с запада, она спешит заключить с соседями "договора о взаимопомощи и ненападении" - союз "Малую Антанту". Одна за другой следуют неудачные попытки покушений на нашего короля Александра 1-го. И вот, он отправляется во Францию, чтобы заручиться ее поддержкой и гарантией...
Помню, как ранним утром 10 октября 1934-го года я вынул из почтового ящика листок с экстренным выпуском газеты "Политика", № 9482. Там сообщалось о чрезвычайном происшествии в Марселе: “...Из толпы, приветствовавшей кортеж правительственных машин, выскочил какой-то субъект, вскочил на подножку автомобиля с королем Александром и французским министром иностранных дел Луи Барту и разрядил в них свой парабеллюм. Король смертельно ранен, Барту убит наповал. Наш посол во Франции ринулся к месту происшествия и услышал последние слова короля: "Чувайте (берегите) Югославию!". В последующем коммюнике сообщалось: “...подбежал и другой наш министр. Ему удалось разобрать продолжение последнего пожелания короля: "..и дружбу с Францией!"..."
* * *
Для нашей семьи это было большим горем, так как мы любили Александра. Именно по его Указу мы стали в 1928 году подданными Королевства СХС, полноправными гражданами страны, ставшей для нас второй Родиной. Это он разрешил прокат советских фильмов на экранах Белграда. Первым был фильм "Броненосец Потёмкин". {1}. Уже давно поговаривали о необратимости происшедших в России перемен. Всё же фильм ожидали с неким недоверием и опасением, а он, вопреки этому, вызвал совсем другую реакцию, - у многих открылись глаза: "Вот, почему вспыхнула революция! Вот, какая она, революция!". В то же время, зрители, в числе которых был и я, в Черноморской эскадре, в тумане набросившейся на "Потемкин", увидели военно-морскую мощь Советского Союза, с которой придется считаться в случае возможного конфликта{2}. При просмотре фильма, "маленкий большевичок", дремавший во мне, вдруг проснулся при сцене на баке корабля, когда матрос Вакуленчук, борец за справедливость, в поединке с усмирителями победил, заставив их опустить оружие. Конечно, с точки зрения кадровых офицеров каждое проявление недовольства со стороны им подчиненных считается нарушением дисциплины, "бунтом", и карается соответственно, вплоть до применения оружия. А этим и пользуются, чтобы безнаказанно кормить залежалыми и червивыми продуктами. И я видел в протесте Вакуленчука справедливое напоминание, что он - человек, хоть и подчиненный, и что об этом никто не должен забывать! Слезы лились у меня при сцене на пирсе. Я громко негодовал, видя, что творилось на Одесской лестнице. С ужасом и болью следил за катящейся вниз детской коляской... С детским энтузиазмом я вскочил с сидения и, как бы озвучивая матросов на экране, кричал: "Ура-а-а!...". Настоящий экстаз охватил меня! {3}
То был удивительный, совсем новый для нас фильм! Что мы, белградцы, смотрели раньше? - В основном, американскую продукцию "Парамаунта" или "Метро Голдвин Майера" со львиной мордой: про ковбоев Тома Микса, Тим Мак Коя; комедии с Бастером Китоном, Патом и Паташоном; серии с Тарзаном... Были и фильмы с Чарли Чаплиным. Особенно мне запомнился фильм "Модерн Таймз" ("Огни большого города"), - о горестях маленького человечка в огромном, чуждом для него мире, стоически и с юмором преодолевающего все невзгоды. После немого "Броненосца Потемкина", появился первый советский звуковой фильм "Путёвка в жизнь", произведший сенсацию не только в Югославии, но, думаю, и во всем мире. После гражданской войны, а еще больше после раскулачивания и насильственной коллективизации, осталось огромное количество беспризорных сирот. Они стали большой проблемой для общества. Фильм рассказывал о попытке ее разрешить, об ее успехах и неудачах. Всей душой я переживал за двух положительных героев - "Кольку-Свиста" (как раз к тому времени я ушел из дому, и моя судьба была очень схожа с его судьбой) и Мустафу, характер которого полностью совпадал с моим: самые трагические моменты в жизни он всегда был готов обернуть в шутку... "Мустафа дорогу строил, Мустафа ее любил. Мустафу Жиган зарезал, Колька-Свист похоронил..." Чудесный фильм! Его лейтмотив, если можно так сказать, отобразился в печальной песне беспризорных, которую запела почти вся Югославия: "Позабыт, позаброшен с молодых юных лет, Я остался сиротою, счастья доли мне нет!.."
С пятого класса гимназии мы стали изучать латинский язык. Фраза "Homo homini lupus est" (Человек человеку волк) была опровергнута "Путевкой", борьбой за человека. Страна СССР, как нам тогда показалось, позаботилась о судьбе детей, лишенных всего самого дорогого (а по чьей вине? - это я спрашиваю себя сейчас), чтобы сделать из них достойных граждан. Наперекор недоброжелательным суждениям некоторых русских эмигрантов, считавших, что Советская страна это - "страна уркаганов и только", Югославия стала видеть и слышать о великих достижениях науки и техники в СССР, таких как строительство Днепрогэса, как подвиг экипажа воздушного шара "Сириус", достигшего рекордной для того времени высоты в 22.000 метров, как рекорд Чкалова... А рекорды следовали один за другим. Всё это доказывало, что в молодой стране творится что-то необычное.
* * *
После убийства Александра 1-го, тайна террора, его организаторы и истинные мотивы на долгие годы оставались нераскрытыми. В обезглавленной Югославии начались интриги и борьба за власть. Всевозможные слухи наводнили страну. Король Александр успел, якобы, оставить завещание в трех экземплярах: один - у королевы Марии, второй - у патриарха Варнавы, третий - у принца Павла. По этому завещанию, якобы, до совершеннолетия наследника Петра, власть должна принадлежать... и тут, вопреки коммюнике "Политики", слухи расходились: одни говорили - патриарху, другие - вдовствующей королеве, третьи - принцу Павлу. Наконец, появилось официальное примирительное сообщение: править будут все трое. Народ начал успокаиваться. Но... принц-регент Павел быстро прибрал власть к своим рукам, Патриарх Варнава, как говорили, был отравлен. Королева Мария бежала к своей матери в Румынию. Под маркой укрепления порядка и дисциплины, в стране расцвело насилие. До предела разрослись шовинистические настроения. Апогея достиг так называемый "хорватский вопрос".
* * *
После случая с министром Узуновичем, у родителей опустились руки. Они стали раздражительны. Семейные ссоры доходили до бурных сцен. Произошел разрыв: отец уехал в Косовскую Митровицу работать на руднике. А меня сразило чувство первой любви, я стал поздно возвращаться домой. Мать предупредила: "Придешь позже десяти вечера, - в дом не пущу!". И вот передо мной закрытая дверь, - я задержался на именинах. Я не долго стучал. Повернулся и пошел спать на штабеля кирпича заброшенного завода. С утра готовил уроки у своего одноклассника. Когда там все садились обедать, "на обед" уходил и я. А с двух часов - занятия в гимназии. И опять ночь - под открытым небом, иногда под моросящим осенним дождиком. Вскоре родители одноклассника (разве скроешь что-нибудь от взрослых!) догадались, что со мной произошло, и приютили у себя. Вот почему, как я уже упоминал, в жизни и проблемах Кольки-Свиста я увидел собственные. Кроме семьи одноклассника Яши Орлова, встретился на моем пути и еще один взрослый - студент Иван Семенович Светов, по кличке "Акела" (волчица из романа Кипплинга "Маугли"). Приняв меня в скаутскую организацию, которой руководил, он не дал мне поскользнуться. Об этом можно написать целый роман, роман о том, как мальчишки 12-15-илетнего возраста, вроде Тома Сойера и Гека Финна (и меня, конечно), начинают и благополучно продолжают самостоятельную, ни от кого не зависящую жизнь, работают на всевозможных работах, одновременно учатся, заканчивают гимназию и поступают в университет. Конечно, не всегда и не всё бывало легко и гладко, бывали и неудачи и... страшный голод. Как ни говори, а жизнь была очень неустроенной, полной периодов голода и ненадежного крова над головой.
В гимназии меня приметил старшеклассник Никита Ракитин и его друг - студент Прокопович. Определенную роль в этом сыграло то, что я был выходцем из Советского Союза. Я стал Посещать руководимый ими негласный кружок, где ознакомился с "Коммунистическим Манифестом", успел прослушать несколько глав из "Капитала". Многое открылось для меня нового и неожиданного. Я узнал, кто такие эксплуататоры и кто эксплуатируемые. Откровением для меня стало, что труд - товар, который продается и покупается... Администрация гимназии разогнала кружок, всех участников исключили. Не знаю, какой стала судьба Прокоповича, но Никита Ракитин пробрался в Испанию, в Интербригады{4}. Лишь благодаря усилиям моего классного руководителя Е. А. Елачича, которому тоже многим обязан, на следующий год меня снова приняли в гимназию. И опять Е. Елачич!{5}. Он заметил мои способности к иностранным языкам, и за его счет я обязан был брать дополнительные уроки у преподавательницы французского языка. А это в моей жизни сыграло решительную роль. Кроме того, Елачич часто приглашал меня к себе на Шуматовачку улицу (по соседству от нас), где собиралось по нескольку гимназистов: кто в шахматы играл, кто читал редкие книги из библиотечки преподавателя. Перед нами на столе всегда было блюдо с орехами и сладостями...
Елачич относился к поистине настоящим педагогам, педагогам по зову сердца и души!.. Временное исключение из гимназии заставило меня отправиться к отцу, с которым всегда поддерживал хорошие отношения. Он заведовал складом взрывчатки на горизонте медного рудника - английской концессии "Трепча Майнз Лимитед". Был я рослым, крепким парнем, и с радостью окунулся в рабочую жизнь. Что может быть лучше и слаще, чем зарабатывать собственными руками! "Шлам" - масса пустой породы после химического извлечения меди из руды-пирита - высыпался в отстойники и оттуда его надо было грузить на вывоз. Из взрослых не было желающих работать на этом участке с ядовитыми газами серной кислоты, и для меня всегда находилось вакантное место. Работать полагалось в противогазе, но разве в нем много наработаешь? Пары были тяжелые, стлались у ног. Взмахи совковой лопатой поднимали их, и я придумал свой способ: подпрыгивая, набирал полную грудь воздуха, потом сгибался и успевал раза два махнуть лопатой. За вредный и опасный труд платили даже больше, чем подземным рудокопам. Волдыри и ожоги снижали производительность, но для такого парня, как я, всё это было романтикой. Здесь я приучился превозмогать боль от ожогов. Отец, как и все рабочие рудника, был членом профсоюза "Югорас" (Югославского рабочего союза). Стал им и я. Иначе и быть не могло: "Югорас" облегчал существование своих членов, предоставляя им право на кредит в продовольственном магазине.
Каким наслаждением было окунуть после работы свое натруженное и обожженное тело и промыть кровоточащие ноздри и потрескавшиеся губы в чистых и холодных водах реки Ибар! А рыбалка! По выходным мы с отцом ходили на реку. Мимо часто проплывали байдарки с одним или двумя юношами. Отец пояснил: - Это - немецкие туристы. По-моему, они сочетают приятное с полезным: охотно вступают в контакт с местным населением - албанцами, босанцами, курдами, здешними немцами... Сверяют по своим картам рельеф. Очень их что-то Югославия заинтересовала! Я знал, что отец недолюбливает "швабов", как именовали здесь немцев. Не ранение ли, не инвалидность ли тому причиной?
- При чем тут инвалидность? Война есть война. Без жертв, ран, плена она не бывает. Но войны бывают разные, и по-разному в них вскрывается зверь в человеке. Вот смотри: мне дали почитать вот эту книжицу. И я узнал, к чему готовит, к чему призывает, чему учит их "фюрер". Получается, что германская раса - высшая. Остальные народы - удобрение для нее. А это - призыв к реваншу, к уничтожению и порабощению! Я согласен, что Версальский договор не решил проблем должным образом. Может, даже несправедливо ущемил побежденную Германию, интересы ее народа. Как теперь говорят - лишил жизненного простора. Но кто первым применил такое варварство, как их ядовитые газы иприт, фосген?! Сколько из-за этого погибло людей, сколько осталось калек на всю жизнь! Но наказать надо было верхушку, а не весь народ... Я с интересом полистал "Майн Кампф" (Моя Борьба).
- Боюсь, что эта книжка станет немецкой библией, верней - ее антиподом! - горько покачал отец головой.
* * *
Зарабатываемых на руднике денег хватало лишь на первое время. А дальше... дальше мне помогали различные благотворительные организации, - не без посредничества моего классного руководителя Елачича. Помогал и школьный родительский комитет. Из организаций, таких как "Армия Спасения", я получал время от времени талоны на ночлежки и на бесплатные обеды. А обеды эти были с неограниченным количеством хлеба! Что еще нужно для полного счастья? Кров, побольше хлеба к двум малюсеньким котлеткам с гарниром! А если удавалось наскрести и на национальное рабочее блюдо "Чорбаст пасуль са ребарцима" (густая фасоль с кусочком копченой грудинки) или чечевицу, то я был в полном блаженстве, и мое тело благословляло такой сверхудачный день с прямо-таки "лукулловским пиршеством"! И я вспомнил шутку отца, - ответ на вопрос "много ли человечку нужно?": -"Ножку цыпленочка, ножку теленочка, - вот и сыт человечек! А для утоления жажды бочоночка пива достаточно!".
Иван Светов-"Акела" великодушно отдал мне свою старенькую пишущую машинку. Я быстро научился печатать и вокруг меня собралась группа ребят помоложе. Мы создали редколлегию нашего собственного подростково-юношеского журнала. Сами были его литработниками, художниками, печатниками, распространителями-продавцами. Посылали его и заграницу. Однажды сам Олег Иванович Пантюхов, старший русский скаутмастер (Нью-Йорк), прислал нам в конверте купюру в пять долларов! Правда, мы не знали, что с ней делать, и она была у нас вроде реликвии.
Сева Селивановский, с тринадцатилетнего возраста сотрудничавший с нами, был поистине отличным художником. Он не просто иллюстрировал, но и, научившись у отца, рисовал "стрипы" - приключенческие романы в рисунках, бывшие тогда в большой моде. Тираж журнала - 40-50 экземпляров, сколько позволяла шапирографная лента. "Типография" наша долгое время размещалась в комнатушке, где я жил - в семье Шурика Акаловского на Пальмотичевой улице, что у "Байлоновой пияццы". Само содержание журнала-ежемесячника было наполнено нашими раздумьями о жизни настоящей и будущей, видевшейся нам в самых радужных красках. Оптимизм, веселые приключения, викторины-загадки, "Знаете ли вы, что...", философские изречения и мысли, анекдоты, собственные сочинения о красоте природы, ночевках в лесу у костра, в снегу и... наши поэтические пробы, - всё это выливалось на его страницах.
Большим подспорьем к раздумьям было для нас два тома Л. Н. Толстого "Круг чтения". Особенно рассказ "Суратская кофейная" (если не исказил название). Сюжет: посетители кофейной спросили у туземца, сидящего в углу, что это он так старательно вырезает? - "Вырезаю себе бога из священного дерева. Буду его носить, и он будет меня охранять". Его подняли насмех: - "Разве может человек делать себе бога? Бог сам Творец!". Поднялся спор. Люди разных вероисповеданий стали каждый превозносить свою религию, утверждая, что она - единственная истинная. За разрешением спора обратились к капитану. Тот ответил притчей: "Слепой утверждает, что-де свет не существует, нет и солнца, так как он их не видит. Безногий уверен, что солнце - огненный шар, регулярно поднимающийся из-за той горы и, пройдя свой путь по небосводу, спускающийся вон за той. Абориген, никогда не покидавший своего острова, утверждает, что нет, это не так: солнце выныривает из океана, а к вечеру опять опускается в него... -"Так вот, - закончил капитан, - Я проплавал по всем морям и океанам, убедился: не солнце ходит вокруг земли, а земля и другие планеты вращаются вокруг него! Солнце есть, но каждый видит его и понимает по-своему!". Отсюда и обложка нашего журнала - парящее в лучах "выныривающего из океана солнца" название "Вожак".
Велся строгий финансовый учет. На собранные от продажи деньги покупали бумагу, ленту, шапирографные копирку и чернила, краски, глицерин. Выплачивались и "гонорары", которые большей частью шли в общую кассу на приобретение необходимого для будущтх совместных походов - круп и консервов. Шатры брали у наших скаутмастеров - Юры Андреева или у Андрюши Михонского... "Хозрасчет", двойная бухгалтерия, "самоокупаемость" были у нас на высоком уровне, хоть сами эти термины были нам неизвестны. К ним нас привела великая учительница - Жизнь. А она, наша жизнь, была увлекательнейшей, интересной, хоть подчас и полуголодной. Неважно, что мы ходили или в брезентовых скаутских штанишках, или же в самых дешевых "пумпхозах" - хлопчатобумажных, немецкого производства, штанах чуть ниже колен, выдерживавших от силы полгода. У одного Севы были чудесные австрийские шортики из "чертовой кожи" на подтяжках. Но ведь он же - наш художник!{6}
Походы... Лагеря летние, лагеря зимние - палатки в снегу... Шагает кучка ребят в 10 - 15 человек. Бодро, весело, с песнями... Излюбленным местом была гора Авала, в двадцати километрах от Белграда. За нею находилась большая полянка среди вековых буков и дубов. Рядом - источник с ледяной водой. Вывешивали "приказы" - распорядок дня и ночи, с распределением должностей и дежурств: кому сегодня поваром, кому - ответственным за порядок и чистоту в лагере, кому и в какие часы дежурить ночью у костра... Полная самостоятельность, без нудных подсказок со стороны взрослых! Каждый из нас становился то ли "краснокожим", то ли Тарзаном... Я и некоторые другие, как Шурик Акаловский, предпочитали сплетать себе ложе в кроне деревьев, повыше над землей, нечто вроде гамака, и там спать. Днем - сигнализация флажками, свистками, игры, хождение по азимуту - по компасу и карте... Вечером, у костра - настоящие концерты-представления с интермедиями, миниатюрами, пантомимами, песнями... И конечно, с обязательным индейским жертвенным танцем, с "Журавлем" (частушками)... Вспоминаю и улыбаюсь, и бодрею: как прекрасна жизнь! А ведь, бывало, вставали в Белграде в четыре утра, чтобы проделать этих 20 км пешком, поиграть на Авале в футбол, воллейболл, другие игры, побыть хоть немного (если поход однодневный) у костра, и поздно вечером вернуться домой! Как приятно было чувствовать, что наливавшиеся мышцы "мешают ходить"! Участвовали мы и на "джембори"- международном слете скаутов в Топчидере. Затем нашу организацию оживили и прибывшие из Сараева скаутмастеры Б. Мартино, В. Пелипец и Малик-Мулич; в противовес нашему, появился и их журнал "Мы", отпечатанный на ротаторе.
* * *
Закончив гимназию, я поступил на медицинский факультет Белградского университета. На первое время снял комнатушку в трущобном районе Ятаган-Мала. Казалось, начинается светлый путь обучения с приобретением твердой, благородной специальности на благо людям, путь, который избрал сам и по которому пройдет спокойная, полезная жизнь. Но вот пронеслись продавцы газет. Размахивая ими, они неистово выкрикивали: "Германия напала на Польшу... Она обвиняет Польшу в...". Я схватил газету. Как-то неясно, сбивчиво объяснялось, что в отместку за польскую диверсию, немецкие войска вошли в Польшу. На следующий день было опубликовано заявление Италии, что она- -де "остается вне войны". Великобритания и Фрнция требуют немедленного прекращения военных действий и вывода немецких войск из Польши. По радио из Берлина прорывается голос Гитлера. Говорит он быстро, сильно картавя и часто до выкриков повышая голос. В ответ - рёв многочисленной толпы, её дружные и частые восторженные возгласаы "Зиг хайль!". Это действует устрашающе. Будто огромная стая тысяч озлобленных волков гонится за тобой, вот-вот настигнет, а у тебя или совсем нет сил, или они на исходе, и ты еле-еле, на последнем дыхании, уносишь ноги...
Новые сообщения: 3-го сентября 1939-го, Великобритания объявляет ультиматум Германии. То же, несколькими часами позже, делает и Франция. В душе облегчение: теперь Германия одумается и конфликт будет ликвидирован. Нет, ультиматум не достигает цели, и Англия с Францией встают на защиту Польши. "Молодцы!" - думаем мы: - Сдержали своё слово, стали на защиту! Теперь-то они быстро обуздают зарвавшийся наглый фашизм. Ну что может какая-то там Германия против двух столь мощных держав!? Что будет дальше? Гитлер добивался "аншлюса" с Австрией, Силезии, потом Данцигского коридора. Ему во всем уступали, ублажали... Доублажались! У моих сербских друзей давно было недоверие и неприязнь к "швабам"... США объявляют о своем нейтралитете. И, действительно, какое им дело до какой-то там далекой от них Европы! Немецкие войска углубляются в Польшу. 15-го сентября, Варшава отклоняет предъявленный ей ультиматум о капитуляции, - поляки всё еще верят в действенную помощь Англии и Франции. Героический народ! Вот только непонятно: почему они не просят помощи у великого соседа? Ведь еще немного, и гитлеровцы их раздавят! И тут неожиданное сообщение: части Красной Армии тоже вступают в Польшу! Сообщают, что, мол, "по-дружески", без единого выстрела! Очевидно, Советский Союз решил-таки помочь своему слабенькому соседу. Как благородно! 19-го, чтобы избежать, как мы считали, конфронтации с мощным Советским Союзом, Гитлер умеряет свой пыл и останавивает продвижение войск. 28-го Варшава капитулирует, правительство бежит в Румынию. Туда же тянутся, не желая попасть в плен, остатки польской армии. Всё произошло так молниеносно, что большинству польских войск так и не довелось участвовать в боях. Газеты полны схем, планов военных действий, сообщений о советско-германско пакте о разделе Польши. Вот оно что! Гитлер и Сталин, выходит, заранее обо всем договорились! Национал-социализм с коммунизмом? Не предательство ли это? - В голове не укладывается! В газетах новая схема: границы некоего нового "тампонного" государства, с Варшавой в центре, разделяющего сферы соприкосновения и влияния. Военные действия прекращены, страсти утихают. Затем возникает еще ряд пактов "о взаимопомощи и ненападении" между СССР и Эстонией... и Латвией... Литвой. Прибалтийские страны предоставляют СССР опорные базы и порты на своих территориях. Но Финляндия от предложенной ей "взаимопомощи" отказывается. Мир напуган. Но тут проносится слух, что Гитлер в своей речи в Рейхстаге 6 октября предложил мир Западу. И действительно: "на Западном фронте без перемен"! Друг против друга мирно располагаются и бездействуют две фортификационные линии: линия Мажино- чудо современной техники, и незаконченная линия Зигфрида. Умудренные политиканы- сербские крестьяне- и те не способны разобраться, что к чему. А через Румынскую границу к нам, в Югославию, идут и идут большие и малые группы бывшей польской армии: они торопятся во Францию, через Грецию, через Адриатику, чтобы там влиться в "действующую против общего врага" французскую армию и с ней продолжить борьбу. Все предыдущие годы в гитлеровской Германии происходило не только наращивание военного и экономического потенциала, но и систематическая идеологическая обработка и фанатизация умов, начиная с юношества. Гитлер стал Мессией, его книга "Майн Кампф", как и предсказывал мой отец, - библией национал-социализма. Рупором его стали министр пропаганды Геббельс, а затем Геринг и Гиммлер. Базой - бюргеры, мелкие промышленники, торговцы. А над всем этим стояли крупнейшие киты - промышленные концерны. Все они нацеливают на Восток, исполненные заветной мечтой реваншизма и колониализма - "Дранг нах Остен". И вдруг... договор, мирный раздел сфер влияния! Совершенно неправдоподобно!
* * *
Незадолго перед тем мне блеснуло счастье: "Союз студенческой молодежи" предоставил мне место в общежитии на Сеняке, окраине Белграда, на улице Косте Главинича. И вот, после занятий в лаборатории по гистологии, размещавшейся в "Старом Университете", напротив "Управы Града Београда", а проще- напротив жандармерии-"Главнячи", я отправился на новое место жительства. В комнате на втором этаже стояло семь коек. Из жильцов пока никого не было. Пристроившись у своей тумбочки, я стал перерисовывать начисто всё, что увидел в лаборатории через микроскоп, - строение клетки печени. В комнату вошел приземистый студент, видимо, старожил. Я привстал, представился: - Студент первого курса медицинского, Александр. Тот глянул на меня изучающе и, молча кивнув вместо ответа, прошел к своей койке. Продолжая мою работу и сидя спиной к комнате, я слышал, как он разделся, открыл тумбочку. "Буль-буль-буль..." - услыхал я, как что-то льется. Затем приближающиеся шаги и... бух! - стукнула передо мной, рядом с чертежлм, алюминиевая поллитровая кружка, до половины наполненная красным вином. Я обернулся: рядом, в одних трусах, стоял этот старожил с очень волосатой и широченной грудью. С полупустой бутылкой. - Пей! - не терпящим возражения тоном сказал он. Я достал свою кружку и поставил рядом. Незнакомец удовлетворенно хмыкнул и опорожнил в нее остаток бутылки. Мы чокнулись и выпили залпом. - По нашей традиции только так положено знакомиться! - изрек он поучительно: - Я - Борисевич. Но здесь меня величают "Полковником". Студент четвертого курса медицинского. Приятно, что мы - коллеги. Подрабатываю боксом, о чем говорит моя переносица. При этих словах, Полковник пальцами сперва расплющил свой нос, затем растянул его и кончиком коснулся одной, затем другой щеки. "Виртуоз!" - восхитился я. - Парень ты здоровый. Вдобавок, первокурсник. Будешь у меня "мешком". - Чем-чем? - не понял я. - Мешком! - повторил он: - Это снаряд такой, но нет денег на его приобретение, да и вешать негде. Я на тебе тренироваться буду... И тебе полезно, и мне необходимо, чтоб не терять формы. - Я же в боксе ничего не смыслю! - попробовал я увильнуть от такой не очень-то приятной перспективы. - Эт-т-то ни-че-го-о-о! - растянул Полковник: - Я тебя подучу. Совершенно бесплатно. Да еще при каждой моей победе на ринге тебе будет причитаться четверть моей премии.
Тут дверь отворилась, и в комнату ввалилась шумная ватага, - пришли постояльцы. Впереди - маленький, с огромной лысиной и длинным носом на бледном лице. Он остановился как вкопанный, начал водить носом во все направления, смешно вытягивая вверх и чуть вперед свою гусиную тощую шею: - Чую-чую-чую! Чую неповторимый запах присутствия Бахуса, да будет благословенно имя его во веки веков, аминь! - произнес он торжественно и, как ищейка, стал на цыпочках подкрадываться к моей тумбочке. Заглянув в наши пустые кружки, он с явным осуждением уставился на нас и произнес с напускным негодованием: - Нет, я вас спрашиваю: что это значит?.. Без общепризнанного "ксендза" и его благословения вы осмелились своим одиночеством осквернить величайшее таинство?! Немедленно же платить индульгенцию и приступить к покаянию! На всех законных основаниях, согласно параграфам уголовного и общественного кодекса, священнейших правил нашей кельи приказывает вам это всеми единогласно избранный ксендз, студент четвертого курса юридического факультета, любимец и последователь гениальнейшего оратора всех времен Марка Тулио Цицерона. Того Цицерона, который вежливо, но убедительно, обращаясь к сенаторам и называя их "патрес конскрипти", в речах своих - "Орацио прима, секунда, терция и кварта" - требовал изгнать хитрейшего и коварнейшего Катилину или, ну, хотя бы обезглавить его ликторами... Да будет мир праху твоему, мой великий праотец и учитель!.. Итак, я жду! Пока Ксендз произносил эту длинную и витиеватую речь, Полковник успел извлечь из своих брюк тощий кошелек и торжественно звякнуть о тумбочку металлическим динаром. Скрепя сердце, положил и я, как виновник торжества, два динара. Это вызвало всеобщее одобрение, и каждый внес свою лепту. Я, как новичок, а следовательно, неопытный, был оставлен в комнате вместе с предусмотрительно ранее раздевшимся Полковником: ждать, пока тот натянет одежду, буйная ватага отказалась: - Сами справимся! - и за ними захлопнулась дверь.
Прошло часа два.. На лестнице вновь послышался веселый шум, смех, и дверь распахнулась. В комнату протискивался столбик из трех-четырех плетенных стульев, вдетых один в другой. Такие обычно стоят на улицах за столиками у небольших кафе. - Это маленький, веснущатый, с очень подвижным лицом студент третьего курса агрономического, по кличке "Маймун" (Мартышка), удачно провел экспроприацию дополнительной мебели для нашей комнаты. За ним появился столбик из фарфоровых пепельниц и картонных пивных подставок, которыми жонглировал студент третьего курса физико-математического, по кличке "Дон-Жуан": он был чуть выше среднего роста, довольно приятной наружности, с красивыми кучерявыми волосами и с тоненькими усиками под прямым римского профиля носом. Звали его "Тошей". Затем появилось три еще дымящихся круглых подовых буханки, распространявших неповторимо аппетитный запах. Это ловкий студент второго курса химического, по кличке "Алхимик", воспользовался моментом, когда пекарь, орудуя у печи и подсаживая выпеченные хдеба на деревянную лопату с длинным черенком, вынужден был открыть витрину на улицу. Лежавшие на прилавке буханки оказались в пределах досягаемости рук Алхимика, и были им "схимичены". Последним вошел Ксендз, и на столе выстроились три бутылки вина. Кто-то добавил кусочек колбасы, кто-то сыра, кто-то открыл консерву с паштетом. Так начался праздник новоселья. Говорились витиеватые тосты, пожелания, напутствия. Длинные и краткие речи... А то, что из-за подобных затрат мы на четыре-пять дней не дотянем до очередной стипендии, - никого не удручало: общими усилиями как-нибудь да выкрутимся. А нет, - то и перетерпим. Бывалые студенты привыкли к вечному недоеданию и другим лишениям, которые нес с собой учебный год. Не всегда удавалось подрабатывать случайной работой: носильщиками, статистами в театре, грузчиками... В трудные минуты выручал юмор, оптимизм, желание посмеяться над окружающими, позлорадствовать над скучными людьми, живущими в достатке, но как серо! "Веселее, веселее! Все заботы прочь!.." - было лейтмотивом прощальной песенки гимназистов-абитуриентов, и он сопровождал их и всю последующую жизнь. Нормы дров, выделяемых нам на сутки, хватало лишь на несколько часов. Но именно ночью студенты занимались, писали, чертили. Руки должны были быть теплыми, пальцы - гибкими. И вот придумали: перед общежитием улица была вымощена кубиками смолистого дерева. Вооружившись жигалом и кочергой, мы эти кубики "выкорчевывали" из-под снега и льда. Горели они превосходно. Но весной, когда снег сошел, на дороге перед общежитием засияла огромная "лысина"!
* * *
Веселая и трудная студенческая пора! Вспоминаю несколько эпизодов. Решение пошутить возникло внезапно. Впрочем, "экспромт" - залог всякой удачной выдумки. Захотелось посмеяться над "стражами порядка" - жандармами. Кто-то увидел лестницу. Лестница, как лестница, почему бы не привлечь ее, сделать из нее атрибут нашей проказы? Уговорили хозяина дать нам ее напрокат. Суббота, темная ночь. Из глухого переулка на чуть освещенную улицу выскакивает подозрительная личность. Воротник поднят, фуражка насунута по самые уши, ее длинный козырек скрывает черты лица. Субъект опасливо вглядывается в одну сторону улицы, в другую. Затем призывно машет рукой и бесшумными, кошачьими шажками перебегает к следующему перекрестку. Из переулка, откуда он только-что вынырнул, появляется странная процессия: длинная лестница, которую за концы несут два таких же подозрительных типа. Они останавливаются в ожидании и, как только первый поманил их, пружинистыми шажками бегут к нему. А тот уже у следующего перекрестка. На углу, откуда только что вынырнула процессия с лестницей, показывается тень четвертого. Внимательно оглядев "тылы", дает знак следовать вперед, - "всё, мол, в порядке!", и бежит вслед. От перекрестка к перекрестку перебегает эта странная компания с лестницей. Миновали второй, третий... пятый перекресток... Сзади на миг блеснула кокарда. Еще одна блеснула справа. Затем - слева. Количество кокард увеличивается. И вот субъекты окружены: - Ага! Попались, миленькие! - злорадствуют, крепко держа пойманных, жандармы и препровождают их в участок. Лестницу велят занести во двор. Затем входят в дежурное помещение. Там, как и положено, бодрствует капрал: - Ну, рассказывайте, кого это сегодня грабить собирались? В чью квартиру залезть хотели, на какой улице, каком этаже? Номер дома? - Извините, господин капрал, но мы просто прогуливались... - Как это "прогуливались"? С лестницей, что ли? Хоть лицо капрала и злое, но он доволен: именно на его дежурстве такая удача, - предотвращен опасный грабеж! И настроение у него благодушное. Ему мерещится похвала начальства, возможно и поощрение в виде денежной премии. Можно чуть-чуть развеяться, поиграть в эдакого Шерлока Хольмса. Нет надобности в немедленном мордобое, - для этого еще будет время! - Ну так как? Будете добровольно признаваться, или вам помочь? - Да что с ними разговаривать! - встревает в допрос один из постовых: - Мы их поймали с поличным... - С каким таким "поличным"?! Мы решили погулять. А это законом не запрещается. - протестуют пойманные. - Ишь ты какие! "Законом не запрещается"!.. Я вам сейчас такой закон пропишу!.. А ну, давайте ваши документы! У вас их, конечно, нет? - Почему же... Вот, пожалуйста. Задержанные вынимают и кладут на стол свои студенческие удостоверения. Капрал берет одну книжечку, другую... Выражение его лица меняется, вместо торжества в нем появляется растерянность и недоумение. Сличает фотографии с лицами задержанных. Всё-таки не верит: - Гм... студент четвертого курса медицинского... третьего юридического... студент агрономического... Ну и салат! - Да чего они мозги пудрят! - возмущаются постовые: - Студенты! Ха, ну и что? Мы за ними несколько кварталов следили. С такими уловками идут только грабители! Да и лестница, - разве это не доказательство их преступных намерений? Мало ли, что студенты! Подумаешь! И они могут грабить. Запереть их, а там пусть начальство разбирается!... - А у вас есть ордер на арест? - переходят в наступление студенты. - У нас достаточные улики: была лестница? - Была! Тащили ее ночью? - Тащили!.. Вот и запрем вас, а утром разберемся. - Так не пойдет! - не сдаются студенты: - Согласно статьи такой-то уголовно-процессуального кодекса, вы имеете право задержать лишь по распоряжению начальника участка. Вот и вызывайте его! - и студент третьего курса юридического дословно цитирует соответствующую статью кодекса, указывая даже страницу, где она фигурирует. Капрал растерян: он прекрасно знаком с этой статьёй. - Начальник отдыхает: уже половина второго ночи! - Тогда верните лестницу и отпускайте! При упоминании о лестнице, дежурный решается: - Нет! Лестница - улика. - и он посылает будить начальника. Тот спускается, на ходу застегивая пуговицы мундира: - Что тут у вас стряслось? - спрашивает он раздраженно. - Да вот, господин поручик, поймали ту четырех с лестницей. Крались по улицам кого-то грабить. Оказались студентами... - Студенты? Ну и что? Раз их поймали, значит - посадить! - Они требуют соблюдения всех формальностей. Один из них- студент юридического. Поручик нехотя просматривает документы. Да-а, тут явно торопиться не стоит,- неприятностей не оберешься. - Странно... Что вы делали ночью с лестницей? - Понимаете: она давно, бедненькая, стояла и скучала. Смотрим: день стоит, ночь стоит... Второй день, неделю... Всё стоит и скучает. И стало нам ее жалко. Вот мы и решили взять ее погулять, - пусть развеется. - Как это "погулять"? - не может понять офицер. - Мы же вам растолковываем: она, бедная, давно скучает в одиночестве. А мы, как кавалеры и джентльмены, решили её хоть чуть-чуть развлечь. Она же женского рода, и ей надо оказывать внимание... Жандарм недоуменно хлопает глазами. Обретя дар речи, опять набрасывается на студентов: - Слушайте вы, "джентльмены"! Бросьте мне голову морочить! Где вы ее взяли, с какой целью и куда тащили? - Никуда мы её не тащили, а вежливо прогуливали. Вот адрес ее хозяина... Он нам сам разрешил, и подтвердит это.
Поручик долго всматривается в лица студентов, постукивая пальцами по краешку стола. Остальные стражи притихли, стали переглядываться, затем кто-то фыркнул. Неожиданно для всех, поручик громыхнул раскатистым ржанием и схватился за живот. - "Женского рода"... лестница... Ха-ха-ха!.. Во-о, дают!.. "Джентльмены-кавалеры!". "Погулять" взяли!.. "Развеять!".. "Барышню" нашли!.. Ха-ха-ха!.. Ой, не могу!.. Успокоившись, приказал: - Перепиши фамилии этих "джентльменов"!.. Пусть забирают свою дурацкую "лестницу женского рода", ха-ха-ха! И пусть уматывают отсюда, пока я не передумал! ... Не прошло и часу, как нас таким же порядком водворили в соседний участок. К нашему удивлению, вместе с дежурным нас встретил и сам начальник, разбуженный, видно, совсем недавно: - А-а-а, студенты со своей "барышней" пожаловали! - задрыгался он в смехе: - Ну-ну! Давайте-ка, поглядим на эту красотку!.. Растерянные и ничего не понимающие "ловцы грабителей" провели начальника во двор к приставленной к стене лестнице. - Она!.. Та самая!.. Ха-ха-ха!.. Что ж, продолжайте ее прогуливать хоть всю ночь, раз вам охота побалдеть! Только предупреждаю: вас больше никто задерживать не будет! Все участки и новая смена постовых поставлены в известность, так что "прогуливайте" ее, сколько вам угодно!.. Гуляйте на здоровье! Но гулять больше не хотелось... Ловко всё-таки работает жандармерия! Обдурила таки нас! Оказывается, она тоже обладает чувством юмора!
* * *
Было пари, - студенты любят устраивать пари! Так вот: прогуляется ли кто-нибудь из нас с ночным горшком на голове? По главной улице! Улица князя Михаила - "корзо", то есть прогулочная улица, в центре столицы. Начинается она у площади Теразие. Как и водится, слева и справа - маленькие магазинчики, многочисленные кафе. Тротуары забиты гуляющими. В магазин фарфоровых изделий вваливается группка студентов. - Дайте мне, пожалуйста, вот тот горшочек! - указывает один из них на ночные горшки на полке. Продавец подает. Студент тщательно рассматривает его: - А с другим цветочком у вас имеется? Подают с ромашкой. - А с чем-нибудь голубеньким? Вроде незабудочки? С трудом продавец подыскивает ему нечто подобное, но это фиалки. - Очень мило, подходяще! - и студент снимает свой головной убор и вместо него пробует надеть на голову горшок. - Знаете... немножко жмет... Нет ли у вас чуть большего диаметра? И хорошо бы, чтоб с двумя ручками... И поля чтобы пошире... Подают один за другим различные горшки. Продавец растерян, но услужлив, улыбчив по-прежнему: он обязан услужить покупателю, какие бы у того экстравагантные и непонятные требования ни были. Покупатель должен быть удовлетворен, иначе продавцу грозит от хозяина разгон вплоть до лишения работы. Магазин уже полон: сюда скапливаются ротозеи с улицы. На улице, с той стороны, к витрине приникла целая толпа: с удивлением глазеют, как в магазине, перед зеркалом, какой-то чудак-покупатель примеряет к голове ночные горшки. Невиданное доселе зрелище! Прелюбопытнейшее! Чем оно закончится?.. - Заверните!.. Нет не покупку, а мою шдяпу! - наконец произносит студент, расплачиваясь. После того, как в последний раз посмотрел на себя в зеркало и кокетливо чуть наклонив горшок набекрень, "покупатель" выходит. Толпа расступается и уважительно пропускает его впереди себя. Медленно движется по улице "пробка", - ни пройти, ни проехать! Впереди - человек с ночным горшком на голове, сзади - толпа зевак. Движение приостановлено: можно идти лишь вместе с пробкой, по ее течению. Жандарм растерян: вроде бы никакого нарушеиия, и в то же время... Проталкивается к человеку с горшком на голове: - Извините... Но я бы попросил вас снять, гм... то, что у вас на голове! - А зачем мне снимать мой головной убор? - Видите ли, за вами из-за него столько народу собралось... - При чем тут я? Если народу не разрешается собираться, на это должен быть соответствующий декрет... Насколько мне известно, пока что ничего такого нет... - Да нет, я не то хотел сказать. Но... Неизвестно, чем бы кончились дальнейшие препирания, но тут подскочил какой-то шустрый господин и с величайшей любезностью пригласил всех нас четверых в свой ресторанчик - на бесплатный ужин! Через минуту все столы в нем были заняты! А раз ты сел, то, хочешь - не хочешь, а заказывай! - Такой здесь порядок! Хорошо поев, с полными желудками, мы распрощались с гостеприимным хозяином и отправились домой. Уже без горшка, подаренного ему на память...
* * *
Жители близ площади Славия обратили внимание на кучку студентов. Они стояли плотным кольцом и о чем-то таинственно шептались. Время от времени оттуда доносился смех. Особенно горничные были заинтригованы: они знали, что такие сборища молодых людей обычно заканчиваются веселыми проказами. Студенты что-то надумали, что? Как бы не прозевать их забавной проделки! Через пару часов стало известно, что студентами нанята напрокат витрина бывшего магазина. В самом центре! С четырех и до восьми утра! Там что-то произойдет! Часам к шести у витрины собралось уже несколько любознательных девушек-горничных. Точно: внутри - койка и стул. На койке, под одеялом угадывается, что кто-то спит. А на стуле, метрах в трех от неё, был развешен весь гардероб: носки, брюки, куртка, рубашка, ботинки и... трусы с майкой! И трусы! Всем стало ясно: студенты решили подшутить над каким-то их товарищем. Очевидно, подпоили его до потери сознания, притащили сюда, наголо раздели и уложили спать. Бедняга, как же он теперь выпутается из такого положения? Некоторые горничные быстренько побежали сообщить их подругам и молодым хозяйкам об ожидавшемся крайне щекотливом событии. Народу стало прибывать и прибывать: ведь здесь произойдет преинтереснейшее зрелище! Уже восьмой час, некоторым хозяйкам пора собираться на работу. Как бы поторопить, разбудить спящего? Вначале застенчиво, а затем и погромче стали постукивать по стеклу витрины. Никакой реакции! Уже без десяти восемь! Стучать стали как следует. Из-под одеяла показывается голая рука, затем голова юноши. Он оглядывается кругом, на лице явное недоумение. Увидели, как, заметив стул с одеждой, он под одеялом стал ощупывать себя. На его лице появляется что-то вроде ужаса. Он обращается к витрине, к скопищу людей, жестами показывает на стул, на себя, просит разойтись: -"Я же голый! Разойдитесь, дайте мне дойти до стула и взять одежду! Пожалуйста!" - говорит его умоляющий взгляд. Смотрит на свои часы, показывает, что ему надо торопиться на занятия... - А нам, думаешь, не надо?.. Нам тоже на работу давно пора! Одевайся поскорее! Разговор мимикой продолжается: с одной стороны - умоляющий, с другой - со злорадным смехом: - "Ага, попался! Ловко тебе друзья подстроили!.. Нечего напиваться!.. Теперь будешь знать!.. Давай, давай, вставай! Не зря же мы столько ждали!". Все знают, что витрина сдана только до восьми. Значит, через минуту-другую произойдет самое-самое интересное. Как этот студент выкрутится? Да и все равно у него никакого другого выхода нет, чего он медлит? Да... он уже сердится! Еще раз просит хотя бы отвернуться. "Э-э-э, брат, нет! Так не пойдет: не зря же мы здесь столько времени топтались!"... "Ну что ж, в последний раз прошу!" - угрожающе показывает пальцами: "Раз!" и жест рукой - "Разойдитесь!".. "Два!".. На "Три!" он сбрасывает с себя одеяло, идет к стулу, берет одежду и спокойно уходит. - Он был гол лишь до пояса!..
Сколько было таких проделок, которые согревали, взбадривали и веселили, вселяли оптимизм в самые тяжелые минуты жизни, и воспоминания о которых не давали впадать в уныние! Сейчас говорят о каких-то стрессах и их тяжелых последствиях. В те времена мы ничего о них не знали, и, видимо, сами умели от них избавляться.
* * *
Счастливое, почти беззаботное студенческое время, где ты? Наша комната была скроена из бескорыстной чистой дружбы. Всё делилось, друг другу помогали. Взять хотя бы наш общий выходной костюм! Своего рода достопримечательность, "уникум"! Он был составлен, помнится, из Тошиного ("Дон Жуана", с архитектурно-строительного, по фамилии Соболевский) пиджака, брюк "Полковника" (Борисевича), рубашки Коли Доннера (с юридического), галстука "Маймуна" (Пети Мартынова с агрономического), полуботинок Володи Случевского (с электро-технического), целлулоидных воротничка и манжет с запонками "Ксендза" (Ростика Москаленко с теологического). Полуботинки были новенькие. Хоть и "безразмерные", но одним жали, у других "хлюпали". Тогда разрешалось продевать в задник шнурок и завязывать его спереди щиколотки, и он служил своего рода подтяжками для ботинок. А если заставал на гулянке дождь, то, ничего не поделаешь, чтобы не подпортить, их снимали, прятали под пиджак, возвращались босиком. А носки! Они у нас были индивидуальными, трехсрочными: первую протертую дыру на пятке спускали под ступню,- они становились 1-го срока. Так же поступали и со следующей, - 2-ой срок. 3-ий и последний срок,- когда носки переворачивали дырами вверх. К нашему единственному на всех выходному костюму отношение было самое что ни на есть нежное, почти благоговейное. В выходные носили его по строгому графику, придирчиво следя за его чистотой и сохранностью. Воротнички и манжеты всегда хранились готовыми к употреблению, то есть чистыми, надраенными мелом. Рубашки долго не выдерживали, и часто приходилось, несмотря на жару, оставаться в гостях в пиджаке и потеть, - лишь бы скрыть, что рубашка твоя - дыра на дыре... .Бывали и хитрые выдумки. Однажды, потянув за ручку смывного бачка в туалете, я поразился, что вода еле стекает. И тут из трубы показался кончик... носка! "Ксендз", оказывается придумал оригинальный способ стирки нижнего белья: пересыпав стиральным порошком, он загружал его в бачок, - будут, мол, дергать за ручку и белье будет ополаскиваться и "самостираться", без затраты на то ни времени, ни сил! Спать ложиться приходилось натощак, пытаясь сэкономить деньги на завтрак. Это не всегда удавалось: желудок настойчиво требовал своего и засыпать не давал. Приходилось вставать, будить нашего "лавочника", тоже студента, и просить отвесить 30 граммов колбаски и граммов 100 хлеба. Всё равно сон был беспокойным, - терзали мысли, что теперь, без завтрака, придется отсидеть на лекциях, стараясь не отвлекаться мечтами об обеде... Что ни говори, а вспоминаешь об этом времени с большой теплотой и гордостью!
* * *
Условия для занятий были крайне тяжелыми. Много предметов требовало практических занятий в специальных лабораториях - гистологии, остеологии, химии, биологии, а то и в морге... А они, эти лаборатории, были разбросаны в разных концах города. Кроме практических, читались и лекции, тоже в разных аудиториях. Расписания же составлялись с учетом удобств профессуры, но никак не студентов. Подчас бывало совершенно невозможно присутствовать на всех занятиях, - просто не успевали! И многие студенты волей-неволей становились "вечными", обремененными "хвостами" - не сданными вовремя зачетами и экзаменами. К тому же и некоторые профессора ревниво следили за регулярным посещением именно их лекций: отсутствие какого-нибудь из студентов на том или ином занятии отмечали у себя в блокнотах, и при сдаче им зачетов каверзно задавали вопросы по теме именно этих дней. И этим неудачникам приходилось учиться не пять, а восемь-десять лет! Перспектива на будущее представлялась в очень туманном свете. И студенты стали требовать уважения и защиты их прав. Демонстрации с требованиями улучшения жизни и учёбы производились совместно с рабочими, а подготовительные к ним сходки проходили под Белградом, часто "на седьмом километре" лесопарка Кошутняк.
* * *
Газеты "Политика" и "Време" сообщали о новых и новых изменениях и перекройках карты Европы. Все балканские страны, кроме Югославии и Греции, оказались втянутыми в "тройственную ось Рим-Берлин-Токио": и Италия и Япония примкнули к агрессивной политике Гитлера. Надолго ли Югославия останется нейтральной? Раздираемая внутренними противоречиями, особенно национал-шовинистическим "Хорватским вопросом", она походила на страну, сотканную из взаимоисключающих разногласий: правительство выступало за союз с Германией и Италией, армия тяготела к Англии, а население Сербии, всегда тянувшееся к России, не скрывало своих симпатий к Советскому Союзу. И в то же время, Хорваты устремляли свои взоры к соседу - Третьему Рейху. В чем же причина подобного антагонизма? Язык-то один! Да, язык - один. Но сербы пять веков находились под Османским игом, а хорваты - под Австро-Венгрией. Поэтому последние и считали себя более европейцами и намного культурней. Да и религии разные: первые - православные, кровью отстаивавшие свою веру от турок, вторые - католики, поддерживаемые Ватиканом. А сейчас папа стремился внедрить в Югославии "Конкордат" - нечто, вроде униатства. События набирали темп. 30 ноября 1939 года вспыхнула война между Финляндией и СССР. 14 декабря Лига Наций назвала Советский Союз агрессором и исключила его из своего состава. На Западном фронте продолжалась "ля дроль де герр" - странная, до смешного странная война: никаких боевых наступательных операций, - всё оставалось "без перемен". Кинохроника и недельные обозрения восхищаются жизнью гарнизона на линии Мажино. Там - концерт за концертом. Перед солдатами поёт и танцует знаменитая негритянка Жозефина Беккер. От скуки, солдаты перед дотами на нейтральной полосе разводят огороды. Иногда, тоже от скуки, постреливают в сторону линии Зигфрида. Мирная, благодатная жизнь при состоянии войны! В марте, французский кабинет Даладье подал в отставку. Премьером становится Рейно. Может, хоть сейчас что-нибудь изменится? Не знаю, как там на Западе, а вот у нас изменилось: до критической отметки накалилась обстановка. На улицы чаще выходят студенты и рабочие. Кроме требований улучшить условия жизни, труда, быта, учебы, появились и политические лозунги: "Долой фашизм!", "Долой конкордат!" (договор с Ватиканом о слиянии католической и право-славной церквей - унии с особыми правами для католиков). Конная жандармерия врезается в колонны демонстрантов. С главной улицы Короля Милана демонстранты бегут к площади Славия, к Макензиевой, Шумадийской улицам... На головы сыплются удары "пендреками"-дубинками, саблями... Раздаются выстрелы, кровью обагряются улицы. Раненые, убитые... Убегавшего с демонстрации по случаю похорон убитых студентов, меня схватили с последней оставшейся листовкой. Трое суток дубасили в "Главняче". Но я - новичок, всего одна листовка, якобы, найденная на улице. Наконец, меня занесли в черный список и выбросили на улицу. Теперь я исключен из университета. Но это не имеет особого значения: он сам распущен на неопределенное время! Черную страничку в истории заполнил жандармский генерал Петр Живкович, ставший министром внутренних дел! 9 апреля немцы оккупируют Данию, затем высаживаются в Норвегии. Успехи никем и ничем не сдерживаемой агрессии Гитлера всё больше будоражат умы в Югославии, разжигают шовинистические страсти. Хорватия получает автономию. "Бан" (предводитель) Шубашич и Мачек - во главе.
Проскальзывают сведения о хорватской фашистской военнизированной организации "Усташи" и о ее командире - Анте Павеличе, находящемся в Италии. И у нас в Белграде стала выходить газета "Борба" некоего Льотича. Название такое же, как у книги Гитлера. Не профашистская ли? Оживились и русские эмигрантские организации, особенно НТСНП (Национально-Трудовой Союз Нового Поколения). Он стал активизировать подготовку и засылку агентов-агитаторов в СССР. 10 мая фронт на Западе пришел в движение. 13-го немцы, повторив маневр Первой мировой войны и обойдя линию Мажино, прорвались в Бельгию у реки Маас, между Намюром и Седаном, и покатились вперед. Тут же капитулировали голландцы, а затем и бельгийская армия. 27-го мая англичане, бросив всё военное снаряжение и на произвол судьбы покинув своих союзников, благополучно эвакуировались из Дюнкерка на свои острова. Эти "девять дней, которые потрясли мир", - как гордо возвещали англичане,- вошли в историю Англии как "небывалый героизм". Через 48 дней капитулировала Франция. Вот тебе и великие мощные страны, вся наша надежда! Помощи нам не ждать, а войны не миновать!
* * *
Итак, я больше не студент. Что делать? И я вернулся в Косовскую Митровицу. Несколько месяцев проработал на руднике "Трепча". Отец помог обзавестись хорошими характеристиками, и в октябре 1940-го я поступил в офицерское училище, расположенное на Банице, окраине Белграда, - в "Низшую Школу Военной Академии".
* * *
А Гитлер всё не унимался. Его войска вошли в Румынию, а итальянцы в конце октября напали на Грецию. Теперь и наши друзья-греки втянуты в войну, она подступила к нам вплотную. Греки стойко сопротивляются. Их генштаб сообщает, что в ноябре в горах Пинда разбито несколько итальянских дивизий. Немудрено: итальянским солдатам нечего искать в Греции. Да и воевать, неизвестно зачем, не было ни малейшего желания! Рассказывали, что греки, имея лишь устаревшее вооружение (как, впрочем, и мы), сбрасывали вниз со своих "авионов" модели 1925 года - Потезов и Брегэ- на итальянские полки связки пустых консервных банок. В полете они производили страшный скрежет и визг. Не зная, что это такое, итальянцы в панике распластывались на земле, в ужасе закрыв голову руками. А греческие партизаны врывались в их ряды и подбирали оружие! И таким способом, оказывается можно неплохо вооружаться! 15-го, гитлеровцы совершают воздушный "рейд устрашения": их бомбардировщики стирают с лица земли английский город Ковентри. Варварская акция! В отместку, английские самолеты бомбят Берлин и несколько аэродромов Рейха. В конце сентября к "тройственной оси" присоединяются Румыния и Венгрия. Всё! Теперь Югославию прочно сжали в тисках! Ни охнуть ей, ни вздохнуть! В училище мы полностью отрезаны от гражданской жизни: "Армия - вне политики!". Но... сама жизнь шла наперекор этой устарелой установке. 25 марта 1941-го, министры Цветкович и Цинцар-Маркович подписали в Вене пакт, по которому Югославия, "как друг", обязывалась пропустить через свою территорию немецкие войска на помощь увязшим в Греции итальянцам. "Предательство! Мы вас кормим, одеваем, а вы, наше войско, неспособны защитить нашу честь!" - негодовали белградцы и стали метать в проходивших мимо офицеров камни. Увольнения в город прекращены. А 27-го марта был совершен военный переворот, в котором участвовало и наше училище Им руководил генерал авиации Симович. Правительство принца Павла свергнуто, сам он бежал, пакт разорван. Объявлено, что главою страны будет сын Александра - Петр.
В корне изменилась и структура преподавания в училище. Так, на лекциях по "Военной географии" нас стали ознакамливать со стратегически важными объектами и точками не только с нашей, но и с чужой стороны границы. В городе, под звуки громкоговорителей, транслировавших одну за другой патриотические песни и маршевую музыку, ликующие толпы скандировали: "Болье рат, него пакт!" (Лучше война, чем пакт!). То же происходило и в училище, хоть никто и не обольщал себя исходом будущей войны: "Лучше мертвый лев, чем живая собака!". Сохранение и защита чести - превыше всего! Мы чувствовали себя связанными дружескими узами и обязательствами с греками, и были горды, что не предали их в критическую минуту, - отказались пропустить на их удушение немецкие войска. Пятого апреля к нам въехала автомашина с советским флажком. Из нее вышел и в сопровождении встречавших офицеров прошел в училище генерал в простом кителе - советский военный атташе. Мы мигом обступили водителя, угостившего нас папиросами "Беломорканал". Конечно, мы бережно спрятали этот "сувенир" из страны, которую чтили, хоть ничего о ней толком и не знали. "Матка- Русита" (Мать Россия)! Великая наша мать, не раз протягивавшая свою руку помощи. Она помогла свергнуть пятивековое османское иго, сохранить веру, обрести свободу и независимость. И вот она опять с нами, в самый критический момент: со всех сторон мы окружены врагами, лишь коротенькая южная граница соединяет нас с гордой свободолюбивой Грецией, единственным нашим другом и союзником. Нам сообщают, что сегодня подписан договор с Советским Союзом о взаимопомощи, и что 150 советских дивизий готовы сразу же ринуться на нашу защиту. Именно так было сказано начальником училища - генералом Гужвичем. Мы окрылены: не всё потеряно, мы - не одни! Завтра всем нам дадут увольнение в город, которого, из-за неспокойной обстановки, мы были лишены несколько недель. Через две недели - Пасха! Погуляем, как следует!.. Призрак войны отошел на задний план...
Воскресенье, 6 апреля. Настроение приподнятое. Еще накануне надраены бляхи, на-чищены сапоги: сегодня после завтрака - смотр и... долгожданное увольнение. Правда, выглядим мы не так парадно, как раньше: наши красные галифе и синие кители сменила полевая униформа защитного цвета хаки, вместо шпаги - нож-штык. Предусмотрительно, на случай возможной войны, нас переодели: было ясно, что Гитлер не простит разрыва пакта. Около семи утра. Мы в столовой, в подвале трехэтажного корпуса. Идет раздача завтрака. Не успели мы поднести первую ложку ко рту, как снаружи послышались звуки разрывов, задрожало здание, закачались люстры. Что это? Мы вопросительно глянули на дежурного офицера. - Маневры! - успокоил он, отвечая на наш немой вопрос. Взрывы ближе, сильней. Офицер заволновался, пошел наверх. Через несколько секунд скатывается вниз: - Тревога! Без оружия... через главные ворота!.. Замаскироваться в роще!.. Через минуту мы распластались под голыми еще акациями. В воздухе стрельба, хлопки взрывов. С любопытством перевернулся на спину: в небе, среди редких ватных хлопков от взрывов - туча самолетов с черными крестами. Кружат, пикируют стреляют очередями... С нашей высотки хорошо видны далекие крыши столицы. Там - зарево пожаров, медленно вздымаются клубы дыма... Как же так? Ведь город был объявлен "открытым", в нем только мирное население! Варвары! Убийцы! Звери!.. С противным завыванием сирен пикируют на нашу рощицу "штуки". Где-то рядом зататакало несколько пулеметов. Это - из соседнего унтерофицерского училища. Один из немецких пикировщиков задымил, взрыв, и он разлетелся на куски. Молодцы, курсанты! За пикировщиками широким развернутым фронтом надвигается линия тяжелых бомбардировщиков. Считать - не пересчитать! Первая волна... вторая... третья... Летят и летят... Уханье взрывов, на земле всплески пламени.
В городе увеличивается число пожаров, в воздух поднимается все больше и гуще облаков дыма, и он постепенно утопает в черной зловещей туче. Несколько бомб упало в нашу рощицу и на корпуса училища... В нескольких метрах от меня лежал Лев Мамонтов. Я его подозвал и он подполз. В это время я увидел, как над головой отделилась из бомбардировщика серия бомб. Их хорошо видно: черные, всё увеличивающиеся точки, летят с завыванием прямо на голову! Тупой удар в землю; она, дрожа, вздрагивает. Почему-то представилось, будто нож с усилием врезается в плотную массу твердого сыра... Через минуту увидели, что там, где только что лежал Лев, зазияло в земле отверстие - вход в кривой подземный туннель: бомба, к счастью, не взорвалась, и мы, и многие другие, остались живы! Из серии сброшенных на училище бомб, штук двенадцать, взорвалась лишь одна, - у главного входа, посреди асфальтной дороги. Осыпанный и поцарапанный кусками штукатурки и асфальта часовой, стоически, будто ничего не случилось, продолжал и дальше стоять на своем посту! Одна из бомб, пробив крышу корпуса, разломилась пополам. Задняя часть, проваливаясь с этажа на этаж, как раз по туалетам, поразбивала на своем ходу по унитазу на каждом этаже и, разбив внизу последний, улеглась с ним рядом, в собственном желтом тринитротолуоле, гордая, наверное, проделанной ею работой уничтожения. А нос бомбы, тем временем, пробив стену наружу и упав во двор, покатился вслед убегавшему поручику Милютиновичу... Тот потом долго заставлял очевидцев рассказывать, как он "шел, а за ним катилась бомба": - Так ты говоришь, я шел, а за мной катилась бомба? Так это было? - Да-да, господин поручик. Вы спокойно шли, а за вами катилась бомба... - А я что? - Да ничего особенного. Вы себе спокойно шли, а за вами катилась бомба!.. - Ну-ка, повтори еще раз!.. Значит, говоришь, я шел... А дальше?.. В толе разломившейся бомбы мы нашли клочок бумажки с нацарапанным на нем кратким посланием: "Привет от чешских братьев!". Спасибо вам, братья славяне, - своим саботажем вы многим из нас спасли жизнь!..
Из очередной волны бомбардировщиков вывалились большие черные точки, над ними вспыхнули купола парашютов. Парашютисты! Только что, в перерыве между бомбардировками, мы успели сбегать за нашими карабинами. "Пусть только спустятся пониже, - вот и встретим их достойно!". И тут, в одного "парашютиста" попал, видимо, снаряд. Раздался сильный взрыв, и на том месте стало расплываться желтое облачко: - то была люфт-мина! При ударе о землю, мины эти, взрываясь на ее поверхности, воздушной волной заваливали окрестные здания, словно карточные домики... Через два часа небо очистилось. Нам приказали снести вниз все наши походные сундуки и ящики с амуницией, самим готовиться к эвакуации. Оставив от каждого отделения (их было четыре) по десять добровольцев (в их числе был и я), длинная колонна курсантов с преподавательским составом двинулась на юг, к какому-то селу Сремчице. А мы, добровольцы, обязаны были ждать грузовиков, чтобы на них погрузить наши сундуки, но в первую очередь - ящики с архивом и амуницией. Примерно через час проехал мимо курьер-мотоциклист. Доложил: ждать грузовики бесполезно, - их не будет: автоколонна уничтожена в первый же налет. Уничтожены все мобильные и другие военные объекты, даже пекарни... Да-а, местные немцы - "пятая колонна"- оказалась на высоте! Что же делать? Как спасти архив? Как выполнить данный нам приказ? Предлагаю реквизировать какой-нибудь грузовик из тех, что улепетывают из горящего города. Получаю "добро" от нашего старшего - поручика. С четырьмя другими курсантами выходим на шоссе Авалски Друм. Для большего веса примыкаем наши ножи-штыки на карабины. Поток беженцев почти прекратился. Лишь изредка проползет в гору редкая, доверху груженная машина, полная людей, скарба. Останавливать? - Духа не хватало: разве можно лишать несчастных их шанса на спасение из подобного пекла?
А тут сверху показался грузовичок. Странно: почему он мчится в столицу, а не, как все, из нее? Перегородили дорогу, остановили. Шофер сказал, что везет маленького хозяйского сына к его родителям. Ребенок, мол, в кузове. Бросились к кузову проверить. А водитель, воспользовавшись тем, что дорога перед ним освободилась, ка-а-ак газанет! Еле успели отскочить. Ах ты, мерзавец!.. - Стой! Стой! Стой, стрелять буду! - по-уставному крикнул я вдогонку, вскидывая карабин. Куда там! Форд-полуторка, пользуясь спуском, был уже метрах в ста, всё пришпоривает и пришпоривает... Я прицелился. Выстрел. Машина как-то странно заюлила, будто за рулем пьяный. Проехав еще немного по шоссе, она ринулась с насыпи влево и вклинилась носом между двух деревьев. Мотор заглох. Тишина... Подбежали, отворили дверку: шофер завалился на правое сиденье. От рваной дыры в задней стенке кабины и до места, где сейчас голова - кровавая дуга: пуля угодила прямо в затылок! Первый день войны, первая от моей руки жертва!.. Когда вытаскивали тело, вывалились какие-то бумаги. Я их машинально сунул в свой нагрудный карман. Рассуждать, что делать с грузовиком без шофера, долго не пришлось: в проходившей мимо через рощу пулеметной роте оказался автомеханик, которого мне уступил на время командир. На счастье, радиатор и фары остались целыми, были помяты лишь передние крылья. Механик с нашей помощью выдернул машину из тисков, в которые были зажаты деревьями передние колеса, и вырулил на асфальт. Показал, как включать двигатель, как менять скорости, и тут же помчался догонять свою часть. Эх, разве в подобной горячке запомнишь все манипуляции рычагом скоростей! Водителей среди нас не оказалось: - Я водил только быков... - А я правил лошадьми... Мне как-то посчастливилось сесть один раз на мотоцикл и проехать на нем метров с пятьдесят. Рискнуть, что ли? - и я влез в кабину.
Сесть со мной рядом, на створожившуюся лужу крови, никто не захотел, - все забрались в кузов. Там никакого ребенка не было, зато стояла полная бензином столитровая бочка и канистра масла-автола. Какая мука в первый раз в жизни стронуть машину с места! Да еще, когда забыл, где какая скорость! Двигатель то сразу глох, как только отпустишь педаль сцепления, то судорожно рвал и прыгал, "как барс, пораженный стрелой"... Кроме проблемы со скоростями, еще одна - с рулем, - колеса, как дурные, норовят ехать не туда, куда надо! Кручу руль туда-сюда, никак не найду его середины! Машина устремляется к левой обочине, - кручу вправо. А она уже у правой бровки, - кручу влево... А в кузове ребята беснуются, тарабанят в крышу: - Куда едешь, Ацо? Влево крути, влево! Вправо, вправо крути!.. - будто я сам не вижу. Но я так занят, что и огрызаться не успеваю. Мне не хватает ширины дороги!.. А тут - поворот в улочку к училищу. Еле вписался. Но впереди еще один крутой поворот влево, а перед ним - узенький мостик. Над ручьем, который метра три внизу. Раньше, когда мы ходили пешком, мостик был совсем нормальный, даже довольно широкий, а сейчас... Э-да, была - не была! Прицелился, покрепче обхватил руль, до упора нажал на газ и... зажмурился, чтобы не видеть, как полетим в пропасть! - Ацо, куда ты прешь? - по-сумасшедшему забарабанили в крышу. Открыл глаза: мостик уже позади, а машина прет прямо на изгородь из колючей акации-гледичье. В последний момент успеваю крутануть влево... Эх, если бы не этот крик ребят!.. Минуты через три мы благополучно прибыли во двор училища. У-у-ф! Не опрокинулись! Весь измочаленный я выскочил из кабины, а "питомцы" (так звались мы, курсанты) посыпались из кузова, потирая свои ушибленные бока: они предпочли лежать на полу, а там их порядком кидало из стороны в сторону. И все-таки, потеряв более часу, миновав всевозможные аварийные ситуации, мы доехали целыми и невредимыми! И задание выполнили - грузовик доставили. Но где же наши? Обращаюсь к часовому у входа. - Они давно ушли. - А ты чего стоишь? - Жду разводящего. Без его распоряжения покинуть пост не имею права... Стою уже четыре часа... Хоть бы кусочек хлеба...
Не обращая внимания на кружащие в небе самолеты, мы бросились к кухне: после вчерашнего ужина во рту ничего не побывало! На противнях аппетитно румянились кусочки жареного мяса. Набросились, как саранча. Без ложек, без вилок! Утолили голод, затем затолкали в наши сумки по буханке хлеба и туда же, до отказа, насыпали обойм с патронами. Погрузили ящики с архивом, с патронами, аптечный шкаф, - а как же без аптеки! Для наших сундуков места не нашлось. Сверху всего в кузове установили два пулемета: один дулом вперед, другой - дулом назад: чтобы обеспечить круговую оборону... мало ли что, - война ведь! Ребята залезли в кузов. Когда через десяток минут проезжали мимо унтерофицерского училища, перед глазами предстала жуткая картина: в проволоке его забора застряли чья-то голова, рука, кровавые ошметки... Немецкие летчики сумели отомстить за гибель их пикировщика! Пусть же вам, бравые унтерофицеры, будет вечный покой: вы достойно, в бою, приняли славную смерть!.. Да, это так, а вот мы... мы, в горячке, не догадались принести бедному, голодному часовому хоть кусочек хлеба! А ведь он тоже - явный герой!
* * *
Кое-как, через Топчидер и Дединье спустились вниз на нужную дорогу на юг. Поздно ночью, неизвестно на каких скоростях, минуя неизвестно сколько пробок и аварийных ситуаций, мы добрались до села Сремчице, куда, как нам говорили, должно было эвакуироваться наше училище. Расспросы, расспросы... - Да, - говорят, - курсантов видели, они проходили... Наконец: - Вон они там, в рощице... Преодолевая последнее препятствие - благополучно переехали по настилу через бровку с дороги в усадьбу. Но в ворота вписаться мне не получилось, и половина их въехала вместе с нами... Темно. Небо густо усеяно тучами, из которых моросит смесь дождя со снегом. Земля раскисла, грязь. Во дворе копошились полумертвые от усталости курсанты, - им пришлось протопать с пятьдесят километров! Вид жутчайший! Все мокрые, ноги растертые до крови... Можно себе представить: с полной нагрузкой, ничего не евши после вчерашнего ужина! Более суток без еды, да такой бросок! Большинство попадало прямо в грязь под деревьями... Навстречу бежит капитан, обрывает мой рапорт: - Еду привез? Где хлеб, бочки с повидлом?.. - Был приказ доставить архив... - На кой нам ляд твой архив!.. - раздается исступленная ругань. Курсанты тоже подскочили, настоящий голодный бунт!.. На наши пять хлебов набросились, вырывают друг у друга... Вспомнилось, что Христос пятью хлебами накормил пять тысяч! Но то Он!.. А мы чуть общую свалку со стрельбой друг в друга не устроили!.. Что ж, задание мы выполнили. Жаль только, что думали лишь о нем, а не подумали о своих товарищах... Во мне, как-то сразу, поник нервный подъем, охватила смертельная усталость. Спать! Спать!.. Где? - Не в грязи же и под дождем, как все: у меня есть крыша - кабина. Не очень удобно, но кое-как примостился, обхватив руль и положив на него голову. И тут же мгновенно забылся... Только заснул,- не знаю, минут через 20 или 30, - меня растолкали. Никого не интересовало, шофер я или нет: - Езжай немедленно назад: на дороге отставшие преподаватели и часть курсантов. Собери их и привези! - Я не сумею выехать! Нашли какого-то гражданского. Вырулить на дорогу он согласился. Но только вырулить. А вот, чтобы ехать дальше, - ни в какую: не может, мол, болен! Разгрузили машину. Только тут поблагодарили за привезенную аптечку. Около фельдшера и нее сразу же образовалась очередь. Привез человек пятнадцать. У развилки на нашу дорогу, у какого-то дома, видимо, корчмы, увидел дремлющего на крыльце курсанта. Остановился, подбежал: Лев Мамонтов! Обхватив руками карабин, он спал! Еле разбудил, и он, спросоня, сел в кабину рядом. Но чтобы не вымазаться в крови, он подложил под себя одеяло.. Только я подъехал, как меня опять погнали в Белград: за повидлом, хлебом и за всем съестным. На этот раз рядом со мной усадили какого-то старшину: уважили мое напоминание, что я могу заснуть на ходу. Этот старшина и будет меня в такие минуты расталкивать... Затем, с несколькими курсантами надо было "зафрахтовать" на сахарном заводе на Чукарице (предместье Белграда) и привезти еще один грузовик с шофером. И снова в Белград - забрать в гараже на Дединье и привезти легковую одного из наших офицеров. Потом поехать в столицу по такому-то адресу, по другому - к семьям офицеров с записками... И еще, и еще... Три дня и три ночи мне, если и удавалось вздремнуть между поездками, то не более, чем на 15-20 минут. Колесил и колесил, выполняя различные поручения.
Теперь всегда рядом сидел какой-нибудь старшина с пистолетом. В его задания входило и главное для меня - не давать мне заснуть. А это было необходимо. Особенно, когда я пересел в легковую офицера "Бюик". О-о-о, то была поистине чудо-машина! Часто над головой кружили немецкие самолеты. За эти дни я многое перевидел. На Чукарице проехал мимо зацепившейся стропами парашюта за шпиль здания и висевшей над самим тротуаром огромной однотонной махины - бомбы. Вот, какая она, эта люфт-мина! Видел, что натворила она на площади Славия. Там ее воздушной взрывной волной были завалены все окрестные здания. Сама площадь была усеяна окровавленными осколками и частями тел. Дежуривший там жандарм рассказал, что, увидев, спускавшегося "парашютиста", сюда сбежалось много людей... с топорами, с вилами, кто чем горазд, чтобы "попотчевать" незваного гостя-"шваба". Не повезло им! На площади Теразие, полыхали жарким костром гостиницы "Москва" и высотная "Албания". На Обиличевом Венце горел и наш "Стари Универзитет". Всюду полыхало, скворчало, потрескивало, разносился мерзкий смрад. Угодили бомбы и в бомбоубе-жище в парке на Шумадийской улице, там поибли все, около ста человек... Не помню, на второй или на третий день решил заехать к маме, вывезти ее из Содома и Гоморры. Что с ней? Жива ли?..Пусть у нас с ней не всё было гладко, но это же мама! Подъехал к Светосавской церкви, на улицу Скерличеву, где она жила: я всегда был в курсе ее перемещений. Вошел. Навстречу - она! Бежит! Бросилась ко мне: - "Ты жив!..". Обняла, зарыдала. Успокоилась, и стала хвалиться своим трудом: своими слабыми руками она за эти дни вырыла себе "щель", накрыла ее досками, прикидала землей... Считала это "бомбоубежище" сверхнадежным! С какой гордостью продемонстрировала она это своё творение! Бросить всё это?! - Ни в коем случае! - Нет, Сашок. Никуда я не поеду! От судьбы не убежишь! А ты, Сашок, береги себя... пожалуйста!.. Последние объятия. Слезы свои она гордо сдержала. Только перекрестила, поцеловала и долго махала вслед... Не знал я, что вижу ее в последний раз!.. Но сцена эта осталась в памяти навечно. Оказывается, она меня все-таки любила! Эх, какие мы были оба гордые, друг к другу непримиримые! Да, я был дерзким, своенравным мальчишкой, не мог стерпеть ее диктаторства. Плюс ко всему, моя первая любовь! Как ты этого не поняла, мамочка? Если бы ты только знала, как мне тебя недоставало, как не хватало ласки, на которую ты всегда была скупа! А может, именно это и сделало меня крепче?.. Эх, мама-мамочка, как я перед тобой виноват!
* * *
Веки отяжелели, стали пудовыми, непроизвольно смыкаются. Хоть спичками их подпирай! Частые пробки на дорогах, нервные переругивания таких же, выбившихся из последних сил, водителей немного взбадривали, но не на долго. А вот монотонное гудение двигателя, однообразный цвет бесконечно тянущейся передо мной ленты дороги, - всё это вновь нагоняло сонливость. К счастью, как я уже упоминал, рядом сидел какой-нибудь старшина, следил за мной, развлекал разговорами, расталкивал, если видел, что глаза мои закрылись, - ему ведь тоже было страшно: а вдруг он заснет! На третьи сутки я стал впадать в забытье каждые четыре-пять минут... Особенно тяжело было ночью: ехать приходилось с потушенным фарами, чтобы не навлечь на себя урчащих в небе пикировщиков... Монотонность... - как ты тяжела, как опасна!.. Из головы испарились все мысли, ни о чем не хотелось, не было сил думать, напал приглушенный автоматизм... Вдруг резкий крик, толчки в бок! С трудом приподнимаю непослушные веки: двенадцатицилиндровый "Бюик" бесшумно мчит вперед, а впереди - чуть виднеющееся серое, монотонное полотно дороги круто сворачивающее влево. Да нет, - оно не сворачивает, а идет прямо... Да нет же: прямо по курсу начинаю различать, что это уже не дорога, а как бы продолжение асфальта, - из лощинки за ее поворотом смутно вырисовывающиеся и белеющие очертания трехэтажного строения! Еще немного, и я бы врезался в него! Молодец, старшина, вовремя нас спас! Рывок, успеваю сбросить скорость и, чуть не опрокинувшись, в последнюю минуту вписываюсь в поворот. Показалось, что оба левых колеса при этом приподнялось... Уф! Но силы окончательно меня покидают... Успеваю заглушить мотор и остановиться: - Больше не могу! - промямлил я, и тут же головой поник на руль.
Мы оба заснули одновременно, не заметив, что, уронив голову, я задел за тумблер и фары брызнули ярким светом... - Под трибунал!.. Под трибунал, мать вашу так!.. - почувствовал я как меня с силой трясут и кричат в ухо. Наконец, пришел в себя, различил: какой-то полковник! Ну и что ж: под трибунал, так под трибунал, - мне абсолютно все равно! Но полковник быстро разобрался, в чем дело и бешенство его сникло: - Немедленно погасить фары! Отсюда ни с места! Приказываю ждать: я вам пришлю шофера... Мы заснули опять. На этот раз разбудил меня сам старшина, потребовавший ехать дальше. Шофер так и не появился. Утром мы доехали до своих. Отоспаться мне и сейчас не дали: помощник моего командира - поручик Ратко Николич препроводил меня в дом хозяина усадьбы: меня срочно вызывали в штаб. За столом сидело несколько офицеров. Я отрапортовал, что прибыл по их вызову. Строго оглядели: - Курсант-ефрейтор, как вы приобрели грузовик? Я рассказал. - Кто дал вам право применять оружие, да еще против гражданского лица? - Он не подчинился приказу, вдобавок пытался обмануть. Приказ военного, выполняющего задание, в войну должен быть законом для гражданских. - Молчать!. Вы застрелили югославского гражданина, а на это у вас приказа не было. Кто он? Я вспомнил, что в моем кителе, в нагрудном кармане, находятся бумаги убитого, и выложил их на стол. Офицеры просмотрели одну бумажку, другую. Какая-то произвела на них особое впечатление: внимательно ее разглядывали, молча показывая друг другу, покачивая головой и по временам бросая на меня испытующие взгляды. Затем приказали мне выйти и ждать снаружи. Поручик вышел со мной. - Дрянь твое дело! Это - трибунал. Кто мог на тебя донести? Тут зовут его одного, а мне - ждать. Через несколько минут Николич выскочил сияя, радостно потряс мне руку: - Браво! Ты спасен! То был немецкий агент. Скоты, даже с "аусвайсами" (немецкими удостоверениями) разъезжают! Вот и решили теперь представить тебя к медали за инициативу и отвагу...
Хозяин дома, пожилой шумадиец (сербская народность), узнав, чему мы с поручиком радуемся, пригласил нас в погреб. Там стояло несколько дубовых бочек с ракией-сливовицей. Взял посудину из высушенной грушеобразной полой тыквы с двумя отверстиями: одним - в торце длинного хвостика-ручки, другим - в дне тыквы. Погрузил ее в бочку. Когда она наполнилась, он, заткнув большим пальцем отверстие в ручке, вынул ее и, приподнимая палец над отверстием, наполнил три кружки. Провозгласил тост: - Нек нам живи Югославия! - Да здравствует! - ответили мы с поручиком. Из своей торбы хозяин вынул вкусно пахнущую лепешку, разломил ее на три части и поставил перед нами миску с каймаком. Какой радушный хозяин, но какой грустный и задумчивый! Это легко объяснимо: мы уйдем, а он останется. Как сложится жизнь его семьи, как разовьются события? А если сюда придут "швабы", - сколько горя придется испытать?! Да, не всё было просто. Югославия, -мы это чувствовали,- была на грани катастрофы. Хоть мы и горели желанием ее защищать изо всех сил, но одного желания было недостаточно. Как и чем могло малюсенькое государство противостоять огромной, вооруженной современным оружием, гитлеровской армии? Безнаказанный налет и бомбардировка Белграда и других городов это доказал. Даже Франция, и то не смогла устоять. У нас - семнадцать миллионов населения, у Германии с Австрией - семьдесят! Плюс, у Германии сейчас вся техника, производство почти всей Европы! Нет, не зря, находясь в кольце врагов, мы надеялись на обещанную помощь нашей "матери-России"! Метко подметили черногорцы: "Нас без Руса - пола камиона "Нас без русских - пол-грузовика. Нас и Руса - двеста миллиона!" Нас и русских - двести миллионов!"
Но с "матком-Руситом" происходило что-то неладное. В 1937 году процесс генералов, в 1939-ом, как гром среди ясного неба, - германо-советский договор! Все же... все же Советский Союз пообещал нам помочь, защитить нас... На него сейчас возлагались последние надежды. Возможно, уже сегодня приведены в движение те 150 дивизий, о которых говорил генерал Гужвич? Может, они уже спешат к нам? Но как они далеко! Успеют ли? Сможем ли мы до тех пор выстоять? Итак, надо сопротивляться, выиграть время! А положение внутри страны? Нет, военный переворот улучшений не принес. Наоборот! Развал, усиление национал-шовинистической вражды, распаленной до предела вражеской агентурой, действующей нагло, без препятствий и хорошо организованной. У "Пятой колонны" всюду своя рука. Пошли слухи, что немецкие части на тыльной стороне некоторых афиш на рекламных тумбах находят вычерченные для них схемы и разведданные. По городу Крагуевцу, якобы, промчались немецкие танки, и в панике был взорван военный завод. Оказалось же, опять-таки по слухам, что части тех танков были привезены в запломбированных вагонах на завод колбасника - немца Шварца, - как машины. Там их смонтировали, прокатили по улицам, посеяли панику. Танки эти через пару часов были обнаружены во дворе брошенного к тому времени завода.
Да что говорить: у самого нашего училища, за два дня до бомбардировки, было задержано две миловидных блондинки. Оказались немками, задававшими подозрительные вопросы об училище часовым. Вот только не знали они, что уже три дня, как охрану его несли сами курсанты, и они были задержаны. Неблагополучно было и в армейском командном составе: когда я курсировал по дороге Сремчице-Белград, то проезжал мимо взмокших артиллеристов: трижды приходилось им выполнять диаметрально противоположные приказы, - то подниматься с орудиями на высотку, то немедленно с нее спускаться. Нередко в зарядных ящиках, вместо снарядов, оказывался металлолом. Панические слухи дезорганизовывали, производили сумятицу, вселяли неуверенность... Как тяжело телу без головы, да и голове без тела, по всей вероятности, не легче! Через несколько дней, из Сремчице длинной колонной, маскируясь у опушек, мы двинули на юг. Стороной обходим села, будто не по собственной земле идем. Куда? Зачем? Где враг? Какое положение на фронте? - Никто ничего не знает. Иди себе молча, ни о чем не спрашивай! Вот вдоль колонны шепотом идет приказ: "Снять колпачки с карабинов (в ту пору их надевали, чтобы предохранить стволы от дождя)!", "Занять круговую оборону!"... Новый приказ: "Надеть колпачки, Встать в колонну, следовать дальше!"... Неужели враг рядом? Эх, как худо быть овцой в стаде, которое гонят "туда, - не знаю куда"! Наконец, мы в теплушках. Через несколько часов наш поезд вдруг начинает двигаться вспять. В чем дело? - Говорят, что города Ужице и Сараево подверглись бомбардировке, пути разрушены, приходится ехать окружными путями. Куда? - на этот вопрос никто не отвечает. Опять движемся вперед, по другой дороге. Через день прибываем в город Фочу, Босния. Выгрузились. Разместились в бывшем монастыре. Мы как на дне колодца: вокруг - лесистые крутые склоны гор. По моим понятиям - это настоящая мышеловка. Не осталось ни одного офицера, кроме Ратко Николича и одного старшины: "Все мобилизованы на фронт!" - поясняют нам. Но где он, этот фронт? Приходит мысль, что командование задалось целью сохранить наши кадры и вывести нас к грекам. Но... ворвавшиеся из Болгарии немцы заняли город Ниш, Македонию и этим перерезали нам путь. Итак, идти, ехать - некуда, мышеловка захлопнулась! Ни туда, ни сюда!.. Через день или два, один из жителей сообщил, что видел за горой три немецких грузовика, продвигавшихся в нашем направлении. Разведка?
Командования рядом не было, и мы, впятером, с карабинами и двумя легкими пулеметами, помчались наперерез. Только заняли подходящую высотку над поворотом дороги и прилегли за пулеметами, как из-за поворота тяжело заурчали машины. Подпустили их вплотную, резанули очередями. Первый грузовик тут же вильнул и с шумом сорвался в пропасть. Второй врезался в скалу, третий - в него. Всё произошло быстро. Тихо. Ни урчания машин, ни стонов. Никакого движения: из крытых кузовов никто не выскакивал! Обоз? В обуявшей нас горячке мы скатились с высотки на дорогу. Я рванул дверку кабины. Меня обожгли чужие глаза: в руках немца нож-штык. Он ткнул им в мою грудь, я успел отшатнуться и всадить в него свой на карабине. Так вот, какой он, враг! Тут я почувствовал, что по груди течет что-то горячее, в глазах потемнело... Позже рассказывали, что когда меня несли в монастырь, один из друзей сжимал мне рукой рану, из которой хлестала кровь. Я определенно родился в рубашке: фельдшер определил, что кончик немецкого штыка немногим не дотянул до сердца, выщербив, однако, кусочек ребра! Я был горд: немецкий штык оказался не в силах пробить славянскую грудь! Случилось это 14-го апреля, а к 17-му я уже был на ногах.
Что толку! Перед строем поручик Николич объявил, что Югославия капитулировала, мы отныне демобилизованы, обязаны сдать оружие и можем разъезжаться по домам. В бессильной злобе, мы со всего размаху бросали на кучу наши карабины, стремясь причинить им побольше ущерба, вывести из строя. Оружие, которое мы перед тем так лелеяли, - пусть теперь оно придет в негодность!.. Молча взирал на все это поручик, затем повел к сундуку и стал из него выдавать каждому по купюре в 1000 динаров. Таких купюр до тех пор мне видеть не приходилось. Кучу нашего оружия стало охранять двое старичков-гражданских с дробовиками. На следующий день к железнодорожной станции доставили две изрешеченные пулями теплушки. В них - трупы наших курсантов, которые накануне попытались на свой страх и риск прорваться к грекам, были настигнуты и... Да, война - не шутка! В тех, кто хоть чуть удалялся из Фочи, стреляли со склонов. Мы оказались окружены! Говорят, что то были банды каких-то хорватских или босанских националистов- "франковцев". Что еще за такие? Донеслись слухи, что еще 10-го хорватский генерал Кватерник объявил независимость Хорватии, что 13-го гитлеровцы вошли в Белград, что правительство, во главе с королем Петром ((, прихватив весь золотой запас страны, на нескольких самолетах приземлилось в Афинах. Ну а нам, "стрелочникам", - нам всю чашу придется, видимо, испить до дна. Конечно, "потерявши голову, по ногам не плачут!".
20-го, к монастырю подъехали мотоциклы с колясками. Немцы! - В очках, касках, в длинных прорезиненных плащах, в коротких сапогах с широкими голенищами (очень удобно, практично, быстро можно одеть!) На колясках удобно закреплены легкие пулеметы. Затворы покрыты воронением и не блестят. (А нас, дураков, заставляли надраивать их кирпичным порошком до блеска!). Да-а, в такой экипировке можно воевать! Без всякого конвоя, в товарных вагонах, нас повезли на север. Кто жил по дороге, сходил с поезда и шел домой. Другим надо было ехать до Белграда. Доехали. У разбитого Белградского вокзала мы были окружены немецкими частями и, на этот раз уже под конвоем, препровождены в казармы бывшей королевской гвардии на Дединье. Перед казармами, в которые нас разместили, - направленные на нас пулеметы. Итак, вопрос отпал: никакого "возвращения домой", - мы взяты в плен! Через несколько дней нас отконвоировали на левую сторону Дуная - в Панчево. Впервые я ознакомился с истинным лицом фашизма: раненых, упавших по дороге, чтобы с ними не возиться, приканчивали штыком или пулей! Первая встреча с фашизмом! И не страх, а злоба и желание мести стали накапливаться в моем сердце... В Панчево объявили: "Хорваты, босанцы, македонцы, словенцы, русские! Выйти из строя!". Я почувствовал себя сербом, подданным страны, которая дала нам убежище, приняла в свое лоно, стала мне второй родиной. И я остался с моими друзьями. Так же поступили и все другие русского происхождения! - По-братски, и как подобает, выпьем чашу скорби! Следующий лагерь, лагерь в Секелаже (по-видимому, в Венгрии), был поистине жутким. К тому времени, греческое правительство тоже капитулировало, король Греции бежал на остров Крит. Эх, как все-таки хорошо быть королями: они вовремя успевают бежать! Из Афин срочно эвакуировались "защитники Греции" - английский корпус: англичане помогают и защищают, выполняют свои обязательства лишь тогда, когда это им выгодно и ничего не стоит! В Иерусалим прибыл наш король Петр II...
* * *
Лагерь в Секелаже. Участок болота, обнесенный колючей проволокой. К тому времени, в различных клетках, разгороженных высокой проволочной сеткой каждая особо, было напрессовано около 200.000 пленных. Никакой воды, никакой гигиены!.. Хочешь пить - болото под ногами. Хочешь лечь - часами топчись на месте, сгоняя прочь болотную жижу с бугорка грязи, который все время стараешься нагорнуть ногами... Еда - буханка хлеба в 1200 граммов на десять человек, плюс литровый черпак недоваренной (не было времени даже вскипятить!) жидкой баланды из кислой капусты или брюквы. Частый дождь, комары. Начался мор: за ночь гибло по 100-150 пленных. Наконец нас, курсантов, повезли в Германию. Наглухо закрытые телятники, без еды, без воды. Трое суток в пути... Полуживые прибыли мы в "Сталаг Х((-Д", находящийся на горе над городом Триром. Парадокс: вот, что уготовил нам народ родившегося здесь Карла Маркса, - привез в его родной город! Прекрасно обустроенный, опрятный лагерь. Старожилы - французские и польские пленные. А теперь появились мы и немного греков-эвзонов в их юбочках. Французы тоже любопытны: со страшным грохотом маршируют в своих "сабо" - деревянных башмаках и распевают маршевые песенки и, конечно, их излюбленную "Мадлон"... Прощай, моя вторая родина! Привет тебе от без боя разбитых! Не поминай лихом, - не наша в том вина!..
* * *
В отрочестве, когда усиленно стремился разобраться в сущности и смысле жизни , в начале и устройстве самого мироздания, в законах взаимного общения и в других высоких материях, так будораживших мой ищущий ум, я был поражен, вычитав у французского философа о существовании двух различных понятий: психологии личности и психологии массы{7}. Психология индивидуума - понятно. А психология массы? - Это, когда множество индивидуумов, по тем или иным причинам, составляют одну массу - толпу. В толпе, множество собственных "Я" подчиняются воле какого-то одного более сильного "Я" - вожаку. И я представил себе кучу мелкой щебенки, где каждый камешек имеет свои характерные острые и неровные края, - свои собственные особенности. А если эту кучу камешков вращать? Тогда каждый из них будет тереться о другие, сталкиваясь с ними, от них отталкиваясь, обламывая при этом собственные шероховатости и превращаясь постепенно в круглую гальку.. Будут обломаны все его индивидуальные выступы и острые углы, неровности, и индивидуум перестанет быть личностью, - потеряет собственное лицо. Он превратится в незначительную, безликую частичку массы. Вся масса этой гальки - ничто иное, как стадо баранов, доверившееся и безропотно следующее за более крупной, сильной личностью. И куда она его поведет, туда слепо пойдут все. Пусть даже в пропасть!.. В неестественном сборище сотен тысяч военнопленных с насильственно обломанными у них характерами и лишенных свободы проявлять себя, и проявилась психология массы-толпы. Хоть каждый еще и сам по себе, но все были, как стадо баранов, в одном проволочном загоне. Объединяло лишь одно, - мысль, как поесть, где это достать, как достать воду, как согреться... Ни того, ни другого не осуществить, и масса металась без цели, без смысла, ибо не было вожака. Так было в лагере на болоте - в Секелаже. Тысячам так и не удалось выжить. И все это - под смех и издевательства "сильных и власть имущих" - вооруженных охранников, наших "победителей".
Было несколько эпизодов, где для меня по-иному проявился "человек". Например, один "бизнессмен", которому удалось сохранить свою шанцевую лопатку, тут же организовал распродажу воды из маленькой ямки, которую ею вырыл. А другой, которому мы из сострадания позволили посидеть ночью на нашем одеяле... короче, проснулись мы от холода: не стало ни шинели, которой мы укрывались, ни этого солдата. "Не зевай, Хомка, на то и ярмарка!"...
Здесь, в Трире, в обезличенных, но со все еще тлевшими проблесками разума, существах, вновь стало пробуждаться человеческое начало. Этому способствовали улучшенные -"человеческие" - условия существования. Лагерь представлял из себя целый город в двести тысяч обитателей. Бараки, прямые улицы, площади. Своя огромная кухня, санчасть, баня. Были и отдельные бараки со льготными условиями - для офицерского состава. Повсюду громкоговорители, под звуки фанфар возвещавшими о новых и новых победах армий Рейха, а иногда и различные приказы. Было и несколько бараков французов, работавших в городе. Счастливчики! Повара-французы тепло относились к нам, югославам, доставленным сюда в самом плачевном состоянии. Достаточно было произнести французские слова: "Дю рабийо, же ву ан при!" или "Супплеман, силь ву плэ!", как нам отпускали дополнительный черпак. И приветливо при этом улыбались. Были приятны, как черпак, так и улыбки. Что больше? Думаю, что улыбки были особо важными, - сглаживали чувство унижения у "попрошаек", не давали ранить достоинство и гордость.
Никогда не думал, что мне когда-либо пригодятся мои знания французского языка! Спасибо вам, Евгений Александрович Елачич и мадам Хлюстина, моя строгая учительница! Я быстро научился произносить целые фразы, чем сразу же привлек благосклонность французов. Вот только меня они понимали отлично, я же не успевал толком вникнуть в ответную скороговорку. Ничего, и этот барьер будет вскоре преодолен!
Находился в лагере и особо огороженный барак, куда доступ был затруднен, почти запрещен. Что там за люди? Любопытство способно преодолеть любые препятствия. Там оказались интербригадовцы. С ними быстро был установлен контакт, и я стал их навещать. Удивительные люди! Разных национальностей, разноязычные, они с полуслова понимали друг друга. Жили дружно, слаженно. А какая дисциплина, какая чистота! И все в постоянном труде. Разбившись на группки, они изготовляли сувениры разного рода: лакированные шкатулочки, портсигары с орнаментами из соломки; полированные самолеты разных типов на красивых подставках, с кабинами из пластмассы. Материал подручный: алюминиевые котелки, ложки, ручки зубных щеток. Расплавив металл, выливали его в песочные опоки, сформированные заранее. Детали опиливали надфилями, полировали. Отверстия для соединения-монтажа высверливали ими самими изобретенными и изготовленными дрелями, где сверлами служили расплющенные гвозди. Работа шла по конвейеру: одни занимались деталями, другие - доводкой и сборкой, окончательной отделкой. Готовые изделия обменивались на продукты. Заказов от охранников - хоть отбавляй! Они же и снабжали инструментами, наждачной шкуркой, прочим. Я сдружился с одной из групп, где почти все были русскими. Ими руководил Иван Троян. У них, у "трояновцев", мы и переняли опыт. Нас сгруппировалось человек пятнадцать. "Трояновцы" снабдили нас образцами, обучили изящному кустарному производству.
* * *
Репродукторы возвестили: "11-го мая бежал на самолете в Шотландию психически заболевший Рудольф Гесс". Гесс? - но это же правая рука Гитлера! Зачем ему понадобилось "бежать". В его "психическое заболевание" никто, конечно, не поверил. Второе сообщение привело весь лагерь в небывалое волнение. Подолгу стояли у репродукторов и слушали... Слушали и не верили: "22-го июня войска Германии перешли границу и продвигаются вглубь Советского Союза...". Массовая сдача красноармейцев в плен! Последовало сообщение о "первом в истории" парашютном десанте на остров Крит и капитуляции его английского гарнизона... Будто с цепи сорвавшиеся, репродукторы транслируют победные марши и сообщения о "победоносном и несокрушимом марше по России", о захвате города за городом... А что же со знаменитой "линией Сталина"? Где она? - Об этом абсолютно ни слова, будто ее и не существовало... Группки французских и польских офицеров, стоя у репродукторов, тут же на песке вычерчивают западные границы СССР, отмечают захваченные города, делятся впечатлениями, прогнозами...
Иван Троян и его группа русских стали для нас учителями в труде, в жизни, в оптимизме. Естественно, что именно к нему я и побежал в панике: - Что же теперь будет? - в нас еще теплилась надежда на помощь русских, а их... перемалывают! - Цыплят по осени считают! - спокойно, глубокомысленно изрек Иван: - Нечего вешать нос. Раз напали на Россию, там себе и шею свернут!..
Я уже знал историю Трояна, хоть он и не отличался многословием. С 1924 года он состоял членом ФКП - французской компартии. Тогда же в нее вступили и другие русские, в основном бывшие гардемарины: Георгий Шибанов, Алексей Кочетков, Николай Роллер, Николай Качва, Александр Покотилов, Леонид Савицкий{8} В 1936 году, большинство из них посчитало долгом броситься на защиту Испанской Республики и вступили в Интербригады. Они понимали, что именно в Испании надо и можно сражаться с набиравшим силу фашизмом и национал-социализмом,- все прекрасно чувствовали и видели, к чему они ведут. Шибанов, например, стал политкомиссаром одной из бригад. Там шли кровопролитные бои. Франция, с её политикой "невмешательства", перестала пропускать в Испанию военную помощь республиканцам, сугубо осложнив этим положение защитников законного правительства. Теснимая со всех сторон превосходящими силами франкистов, республиканцы отступили к Пиренеям, надеясь найти убежище во Франции. Она их приняла, но тут же заключила в лагеря для интернированных. Оттуда, чуть позже, препроводила в тюрьму в городе Кастр. Иван Троян, Г. Шибанов и югославы - генерал Любо Илич и Милан Калафатич- тоже были в этой тюрьме. Им вскоре удалось бежать без И. Трояна. Интербригадовцы, оставшиеся в тюрьме, после капитуляции Франции, были затребованы немецкими оккупационными властями и переправлены в этот "Сталаг Х-Д", где мы с ними и встретились. {9}
- Уверен, что мы с тобой еще увидимся. Ни мы, ни вы сложа руки сидеть не будем. Это точно! Будем с вами по одну сторону баррикады. Значит, и возможность встречи не исключается. Не забывайте, что вы - солдаты. С нас, пока идет война, этого звания никто не снимет. Следовательно, все еще впереди. Все помыслы должны быть - вырваться и опять продолжить сражение с оружием в руках! {10} Забегая вперед, отмечу, что Ивану Трояну удалось бежать с каторги в Германии во Францию, где он активно руководил группой Сопротивления. Но об этом - позже.
В июле нас, курсантов, переместили в город Саарбрюкен, где разместили в бывшей конюшне. Почему отобрали именно нас? - Как оказалось, курсантов офицерского училища, согласно Женевской Конвенции, должны были приравнять к офицерскому составу, который освобождался от работ. Кроме того, после почти двухмесячного пребывания в сравнительно хороших условиях в Трире, хорошо окрепшие, мы могли бы сойти за неплохое пополнение для вермахта или частей СС. Но для этого, - гитлеровцы еще не рисковали нарушать международные соглашения, - необходимо было добиться нашего письменного добровольного согласия. Рано утром нас выгнали во двор и заставили построиться в длинные шеренги. Солдаты-автоматчики стали сзади и спереди. - Ахтунг! Ахтунг! - скомандовал немецкий офицер. Взял у стоявшего рядом адъютанта лист и стал читать. Толмач переводил на сербско-хорватский. Нам предлагалось подписать декларации, стопками лежавшие на столе, о добровольном согласии работать на Германию. Наступила тишина. Затем по шеренгам пронесся шепот. Из рядов шагнуло двое. Они подписали по бумажке, их похлопали по плечу и увели. Всё снова замерло. Офицер не выдержал, подскочил к крайнему курсанту и заорал на весь двор: - Унд ду? (А ты?)... Подпишешь или нет? Тот отрицательно мотнул головой и тут же получил удар кулаком. Потом офицер шагнул к следующему... И так десять часов: мы стояли, а они нас били. Только к вечеру, стреляя поверх голов из автоматов, пленных загнали обратно в конюшню. Еду в этот день не дали. Через несколько дней нас погрузили в вагоны и под конвоем доставили в штрафной лагерь, в город Сааргемюнд, в Лотарингии, аннексированной к Третьему Рейху.
Глава 2. "СОПРОТИВЛЕНЦЫ В КОРОТКИХ ШТАНИШКАХ"
Возможно, история эта покажется очень сентиментальной, но слишком уж удивительна, чтобы о ней не упомянуть. Особенно потому, что случилась она в годы самой кровожадной войны. В любой войне резко выпячивается не только изуверство. Неугасимым светом и теплом побеждают тьму и общий хаос те чувства, из-за которых человек и достоин называться Человеком. Франция была побеждена. От нее отторгли целые регионы: Эльзас и Лотарингия были аннексированы. Там сразу же наложен запрет на всё французское: на язык, на народные песни, традиции. На места бежавших перед нашествием были водворены немецкие колонисты. Некоторые села целиком, таким образом, оказались в руках этих новых "хозяев"{11}. Круто и методично шло принудительное онемечивание. Этому способствовал строжайший надзор, сопровождаемый террором. Не было села, где не разместилось бы око и ухо вездесущего гестапо. Надписи не только на улицах, но даже и на надгробных памятниках, если они на французском, должны были быть стерты и заменены на немецкие. Приказ есть приказ, и его выполнили. Но как! - Не стирая, их просто закрасили, и поверх вывели другие, готическим шрифтом. Вероятно, это было первым, хитроумно скрытым, выражением молчаливого протеста: закрашенное всегда можно будет очистить в недалеком, но неминуемом, будущем. Не в этом ли крылся зародыш будущего Сопротивления?!
Сопротивление! Когда и как оно началось? - Об этом хорошо сказал французский историк Анри Ногер: "Французское Сопротивление родилось в Бордо 17 июня 1940 года, ровно в 12 часов 30 минут. Именно в этот час глава правительства, маршал Петен, передал по радио своим по-старчески дребезжащим голосом, что-де он, маршал, приносит себя в жертву, чтобы смягчить несчастье Франции: "Скрепя сердце, говорю всем: надо прекратить сопротивление! Ибо оно - бесполезно!"{12} Таким образом он, даже не издав предварительного приказа сложить оружие, признал, что дальнейшие боевые действия против напавшего врага - бессмысленны.
А между тем, нетронутыми остались огромные ресурсы не только в колониях Африки, но и в отдельных массивах почти всей Франции. И конечно, не все вняли такому призыву. Вместо того, чтобы покорно, как стадо баранов, пристраиваться к колоннам военнопленных, которых несколько солдат в зелено-мышиных униформах погонят в лагеря Германии, они продолжили борьбу, ставшую отныне называться движением Сопротивления. Раз враг напал на родную землю, ему необходимо дать отпор! Вдоль новой границы на севере Франции, от Швейцарии до Бельгии, самый промышленный регион был объявлен "Запретной зоной" - "Зон энтердит", и был подчинен, как и Бельгия, административному управлению, с демаркационной линией, отделяющей ее от остальной Франции, вернее от ее остатков. Такой же демаркационной линией были поделены и эти остатки: на "Северную" или "оккупированную" с центром в Париже, и на "Южную" ("неоккупированную" или "зон но-но") зоны, с центром в Виши. Переходить демаркационные линии, как и границы, можно было лишь с соответствующими пропусками.
* * *
Он так и стоит в памяти, этот "Stalag IV" в Сааргемюнде-Штайнбах, ставший позже печально известным "Черным лагерем". Корпуса бывшей психбольницы. Больных перед тем уничтожили. Высоченные каменные стены со вцементированными вверху острыми осколками битого стекла. С внутренней и внешней сторон стен- спирали колючей проволоки. Ряд вышек с пулеметами. Внутри мрачного двора - корпуса с камерами. Стекла окон в камерах - толщиной в 4-5 см. Ночью в выходивших из корпусов стреляли без предупреждения. Завтрак - эрзац-кофе, затем работа по десять часов. По возвращении с работы - миска кислой похлебки из капусты или шпината, кусочек хлеба. Нацисты не признавали нас за людей, малейшая попытка напомнить им, что ты - человек, кончалась зверским избиением или пулей. Они - господа, мы - обыкновенные рабы. И нескончаемая цепь всевозможных унижений... - Медики, врачи! Выйти из строя! - объявляет на разводе офицер. Несколько человек, обрадовавшись, что предстоит легкая и чистая работа, выходят. Конечно, откуда среди нас быть врачам?! Отобрано двадцать человек, их уводят. Мы завидуем счастливчикам. Минут через десять, когда нас выводили из лагеря на работу, они, "счастливчики", повстречались нам с ведрами, в резиновых сапогах, - их вели выкачивать нужники! А охранники хохочут: - Это тоже относится к медицине! Ги-ги-ена!.. Ха-ха-ха! Редко, кто не мечтал о побеге...
После нескольких дней изнурительной работы по расчистке в городе завалов разбомбленных строений, мне повезло: администрации лагеря потребовалось четыре человека для работы в близлежащем селе Ремельфинген. Джока Цвиич, Михаило Иованович, Николай Калабушкин и я, - все четверо из нашей спаянной группы, - под конвоем одного гражданского с карабином, направлены в село. Когда шли по нему, ощущали пристальные взгляды то из щелей в заборах, то из-за зашторенных окон, то из-за угла, из подворотен. А улицы были пустынными, будто всё здесь вымерло. Наши пароконные подводы грохотали впереди, за ними шли мы под конвоем. Подметали, грузили кучи мусора, сгружали его на свалке. А в голубой дали виднелся лес, зеленые поля. Простор и приволье! Сделай шаг-другой - и ты на свободе. И мы думали о ней каждую минуту. Конвоир один, его можно скрутить. Но как бежать без гражданской одежды? Куда? Где мы находимся? Далеко ли до Франции? Франция казалась нам решением всех наших чаяний: там определенно найдем людей, которые нам помогут! Несколько раз попытались заговорить со случайными прохожими, но те шарахались от нас, как от чумных: население было предупреждено, что за связь с нами - концлагерь! Грустное, тяжелое ощущение западни и безысходности! И вот, когда мы уже стали терять Надежду, к нам вдруг робко приблизились невесть откуда взявшиеся мальчишки. Впереди, чуть настороженно, старший, лет четырнадцати. Берет набекрень, широко открытые, серьезные глаза. Личико худенькое. Нескладный какой-то, угловатый. Чуть позади - средний, с чуть раскосыми живыми глазами, круглолицый. Он жадно разглядывал нашу форму. Ему было лет одиннадцать-двенадцать. Рядом с ним широко расставил ноги полный достоинства карапуз годков девяти. Все белобрысые, вихрастые.
Конвоир был поглощен чисткой карабина. Не услышав его властного окрика, ребятишки подошли еще ближе. - Месье, ки эт ву? (кто вы такие?) - обратился к нам старший. Конвоир сделал вид, что ничего не слышит и не видит. Я ответил: - Мы - военнопленные югославы, из штрафного лагеря. - Поль. - серьезно, по-взрослому представился старший: - А это - мои друзья, братья Муреры, Жером и Эвжен. У нас каникулы... Конвоир всё чистил карабин. Мальчишки совсем осмелели, засыпали вопросами о нашивках, знаках различия, о звездочке на погонах, о войне... Я рассказал им, как нас взяли в плен, показал шрам на груди, сказал, что мы были курсантами. Через минуту они залезли на подводу, трогали нашивки, значки на кителях, рассказывали о себе, своем селе... Но больше спрашивали. - Ты слыхал о нашей стране? - спросил я старшего. - О да, мы ее знаем. Это на Балканах, нам говорил учитель. А почему ваши товарищи не говорят? - Они еще не знают французского. Какие это были счастливые, радостные минуты! Истосковавшись по нормальному человеческому общению, по свободе, измучившись в поисках путей к ней, мы так обрадовались ребятишкам! Не скрою, почти сразу родилась мысль установить с их помощью контакт со взрослыми.
В лагерь возвращались окрыленными, повеселевшими, исполненными надежды. Мальчишки пришли к нам и на следующий день. Принесли какие-то свертки и спрятали их в телегу. Когда конвоир был занят своими делами, Поль заговорщически подозвал меня и раскрыл сверток. Бутерброды! С настоящим хлебом и колбасой! Пряча их от глаз конвоира, попытались уединиться, но куда? Не выдержали и набросились на них тут же. До дрожи в душе вдыхал я аромат бутербродов и жевал, забыв обо всем на свете. Сунув очередной в рот, я посмотрел на ребят. Они глядели на нас широко раскрытыми глазами. Оглянулся: товарищи уплетали столь же самозабвенно. От их отрешенного вида, от вида ребятишек, ошарашенных нашей реакцией на обыкновенные по их понятию продукты, меня разобрал смех. Друзья удивленно оторвались от еды, повели глазами сначала в мою сторону, потом на мальчишек и тоже начали смеяться. - Нет, но вкусно же! - оправдываюсь я, нюхая еду и по-собачьи дергая ноздрями. Это вызвало новый приступ смеха у всех, и мы долго хохочем вместе с мальчишками. Ничто, наверное, не раскрепощает и не сближает так людей, как хороший, здоровый смех. Наши новые друзья совсем перестали нас опасаться, да и мы стали считать их своими. Даже мысль промелькнула: "Эх, как бы хорошо было, чтобы такими были наши собственные сыновья!". Поль взял лопату, начал кидать мусор на телегу. Получалось плохо. Смех, визг. Один стал вырывать лопату у другого. Возня... Опомнились, оглянулись на конвоира. Он равнодушно курил. Мне показалось, что и он ухмыляется. Странно, что он за человек?
Часть бутербродов отнесли в лагерь больным и ослабевшим товарищам. На следующий день мы опять в окружении тех же ребят. - Алекс! - шепчет мне Поль: - Сегодня вас ждет приятный сюрприз. Всё поведение ребятишек отдает таинственностью. Глаза их возбужденно блестят. Перевожу сообщение Поля друзьям. На вопросы, ребята отделываются упорным молчанием, только с многозначительным видом поднимают палец. Чувствуем, что они и сами горят нетерпением поделиться "секретом", но сдерживаются изо всех сил. Приходит час перерыва, и наш страж ведет нас к какой-то подворотне. Ребята шумно шагают рядом. Даже, как нам кажется, указывают ему дорогу. Что, и он с ними в сговоре? Входим во двор. Строения окружают нас со всех сторон, и с улицы нас не видно. Чудеса: перед нами в закутке стол, накрытый белой скатертью, скамейка, стулья. На столе пять приборов, большая ваза с нарезанным хлебом. Даже двухлитровый графин с вином! Приносят супницу, разливают по тарелкам, приглашают сесть. Всем этим занимаются трое пожилых крестьян. Конвоир садится рядом. За время обеда ребята то и дело один за другим по очереди выбегают на улицу: дежурят, видимо, чтобы предупредить об опасности. Узнаем, что наш конвоир - эльзасец. Нанялся служить у немцев, чтобы избежать мобилизации. У него большая семья, ее надо кормить. Старший из гостеприимных хозяев, по фамилии Людман, интересуется, где мы воевали, как к нам относятся гитлеровцы (так и сказал "гитлеровцы"), чем нас кормят. Местных жителей интересует настоящая правда, а не та, которую им преподносят оккупанты: что на самом деле кроется за образом "добряка-фельдфебеля", держащего на руках пухленького смеющегося ребенка. - Так показано на расклеенных повсюду плакатах. Что именно скрывается за изобилием публичных концертов и выставок на тему "Родина изящных искусств и художественной литературы", где Гёте рядом с Гитлером, а Бетховен - с Геббельсом?
Почти три недели подкармливали нас крестьяне во главе с Людманом, снабжая продуктами и для товарищей в лагере. У них мы узнавали о последних новостях с фронта. Увы, в них не было ничего утешительного! Зато в стране и в городе расклеенные гитлеровцами плакаты-предупреждения говорили о многом: “За время отдавания почести немецкому флагу каждый прохожий обязан остановиться и снять головной убор. Иначе..." "С большим негодованием приходится констатировать, что молодежь преднамеренно занимает всю ширину тротуара, пытаясь этим заставить немецких офицеров с него сходить. Подобный образ действия молодежи преследует определенный замысел..." "Учитывая, что акты саботажа и терроризма продолжают осуществляться, особенно на железнодорожных ветках, на складах, молотилках и т. п. в регионе устанавливается комендантский час с 23-00 до 5-00 утра. Все празднества и собрания запрещаются..." "В ночь с 16 на 17 августа произведено вооруженное нападение на немецкого часового. Мерзкий преступник до сих пор не найден. В случае его неявки, будут взяты и расстреляны заложники..." "В наказание за преступление, в случае неявки виновников, ... числа будут расстреляны 25 коммунистов и евреев. Если преступники и через 12 дней не будут выявлены, то дополнительно будет расстреляно еще 30 заложников." Отсюда можно было понять, что постепенно, начиная с безобидных действий протеста, таких как надписи на стенах, как отказ перевести часы по немецкому времени, Сопротивление растет и переходит к более значительным актам: снабжению бежавших из плена гражданской одеждой, созданию "цепочек" по переправке людей из одной зоны в другую, через границу; помощи эльзасцам и лотаринжцам, противящимся онемечиванию; сбору оружия, брошенного французскими частями во время отступления; перерезанию и порче телефонных кабелей; поджогам немецких автомашин и гаражей; организации забастовок и саботажа на промышленных предприятиях и в шахтах; повреждению коммуникаций сообщения и наконец - к вооруженным нападениям.
* * *
Всё сильнее укрепляются узы с жителями Ремельфингена, называвшегося ранее, под Францией, Ремельфеном. Но мы по-прежнему осторожны и никому не говорим о планах побега. И в то же время, все наши мысли направлены именно на это: бежать, соединиться с любой действующей против гитлеровцев армией и продолжить борьбу с агрессором. И естественно, наши надежды - на ребятишек. Зондирую почву: - Поль, что бы ты делал, будь на нашем месте? - Я? Конечно, бежал бы. Добрался бы до Африки или Англии: там армии, которые дерутся с бошами. - Правильно. Об этом и мы думаем. Но как отсюда бежать? Как перейти через границу? Да и из Франции надо еще переплыть через Средиземное море или океан. И из самого лагеря бежать не так-то просто... Поль, как неплохой реалист, задает вопрос в свою очередь: - А что, были уже попытки? - Были, Поль, были. Но... неудачные. Жером и Эвжен подошли ближе, навострив уши. Вступают в разговор: - Расскажите о них, Алекс! - Ладно. Только никому ни слова! Обещаете? - Пароль д' оннэр (честное слово)!. Будем немы, как рыбы... Лица их стали серьезнее, будто они и в самом деле полностью отдавали себе отчет в стоимости "честного слова". Жером вдруг спросил: - Не ваших ли недавно ловили в лесу? Говорят, одного из них повесили... - Да, Жером, то были наши товарищи. Один из трех, бежавших с работы, был повешен. А двух других растерзали собаки... Его уже привезли полумертвым. На нем живого места не было, мясо висело клочьями. А лицо... если бы ты только видел его лицо!.. Повесили перед строем. Другие пробовали бежать и из лагеря, ночью. Но их срезали пулеметные очереди. Один из них, тяжело раненый, висел на стене, зацепившись за проволоку, стонал. Комендант запретил к нему приближаться. Лишь после смерти сняли его... Это - чтобы на всех нас нагнать побольше страху и доказать, что побеги - пустая затея... Лица ребят потемнели. Слезы заблестели на глазах Жерома и Эвжена. - Что это ты им рассказал? - встревожился Михайло: - Смотри, на них лица нет! - О неудачных побегах и чем они закончились. - Зря ты это! - Николай с упреком покачал головой: - Такого нельзя детям рассказывать! - А может и не зря! - засомневался Джока: - От правды не уйти. Помню, я сам любовался и завидовал марширующим в кино "гитлерюгендам" и итальянским "балилам": какие парадные! Мог ли я тогда предполагать, что из них воспитают зверей... Сколько еще продлится война, - не знаем. Возможно, Поля заставят вступить в гитлеровскую молодежь. А правда, которую Алекс рассказал, предостережет его, не даст одурачить...
* * *
В тот день мы работали молча, погруженные в мысли о судьбе нашей и ребятишек. Всего неделю назад был тот страшный день, когда в петле в Штейнбахе корчилось в судорогах изгрызенное собаками тело нашего товарища. Был он из Шумадии, лесистой области Югославии. Как и все мы, любил он жизнь, свободу. Все немцы, по его понятиям, были нацистами. Ни его, ни его товарищей не напугали неудачи предыдущих побегов. Мы не знали, что у немцев имеются хорошо выдрессированные ищейки. Гордо и прямо старался он стоять, когда надевали петлю. Напряг, видимо, остатки своей воли и своих сил. Мне казалось, что смотрел он на нас с немым укором и протестом: "Вот, меня вешают, а вы... вы смотрите. Никакой попытки что-либо предпринять!.. Трусы!". И это глубоко запало в мою душу... Да, все мы жили тем жутким днем, и не было желания о чем-либо говорить. Ребята это поняли. На следующий день разговор продолжился. Начал его Жером: - А может не стоит бежать? Война кончится, а пока вам у нас будет хорошо. Дома мы разговаривали о вас до поздней ночи. Родители возмущены. Нам страшно за вас. Будет очень горько, если вы погибнете... Поль и Жером смотрят, словно ожидая ответа. Я перевел слова Жерома. Что им ответить? - Нет! Мы - солдаты, наше место - в строю. Когда гибнут лучшие, а наши земли топчет чужак, мы не имеем права сидеть сложа руки и ждать, что кто-то принесет свободу на блюдечке. Вы сами перестали бы нас уважать. А мы вас любим и дорожим вашей дружбой. Мои товарищи были того же мнения. Другого и быть не могло. - А не попробовать ли вам бежать прямо из села? Мы бы отвлекли конвоира, и вы бы скрылись. Вот только в окрестностях много сел с немцами. Если вас заметят, обязательно выдадут... Эти села необходимо обходить стороной. - Кроме всего прочего, мы не знаем дороги. Спрашивать о ней, - сами понимаете...Были бы карта да компас!.. - продолжаю я развивать свою мысль: - Да и одежда необходима... Приобрести гражданскую одежду было одной из самых существенных, почти неразрешимых задач. Ребятишки пообещали что-нибудь придумать.
Конечно, нельзя бежать, абы бежать, вслепую и неподготовленными. Как хорошо, что мы сплотили большую группу еще в Трире! Наше кустарное производство - изготовление сувениров - пришло в полный упадок: во время обыска у нас отобрали весь инструмент и детали. Пришлось переквалифицироваться в хоровую капеллу. Ею стал дирижировать Михайло Иованович. Щуплый, худенький, низкорослый, он обладал зычным басом, схожим, возможно, со звуками иерихонской трубы... Откуда только такой мощный низкий басина в маленьком тщедушном теле?! Были у Михаила и отличные организаторские способности, умение составить программу выступления. Вначале мы пели для себя, для товарищей по несчастью. Потом стали приходить и охранники.
Вскоре наш хор стал известен на весь лагерь. Охранники начали подбрасывать нам продукты. При нашем рационе - буханке хлеба на 8-10 человек - это было большой поддержкой. Добавка в питании могла облегчить возможность побега, и мы стали откладывать и накапливать продукты на всякий случай. А вдруг!.. Бежать решили тройками. Во главе первой будет Михаило. В нее вошли Николай Калабушкин, здоровенный детина, и я, - тоже не из слабеньких. Старшим второй тройки будет Добричко (Добри) Радосавлевич. Он тоже был крепким парнем и хорошо владел французским. В его тройке - Средое Шиячич и Джока Цвиич. Малыши из Ремельфингена стали частью нашей жизни. Вместе с нами они делили все наши горести и радости, гордились дружбой с нами, тем, что мы с ними общаемся на равных. Ребятишки обучили нас песенке оккупированной, но не сломленной, Лотарингии. Я до сих пор помню ее слова. Она была написана после войны 1871 года, когда Германия Бисмарка аннексировала Эльзас и Лотарингию: "Эльзас и Лотарингию вам не сразить! Вам вопреки, французы будем мы. Вам онемечить удалось долину, Но наше сердце вам не покорить! "Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, Et malgré vous nous resterons Française! Vous avez beau germaniser la plaine, Mais notre coeur - vous ne l'aurez jamais! В свою очередь, я научил ребят лозунгам на русском и сербском языках: “Да здравствует Россия!", "Живела Югославия! Живела Француска! Живела слобода!" {13}
У ребятишек вошло в обычай поджидать нас по утрам и бросаться нам на шею. Мы для них стали что родные. Время шло... В лагерном лазарете фельдшерами и санитарами работали французские военнопленные. Мы подружились с ними, попросили составить средства против ищеек, выделить нам флакончики йода, бинтов, вату и прочее. Перед обедом мы тренировались бегу и хождению след в след. Установили, что первым должен следовать Михаило: к его короткому шагу нам проще было приспособиться, чем ему к нашему. Почему след в след? - Очень просто: меньше следов - меньший расход средств от собак. Тренировками мы укрепляли силы, выносливость. Занимались одновременно и ремонтом обуви - французских солдатских ботинок, выданных нам немцами взамен отобранных у нас сапог. Ботинки даже лучше: в них легче дышет нога. И от них будет многое зависеть, - для беглеца обувь дороже золота! Присматривались и к обычаям местного населения. Чистота и порядок здесь соблюдаются до педантизма: необходимо быть всегда чисто выбритым, одежда должна быть опрятной, отутюженной, ботинки - быть надраенными до блеска. Если этого не соблюдать, то первый же встречный поймет, что ты - чужак. Гладить брюки в дороге просто: чуть обрызгав их, расправь и ложись на них спать. А если на влажной траве, то и обрызгивать нет надобности. Главное - не ворочайся во сне! А встанешь, они будут, как из-под утюга! Кроме одежды нам, следовательно, необходимо было приобрести иголки, нитки, бритвенный прибор, сапожную мазь и щетку, мыло... Список необходимых вещей пополнялся по мере детального изучения всего, что могло в дороге понадобиться. Где всё это достать? - Естественно, лишь через наших друзей-ребятишек!
* * *
Сегодня после работы у нас спевка: один из фельдфебелей нашей охраны получил предписание "на Восточный фронт", и решил "закатить" прощальный концерт. А чтобы у "хоровой капеллы" было хорошее настроение, он пообещал выдать нам несколько буханок хлеба, четыре килограмма сахару и... два ведра пива. Хлеб и сахар - ура! То, что надо! Ребята будут стараться! Фельдфебель Вальтер Бруно пригласил на концерт нескольких друзей. Было заметно, что, получив "путевку", он как-то сник. В бывшую столовую медперсонала психбольницы, где будет концерт, Бруно ввалился с друзьями. Все были навеселе. Дают знак начинать. Михаило взмахивает руками и... мощно и стройно загремела песня. Она заполнила огромное помещение: "Отацбино, мило мати, Увек hу те тако звати, Мила земло, мили доме, Нек нам живи слобода, Jугословенскога рода, Нек нам живи, нек нам живи Jугославиjа! (Родина, милая мать, Всегда буду так тебя звать! Дорогая земля, милый мой дом! Да здравствует свобода Югославского народа! Да здравствует Югославия! Звуки ее потекли вначале как журчание ручейка, чтобы затем разразиться ураганом, сотрясшим стекла. Все свои концерты мы начинали именно с этой песни. Она была для нас зовом нашей родины, сейчас недосягаемой, но в ней становившейся близкой, буд-то совсем рядом. Мне и друзьям в эти минуты виделись родные картины юности. За ней следовали песни Черногории, Шумадии и... русские, всем нам известные: "Волга-Волга, мать родная, Волга, русская река..." Плавно плывет песня. Необъятная ширь, непоколебимая мощь, безграничная удаль казацкая слышатся в ней. Мы ее очень любим, исполняем ее с душой. Но что это?.. Не может быть! - Вальтер Бруно плачет! Толкаю локтем соседа, глазами показываю на столь необъяснимый феномен. Фельдфебель уже не плачет, - он рыдает по-настоящему, со всхлипами, подрагивая плечами. Обхватив голову рукам, раскачивается из стороны в сторону... Другие "завоеватели", с кислыми минами, стараются его успокоить. Видимо, здорово "перебрали". Уже хотим закругляться, но Вальтер поднимается и неуверенными шагами подходит: - Югославен!.. Нох маль "Вольга-Вольга"... битте! - и он поясняет, что завтра или послезавтра отправляется на Восток: - Фаре нах Остен!.. Я-я... фри-рен! (На восток... замерзать!) - бормочет он заплетающимся языком.
* * *
Фельдфебель своё слово сдержал. Как и было решено заранее, нам, претендентам на первый побег, выделено два килограмма сахару. Подготовка к побегу идет и в Ремельфингене. Полю удалось раздобыть карту департамента Мэрт-и-Мозель. Жером с триумфом вручил мне компас, который для нас передала вдова французского майора, мадам Эрвино. А вот с цивильным плохо: наш рост, Николая и мой, - 180 см. Здешние же жители слишком мелковаты! Вдруг Поль задал необычный и неожиданный вопрос: - А как вы будете защищаться, если вас обнаружат? - Какой-нибудь способ да найдем. Живыми ни в коем случае не сдадимся! - Ну а все-таки? - Да как бы тебе сказать... пока не знаем, об этом не думали. Всё будет зависеть от обстоятельств. Разве можно всё предугадать? И действительно, мы знали одно: если поймают, - смерти не избежать. - А мы кое-что придумали, Алекс. У нас в селе живет нацист. У него сын в "гитлерюгендах", таскает пистолет. Мы могли бы его стянуть... если вы согласны. Это предложение было настоль неожиданным, что я растерялся. Соблазн велик, слов нет. Но, посоветовавшись друг с другом, решили отказаться: нельзя малышей и их семьи подвергать подобному риску!
* * *
Прекрасная солнечная осень. Август. Уже более двух недель, как работаем в селе. На полях поспел картофель. Ветви фруктовых деревьев ломятся от сочных плодов. Что может быть лучше подобных даров, которые сама природа предлагает беглецам?.. - Нун, майн либер Алекс! - неожиданно обратился ко мне конвоир: - Хватит играть в прятки! Я знаю, к чему вы готовитесь! Я весь напрягся. - Слушай внимательно: я не могу допустить, чтобы вы бежали отсюда, из-под моей охраны. Пойми: у меня семья, трое таких же ребят... Думаю, у вас всё подготовлено? Учтите, что в этом и моя заслуга: я смотрел и... "не видел". Рад, что наши парнишки такие молодцы. Нет, не бойся, - я вас не выдам. Но нужно ваше слово: перед днем побега вы обязаны меня предупредить. И я вас переведу в другую команду. А там - дело ваше!.. Вздыхаю с облегчением. Невероятно, но факт: конвоир - на нашей стороне, наш сообщник! Конечно, подвести его не имеем права, хоть это и осложняет наши планы, обещаю предупредить с чистым сердцем. Лихорадочно стали закруглять наше пребывание в селе. Поль приносит последние, недостающие нам, брюки. Не по росту, зато... цивильные! Ввиду невозможности пронести в лагерь туалетные принадлежности (штатскую одежду одевали под униформу), договорились с ребятами, что забежим за ними после побега.
* * *
В Штайнбахе бригады построены на выход. С замиранием сердца ждем, как выполнит, и выполнит ли, своё обещание наш конвоир. Вот он подходит к старшему и что-то ему говорит. Тот перелистывает блокнот, делает какие-то пометки. К воротам вызывают Цвиича, Радосавлевича, Шиячича и еще одного. Они выходят в сопровождении нашего бывшего конвоира. Молодец! Выполнил всё, как и обещал. Теперь Джока Цвиич будет нашим посредником: познакомит новеньких с ребятишками - "сопротивленцами в коротких штанишках". А нас включили в большую бригаду из сорока человек. Шесть конвоиров, седьмой - унтер с собакой и велосипедом. Под разрушенным взрывом мостом переходим через речушку. Налево - дорога на Ремельфинген, но нас ведут направо. Место нашей работы - огороженная невысокой каменной стеной площадка. В ней -взорванная в начале войны водонапорная башня. Теперь она превращена в огромные куски бетона. В некоторых местах стены - трещины после взрыва. За нею рукой подать до опушки леса. Надо осмотреться, познакомиться с порядком охранения, с распорядком дня у охраны. Отбойными молотками разламываем бетонные глыбы на мелкие куски, относим их в сторону, расчищаем место для восстановительных работ. Одни работают пневмомолотами-перфораторами (компрессор урчит рядом), другие кантуют или таскают глыбы. Пересчитывают нас визуально каждые 10-15 минут. За невысоким земляным валом - дощатая уборная, совсем рядом со стеной. Тут же определяем: через стену, по одной из ее трещин, легко будет перебраться на ту сторону. А там - лесок... Стучат молотки, трясутся руки, тело, голова... Через короткое время стук начинает болью отдавать в ушах. К обеду приносят бачок с "супом". На раздаче - один из конвоиров: - Лос, давай-давай!.. Дальше, следующий!.. С постов кругового оцепления ушли все: у них тоже обед, в отдельной дощатой будочке. На часах остается лишь один: очевидно, по мнению охраны, никто не решится бежать, не доевши свою похлебку, не воспользовавшись минутами полной тишины и прострации, когда, вдобавок, можно растянуться и раскинуть свои дрожащие руки. После грохочущего стука очередей десятка отбойных молотков, в голове такой гул, что долго еще не слышишь даже стука ложек! Раздатчик тоже удалился в будочку. Оставшийся часовой, пересчитав нас во время раздачи баланды, скучающе стал ходить взад-вперед на облюбованном им холмике. Он тоже рад тишине. Но она ему вскоре надоедает, и он начинает насвистывать популярную солдатскую песенку: “Мит дир, Лили Марлен, Мит дир, Лили Марлен..." {14}
У нас примерно десять минут. Мы расселись подальше друг от друга: не надо приучать посторонних видеть нашу компанию вместе! Обменяться же наблюдениями и впечатлениями успеем и в лагере. - Лос! Шнеллер! Построиться! Конвоиры уже на своих местах. Нехотя становимся в строй. Унтер считает нас, пересчитывает. Всё в порядке: - Ин орднунг! Веггетретен! - приказывает разойтись по рабочим местам. И опять зататакали адские очереди молотов. Работаем без рукавиц, - их не имеется. Руки покрыты волдырями, которые лопаются, соль пота разъедает голое мясо. Нам, новичкам, еще ничего. Но как беднягам, которые на этой работе уже три недели?! Поистине, каторга! Нас продолжают пересчитывать так же часто, как и до обеда: каждые 10-15 минут. Значит, лишь в обеденный перерыв у нас будет фора во времени, примерно 30-40 минут. Телефонного кабеля не видно, это - хорошо! Но плохо, что собака: помогут ли наши специи? К концу работы "молотобойцев" шатает, всё чаще и чаще опираются они на свой инструмент...
* * *
Вернувшись в Штайнбах, разворачиваем карту. У нас три реальных направления: на запад - к Люксембургу, на юг - во Францию, на восток - к Швейцарии. Четвертое направление, на север - нереально: надо бы было протопать через всю Германию... Вот и лесок у водонапорной башни, - она тоже помечена на карте. За ним - другие леса, один возле другого. Подойти к Ремельфингену легко. Но, чтобы запутать следы, решаем начать свой бег на север: мы уверены, что погоня будет брошена именно в том направлении. Ведь естественно, что беглецы должны бы устремиться по кратчайшей дороге, прямиком к себе на родину. А это и есть северное направление. Пусть преследователи помчаться туда. А мы тем временем, через пару километров, свернем под прямым углом на запад, а еще через несколько километров повернем на юг, к Ремельфингену. Там возьмем чемоданчик с необходимыми туалетными принадлежностями...
С нетерпением дожидаемся возвращения товарищей из села. Вот и они. - Знает ли конвоир, в какую бригаду нас перевели? - По-моему, вряд ли. - отвечает Джока. - Ну, а наши "сопротивленцы", как они? - Были очень обеспокоены, что вместо вас пришли другие. Объяснили, что вас просто перевели в другую бригаду. Поль спрашивал, нельзя ли подойти к лагерю. Я начертил, указал, где вышка, у которой бы вы смогли его подождать. Он сказал, что хотел бы тебя, Аца, увидеть... - Как же он меня увидит? Только, когда будем возвращаться с работы... - Я ему так и объяснил. Впрочем, вот его записка. "Дорогой Алекс, твои товарищи. Почти всё собрано. Дело за чемоданчиком. Его обещают дать завтра. Отец был удивлен, обнаружив пропажу своего рабочего костюма.." В записке был перечень собранных вещей. - Конвоир поинтересовался, когда вы намереваетесь бежать. Я ответил, что, как думаю, не ранее, чем через неделю Он улыбнулся и больше ни о чем не спрашивал. Еще раз внимательно изучаем карту, объясняем друзьям из второй тройки, почему мы избрали именно такой витиеватый маршрут. В мыслях уже бредим первой ночевкой на свободе: лес, костер, печеная в золе картошка... "Ах, ты, милая картошка-тошка-тошка..." Стоп! А спички? Прошу Джоку передать Полю дополнительный заказ: спички, кусочек целлофана, чтобы предохранить их от дождя, сырости... - Вам бы еще и зонтики! - ехидничает Добри. - Вы их и прихватите! - парируем в ответ: - Не забудьте также спальные мешки, маникюрный набор и обязательно... галстуки. А то ни одна француженка вам глазки не состроит!.. Настроение - на высоте, "чемоданное": все случайности при подобной тщательной подготовке сведены, вроде бы, до минимума. Лишь бы обувь не подвела, - слишком уж она хлипкая! Я вспомнил, как отец учил меня словами А. Суврова: "Хочу - это уже половина "могу!". А мы очень-очень захотели!
* * *
Последний концерт. Для нас - прощальный. В этот вечер, когда мы вместе в последний раз, нам хочется петь гимны и романсы всем песням, которые нас объединили, сплотили и, вопреки суровым охранникам, дали понять истинную прелесть и величие настоящей дружбы... И грустно на душе от предстоящей разлуки... "Капельдудка" Михаило уступает свое место преемнику - Добричко. Пусть тренируется! На душе торжественно. Именно такому моменту соответствует великий гимн, который всегда первым исполняли у костра: "Коль славен наш Господь в Сионе, Не может изъяснить язык! Велик он в небеси на троне, В былинках на земли велик!.." Великий, торжественный гимн! Затем зазвучала и шуточная черногорская песенка, где упоминалась и граница, - ведь сейчас у нас цель именно - граница. Родилась эта песня у черногорцев, видимо, после свержения турецкого ига, когда Черногория впервые обрела собственные границы: "На граници стража стоjи И сумнива лица броjи..." Кстати, а как нам повезет на границе? Как миновать эту "стражу", отнюдь не занимающуюся, как это в песне, лишь "подсчетом подозрительных лиц"? Не там ли ждет крушение всех наших надежд? Ведь мы не имеем ни малейшего о ней понятия! Но... как говорится во французской поговорке "Кто не рискует, тот и не выигрывает!" -"Qui ne risque rien - ne gagne rien!". Вспоминается и Козьма Прутков: "Всё стою на камне: дай-ка брошусь в море! Что судьба пошлет мне? Радость или горе? Может, озадачит. Может, не обидит: Ведь кузнечик скачет, а куда? - не видит!" Определенно, К. Прутков давал нам отличный совет: "Хоть и не видишь, куда скачешь, но не бойся рискнуть!".
* * *
На следующий день, вернувшись из села, Джока сообщает, что к 21-го надо подежурить у стены, прилегающей к дороге: Поль во что бы то ни стало решил перебросить "привет от всей борющейся молодежи, которая любит свою Францию и ненавидит оккупантов". Ну и хватил! Джока продолжает: - Он сказал, что верит вам и в ваш успех. Убежден, что придаст вам решительности... Всегда будет помнить о вас, ждать встречи в лучшие времена... Джока явно растроган. - А еще дал вот этот адрес во Франции. Его двоюродный брат живет недалеко от границы, в городе Домбаль... Тут же разворачиваем карту. Да, вот он, Домбаль! Рядом с Нанси, как раз на избранном нами направлении. Молодчина! В назначенный час притаились близ стены с вышкой. Вслушиваемся в тишину. Башенные часы Сааргемюнда начинают отбивать час: первый удар, второй... восьмой... И тут послышалось шуршание летящего в воздухе предмета, который тут же и стукнулся невдалеке от нас. Но что это? - Часовой на вышке вдруг заметался, зажег прожектор, стал шарить им вдоль стены. Потом луч его побежал вдоль наружной ее стороны. Окрик с вышки: - Хальт! Хальт!. - и короткая очередь. - Ферфлюкте лумп! - слышится ругань часового. - Вас ист лос? - спрашивают с соседней вышки. - Какой-то маленький паршивец!.. Я его пуганул, а он такого стрекача задал, ха-ха-ха! Пока идут объяснения, улучаем момент, и камень с обернутой вокруг него бумагой оказался в наших руках. В комнате, при слабом свете, разобрали каракули: "Я с вами. Чемодан готов. Кураж, бон шанс (храбрости, удачи!)! Поль." Итак, всё готово, бежим завтра. "Что день грядущий мне готовит?" Рано утром, 22 августа, мы одеваем под свою униформу гражданскую одежду. В специально нашитых кармашках, у каждого из нас по кусочку ваты, бинтик, по флакончику йода, специи от собак. У меня, кроме того, компас и карта. У каждого - по малюсенькой сумочке сахарного песку. Мало ли что может случиться,- пусть у каждого будет и свои индивидуальная "аптечка" и "провиант". Перед разводом прощаемся с остающимися товарищами.
* * *
Очень трудно, очень жарко работать в двойной одежде. Как и договорились, приучаем часовых к нашим частым отлучкам в уборную. Делаем вид, что у нас сильный понос. Подобное явление здесь не редкость. Видеть, как кто-то мучается животом - раз-лечение и удовольствие для часовых. Перебрасываются плоскими шутками: - Смотри, вон один опять побежал "работать"! - Да еще как! Будто тысячу чертей за ним гонится!.. - Интересно, чем они так обожрались? - Эй, Франц! Еще один мчится на подмогу! как бы ты не оглох от их духового дуэта!. - Точно, Франц! Отойди подальше, а то погибнешь во цвете лет от газовой атаки! Ха-ха-ха!.. Шутки и насмешки вскоре приедаются, часовые постепенно привыкают и перестают обращать внимание на наши частые "экскурсии". Ими овладевает привычная скука... Привезли обед. Получив баланду первыми, отходим, ставим котелки на землю и, один за другим, придерживая животы и скорчившись, трусим к уборной. Как только земляной вал скрывает меня от глаз часового, быстренько сбрасываю униформу. Поднимаю глаза и... ужас! Холодок пробегает по телу: передо мной двое незнакомых гражданских! Тьфу ты! Это же они, - преобразившийся Михаило и Николай!.. Униформы сваливаем на одну кучу. Эх, жаль моей хорошей, добротной шинели! Кучу обливаем вонючим снадобьем, посыпаем смесью перца и табака. Протираем этими же средствами свои подметки. Взмах! и мы на другой стороне каменной стены. Вокруг - никого. Вперед, каждая секунда дорога! Вбегаем в лесок. Скаутский "индейский шаг" - пятьдесят бегом, пятьдесят шагом: экономный и быстрый режим продвижения. Главное, чтобы след в след! На это сейчас всё наше внимание, хоть и хотелось помчать, лишь бы вперед да подальше... Километра через два, капаем в наши следы эфир, присыпаем порошком, и опять вперед... Останавливались раз пять, чтобы обработать следы, пока не израсходовали все наши химикалии. Продвигались по разработанному плану: вначале - на север, затем - на запад, потом на юг, туда, где должен быть Ремельфинген... Часа через три увидели шпиль знакомой колокольни... Мои спутники маскируются в зарослях на опушке, а я, подходя к селу, прикладываю к щеке платок, будто страдаю зубной болью, и этим скрываю лицо. Свернул в улицу, где дом Жерома. Только постучал в дверь, как из-за поворота послышался скрип телег: это они, наши с конвоиром! Вдруг, увидев меня, они не сумеют скрыть удивления! Куда деться? И тут приоткрывается дверь, высовывается чья-то рука и меня втягивают внутрь. Дверь захлопывается за моей спиной. Передо мной - женщина! Лицо ее смертельно бледно, по лицу текут слезы... Догадываюсь: мать Жерома! - Присядьте на пол, чтобы через окно вас не увидели! - А где Жером? - Алекс! - появляется он и бросается ко мне. Слезы... То ли от радости, то ли от страха. Скорей всего - от всего этого. Только сейчас соображаю, что я их подверг смертельной опасности... Жером помчался к мадам Эрвино за чемоданчиком. Вернулся вместе с ней: - А где остальные? - спросила она. - Ждут в лесу. А где Поль? - Он вчера сильно разодрал колено о колючую проволоку. Отец ему здорово всыпал, чтобы не шлялся по ночам. Сейчас лежит дома, никуда не выпускают... Алекс, это правда, что в него стреляли? Он хвастается, что еле увернулся от пуль... - Да, Жером, правда. Стреляли...
* * *
Жером с чемоданчиком, в котором, кроме прочего, котелки и фляжки, выходит первым. Оглядывается, подает знак. Выхожу. В арьергарде шествие замыкает девятилетний Эвжен. Успеваю заметить, как мне взмахнули платочком: это мадам Эрвино, наш благодетель и союзник, еще раз пожелала нам "Пасьянс э кураж" - "терпения и храбрости!". Минут через десять мы у опушки. Я свистнул. Никого! Свистнул погромче, и перед нами предстали Николай и Михаило. Последние прощальные объятия с ребятишками... Дорогие наши "сопротивленцы в коротких штанишках"- "les résistants en culottes courtes", - мы вам многим обязаны, прежде всего - свободой! Жаль, что не было Поля. Мы пообещали ребятишкам никогда их не забывать: при первой же возможности дадим о себе знать. Обязательно! - Мама передала вам адрес моей сестры. Ее зовут Анни Террон. Живет в Париже, на углу бульваров Сен-Дени и Севастополь... И еще пачку галет!..- сказал на прощанье Жером. Углубляясь в начавшую темнеть чащу, оглядываемся еще и еще раз, машем рукой ребятам... Наш путь на юг. Какой-то зверек шарахается из-под ног. Ну чего ты боишь-ся? Мы же - свои! И нам хочется запеть во всё горло...
* * *
Да, то было 22 августа 41-го. Сколько радости: мы вырвались на свободу! Сколько было уверенности, что долг свой ребятишкам вернем, и подаренную ими свободу окупим. Из Берлина в адреса Поля и Жерома полетели мои весточки: "Спасибо! Все живы. Всё удалось, мы боремся!"...
А сейчас я - в этом холодном каменном мешке. А те, там за дверью, ждут... Ждут: когда же он сорвется, когда застучит в дверь, когда станет умолять о пощаде? Когда станет "раскалываться" и перечислять всех, с кем был связан, кто ему помогал... вплоть до этих ребятишек? Как я сейчас ненавидел этих извергов-палачей! Одна только мысль о подобном признании всколыхнула во мне страшную злобу. Я не владел собой. Вскочил, заметался по камере, начал ее кругом ощупывать. Нет, из нее нет никакого выхода, кроме двери. Но там - они. Это конец. Они всесильны!.. Так лучше смерть, чем стать предателем. Я заскрежетал зубами от своего бессилия. Опять бросился плашмя на пол. Всё! Как сквозь туман донеслись звуки глухих шагов. Чу, затихли у двери! Лязгнула шторка глазка-шпиона: за мной наблюдают! Пусть! Не буду поворачиваться: мерзко видеть торжествующий взгляд тюремщика, этого ничтожества... Минут пять-десять шторка не падает. Сколько же можно подглядывать? Ладно, смотри, скотина! Пусть вытечет у тебя твой мерзкий глаз!.. Вдруг до меня доносится шепот: "Армер Керл (бедный парень)! Как тебе должно быть холодно!". Чувствую в шепоте неподдельное участие. Это приводит меня в еще большее бешенство. Вместо ответа рычу, извергаю грязное ругательство. Проходят еще несколько минут, шторка опустилась. Но что это? - Явственно слышу, как лязгнул запор, раз, другой... Ага: больного, немощного льва и паршивый осел считает своим долгом лягнуть! Знаем мы вас! Что ж, бей, избивай, приканчивай! Это даже лучше! Я повернулся: приму смерть лицом к лицу! Вижу: в щель приоткрывшейся двери просунулась рука, показалось плечо с погоном ефрейтора. В руке - дымящаяся сигарета! Недоверчиво встаю... - Покури, бедняга! Теплей станет! Дымящийся огонек, неожиданное человеческое участие, доверие - не побоялся открыть дверь, - не знаю, что именно, но как-то мигом растопило чувство озлобления. Я даже растерялся, взял сигарету. Через полчаса тюремщик вновь приоткрыл дверь, протянул мне полную миску густого, горячего горохового супа. О, это не тюремная баланда! Настоящий, жирный гороховый суп с мясом! Очевидно, из их солдатской кухни. - Ешь поскорее, иначе мне капут!.. Я не гестаповец, я - солдат. С фронта... после ранения... Миска жгла закоченевшие, негнущиеся пальцы. От нее шел пар. Я сунул в него лицо. Чувствуя теплоту, щекочущий вкусный запах, стал есть, обжигая рот и разбитые потрескавшиеся губы. Тепло постепенно разливалось по телу. Мне стало легче, хотя холод тряс по-прежнему. Но не об этом я думал, возвращая пустую миску. Одеревеневший, дрожащий, потерявший счет времени, я ухватился за спасительную мысль: если и здесь, в этих застенках, в этом саду китайских пыток, слуги не живут по волчьим законам своих гнусных хозяев и сочувствуют мне, "преступнику" по их понятиям, значит... значит "господа" не всесильны. Следовательно, есть надежда. Только бы не поддаться отчаянию! Надо забыть о холоде, о смерти! Остается - терпеть! Думать о том, что было, о товарищах по борьбе, об их дружбе. Еще раньше я заметил, что это придает силы...
Глава 3. "EN PASSANT PAR LA LORRAINE..." ("Проходя по Лотарингии" - франц. песенка)
"Проходя по Лотарингии в деревянных башмаках..." - поется в одной детской французской песенке. И в моем воображении вновь появляются мои друзья-спутники, наш с ними путь по этому региону. Правда, не в деревянных башмаках. По лесным звериным тропкам, стороной обходим селения, дороги. С трудом продираемся через густые, колючие заросли. Уши наши насторожены: не натолкнуться бы, не дай Бог, на человека! Друг ли, враг ли, - поди-узнай! Во всяком случае, он может оказаться для нас смертельной опасностью. Любой зверь для нас лучше. Вспоминаю песню "юных разведчиков":
"Крутыми тропинками в горы, Вдоль быстрых и медленных рек, Минуя большие озера, Веселый шагал человек И туча была вместо крыши, А вместо будильника гром, И все, что он слышал, что видел, В тетрадку записывал он Одиннадцать лет ему было, И нес на спине он мешок А в нем полотенце да мыло И белый зубной порошок А чтобы еще интересней И легче бывало идти, Он пел и веселая песня Ему помогала в пути. И ее припев: Нам путь не страшен, Идем до облаков! С веселой песней нашей Шагается легко! С веселой песней нашей Уходим далеко!..."Да, "Нам путь не страшен, идем до облаков!". Песенка эта почти про нас, хоть нам и более "одиннадцати". Песенка про то, как мы шагаем по тропкам, про тучи, про гром, про облака... Во всяком случае, она мне сильно помогает в нашем пути "до облаков"... "Он пел, и веселая песня Ему помогала в пути...". Пел и я. Мысленно: нельзя было поднимать лишнего шума! И в нас действительно всё пело, было легко-легко! Одним словом - наконец-то мы были на свободе! Если верить карте, мы в первую ночь протопали более двадцати километров, петляя, продираясь в темноте сквозь заросли. По карте - двадцать, но это - в птичьем полете. Нам же приходилось кружить, обходить села, выискивать кратчайшее расстояние от одного леса до другого, чтобы как можно меньше быть на открытой местности. В этом помогала и сама ночь. И всё же, наш первый бросок был слишком переполнен нервным напряжением! Как только забрезжил рассвет, измотанные и разбитые, мы набрели на тихий и, казалось, заброшенный хуторок. Стоявший на отшибе сарайчик показался нам вполне безопасным. В нем было полно сена, и мы тут же замертво свалились. Не думали ни о чем, - на это просто не хватало сил. Я даже не успел почувствовать блаженства отдыха, как провалился в глубокую пропасть полной отрешенности и безразличия, пудовые веки закрыли мои глаза. Однако, сквозь сон мне почудился неясный скрип двери. И еще раз она скрипнула. Но не было мочи хотя бы приоткрыть сомкнутые веки, приподнять мое, ставшее чужим, тело, оторваться от удобной вмятины в пушистом, опьяняюще-пахучем сене... Когда проснулись, сквозь щели сарая пробивался свет яркого солнца, стоявшего высоко в небе. И тут, потягиваясь и оглядывая наше убежище, увидели: у самого входа лежало три аккуратных свертка, а рядом стоял двухлитровый кувшин. Полный молока! В свертках хлеб и сало. Конечно, нас взволновало благородство незнакомых хозяев! Быстро поглощаем "манну небесную". Не удерживаюсь, чтобы не нацарапать на клочке бумаги то, чем были переполнены наши сердца: "Гран мерси!".
* * *
Третьи сутки пути. Теперь единственным нашим питанием - по ложке сахару и по галете (было их сорок штук!), трижды в сутки. Зато вчера мы выкопали несколько картофелин и испекли их. На мигом потемневшем небе, в свинцом налитых грозовых тучах засверкали стрелы молний, раз за разом заухали раскаты грома. Гроза разразилась сильнейшим ливнем. Еле успели прижаться к стволу развесистой густой ели (вопреки, конечно, скаутским правилам и уже пережитому личному опыту, когда, лет восемь тому назад, в лагере на Авале, меня контузил разряд молнии). Думали, что это нас спасет. Не тут-то было! Через несколько минут нас обдало ручьями воды, и мы моментально промокли насквозь. А дождь все хлещет и хлещет, да какие крупные капли! Как пригодился чемоданчик и целлофан: кроме продуктов успели в него засунуть и карту и компас! Ливень не собирается утихать. Что ж, промокшим насквозь терять уже нечего, и мы пошли дальше. Стала пронизывать дрожь, и мы чуть ли не до бега, чтобы хоть так согреться, ускорили шаги. Беспокоит состояние нашей обуви, сколько она выдержит? В лесу стало совсем темно, но тут вдали посветлело, и мы вышли на просеку, вдоль которой шли рельсы узкоколейки. Они ржавые. Значит, по ним уже давно не ездили. Хоть и не совсем в нашем направлении, но пошли по ним. Будочка! Как-никак, а крыша. Дверь прикручена проволокой. Заглядываем внутрь: ничего не видно. Раскручиваем проволоку, открываем дверь, перелезаем через какие-то препятствия. Достаем спички: кругом навалены лопаты, кирки. А посреди - железная печка с выведенной наружу трубой. Около нее - штабелек наколотых дров. Настоящее счастье! Растопили печь, игривые языки пламени осветили убежище. Приводим всё в порядок, увеличиваем свободную площадь. Теперь будет куда кое-как примоститься. Раздеваемся наголо, выжимаем одежду, развешиваем. Стало тепло, потом жарко. Тут же неудержимо стало клонить ко сну. Полусидя, полулежа, кто как, приспосабливаемся и забываемся. В столь неудобном положении и сон тревожный. Это - хорошо,- помогает нам вовремя подбрасывать дрова. Эх, если бы кому-либо снаружи взбрело в голову глянуть сюда через окошко! Вот бы шарахнулся без оглядки, завидя у горящей печи голые привидения в самых причудливых позах! Даже не верится, что человек и в таких условиях способен отдохнуть и восстановить силы... Давно рассвело, когда мы открыли глаза. Вся одежда высохла, но в каком она жутком виде! Прогладить бы! Обувь так покоробилась и пересохла, что стала жесткими колодками. Обули ее с превеликим трудом. Да-а, ножки мы натрём- будь здоров! Что поделать, спасибо и на том! А как бы мы провели ночь, если бы не эта спасительная будочка, да еще и с печуркой, да еще и с готовыми дровами?! Подкрепились сахаром, галеткой и, учитывая наш вид, с крайней предосторожностью двинулись в дальнейший путь. Только тут я обратил внимание, что на штанинах моих "мини-брюк" (слишком уж они короткие!) отпечатались, будто проявились, рисунки каких-то круглых бомб с горящим фитилем. Что бы это означало? Артиллерийский знак?
* * *
Продвигаемся гуськом. Впереди - Михайло, потом я, сзади - Николай. Вдруг Михайло поднимает руку. Тот же знак повторяю я. Остановились, притаились. Вижу Михайло приседает у кустарника, ползет чуть вперед, выжидает, прислушивается... Затем крадучись подползает ко мне, шепчет: - Голоса... В форме фельджандармов... - Не двигаются? - Нет. Сидят. На чем-то, вроде дота... - Спрячьтесь поглубже в кусты! Посмотрю, что за люди... Ползу вперед со всеми предосторожностями. Лес становится реже. Впереди прогалина, проселочная дорога. На чуть возвышающимся над землей бетонным куполом с пустыми амбразурами сидело и тихо беседовало четверо жандармов. Долго ли будут сидеть? Наблюдаю за ними. Вдруг один из них делает предостерегающий жест, все замирают, прислушиваются... Наконец, они успокоились, возобновили тихую беседу. О чем, - не слышно. Понял: это - встретилось два патруля. Засада, ждут... Не нас ли? Осторожно возвращаюсь, шепчу: - Там засада. Здесь, видимо, проходила линия Мажино, с чем вас и поздравляю... Неужели у каждого дота установили посты? Во всяком случае, попытаемся их обойти. Сориентироваться по карте помогла просека и дорога. На ней доты не помечены, но видно, что рядом болото. Вот мы и пойдем по его кромке. Сделав порядочный крюк, обошли опасное место и оказались километров на пять юго-западней. Невезучий день: проделали чуть ли не десять километров лишних! Близ города Дьёз нам надлежит пересечь шоссе Дьёз-Арракур. Кое-как привели свою одежду в порядок, надраили обувь. Идем параллельно шоссе, - ищем, где безопасней его перейти. Нашли подходящий поворот за возвышенностью. Что за поворотом -не видно. Зато дорога впереди далеко просматривается. Перешли, и тут, из-за поворота послышался цокот копыт. Это опасно, куда скрыться? Как назло перед нами пашня, до леса далеко, до него не успеем. На пашне стадо коров. Увидели там и пастуха. Направились к нему, побросав в кустики сумки, чемоданчик. Только дошли до пастуха, как на дороге из-за поворота, показался пароконный фаэтон с четырьмя "шупо"-полицейскими. Сердце ёкнуло. Кажется, мы влипли... Став спиной к асфальту, заговорили с пастухом. На его куртке нашит прямоугольник с латинской буквой "Р" (поляк). Так гитлеровцы метили представителей "низшей", по их представлению, народности. Я стал подбирать польские слова, но поляк, не отвечая, смотрел мимо нас. "Цок-цок... цок..... цок" - замедляется, чтобы совсем прекратиться, звук копыт: коляска остановилась. Не выдерживаю, поворачиваю голову к дороге: худо, ой, как худо! - к нам, не торопясь, направляется полицейский, похлопывая себя кнутом по блестящим голенищам сапог... Ой, как худо! Вот тебе и момент, когда на карту поставлено всё: "судьба озадачила" - по Козьме Пруткову! Я говорил Полю, что живыми не сдадимся. Правильно, но что предпринять?.. Что надо этому типу? Мысленно оглядываю себя, спутников. Одежда наша не должна бы его насторожить: выглядим опрятно, выбриты, ботинки сияют... - Кто такие? - маленькие глазки подозрительно нас ощупывают. Поляк, стоявший к полицейскому в полоборота, гордо поднял голову и дерзко, с вызовом, ответил вопросом на вопрос: - А в чем дело? Лицо полицейского исказилось злобой. Он резко взмахнул кнутом и огрел им поляка по лицу: - Шапку долой, польская свинья! Второй взмах, и кепка слетела с головы поляка. Полицейский повернулся к нам, но наши береты были уже в руках. Стоим по стойке "Смирно". Гордый произведенным эффектом, полицейский направился назад к фаэтону. Вновь зацокали копыта, и коляска вскоре скрылась. Попытались поговорить с поляком, но тот, прижав рукой красный рубец на щеке, окинул нас презрительным взглядом: - Проваливайте, жалкие трусы! А еще и солдаты! - и он посмотрел на мои брюки. Я убедился, что знаки на них действительно говорят о нашей принадлежности к французской армии. Полицейский, по-видимому, искал беглецов-югославов, а не пленных французов...
Мы быстро ретировались с этого неприятного места. К границе подошли на седьмой день. После происшествия с поляком, Николай стал раздражаться по пустякам. То призывал к большей осторожности, то угрюмо заявлял об обреченности нашей затеи. Всеми силами мы старались не дать ему скиснуть: отшучивались на его едкие замечания, "не замечали" его колкостей и оскорблений, или просто не отвечали на них, пропуская мимо ушей. С каким нетерпением хотелось поскорее закончить этот трудный путь по треклятой Германии! Как хотелось хотя бы немного передохнуть. Мы чувствовали, что как физические силы, так и нервы - на пределе. Именно поэтому, наверное, подойдя к границе вплотную и завидев каланчу села Живелиз (судя по карте), мы, позабыв обо всякой осторожности, вышли прямо на шоссе. Как легко и хорошо идти по асфальту! Не плохо бы было порасспросить о границе, где она проходит, как ее охраняют, в каком месте лучше ее перейти... Но у кого, как? Село в лощине, нам виден лишь шпиль колокольни. И тут, из-за склона шоссе, появляются двое велосипедистов. Девушка и парнишка. Педалят нам навстречу. Обоим лет под шестнадцать. Очень похожи друг на друга, как близнецы. Что-то очень уж они пристально к нам приглядываются. Это настораживает, и мы их не останавливаем. Велосипедисты проехали мимо. Сзади они вдруг остановились, повернули велосипеды и, ведя их в руках, пошли вслед за нами. Не гитлерюгенды ли? Мелькнула мысль, что их придется обезвредить. Чувство пренеприятное! Я сунул руку в карман, покрепче обхватил рукоятку ножа... - Месье, куда вы спешите? - спросила нагнавшая нас девушка. Мы остановились: пусть оба подойдут поближе! - В село. Ищем работу. - Нет, месье. Туда вам ни в коем случае нельзя. Там вас ждут еще с позавчерашнего дня! - без обиняков, залпом выпалила девушка. - Моя сестра оказалась права, когда сказала, что это вы и есть. Раз понаехали со всех сторон жандармы и полицейские и повсюду расставили заслоны, - значит, кого-то собираются ловить. Кто-то из наших бежал из плена и приближается к границе...- затараторил мальчишка. - А когда сегодня с утра запретили жителям выходить из села, догадка наша укрепилась. Мы, шасть! выбрались огородами и поехали вас предупредить... - А завидев вас, вначале побоялись. - перебил сестру парнишка: - Но тут я увидел ваши знаки на брюках и все сомнения отпали...
Ребята тараторили так просто и непринужденно, так были рады, что удалось нас найти, предупредить и, следовательно, спасти, что не поверить им мы не могли. Скрывать, что мы - беглецы, было абсурдно. Велосипедисты дали нам первый совет, очень благоразумный: сойти с дороги, пока нас никто не увидел, и замаскироваться в зарослях. Там нам вкратце дали первые сведения о границе. Вдоль всей пограничной зоны,- пояснили они, перебивая друг друга, - построены высокие наблюдательные вышки. Между ними часто курсируют патрули. Но можно проскользнуть. Главное: незаметно подкрасться почти вплотную к полосе, подождать прохода очередного патруля, а тогда и переползти за его спиной. Показали направление к болоту, которое нам надлежит перейти вброд: - Оно неглубокое. И там нет засад... Видите седловину на горизонте? Там и проходит граница. Посоветовали подождать до наступления сумерек, указали соответствующие ориентиры Тем временем, они привезут нам еды. Почему границу так строго охраняют? - Когда нас подсоединили к Германии, молодежь стали брать в армию. Вот она и начала бежать во Францию, где у многих имеются родственники. Поэтому и устроили такой заслон.. Хоть мы и не очень верили, но к началу сумерек ребята были снова у нас. С полной корзинкой снеди и... с бутылкой сухого вина: - Чтобы вы согрелись после перехода болота!..
* * *
Предстоит решающий скачок. Или пан, или пропал! Нас охватывает приступ суеверия: двинемся в путь тогда, когда на небе появится тринадцатая звезда! Небосвод стал темнеть быстро. Наши взоры устремлены в него. Вот и первая звезда... вторая... девятая... Как только кто-то заметил тринадцатую, вскочили, трижды перекрестились и тронули в путь. У болота раздеваемся догола. Со свертками одежды на голове вошли в теплые воды болота. Вода Михайле по шею. Бредем неслышно. Вскоре благополучно выбираемся на берег. Чуть обсохнув, вновь одеваемся. После воды чувствуем прилив бодрости. Это отлично. Как и пояснили нам велосипедисты, за болотом было шоссе, и мы его пересекли. Следующим ориентиром должно было быть высокое дерево, но небо заволокло тучами так, что уже ни зги не видно. С одной стороны, это нам на руку, но с другой... Идем гуськом, наощупь. Идущего впереди не видно, только слышно... Впереди Николай. Вдруг он на что-то наткнулся, я врезался в него, Михайло - в меня, и мы дружно и шумно рухнули наземь. Тут раздался такой страшный грохот, будто тысячу ног затопало перед нами в бешеном беге и рвануло куда-то в сторону. Объятые страхом, вжались в землю и затаили дыхание. Лежим ни живы, ни мертвы... Что это? Но тут грохот оборвался, будто его и не было. Тишина... Переждали немного, гадая, как это всё объяснить. Нет, необъяснимое не объяснить! Как у Козьмы Пруткова: "Нельзя объять необъятное!"... Что ж, не век же лежать! Осторожно встали и побрели дальше. Опять наткнулись на какую-то проволоку, и вновь раздался грохот ног. Аж земля затряслась под ногами. Мы опять в страхе повалились на землю. Что за наваждение? На голове и волосы зашевелились... Вдруг послышалось блеяние. Тьфу ты! Это же овцы, чтоб им пусто было! - Мы набрели на загороженный загон! Вот и его проволочная изгородь... Михайло полубеззвучно хихикнул, Николай зло заворчал и крепко ругнулся. Постояли немного, отходя от пережитого испуга и вслушиваясь в темноту. Итак, перед нами - изгородь загона. Мы ее не видим, а нащупываем вытянутыми вперед руками. Бредем вдоль ограды. Но она, как назло, петляет то вправо, то влево. Ориентировку потеряли окончательно, идем наугад. Наконец ограда поворачивает круто в сторону, и мы покидаем ее. Где же граница, куда идти? Компас сейчас бесполезен: в кромешной тьме стрелок не видно, а чиркнуть спичкой нельзя... Внезапно врезались во что-то шуршащее. Ощупали: стебли полусухой кукурузы, густая, высокая посадка. Ну и шуршит же! Через такое поле не перейти, - было бы явным самоубийством. Приходится идти вдоль его кромки, но куда? Направо или налево? Когда же оно кончится? Вот сейчас оно явно идет в сторону!.. Наконец-то! Но теперь под ногами пахота, свежая. Это еще хуже: идти по невидимым крупным комьям земли, когда ноги то проваливаются в борозды, то ступни скользят с грудок земли и подворачиваются, срываются с кочек то влево, то вправо.. Часто теряем равновесие, падаем... Уф, закончилось наконец и это испытание. Теперь под ногами что-то мягкое как ковер, пахучее. Нагибаюсь, щупаю: клевер! Но где юг, где север? - Ни малейшего понятия! Граница где-то рядом, если... если не сбились с пути. Если она близко, то надо соблюдать предельную осторожность. Решаем продолжать путь ползком. Впереди - я. Ползу осторожно, щупаю рукой впереди себя. И вот рука натыкается на натянутую проволоку. Слегка дергаю ее, и тут же невдалеке раздался легкий металлический скрежет, будто что-то трется друг о друга. Ага, понял: это - ловушки,- связки пустых консервных банок, подвешенных к проволоке.. Я о таком слыхал: закачаешь проволоку, и они зашумят. Что делать? Пробую приподнять нижнюю проволоку, что над самой землей, как можно выше. Получилось! Один за другим мы проползаем через эту дыру, и осторожно, без рывков, опускаем проволоку на место. Если она действительно натянута вдоль границы, значит, это - ориентир, - ползти вперед, перпендикулярно ей, уже с той стороны. Некоторое время под нами клевер. Хорошо, что мы ползем осторожно: рука опять натыкается на проволоку, тоже с ловушками-связками банок! Так же, как и раньше, переползаем и под ней. И тут начинает разбирать сомнение, не сделали ли мы по клеверу дугу и не вернулись ли снова к той же проволоке?! Тогда... тогда мы вернулись обратно в ту же Германию! Будто в подтверждение, перед нами опять пахота. Та же последовательность: пахота, клевер-проволока-клевер-пахота!.. До предела натянутые нервы начали сдавать. Вскакиваем на ноги и, сколько это позволяет пахота, на которой ноги скользят, подворачиваются, проваливаются, бежим, спотыкаемся, падаем, опять вскакиваем и опять бежим чертыхаясь... Еще немножко, еще чуть-чуть.. лишь бы подальше вперед! А вперед ли? Не бежим ли мы назад?.. Ой, всё равно, и мы из последних сил продолжаем упрямо бежать, лишь бы подальше! Натыкаемся друг на друга, уже шумим - ругаемся...Сейчас нами руководит, придает последнюю энергию какое-то слепое, отчаянное упрямство... Вдруг где-то сзади послышалось что-то вроде выстрела. Тут же валимся на пахоту, вжимаемся в нее. Вспыхивает яркий-яркий свет, становится светло как днем. Свет неестественный, мертвенный, словно от карбидной лампы. Чуть поворачиваю голову: с неба медленно опускается яркий светильник. Ракета на парашюте! Увидят нас или нет? Лежим недвижимо, словно трупы. Так проходит, как нам кажется, целая вечность... В тишину начал постепенно вклиниваться далекий рокот приближающихся самолетов. Ракета угасла, вторую не выстрелили. Или нас не заметили, или не решились демаскировать границу. Когда мы бросились на землю, полностью потеряли всякое представление, откуда и куда перед тем бежали. Встали. В каком направлении продолжать путь, - неразрешимая загадка! Идти наугад - бессмысленно. Присели поплотней друг к другу, из всех курток соорудили над головой нечто, вроде шатра. И под этим непрозрачным укрытием один из нас на ладони горизонтально установил компас, другой над ним чиркнул спичкой: стрелка указала север-юг. Как нам показалось, бежали мы перед тем на север . - Не туда!.. Не туда мы бежали!.. Мы бежали обратно в Германию! - вскричал, запаниковав, Николай и набросился на меня с руганью: - Ты нас предал! Завел обратно в Германию!.. Мы дважды переползали под той же проволокой!.. - орал он и тряс меня изо всех сил, готовый растерзать на части. У меня не было сил вырваться из его цепких рук. Крик он поднял истерический, и надо было быть поистине глухим, чтобы издали не услышать его. И... мне пришлось ударить его в висок рукояткой ножа. Попал, видимо, хорошо: он сразу же обмяк. И нам с Михайлой пришлось его волочить. Еще сто, еще двести шагов, еще, еще... Пахота кончилась, трава. Николай очень тяжел, мы на него израсходовали все остатки сил. Хоть бы стог сена поблизости! Такая тьма, что друг друга не видим... Услышали жур-чание ручейка, повеяло сыростью и прохладой. Еще несколько шагов протянули Николая к звуку ручья... и упали рядом в полном изнеможении...
В глаза стали ударять лучи поднимавшегося солнца, и я проснулся. Мы лежали над самим ручьем с поднимавшимся над ним паром. Оглядываюсь: шагах в двадцати от нас стояло три невысоких стога сена. Метрах в двухстах тянется лента узенькой асфальтной дороги. По ней взбирается велосипедист. Вскочил, со всех ног помчался к нему: - Месье, где я? Всё еще в Германии, или уже во Франции? - с тревогой задаю я вопрос, который меня так гложет, что не в силах понять его коварного смысла. - Бонжур, месье! Германия - там, вон за тем бугром, сзади вас. - приветливо заулыбался крестьянин: - Полкилометра отсюда... Меня охватил неописуемый восторг. Даже забыв поблагодарить, я стал бросать вверх и ловить мой берет, приплясывать, делая немыслимые антраша, прыгать, как сумасшедший... Затем помчался к своим: - Эй, рохли! Разлеглись тут! Вставайте, мы во Франции! Ура! Свобода!..
* * *
...Я вспомнил, как все встрепенулись, будто ошпаренные, запрыгали, заплясали... Вспомнил, как крепко стал меня тискать Николай, радостный, всепрощающий и одновременно виноватый, хоть и с хорошей шишкой на виске. Он обнимал меня и все время повторял одно и то же: "Ты... ты... ты...". И здесь, в этом ледяном гробу, я самодовольно улыбнулся...
* * *
...Свобода! С каким удовольствием мы, отныне свободные, полоскались в ручье, отмачивали лопнувшие волдыри на ногах! Казалось, вся прежняя смертельная усталость растворилась или улетучилась в этом подарке человеколюбивой природы. Поскоблились тупыми лезвиями, и боль, которую они причиняли, вызывала шутки. Привели в порядок одежду. Даже набрякший на груди рубец перестал болеть. Одним словом, свободная жизнь, жизнь без страха. Наконец-то! Мы тронулись в путь, окрыленные охватившим нас чувством величайшего счастья. Вперед, к видневшемуся селу, - к французскому, свободному! Табличка уже не готикой: "Жюврекур". Мы не сбились с намеченного еще в лагере маршрута. Интересно, почему у крестьянина было такое странное поведение: ответив на мой вопрос, он тотчас же повернул назад. Почему? Ответ не заставил себя ждать: крестьянин, как оказалось, поспешил сообщить селу, что, мол, "еще троим беглецам удалось вырваться из плена!". И всё село, несмотря на ранний час, высыпало на улицу. Глядят восторженно на "храбрецов", расточают улыбки, поздравляют: "Вив! Вив! Браво!", машут платочками, беретами. В ответ тоже улыбаемся, насвистываем мотив французской песенки "Ля Мадлон", - зачем уменьшать их радость? Пусть и дальше думают и гордятся, что мы - их соотечественники! Городок Арракур. Ведем себя так же шумно, будто у себя дома. Вдруг... - Бонжур, месье! Зайдите, пожалуйста, в бистро! - приглашает нас пожилой незнакомец. В кабачке он стал нас укорять: - Вы что, не в своем уме?.. Тут же битком коллаборационистов, гитлеровцев! Ведь это - "Зон энтердит" (запретная зона). Здесь на каждом шагу проверяют документы, частые облавы, обыски... "Коллаборационисты"? Понятие для нас новое. Очевидно, пособники-наймиты. Вот тебе и долгожданная свобода, жизнь без страха! В бистро задержались не более пятнадцати минут. Нас снабдили несколькими талонами на хлеб, насобирали около двадцати франков. Как всем этим пользоваться? Что можно купить на один франк? - Не имеем никакого понятия. Одно ясно: и дальше необходимо быть на стороже! Проблемы, проблемы...
Вышли подавленные: свои документы и карту мы сожгли еще там, у ручья, когда узнали, что мы во Франции. Наш путь к Домбалю. Там живет кузен Поля. Уж он-то даст нам первые уроки в новой жизни, объяснит, что к чему. Там и передохнем. Но до него еще целых сорок километров! И необходимо дойти сегодня же, чтобы спокойно отдохнуть. Да-а, чувствую, что с рубцом на груди - след от немецкого штыка - не всё в порядке: он покраснел давно, набряк как нарыв, болит. Будто чирей: видимо, рана загноилась... Мы твердо убеждены, что кузен поможет, - сейчас вся надежда на него. . Стараясь ничем не привлекать постороннего внимания, проходим через другой городок - Люневилль. Он чуть в стороне от нашего маршрута, зато на более оживленной дороге, по которой безопасней и незаметней дойти до Домбаля. Наконец, нам остается еще километров пятнадцать, но чувствуем, что силы на исходе. Идем, как в тумане, ведомые одним упорством и уверенностью, что там найдем настоящий отдых после стольких дней треволнений и напряжения. На стенах домов и заборах Люневилля обратили внимание на намалеваные знаки: латинская буква "V" с лотаринжским крестом внутри. Что это значит? Позже узнали, что "V" - от слова "Victoire" - победа, а крест - символ Движения Внутреннего Сопротивления. Значит, здесь есть патриоты, и их надо найти. И еще деталь: фамилию "Де Голль" можно расшифровать и как "две палки" - "два удилища". А знак победы "V" и состоит из "двух палок": лотаринжцы, да и большинство во Франции свое освобождение увязывали с надеждой на генерала Де Голля, первым произнесшим в своей речи 18 июня 1940 года по лондонскому радио, что борьба должна продолжаться, и призвавшим к Сопротивлению.
* * *
Нет, не могу себе сейчас представить, откуда у нас набралось столько сил, чтобы за эти сутки переползти через границу и пройти до Домбаля, то есть проделать примерно сорок километров! В Люневилле произошло самое страшное - рана вскрылась, по груди и по рубашке потекли струи крови и гноя... Несмотря на это, мы часто сходили с дороги, чтобы заполнить свои желудки плодами груш и слив-мирабелей с деревьев на обочинах... Непостижимы человеческие упрямство и выносливость! Домбаль оказался малюсеньким городишкой. Пришли в него в поздние сумерки. Расспросы... На моем клочке бумажки, где я по морзе записал фамилию кузена Поля, знаки стали еле различимы. Ошибочно, я разобрал "Кюри"... - Кюрэ? - уточняли жители. - Нет, Кюри - Такого у нас нет. Наконец, кто-то из жителей сообразил: - Раз он Луи, то у нас есть один. Его фамилия Кюни... - и нам указали его дом. Было уже около восьми вечера. Наконец-то нам будет долгожданный отдых, дошли все-таки! Ноги еле держат. Мы постучали. Дверь приоткрылась. Перед нами - малюсенький человечек. Оглядел нас настороженно. Да, он - Луи Кюни, да, он - родственник Поля Негло. Думали, что нас тут же пригласят войти, и мы сразу же плюхнемся, пусть даже на пол. Лишь бы поспать! Нет... - Подождите! Посоветуюсь с женой. - и дверь захлопнулась. За дверью услышали неясные голоса, недовольный женский голос. Наконец Луи вышел: - Принять не могу. Поищем кого-нибудь... - и мы стали с ним бродить по разным улочкам, стучать в разные двери. Повсюду - отказ. Было уже за полночь, когда я, при очередном отказе, в изнеможении прислонившись к стене, заскользил по ней вниз: ноги меня больше не держали, силы покинули окончательно. Кровь и гной проступили по всей рубашке на груди. Луи растерялся, махнул рукой: "Ладно уж!", подхватил меня под руку. С трудом добрели мы до его дома. Там он шикнул на жену и провел нас на второй этаж до лестницы на чердак: - Лезьте наверх! Ложитесь там!.. - А вшей у них нет?.. Смотри, чтобы они чего-нибудь не украли!.. - услышали мы слова жены. Но не оставалось ни грамму сил, мы повалились рядом с луком, рассыпанным по полу для сушки. Из реальности мир унесся в туманное далеко... Нас разбудили как только чуть забрезжило. Дали ополоснуться, поставили по кружке эрзац-кофе и по кусочку хлеба. Минут через пять мы снова на улице. Рубашка заскорузла, рана сочилась и ныла. А на наших пятках... остался ли там хоть кусочек кожи?..
* * *
...Вспомнил я это и задрожал. Меня передернуло. Все-таки мы выдержали и это испытание. Значит, может человек, если захочет, если сильно захочет, если нет другого выхода, быть сильным. Даже, когда почти перестает себя чувствовать... Спросил себя: когда мне было хуже? Тогда или теперь? Правда, то было на свободе. Относительной, конечно. Скорее, то был мираж свободы. А здесь, в морозильнике, нет свободы, даже нет ее миража. Будущее в полном тумане, скорей - во мраке. Да и будет ли это "будущее"?.. Стоп! Что это я? Не впадаю ли в панику? Э-э, нет! Так не пойдет! Думай, думай, вспоминай, отвлекайся от мрачных мыслей! Тебе на это отпущено массу времени. И оно, время это, - единственное твое богатство! Единственное, чего у тебя не удалось отнять, - время и мысли, мысли и время...
* * *
...Где это я остановился? Ах да, Домбаль.. Луи Кюни, сентябрь 1941-го. Конечно, оказаться перед перспективой быть арестованным, а то и хуже, как о том предупреждали повсюду развешенные афиши, - "за оказание помощи беглецам", - мало кто рискнет: подальше бы от греха! Спасибо и на том малом гостеприимстве, за тех несколько часов крайне нам необходимого отдыха! И за то, что не донесли о нас, не выдали. Могли же это сделать? Могли, конечно! {15}
Еле передвигая растертые, воспаленные и дрожащие ноги, бредем по улочкам этого чужого городка, который был еще вчера нашей заветной мечтой. Улочка ведет в сторону соляных шахт. Мы - отверженные! Кроме усталости, нас гложет чувство тревоги и безысходности: в любой момент можем нарваться на проверку документов, - вид у нас для этого самый что ни на есть подходящий. Когда я был студентом, усвоил: за помощью стоит обращаться лишь к простому люду, - только он посочувствует. Седьмой час утра. Появляются редкие прохожие. Это - рабочие-шахтеры, идут на смену. Нас обгоняют две девушки. Обрывки их разговора доносятся до моих настороженных ушей: они говорят по-польски. Это - удача! С трудом шкандыбаю, догоняю их: - Пшепрашам, пани кобьети! (Извините, девушки).. - обращаюсь к ним и, без обиняков, прошу о помощи. Сказал, кто мы: - Нам необходимо отдохнуть, хотя бы немножечко!.. Наш вид, моя окровавленная рубашка - красноречивее всех слов. Девушки тотчас же повернули назад и помогли нам идти. Открыли калитку, завели в домик. Видимо, тут и жили. Закипела работа: расшурована еще не угасшая печь. На ней - тазик с водой, затем сковородка, где заскворчала яичница с салом. Мы обмыты. Мне сделали перевязку. Нас накормили и уложили голяком на матрацы на полу. Всю одежду положили в стирку. Одна из девушек убежала и вскоре вернулась с подружками. Мы тут же уснули...
Когда проснулись, девушек не было. Белье было развешено и сохло. Рядом сидело двое парней. Накормили нас уже приготовленным ужином. Вскользь поинтересовались, кто мы, откуда и как бежали, из какого лагеря, как и где перешли границу... Вопросы задавали кратко. Слушали внимательно. Иногда кивали головой в знак согласия или одобрения. Вскоре молодых парней сменило двое пожилых. Те более подробно уточняли некоторые детали из нашего рассказа. Мы понимали: доверять нам сходу не просто...
Вдруг они предложили, как выход из нашего неопределенного положения, завербоваться на работу в Германию. Это, мол, осуществимо, и они в этом помогут. - Нет! Ни в коем случае! - ответил я решительно: - На гитлеровцев работать мы не будем! Не для того бежали. Только сражаться, на то мы и солдаты. Поляки вышли, вернулись минут через пять. Видимо, совещались. Старший сказал: - Собирайтесь! Здесь оставаться вам нельзя. Вам придется на время расстаться... Развели нас поодиночке по разным местам. Меня принял поляк-юноша, представившийся "Зденеком". Познакомил меня с родителями, сестрой. В семье ненавидели фашистов, зло насмехались над их "фюрером" - "ефрейтором-недоучкой", возмущались "Новым порядком". Это - родные Зденека. А вот сам он то заговаривал о победах немцев в России, то об их силе, о том, что, мол, лучше переждать войну, смириться... Когда речь заходила о Восточном фронте, я упомянул о словах Ивана Трояна в Трире: "Цыплят по осени считают!". Других аргументов подыскать не сумел, слишком для меня было всё неясным и необъяснимым. Но я ничуть не сомневался, что мои соотечественники, как бы им сейчас туго ни приходилось, наберутся сил и отстоят свою честь и свою свободу. Неужели в такой огромной стране не найдется достаточно для этого сил?! - А как же "линия Сталина"? Почему она не устояла? И вправду: в Югославии, перед войной, много о ней говорилось, много в газетах писалось. "Знатоки" клялись, что такие фортификации не сокрушить. Какой она была на самом деле, почему не устояла, - этого я объяснить не мог. Впрочем, не устояли же ни знаменитая "линия Мажино", ни не менее знаменитая "линия Маннергейма"!.. Почему? - На этот вопрос и Зденек не сумел ответить.
Вскоре он мне доверился, Вначале показал небольшую газетку-листок "Юманите", затем такой же листок "Ля ви увриер" (Рабочая жизнь), отпечатанные на пишущей машинке. Размножали их, видимо, где-то здесь. Я прочел: "Долг каждого - бороться!".. "Работать медленней!"..."Чтобы ускорить поражение Гитлера, необходимо саботировать всеми способами производство военной промышленности, средств передвижения и производство продуктов питания!"... "Ни единого грузовика, ни единого танка для немецкой армии!"... "Саботируйте, делайте фашистам жизнь невыносимой!"... И всё в таком же духе. Конечно, призывы мне понравились: Это то, что сейчас надо! К Зденеку часто заходили его юные друзья, о чем-то шептались, обменивались какими-то свертками. Сам он часто исчезал по ночам, возвращался под утро уставшим и валился спать. Я понял, что нахожусь в штаб-квартире рабочих-подпольщиков. Иногда по ночам снаружи слышались хлопки выстрелов. Было очень неспокойно. Бывали дни, когда меня "срочно переселяли" из дома в дом, с чердаков в подвалы, из сарая в сарай. Однажды за мной прибежал молодой поляк и с ним пришлось бежать что есть духу в ближайший лесок. Там меня оставили, и я часов пять дожидался, пока за мной не придут: ждали, пока все не успокоится, так как происходили облавы, обыски...
Ребята всегда были начеку, вовремя предупреждали и уводили от опасности. Что и как было с моими спутниками, - не знаю, я их не видел. Как-то я должен был провести ночь на каком-то чердаке. Только расположился, как снизу застучали в люк. То был Зденек: - Помоги! - попросил он: - Маня ранило, царапнуло в плечо, не могу рукой пошевелить, А расклеивать - моя очередь... Давно я мечтал об активной работе, - хоть этим отблагодарю. Короткими перебежка-ми мы продвигаемся в соседнем поселке Сен-Николя. От дома к дому, от перекрестка к перекрестку. Вспомнилось наше приключение с лестницей в годы студенчества. Тогда была шалость, а теперь... Я макал кисть в банку с клейстером, мазал стены, заборы и клеил. Зденек похвалил: - Ловко у тебя получается! - Опыт из Югославии. - не утерпел я, чтобы не прихвастнуть и не приврать. Для меня то были ночи романтики! Несколько раз мы нарывались на патрули, нам вдогонку стреляли. Мы удачно убегали: Зденек был здесь как дома, знал все лазейки. Можно сказать, что мы с ним подружились почти сразу. И вот он пришел хмурым: - Сегодня на вокзале схватили нашу связную из Парижа. С чемоданом литературы. Беда! Оставаться вам у нас слишком рискованно: начнутся повальные обыски и аресты. Я сообщил о вас в Париж... Жду указаний. Так прошло еще с неделю, пока не пришел приказ переправить нас в Париж: - Обсудив ваш случай, Центр решил поручить нам организацию побегов из близлежащих лагерей в Германии и дальнейшую переправку беглецов. Короче, надо организовать "цепочки". Для этого надо расширять наши людские резервы, а это всегда сопряжено с большим риском. Так что работы, а соответственно и опасности, прибавилось. Вот и велено вас отправить в Париж. А мы свяжемся с вашими товарищами в лагере. Как, с кем, каким образом можно с ними вступить в контакт? Настал день, когда из Варанжевилля, где я жил у Зденека и его друзей, меня привели на вокзал города Нанси. Там уже были Николай и Михаило. У Зденека сильно воспалилось плечо, поэтому прощальные объятия были осторожными. Он шепнул: "Хочу, чтобы ты знал: моя фамилия - Ковальский. Может свидимся!"{16}
Сели в поезд. Согласно указаниям Зденека, под вечер сошли с него в Бар-ле-Дюке: тут кончается "Зон энтердит" и за ним идет демаркационная линия, а следовательно и обязательная проверка документов и пропусков у пассажиров. Ночью прошли около тридцати километров по лесам, немножко подремали, и к утру были в Витри-ле-Фран-суа, городе уже в "Оккупированной зоне", где снова сели на поезд "Нанси-Париж". Таким образом мы избежали проверки на этом перегоне. Примерно к обеду, мы прибыли на "Гар де л'Ест" - "Восточный вокзал" Парижа. Итак, мы покинули Лотарингию и отважных антифашистов. Мы надеялись, что в Париже найдем то, что ищем, и что это преподнесут нам на "голубом блюдечке с золотой каемочкой". А почему бы и нет?
* * *
...Надежда! Какая ты призрачная, неуловимая, и в то же время, какая в тебе мощная сила! Окоченевший, почти заледеневший, сижу я в холодильнике, а она, надежда, согревает. Да еще как! Я знал, что обречен, что никакой еды мне не положено, а без нее не выжить... И вот, опять тот же ефрейтор, заступивший на смену, тихо отомкнул кормушку, молча протянул миску такого же, как и в первый раз, сытного и горячего супа. Не свою ли порцию отдает он мне? Отошедши от холода и возвращая миску, я спросил: - Как тебя зовут? - Не надо... Если выживешь, они не успокоятся. Но как нам надоело выволакивать отсюда заледенелые трупы!.. Пусть побесятся! Эти ублюдки - не люди! Нет, не люди! Он сказал "нам". Значит, он - не один, кому надоело служить таким хозяевам?! И именно такие, как он, и являются той лакмусовой бумажкой, которая безошибочно определяет, кто есть кто, где добро, а где зло. Странно всё это. А следователи-гестаповцы ждали, когда же я буду сломлен, когда начну выкладывать фамилии друзей, их клички, адреса и так далее, и так далее... Что придумать?.. Впрочем, запасной вариант "признания" был продуман загодя. Но... нельзя торопиться, - иначе не поверят моему "чистосердечному признанию", начнут проверять... Нет, торопиться никак нельзя! Еще немножко потерпеть, выиграть время. Так, чтобы по всем подсчетам им стало ясно, что я действительно полностью доведен "до кондиции", до "момента истины", что теперь говорю истинную правду, или то, что из нее запомнил... И я снова погрузился в прошлое...
Глава 4. В ПОИСКАХ...
На Восточный вокзал мы прибыли к обеду, в разгар дня. Да-а, здесь полное засилье оккупантов: немецкие солдаты, офицеры... Летчики, подводники, моряки, танкисты, СС и СА - сновали по вокзалу привычно, как у себя дома. Холеные, лощенные. Молча, чтобы не привлекать внимания, бродили мы по залам, по перрону. Останавливались, и я читал различные указатели, объявления, искал, где вход в метро...Что это такое, как оно выглядит? Рекламный щит. На нем куча объявлений, сообщения. Какие-то аккуратненькие, стандартные, красного цвета с траурным окаймлением листки, целый ряд: "Эмиль Тиссельсан, Анри Готеро, оба из Париже, приговорены к смертной казни за помощь врагу, выразившуюся в их участии в коммунистической демонстрации про-тив оккупационных сил. Они расстреляны сегодня, 19 августа 1941 года." Каждая афиша, под названием "Ави-Беканнтмахунг", сообщала об исполнении смертного приговора над двумя, тремя, а то и над десятками людей: смерть за участие в демонстрации, смерть за саботаж, смерть за порчу телефонного кабеля, даже за содержание почтовых голубей! Под каждой - подпись: "Генерал от инфантерии, фон Штюльпнагель". Были и списки заложников с уже в них вычеркнутыми фамилиями, считай казненными, - стариков, женщин, юношей, детей... На это указывали их имена, даты рождения.
Стиснув зубы, стоял я у этой доски Смерти и Скорби. Перевел содержание нескольких афиш своим спутникам. Наконец нашли спуск в метро. Поскорей туда, где нам должны помочь! А вот и огромный план Парижа с линиями метро. "Иври-на-Сене" - назывался пригород, куда мы должны были поехать На какую ветку нам сесть, с какой стороны перрона? Нашел линию с конечной станцией "Порт д'Иври", а перед ней и нашу остановку "Порт де Шуази". Какое счастье: нам не надо делать никаких пересадок! В вагоне второго класса, в давке, я рискнул обратиться к рядом стоящему юноше, наружность которого внушала доверие. Мой вопрос: "Правильно ли мы едем?". У него было настолько открытое лицо, что сделал это безо всяких опасений. Конечно, мой акцент не мог не вызвать некоего недоверия, и юноша оглядел меня с ног до головы. Видимо, был удовлетворен и, с благородством и услужливостью гостеприимного хозяина, не только сопроводил нас до нужной станции, но и поднялся с нами наверх и указал нужную улицу "рут де Шуази". Пожелав нам "Бон шанс!" - удачи, он опять спустился в подземелье. "Бон шанс!"... будто понял, что именно она, эта удача, и есть то, что нам сейчас крайне необходимо.
Какая длиннющая улица!.. Миновали с правой стороны какое-то кладбище, и наконец остановились у нужного нам номера. Всем идти наверх не стоит: мало ли что могло случиться за это время! Мало ли, какое неприятное "вдруг" могло нас подстерегать! Предложив ребятам прогуливаться невдалеке, я сам поднялся и условными знаками, как меня научил Ковальский, постучал. Дверь открыл молодой человек лет двадцати. Судя по описанию Зденека, - это он, Пьер. - Я от Зденека. - представился я. Пьер пригласил войти. Малюсенькая, опрятная комнатушка. На газовой плитке в кастрюле с кипящим маслом - нарезанный длинными ломтиками картофель. Это - излюбленное французское национальное блюдо "пом фрит". Запахло домом. Пьер слушал мой краткий рассказ. Да, он ждал нас. Но гестаповцы напали на след нескольких смежных групп. Последовали многочисленные аресты, положение стало критическим. Естественно, приютить у себя Пьер не может, - слишком опасно. - А где остальные? - Остались на улице. - Правильно сделал!.. Ну, а что касается вашей переправки в Африку или Англию, - и он взволнованно заходил по комнате: - Не кажется ли вам, что и здесь можно бороться? Я сказал, что ребята не владеют языком. - Как, не владеют? А как же вы добрались сюда? Он что-то забормотал, продолжая шагать взад-вперед. Об аресте связной в Нанси он уже знал. Это тоже намного осложнило ситуацию. Наконец, он предложил погулять часа два, затем со спутниками снова подойти к его дому. Поджидал он нас у подъезда. Повел по улице к какой-то подворотне. Свистнул, и к нам вышел мужчина в темных очках. Деловито задал несколько вопросов по-французски, затем внезапно перешел на довольно хороший русский. Поняв, что наше желание влиться в борющуюся с немцами армию серьезно, и учитывая, что, пожалуй, иного выхода нет, - незнание языка тому причиной, (а этого здесь не ждали!), незнакомец, представившийся "Гастоном", предложил поехать в Ля Рошель, где ему известен капитан рыбачьего баркаса, занимающийся контрабандной перевозкой добровольцев. Сообщил, в каком кабачке мы его найдем, его приметы, время встречи и пароль. А пока посоветовал остановиться по адресу, данному нам матерью Жерома, - у Анни Террон. Извиняясь, подтвердил сообщение Пьера, что у них самих положение сейчас сугубо ненадежное, часто приходится менять "крыши", документы, клички... Если же Анни Террон не сможет нас принять, то... ничего не поделаешь!.. нам надлежит прийти к Пьеру к 21-00. На этом мы и расстались.
Вот тебе и "блюдечко с золотой каемочкой"! На углу бульваров Сен-Дени и Себастополь - большой пяти- или шестиэтажный дом. На каком этаже квартира Террон? У кого спросить? Тут же, у парадного входа, - маленький лоточек с овощами и фруктами. Продавцом - пожилая благообразная женщина. Обращаюсь к ней с вопросом. - Да, мадам Террон живет здесь. На верхнем этаже. Но она сейчас на работе, придет часа через три. А откуда вы ее знаете? Лоточница оказалась консьержкой этого дома. Оглядев нас повнимательней, она догадалась, кто мы, и тут же пригласила зайти к ней: - Вам не стоит долго оставаться на улице, - слишком уж вид у вас "не того"!.. Комнатка её была у самой лестницы. Сверхобщительность и болтливость хозяйки закончились тем, что минут через пять помещение это ломилось от массы её друзей и соседей, пришедших поглазеть на "беглецов из плена". После обычных расспросов о войне, о плене, со всех сторон посыпались анекдоты, где зло высмеивались как сами "боши"-немцы, так и их правители. Запомнился один фривольный анекдот о том, как сам Геббельс, гитлеровский министр пропаганды, проживая, якобы, по соседству, приходил к хозяйке покупать овощи, и как она над ним и Гитлером издевалась... Игру слов я не понял, а когда мне шепотом ее растолковали, то и я чуть не взорвался от смеха. Действительно, французы остроумны, с развитым чувством тонкого юмора. Удивительно, что, несмотря на тяжелые времена, оптимизм не покидал их. Все трое, мы почувствовали себя, как дома. Анни, пришедшая с подружкой, встретила нас приветливо и сразу повела в свою комнатку на мансарде. В окошечко видно было лишь море различных крыш со стояками дымоходных труб с причудливыми на них флюгелями. Мы оказались не под, а "над крышами Парижа". Отсюда, к сожалению, не видно было ни собора Парижской Богоматери, ни других, известных нам по литературе, достопримечательностей, ни даже Эйфелевой башни... Жить в комнатке пришлось безвылазно одним: Анни спала у подружки. Не забывали нас и кормить. На четвертые сутки Анни удалось наскрести денег на билеты до Ля Рошеля, вечером проводила нас на вокзал и усадила в вагон. Прощай, город сказки - Париж! Так и не увидели мы ничего из того, чем ты так красовался в нашем воображении!
* * *
Нет слов: мы родились в рубашке! Бежали из немецкого лагеря, переползли через границу, через демаркационную линию, добрались до Парижа, до Ля Рошеля: протопали и проехали через всю Францию с востока на запад - через Лотарингию, через "зон энтердит", Париж и добрались до самого Атлантического океана, и... ни разу не попали в облавы, не нарвались на проверку документов, которых у нас не было! Вдобавок, на всем нашем пути встречали прекрасных, отзывчивых, самоотверженных, нам до тех пор абсолютно незнакомых людей! Что же это за "рубашки"? Думается, заключались они в том, что французы, в массе своей, ни на йоту не приняли фашизм. Разные сами по себе, они нам сочувствовали, активно помогали, порой явно рискуя своей жизнью. Короче, видели в нас своих союзников.
И вот мы у цели, на перроне вокзала Ля Рошель. Сейчас около часу ночи. С перрона, входим в зал вокзала, откуда выход в город. Но что это? - у всех выходных дверей стоят фельджандармы, милиция и у каждого выходящего просматривают документы. В самый последний момент, а всё-таки влипли! Теперь нам - явная крышка! Нет, не паниковать! Искать выхода!.. Приглядываемся к обстановке. К жандармам выстроилась очередь, предъявляют какие-то бумажки и выходят. Но почему не все пассажиры толпятся к выходу? Не суетясь, ничуть не волнуясь, они располагаются на скамейках. Будут ли и у них проверять бумаги? Мы тоже присаживаемся... Ждали-ждали, но к нам никто не подошел. Не заметили, как заснули. А проснулись, - ни жандармов у дверей, ни... вокзал был почти пуст! Поняли: был комендантский час, а выход в город разрешался лишь тем, у кого были ночные пропуска. Да-а, у страха глаза велики! Мы вышли в город. Ласковый теплый ветерок обдавал нас характерными морскими запахами, и мы жадно вдыхали воздух Атлантического океана. Как нам показалось, это и есть чудесный воздух обретенной свободы.
Да, так казалось... Перед нами был океан, а за ним - свобода и борьба, выполнение не только нашего прямого солдатского долга, но и нашего долга перед многими людьми, внесшими немалую лепту в то, чтобы мы целыми и невредимыми добрались сюда. Нет, мы не принадлежим к тем людям, кто только и способен на то, чтобы извлекать личную пользу, ничего не давая взамен: мы ненавидим таких паразитов! А нам осталась самая малость, - на севере обогнуть Бретонский полуостров, и мы - в Англии. Или поплыть на юг, обогнуть Пиренейский полуостров с Португалией, и мы - в Африке. Интересно: куда именно повезет нас капитан? Мы были уверены, что нас всюду примут с распростертыми объятиями: идет война, и солдаты нужны. Мы будем драться за свободу многих стран: Югославии, Франции, Польши, Греции, России,- драться против их, против нашего общего врага - фашизма-агрессора.
Шум океана привел нас на набережную. А вот и оно, - нужное нам бистро. Дверь его настежь открыта. Ничего удивительного: по утрам всегда заскакивают в такие заведения на чашечку, хоть и эрзаца, но горячего кофе. Памятуя предупреждение "очкастого" - Гастона из Парижа, что необходимо быть крайне осторожным, я решил не спешить. Зачем торопиться? Мы уже на месте, но не вредно предварительно осмотреться. Странно всё-таки: в бистро никто не заходит и из него никто не выходит! Почему? Без утреннего кофе, без того, чтобы посудачить о том, о сем, особенно о войне и прогнозах, - что-то не похоже на общительных французов! Невдалеке расположилась со своим товаром торговка зеленью. Подошли к ней. Я заказал фунт моркови, - как-никак, а это дешево, заменит нам более плотный завтрак, от которого, с нашими финансовыми возможностями мы предпочли воздержаться. Пока она взвешивала, я мимоходом посетовал на тяжкие времена: даже, мол, в бистро нет желающих зайти!.. - Что вы, месье! - боязливо оглядываясь ответила она: - Там вчера арестовали хозяина, а с ним вместе и нашего капитана... Увели в наручниках...
Стало ясно: там сейчас "мышеловка"! Ой-ой, поскорее отсюда подальше! Куда теперь? Что предпринять? На обратную дорогу денег нет. Здесь оставаться нельзя, - город буквально кишел немцами, патрулями жандармов: заночевать на улице - самоубийство! Нам остается несколько часов, чтобы найти выход из положения, в каком оказались... А что, если пойти на базар? Ведь должен же он где-то быть. Раз базар, то там могут попасться и земляки: из Югославии много бедняков выезжало на поиски работы - в Америку, Францию... Это называлось у нас "печалбой" - поездкой на заграничный промысел. Некоторым через десяток лет удавалось вернуться разбогатевшими, кому как повезет... Вдруг на базаре и попадется кто-нибудь из таких! И мы пошли на запах рыбы: в приморских городах на базарах торгуют преимущественно "дарами океана". Нос нас не обманул.
Бродим по базару в толпе, прислушиваемся к разговорам. Чу! Славянский грубоватый акцент! За прилавком с креветками - славянин! Вступаю в осторожный разговор. Да, он - болгарин. - Значит, вы - наш земляк! Мы тоже с Балкан! - и я даже пропел ему отрывок из болгарского гимна: "Шуми Марица, окрвавлена, плаче девица, люто ранена..." Болгарин с удовольствием стал подпевать. Постепенно я ему открылся: мы ищем работу, у нас нет денег... Не поможет ли он чем-либо? Возможно, ему требуются матросы? Или он знает, кому они нужны? Может, сам он - рыбак? - Мне как раз нужны такие люди! Я вам помогу с дорогой душой, пристрою на работу, вы будете довольны... Вот только мне надо распродать товар: дело прежде всего, бизнес есть бизнес! - Конечно. Мы вас понимаем...- обрадованные такому везению, мы смотрим на него восхищенными глазами. - Вы пока погуляйте! Подойдете сюда к половине двенадцатого. Теперь, уже как беззаботные туристы, мы стали гулять по улочкам города, - отличного, прекрасного, гостеприимного города. Даже многочисленность немцев нас ничуть не беспокоит: мы чувствуем себя чуть ли не местными жителями... Ля Рошель! Надо же: город, в котором побывал сам сметливый Д'Артаньян, город, где мушкетеры ловко обвели вокруг пальца злую "миледи" хитрющего кардинала Ришелье! И я мысленно перелистал в памяти удивительное произведение А. Дюма. Мушкетеров было трое, плюс гасконец Д'Артаньян. Нас тоже трое. Не окажется ли болгарин нашим благородным гасконцем? Часов у нас не было, и мы опоздали почти на целых полчаса. Не узнали нашего болгарина: он был разъярен, набросился на нас с руганью, - почему мы опоздали? Пока вел нас куда-то, всё время распекал за неточность, не давал нам и слово вставить. Конечно, мы виноваты, но так получилось...
Вдруг он втолкнул нас в дверь большого углового дома: - Быстрее, быстрее! Заходите! Внутри, по широкой парадной лестнице со второго этажа спускался... офицер в желтой форме войск СА! Нас бросило в жар. Куда это нас привели? - Герр штурмфюрер, я, как вы и просили, нашел вам парней... Целых трех! - Перерыв на обед! Прийму через час. - Но, герр штурмфюрер, посмотрите: какие они ладные, крепкие... - Вижу. Подойдут. Но приму через час. Перерыв есть перерыв, порядок есть порядок. Орднунг ист орднунг! - многозначительно по-немецки закончил он и назидательно поднял вверх палец. Почти вытолкнув нас из холла, он запер дверь и удалился. Болгарин был раздосадован: - Видите?.. Я же вам говорил! Теперь придется ждать целый час... Ладно, вы ждите меня здесь, никуда не уходите! Я схожу домой, принесу вам чего-нибудь погрызть... Что это за "офис"? - В витринах огромные плакаты: строй эсэсовцев в касках и надпись: "С твоими европейскими товарищами, под знаком СС, ты победишь!", плакат с буквами "LVF" и надписью "Французский Легион добровольцев против большевизма". Над входом свисало два красных полотнища со свастикой. Вот, куда мы попали, - в вербовочный пункт на Восточный фронт! Как только силуэт болгарина исчез за углом, мы тут же, ноги в руки, и дали стрекача. Провались она пропадом, обещанная нам еда!..
Уныло бредем по дальним окраинам. Мысли самые безотрадные... Впереди идут две старушки. И вдруг донеслись обрывки их разговора. По-русски! - Бедная Россия! - сетовала одна: - Сколько же ей терпеть! - А проклятая немчура всё прет и прет! - Извините, уважаемые дамы! - нагоняю их: - Нам бы ваш совет... Старушки приостановились, вежливо ждут. И я без утайки рассказал о наших мытарствах. Это - судьба, ее добрые предначертания: в самый что ни на есть критический момент мы повстречали именно их, этих двух стареньких фей! Они тут же взялись нам помочь. Привели в пустынную улочку на отшибе города, отворили калитку в дощатом заборе. Во дворике стоял ветхий домик с расшатанным, чуть живым деревянным крылечком. Поднялись. Они отперли дверь, и мы очутились в... библиотеке с ее характерным запахом. Настоящая библиотека, уставленная стеллажами с книгами! Одна из старушек, как оказалось, была ее хозяйкой. Эти старинные книги в свойственных их возрасту переплетах были для них всем: - Это всё, что осталось нам от любимой России! - грустно посетовали они: - Храним до лучших времен... К вечеру они принесли несколько одеял и корзинку всякой пищи. Подумать только: карточная, самая "экономная" система, а тут целая корзина! Оставшись одни, мы устроились, кто на полу, кто на стульях. Сейчас мы сможем отдохнуть вволю, без всякого страха залечить все волдыри на ногах, и, вдобавок, не на пустой желудок! Сколько времени продлится такое счастье? С утра следующего дня мы благоговейно притрагивались или листали то одну, то другую книгу, каждая из которых могла бы оказаться музейным экспонатом.
Вспоминая об этом времени, с горестным чувством думаю о многих современниках, аккумулирующих в своих библиотечных шкафах не столько книги - творение человеческого гения, сколько "престижную" выставку красивых обложек, даже не собираясь притронуться и вникнуть в суть их содержания! Каких только книг там не было! Вспомнил я и нашу библиотеку в Харькове... За первыми рядами мы обнаружили много книг "Госиздата" с серпом и молотом! Несдобровать бы старушкам, если бы об этом узнали нынешние "властители мира", начавшие править с костров- "аутодафе"- неугодной для них литературы!
Позже мы узнали, что такие книги приобретались библиотекой еще в мирное время: старушки несколько раз посещали советское посольство, смотрели некоторые кинофильмы, подписывались на различные издания. Они стремились лучше познать новую Россию. И были уверены: русские обязательно сломят фашизм, ибо зло не может победить добро! Со строем в Советском Союзе они согласны не были. Считали, что он - очередное испытание для русского многострадального народа. А вот в силу самого народа, в его мужество, в его свободолюбие и патриотизм, в сам "русский дух" - верили безоговорочно. Ленин? - Да, это представитель интеллигенции, мыслитель. К сожалению, революция и последующие годы или разогнали, или уничтожили интеллигенцию. "Мир народам"? - Да, декрет о мире, пожалуй, величайшее деяние Ленина. "Фабрики рабочим, земля крестьянам"? - Лозунг,- как они считали,- сугубо декларативный, агитационный, лишивший, в итоге, крестьян их хлеба, их жизни - земли. Что за крестьянин, у которого нет собственного надела земли? Начатая же Столыпиным реформа обернулась страшной бедой для крестьян, оставив их теми же безгласными, бесправными крепостными... Коллективизация, да еще насильственная? - И того хуже! Конечно, поставить сельское хозяйство на современную, промышленную основу - сама идея прекрасна. Чернышевский в его книге "Что делать?" попробовал мысленно реализовать подобное. Но получилась утопия. Нет, надо учитывать и степень культурного развития. Достаточна ли она? - В этом наши собеседницы очень сомневались. В Сталине они видели того же царя, но жестокого, бесконтрольного. Процессы 1937-1938 годов? - Ничто иное как самодурство, расправа с неугодными, умными, а поэтому и опасными диктаторскому режиму. Это - уничтожение более достойных претендентов, конкурентов на власть. При любом абсолютизме, тоталитаризме - одно и то же. И Гитлер правит так же. Вот только культуры у него побольше, и сам немецкий народ намного культурней. - Раньше, на первых страницах букварей печатались оды "батюшке-царю", портреты царя и царицы. Сейчас - такие же оды "Сталину- красному солнышку", портреты его и "Ильича". Что же изменилось? Да, конечно, раньше в своих колясках разъезжали богачи - промышленники, купцы. А теперь в автомобилях - комиссары. А что остальной народ, не принадлежащий к этой касте привилегированных? - Как топал понуро в лаптях по грязи, так и топает, гнет свою спину... Даже о велосипедах не слыхали! В Советском Союзе утверждают, что они против эксплуатации человека человеком. Зато не мыслят жизни без узаконенной еще большей эксплуатации "избранниками- слугами народа" - всего остального населения...
С интересом прочитал я произведения русской писательницы Теффи. Особенно запомнилась "Русская сказка". В ней рассказывалось, как русский эмигрант, гуляя по Булоньскому лесу, присел приморившись на пенек, произнеся "Ох!". Тут же из-за пенька появился старичок с длинной белой бородой, в лаптях, с палкой на плече, на которой висела котомка: - "Я - дедушка Ох. Вы меня звали?". - "Вы - русский?" - обрадовался эмигрант. - "А как же. Я из русской сказки тоже подался в эмиграцию: житья в России нам не стало!". - "А как же с остальными мифическими персонажами?" - "Кому как... Одних, как царя Салтана, пустили в расход. Другим пришлось приспосабливаться по их умению и разумению. Вот и стали подыскивать какую-никакую работенку. Ведь там, "Кто не работает, тот не ест!". Василиса Прекрасная, к примеру, на почтамт телефонисткой пристроилась, и то по блату. Кащей Бессмертный в Чека мертвыми костями заведует. Конек-Горбунок в колхоз нанялся,- водовозной клячей служит. Но жаловался, что долго не протянет: бывает, что кормить забывают. Бабу Ягу-Костяную Ногу, и ту раскулачили: помело в совхоз отдали, а медную ступу в торгсин снесли. Ивана-Царевича, спасибо, не укокошили. Зато, за его непролетарское происхождение, на Соловки сослали. Жаль, что Кота-Ученого сожрали за время голодовки.... Ох-ох-ох! " Дедушка Ох рассказал и о судьбе других сказочных знаменитостей, да всё в голове не удержалось.
Попалась мне в руки и странная книга из газетных вырезок. То были воспоминания Солоневича "Россия в концлагере", где рассказывалось и о лагерях на Соловках. Солоневич? - Я тут же вспомнил, что слушал его выступление в Белграде. Помнится, было их три (или два) брата и сестра Тамара. Он рассказывал об условиях жизни в "СЛОН"-е - "Соловецких лагерях особого назначения". Борис Солоневич говорил, как им удалось оттуда бежать. Пока он рассказывал, я восхищался игравшими под короткими рукавами его рубашки мощными бицепсами. Си-и-лён, дядя! Поэтому и удалось совершить подобный героический побег. На нем были очки с толстыми стеклами и почти не было зубов, - потерял в лагерях из-за цынги. Вскоре после нашей встречи с ним, газеты сообщили, как им в Болгарии, где они обосновались, пришла почтовая посылка. Спасла их случайность: взрыв этой посылки-бомбы их не убил, но кажется была ранена жена. Так им мстили органы ГПУ! И я рассказал об этом старушкам. - Да, мы знаем об этом. Но то было у вас на Балканах. А здесь, в центре Парижа, среди бела дня, был выкраден генерал Кутепов, глава РОВС-а (Русского ОбщеВоинского Союза). Говорят, что, мол, он потом давал показания на Лубянке. Исчез и его преемник - генерал Миллер, другие... Чьи-то кости были обнаружены в яме с гашеной известью... Бедная Россия! Настроила она против себя! Но всё равно, там наш народ, наша Родина. Она сейчас в величайшей беде. И мы с ней, против ее врагов. Народ наш здоровый, хороший. Взять хотя бы посла Раскольникова.{17}
Они долго рассказывали об эмигрантах во Франции. Как и в Югославии, они и здесь резко размежевались на бывшую элиту и имущих, злобствующих по поводу любого успеха в России (критиковать всегда проще и особого ума для этого не требуется), и на других, для которых Родина осталась превыше всего. Но в минуту беды, нависшей над Россией, во многих заговорил патриотизм, отодвинув все разногласия на задний план. Особенно молодежь встала на сторону Отчизны. Но были и такие, кто нанялся к немцам. Старушки были убежденными патриотками и знали, что фашизм ни в коем случае не принесет России благоденствия, а наоборот, - такова сама его звериная сущность!
Но чем могли помочь? И чем могли помочь нам? Город кишит гитлеровцами: рядом в разгаре строительство огромной бетонной базы - убежища-гаража для десятков подводных лодок. Вдобавок, после того, как пяти мальчишкам удалось на двух утлых лодчонках переправиться в Англию (из Нормандии), что наделало немало шуму, - их торжественно принимал сам Черчилль и об этом протрубили все газеты. В результате, строго были наказаны обе береговые охраны: немецкая - за то, что упустила их, английская - за то, что проморгала их высадку на острова и дала "чужеземцам" с развернутым французским флагом проникнуть глубоко в страну: так, мол, мог бы пробраться в самое сердце Англии и матерый немецкий шпион и диверсант! И вот теперь гитлеровцы ужесточили охрану побережья: близко к берегу, даже на пляж, без пропусков не подпускают!
Почти две недели пробыли мы у наших старушек- добрых фей. Света зажигать нельзя было, они часто, то вместе, то поодиночке, заходили к нам коротать наше мучительно тянущееся бездействие. А мы всё сидели и сидели, без денег, без документов и... без ясности на будущее. Сидели и не верили, что нашим хозяйкам удастся что-нибудь сделать, хоть они это и обещали. Они и так сделали многое: дали нам убежище и пропитание. А ведь это - баснословно много! Но сколько можно кормить таких здоровых парней?! Мы старались есть поменьше, убеждая их, что сыты... И вот, старушки нашли-таки выход! И какой! Пришел день, когда они, сияя от счастья, торжественно сообщили, что насобирали денег на билеты и отправят нас в Париж. И не куда-нибудь, а в руки активных подпольщиков. Правда, в тот момент мы этого еще не знали.
- Париж - столица. - объяснили они: - А также и центр Сопротивления. Русские - его участники. Это они издавали листок "Резистанс" (Сопротивление"). Теперь можно сказать, что вдохновителями и организаторами редколлегии были наши эмигранты - этнографы Анатолий Левицкий и эстонец Борис Вильде. К сожалению, они арестованы. Мы их немножко знаем. У нас, тут же, где сейчас вы, ночевал их посланец. Да их схватили, но на их место уже встали другие и продолжают их дело... {18}
Итак, нам надлежало выехать в субботу ночью, чтобы утром явиться в русскую церковь на рю (улице) Дарю и там спросить "Мать Марию" или "отца Вениамина" (подпольная кличка Дмитрия Клепинина). {19} Я с изумлением смотрел на этих двух милых благодетельниц и не верил, что из такой дали им удалось связаться с Парижем. Впрочем, что нам о них было известно? - Ровным счетом ничего, - мы не знали даже их имени-отчества! Хозяйки перехватили мой недоумевающий взгляд и не выдержали чтобы не похвастаться: - Мы и не такое можем!
* * *
Утром следующего дня мы были на рю Дарю. Вошли во двор, поднялись по ступенькам в церковь. Разгар молебна. Пахло ладаном. Молились, крестились и отдавали поклоны многочисленные прихожане. Нет, здесь разговаривать, спрашивать - неприлично. Прежде всего здесь молятся о России, о ее спасении. Впервые мы среди такой массы русских. Помолившись, вышли во двор. Тут тоже много народу. На наши расспросы нам показали мать Марию. В монашеском. Возраст? - Какой возраст может быть у монашенки?! Когда мы ей сказали, что прибыли из Ля Рошеля, она кратко ответила: - О вас мне сообщали. - и попросила подождать. Через несколько минут она подошла с пожилым мужчиной: - У меня сейчас битком, как вы знаете. - закончила она с ним разговор: - А эти молодые люди - из Югославии. Мужчина представился: - Полковник Приходькин. Выслушав нашу одиссею, он согласился взять нас к себе.
Я понял, что мы - не первые, и что у матери Марии хорошо налаженная связь и организация по приему и спасению тех, кому грозят арест и гибель. Довольно-таки опасная работа, требующая большой храбрости и самоотверженности. И я с благодарностью вспомнил о наших благодетельницах из Ля Рошеля. Все эти люди действительно занимались рискованным делом, не думая о личном благе. Они не только "сетовали"!.. В доме, где жила семья Приходькиных, на рю Вийемен в 14-ом округе, мы познакомились с его дочерью Екатериной Борисовной. Она взялась обучать Михайла и Николая французскому разговорному языку. Затем к ней присоединилась и ее подруга Мария Златковски. Судя по фамилии, я решил, что она - полька. Лишь намного позже я узнал, что она была грузинкой.
Обе знакомили нас с Парижем, показывали улочки, кварталы, но главное - проходные дворы, через которые бы мы, в случае облавы, могли скрыться. Благодаря им, мы были обуты и одеты. Вид у нас стал вполне "парижский". Одеть таким образом троих оборванцев, как мы, стоило огромных средств. Сейчас мы неплохо вписывались в окружающую среду. Стали посещать знакомых этой семьи. Через врача Зернова, мы познакомились с Верой Аполлоновной Оболенской, умной и очаровательной, жизнерадостной женщиной. Борис Зернов, когда меня свалил приступ тропической малярии подхваченной мной в лагере на болоте - в Секелаже, быстро поставил меня на ноги. Но сколько пришлось проглотить препаратов хинина! По мужу, Вера Аполлоновна была княгиней. Его самого мы никогда не видели. По вопросам, которые мне задавала Вера Аполлоновна, я определил, что встреча и знакомство с ней - не случайны. "Викки" - так звали её все и так представилась она нам - интересовалась каждой мелочью нашей прежней жизни. Вопросы свои задавала она подчас шутливо и ненавязчиво, с удивительной душевностью откликаясь на всё нами пережитое. Отличное качество - уметь слушать собеседника! И Викки владела им преотлично. Но о цели столь обстоятельного разговора в первый день встречи не было ни слова. То, что она- княгиня, мы узнали несколько позже от Марии Златковски.
По Югославии, я знавал многих русских князей, генералов. Большинство из них были несколько надменны и чопорны, в основном критически, скорее зло, относившимися к Советскому Союзу. И жили они особняком, в собственном кругу. Мечтали о троне, о возврате империи, а соответственно - об утерянных имениях, положении и привилегиях. Вспоминаю случай в магазине на улице Князя Михаила в Белграде. Заходит туда русский генерал в полной форме, просит дать ему "йоргован". Продавец отвечает, что в его магазине продают лишь постельные принадлежности, а не цветы. А генерал настаивает: "Вот я и прошу йоргован!". Я понял, что генералу нужен не "йоргован" (сирень), а "йорган" - одеяло. Он перепутал эти два слова. Я объяснил это продавцу. Конфликт был исчерпан, но меня поразило бурчание выходившего с покупкой генерала: -"Какая дикая нация! Уже двадцать лет, как мы здесь, а они до сих пор не научились русскому языку!". Так вот, Викки - полная противоположность таким людям. Да, такую замечательную женщину было за что уважать, и не случайно она оказалась среди тех, кто занялся нашей судьбой. Я заметил также, что среди Зерновых и их знакомых она пользовалась особым авторитетом. Часто у них проскальзывало: -"А что скажет Викки?"... Но это было совсем не то, что в "Горе от ума" ("О, Боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексевна!").
На одну из встреч, с Викки пришло двое незнакомых. Они долго говорили с нами о Движении Сопротивления, его задачах. Один из них почти все время молчал, лишь слушал, и плохо мне запомнился. А вот второй, Кристиан Зервос, грек по национальности, запомнился хорошо, тем более, что в дальнейшем мы часто с ним встречались. Викки и Кристиан знали о нас всё: и об организации и подготовке побега из плена, о моем знании языков. Более того, деньги для нас старушкам в Ля Рошели, послали они. Знал Кристиан и о нашей встрече с "очкастым" и Пьером на рут де Шуази, о Варанжевилле и Ковальском...
В моей голове всё перевернулось вверх тормашками! Оказалось, что люди, связанные между собой общей идеей борьбы с фашизмом, окружали нас всюду. И мы, словно по цепочке, попадали туда, куда надо, всегда были под опёкой, нам в нужный момент протягивали руку помощи. И многие из них даже не догадывались, что работают в одной и той же, хорошо законспирированной, подпольной организации, тем не менее являясь ее звеньями. Как мне позже стало известно, организация эта называлась "OCM" - "Organisation civile et militaire" - "Гражданская и военная организация". Один Кристиан Зервос являлся ее связующим звеном с другой организацией - "MOI" - "Main-d'œuvre immigrée" - "Рабочих-иммигрантов". Зервос расспрашивал меня и расспрашивал: как я отношусь к коммунистам, об учебе в Белградском университете и в военном училище... А когда услышал ответы, сказал, глядя мне пристально в глаза: - Думаем, подойдешь для работы здесь...
Я насторожился, не поверил. С моими знаниями Парижа! Но Кристиан на мои доводы не обратил внимания, а пригласил к нашей беседе Викки. Та мило улыбнулась и сказала: - Вижу, вы друг другом остались довольны. Не боги горшки обжигают! Вы хотели воевать солдатами. Но ты, Алекс, можешь и должен делать большее. Твоя работа с нами принесет врагу намного больше ущерба, чем сотни простых солдат! Зервос добавил: - Это сейчас необходимо. Тебе предстоит серьезное задание, и мы уверены, что с твоими опытом и смекалкой ты с ним справишься. Мог ли я возразить, тем более, что мне оказывают подобное доверие? Николая и Михайла куда-то увели, на прощанье мы обнялись. Было горько: с ними я был в училище, с ними был в плену, с ними бежал, протопал через всю Францию, с ними... уходила часть прожитой жизни. Я же вернулся к Приходькиным. Как одиноко стало без друзей! Что будет с ними? Куда их определили? Встретимся ли еще?..
На следующий день мы с Катей Приходькиной отправились в магазин "Юнипри", где я сфотографировался в автомате "фотоматон". Минут через десять, впервые за столько времени, я держал в руках свои еще сырые фотографии. Их у меня забрали. Через несколько дней мне вручили "карт д'идантитэ" и "сертифика де домисиль" - справку о парижской прописке. Так, через Викки я окончательно вступил в Движение Внутреннего Сопротивления. Началась жизнь под первой чужой фамилией... {20}
* * *
...Я встал и вновь затоптался по холодильнику. Холод скрутил меня так, что я переставлял негнущиеся ноги как автомат, рывками и чуть ли не со скрипом в суставах. Ступни уже ничего не ощущали. Особенно после того, как в них резко кольнуло. Я сообразил, что их немедленно надо растирать. Присел и занялся массажем. Хоть меня и колотило, как в лихорадке, но теперь у меня появилось занятие. И всё же, странное это состояние,- когда кажется, что душа живет собственной жизнью, будто отдельно от тела! Той жизнью, что осталась за пределами этих бетонных стен... Не к смерти я готовился. Чтобы выжить, мне предстояло "расколоться". Это - основное, о чем я сейчас думал. И, припоминая всё, что предшествовало моему превращению в "Георга Соколова", я пришел к выводу: об этом периоде гестапо не могло узнать. А вдруг Мария Златковски и Катя арестованы? Нет, не может того быть! Но меня-то арестовали?! За что? Какой именно "шпионаж"? А может... Нет, всё равно не могу понять! С Приходькиной я давно не имел никаких контактов: связь с ней прекратилась еще после моего первого отъезда в Берлин. Следовательно, с этой стороны опасности нет. Но ведь "Соколов" определенно числится в архивах берлинского гестапо. Как это случилось? Этот момент надо обязательно прокрутить повнимательней...
Глава 5. ПЕРВЫЕ ЗАДАНИЯ
Париж... Не думал - не гадал, что в этом городе сказки, созданном в моем воображении по романам А. Дюма, В. Гюго, в городе Гавроша, Жана Вальжана, братьев Люмьер{21}, в городе со знаменитыми Эйфелевой башней, Лувром, Собором Парижской Богоматери, я каждый раз буду ходить по широким бульварам и узеньким улочкам словно в последний раз. Тусклый, затемненный по законам войны, холодный и голодный Париж начала зимы 1941 года. Не верилось, что это он, тот самый, который был создан моим воображением. Трамваев давно нет, редки автобусы, двухэтажные омнибусы. Кругом - велотакси. Но четко работало метро. Казалось, что как и метро, вся настоящая активная жизнь ушла в подземелье, в подполье. Людно лишь в очередях за зеленью, овощами. Чаще всего это рютабага, нечто вроде турнепса или брюквы. И за хлебом, мясом. Картофель - лакомство. Привоз продуктов в столицу сокращен до предела. Зато из страны всё вывозится нескончаемыми железнодорожными составами. На их локомотивах большими белыми буквами начертано: „Räder müssen rollen für den Sieg!“ - "Все колеса должны вращаться на победу!". Техника, продукты - всё шло на Восток, в нацистскую Германию, - всё против Советского Союза, против моей Родины. Так же было и во всех странах покоренной нацистами Европы.
Но Франция жила и другой жизнью, скрытой. Днем и ночью работали подпольщики, те, кто не смирился с подобным положением вещей. - Как у тебя с украинским? - спросил меня Кристиан Зервос, как только мне вручили документы. Вопрос не только неожиданный, но и непонятный. На нашей беседе присутствовали Викки и Мария Златковски. "При чем тут украинский?"- недоумевал я. Однако ответил, что знаю, знаю и много песен. Меня тут же попросили спеть. Смутился, покраснел. Викки подбодрила, и я, вначале робко, потом погромче, затянул "Ревэ тай стогнэ Днiпр широкий". Затем мою любимую "Стоить гора высокая, под тiй горой зелений гай...". Внимательно прослушали, переглянулись, и Кристиан протянул мне какую-то тонюсенькую брошюрку на украинском языке. Удивился: на обложке красовалась странная эмблема, - трезубец со свастикой. Что это? Прочел вслух несколько строчек. По-моему, все были удовлетворены. Предложили завтра же сходить в клуб украинских националистов -"Украiнську Громаду", и стать там на учет, заручиться поддержкой и получить направление в бюро по трудоустройству на Кэ д'Орсей.
Операцию эту продумали до мельчайших подробностей, составив для меня "легенду", объясняющую, почему у меня русская фамилия. Вкратце ознакомили с основными положениями националистов. Мне предстояло регулярно посещать "сходы", слушать доклады, зарекомендовать себя ярым противником большевизма. Характерно, что, как мне сказали, члены "Громады" плохо знают историю и не лучше - географию. Тут же, чтобы меня подбодрить, рассказали анекдот. Якобы, в "Громаде" висит карта России, где маленький овал с Питером и Москвой назван "Московией", а вся остальная территория - "Украiна". И если, мол, заходит туда новичок, то "пан-пысарь" спрашивает: "Звиткиля це ты?". Получив ответ, что тот "З Владивостоку", или "З Владикавказу", писарь бросается к карте, ищет, находит и глубокомысленно соглашается: "Так, цэ - сэрьцэ Украiны!"... И мне, стало быть, бояться поэтому нечего. Действительно, в "Громаде" меня приняли благосклонно и без особых проверок, задали несколько вопросов и выдали требуемое направление.
Так я попал на завод в Парижском предместье Курбевуа, готовивший кадры специалистов-металлистов. Здесь я и получил мой первый настоящий документ с гитлеровским орлом - заводской пропуск "лессэ пассэ". Оккупанты явно нуждались в квалифицированных металлообработчиках: фронт требовал "мяса", оружия, машин. Немецкие тылы оголялись по мере хваленных "побед" в России, и нацисты заманивали иностранных рабочих повышенной зарплатой на пустеющие заводы.
С первых же дней на заводе в Курбевуа я столкнулся с величайшими для меня трудностями, которых не предполагал: не знал ни названий элементарных инструментов, ни терминов, которыми запросто владеет любой французский школьник. Прекрасно понимая, какое отребье сюда шло, я держался замкнуто, консультироваться с кем-либо было крайне опасно. После двух месяцев учебы экзамены предстояло сдавать нацистам, и проявить себя несведущим в элементарных вещах было бы явным провалом! Зубрил дома, был всё время в напряжении, и буквально через неделю взвыл от невыносимой нагрузки, а главное - от нервной напряженности. Рассказал об этом Кристиану: - "Не могу, мол. Провалюсь!". - Потерпи! - успокоил он меня: - Скоро к тебе подойдет наш человек. Он к тебе приглядывается. Сам понимаешь: не всё делается сразу!..
И вот возле меня, у верстака, остановился симпатичный, с живыми черными глазами, юноша. Ростом ниже меня, но крепкого телосложения. И... произнес условленную фразу! Я чуть не бросился к нему на шею. Наконец-то я не один! Звали его Мишель Зернен. Родом из Туниса, учился в Версале. Провел уже несколько диверсий, застрелил предателя. В одной из операций был ранен. Короче, был членом подпольной молодежной организации "Бэ-Жи" (Батайон де ля Женесс) - Конечно, об этом я узнал намного позже от Кристиана. Итак, несмотря на молодость (был на год моложе меня), он был подпольщиком "со стажем". И... отличным другом! Если у меня возникали вопросы, - подсказывал, помогал во всем. Учиться мне стало легче и безопасней.
Однажды Мишель пригласил к своему другу: - Надо ему помочь! - сказал он многозначительно. Потом, подумав, добавил: - Долгое время мы работали с ним в паре. Хотелось бы, чтобы ты с ним познакомился... Дверь на рю де ля Конвансьон открыл молодой парень. Звали его Морис. На столе появились артишоки, уксус, прованское масло. Мы с собой прихватили несколько кусочков колбасы и хлеба. Вот так, впервые в жизни я попробовал эту неизвестную мне дотоле овощ - артишок. - Сегодня мы с Мишелем прощаемся. - начал Морис, когда мы сели за стол. Задумался: - Берегите друг друга, как это было у нас. Мы крепко дружили, Жорж! - и предложил тост, от которого мурашки пошли по телу: - За то, чтобы наши жизни, жизни наших друзей не остались неотомщенными и обошлись бы нацистам подороже! За то, чтобы моя сестренка никогда не прочла моей фамилии на нацистских траурных извещениях!
Такой мрачный тост этого девятнадцатилетнего красавца, уже думающего о смерти, не был случайным. Морис давно был занесен в списки смертников. Родители, семья его скрывались. Морис вытащил пачку листовок "Юманите", за 25 сентября этого года. Там говорилось: “Правительство убийц! Это оно гильотинировало депутата Амьена Жана Катла. Фон Штюльпнагель, Петен, Дарлан проливают реки французской крови. Лишь террор обеспечивает им их временное господство. Но эти бандиты заплатят за всё так же, как за всё заплатят судьи их государственного трибунала. Против террора врагов родины народ находится в состоянии самозащиты..." Дальше шел список расстрелянных и гильотинированных мучеников национального освобождения и в конце было приписано: “Эти смерти будут отомщены!"
Морис включил замаскированный радио приемник, и сквозь шорохи эфира и писки морзянки мы услышали перезвон кремлевских курантов. Здесь было десять часов вечера, а в Москве - полночь. Торжественная мелодия "Интернационала"... Я впервые слышал радиопередачу "Коминтерна" во Франции. Гитлер первого сентября напыщенно заявил, что, мол, "созрели все условия для того, чтобы нанести сокрушительный удар, который еще до наступления зимы должен окончиться полным поражением врага...". Москва на это сообщала спокойно и твердо о боях, которые шли на всех фронтах, о том, что после героической обороны пала Одеса, что защита Москвы доверена маршалу Жукову, что в Москве состоялась сессия тройки по изучению вопроса об англо-американской помощи СССР, что, как обычно, в ноябре на Красной площади состоялся парад...
Итак, положение Родины было крайне напряженным. Выключили приемник, и Морис снова его спрятал. В дорогу собирались молча. Морис достал браунинг, проверил обойму, вставил ее, и мы пошли. Глубокая ночь, комендантский час. Мы крались от подъезда к подъезду перебежками. Где в щели, где в почтовые ящики, где в открытую форточку засовывали листовки. Многие горожане знали, что по ночам подпольщики снабжают новостями, и кое-где были незаперты парадные двери. Несколько раз они нам сослужили добрую службу, укрыв нас от проходившего патруля. Мы - дичь, они - охотники, кто кого? На этот раз удача нам сопутствовала, рейд закончился без особых приключений. Спать не пришлось: Морис и Мишель долго вспоминали отдельные эпизоды из своих боевых дел, а я с интересом слушал.
Прямо отсюда мы с Мишелем и отправились на завод в Курбевуа. Я уже выучил названия инструментов и приспособлений, технические и физические термины и формулы, выполнил контрольные слесарные работы, требующие ювелирной точности, стал получать навыки работы на металлорежущих станках. Одновременно нам дали задание: изучать немецкий. Для этого снабдили прекрасным учебником немецкого разговорного языка - "Deutsch ohne Mahe" -"Allemand sans peine" ("Немецкий - без труда"), метод Берлитц-Ассимиль. Его необходимо было изучить досконально. - Знаешь, - сказал как-то Мишель: - Не обижайся, что ни разу не пригласил к себе, - нельзя! И к тебе поэтому не хожу. Таковы наши правила. Как ты заметил, в комнате Мориса слой пыли: он там не живет. Это просто одна из наших многочисленных явок - "крыш". И, если с кем из нас что случится, она надолго замрет.
Листовки мы распространяли не только по ночам, но и днем - по выходным. Использовали для этого "механику": пустая консервная банка с малюсенькой дырочкой в дне, флакончик с водой и фанерная или картонная дощечка. Один из нас взбирался на верхний этаж высокого дома, оттуда - на чердак. Мы знали дома, где это было возможно. Особенно, в очень людных кварталах, как, например, на Монпарнассе, - на рю де ля Гэтэ. На чердаке он открывал форточку на улицу, снаружи клал пачку листовок на подоконник, прижимал ее дощечкой, на которую ставил груз - заранее наполненную водой банку. Форточку закрывал, сбегал вниз. Второй из нас обеспечивал безопасность ретировки, прикрывал работу первого. Какой детский восторг охватывал нас, когда ветер сдувал опорожнившуюся и ставшую поэтому легкой банку, а листовки разлетались, как мотыльки, падали на балконы, под ноги прохожим! Попробуй-найди, кто их "разбросал"! И неизвестно, откуда они слетели!
* * *
Время было тяжелым. Радио Би-Би-Си (Лондон) передавало неутешительные вести: японцы разгромили в Пирл-Харборе американский флот, Гитлер объявил войну Соединенным Штатам. Коллаборационистская пресса всеми силами внушала миф о "непобедимости Великой Германии", о том, что она вот-вот раздавит Советский Союз. В метро, в автобусах слышался, скорее угадывался, один и тот же вопрос: - "Неужели России конец?". С другой стороны, был же парад на Красной площади! Следовательно, там нет никакой паники... То Викки, то Кристиан, смотря с кем из них была встреча, поддерживали наш дух как могли. И вот наконец новость, поразившая всех от мала и до велика: агрессоры отброшены от Москвы, освобожден Калинин! Ура, не встречать им Новый Год в Москве, как спесиво обещал Гитлер! Нас обуяла буря радости. А Гитлер низложил Браухича... Несколько по-иному начали теперь смотреть парижане на "завоевателей": с любопытством и злорадством, - что, мол, получили?! Пока что шепотом, они стали проводить параллель между нашествиями Наполеона и Гитлера... Придало это сил и нам, подпольщикам. Но и хлопот: нацисты, понимая, что их неудачи вызовут волну сопротивления, усилили террор и репрессии. Аресты за арестами, облавы, обыски, новые заложники, казни...
В такой обстановке я сдал наконец последние экзамены и был готов к отправке в Германию. Был конец декабря. Мишель выедет позднее, со следующей партией: он поступил на завод на неделю позже. Увидимся ли с ним? Мне назначена встреча на конспиративной квартире. - Итак, Жорж, - торжественно начал Кристиан: - Пора раскрыть перед тобой карты... Я узнал, что мне в Берлине ("Откуда ему известно, что я буду именно в Берлине?"- подумалось мне), предстоит связаться с иностранными рабочими, готовыми войти в группы саботажа. Викки и Кристиан сказали, что в Германию из Франции, по просьбе немецких антифашистов ("Странно, разве и такие существуют?") выедет несколько человек на различные военные предприятия. Там они будут выполнять обязанности посредников между иностранными рабочими и немецкими "антифа": иначе было бы невозможным какому-нибудь немцу войти в доверие к иностранцу: ведь для каждого иностранца любой немец - нацист! К каждому из этих посредников подойдет немецкий подпольщик с особым паролем, и его поручения надлежит выполнять.
Перед самым отъездом мне дали указание побывать в "Украiнськой Громаде", взять адрес их берлинской организации, чтобы стать там на учет. Для ширмы. Сказали также, что я с Мишелем еще увижусь. Хоть что-то, да утешительное! Вместе со мной отправилось, и действительно в Берлин, сорок французов. Все - по контракту оргнабора на Кэ д'Орсей, на набережной Сены, - сроком на шесть месяцев. На вокзале нам были устроены помпезные проводы: с оркестром, транспарантами. Разместили в вагоне. "Германия с радостью принимает всех желающих!", "Нанимайтесь на работу в Германию!" - кричали транспаранты на перроне. Нацисты были великими мастерами рекламы и обмана. И поезд под музыку тронулся к столице "Великой Германии", к голове самой ядовитой и кровожадной гидры... Что ждет меня там?
Глава 6. В БЕРЛИНЕ
В Берлин прибыли ночью, и он так и остался в моей памяти: зловеще холодным и мрачным, с глухо зашторенными окнами домов - "фердункелюнг"-ом (затемнением), с мертвенно-голубым светом, еле пробивавшимся из специальных высоких уличных светильников, с огромными плакатами, предупреждающими о подслушивающих шпионах, с табличками в метро и U-банах (электричках), призывающих экономить электроэнергию... По всему было видно: гитлеровцы, несмотря на "победы", затягивали пояса потуже. А может быть, это всё-таки призыв к рациональной экономии?
Когда мы сошли с бана и шли по еле освещенным улочкам, нас внезапно оглушило завывание многочисленных сирен: воздушная тревога! Дается она двумя этапами: предварительная -завывания с короткими паузами, и полная - без пауз. Сейчас тоже, почти сразу же за предварительной, воздух стала содрогать полная тревога: вражеские самолеты - в непосредственной близи. Заухали зенитные батареи, по небу зашарили лучи прожекторов. Бомбардировка! Несмотря на хвастливые заверения маршала гитлеровской авиации Германа Геринга, что, мол, "если хоть один вражеский самолет вторгнется к Берлину, зовите меня не Герингом, а Майером!", Берлин всё-таки бомбили! Правда, бомбардировка не была сильной: несколько бомб было сброшено на индустриальный пригород Сименсштадт...
Разместили нас в пригороде Берлина - Мариендорфе. Рабочий лагерь из нескольких сборных дощатых бараков. Все поместились в одной комнате с двухъярусными койками. Утром повели на завод "Асканиа-Верк А. Г." Ознакомили с пропускной системой. Она была строгой: автоматы у входа отмечали на личных карточках точное время прибытия и время выхода с завода. Опоздал хоть на минуту - отметка делалась в особой колонке красным цветом, и штраф вычитался из заработной платы. За большее - суд. Рабочий день - двенадцать часов, в две смены. Всё продумано до мелочей, каждая секунда должна работать на Великую Германию!
Я стал фрезеровщиком на станке повышенной точности с подвижным столиком. Фрезерование отверстий сложной конфигурации при помощи пальца-кондуктора. Вместе с чертежом-заданием в инструменталке выдавалось всё необходимое, - все, указанные в чертеже инструменты и приспособления. Мастер-наладчик устанавливал приспособления с зажимами, требуемые скорости вращения и подачи, производил операции над первой деталью. Вторую деталь обрабатывал я под его наблюдением. Затем обе детали я относил контролеру и, после проверки и измерений, получив отметку пуансоном, уже сам приступал к серийной обработке. Менять что-либо из установленного наладчиком, я не имел права. Наглядный показ всей технологии обработки исключал таким образом необходимость каких-либо разъяснений, проводился без слов. За всем - строжайший контроль, каждая операция расписана, отработана. О каком саботаже может идти речь? Настроение мое упало: учился, рисковал, и вот работай теперь на врага, на фронт! Но вспомнились слова Кристиана: "Событий не торопить, основательно присматриваться!". И я продолжал "присматриваться".
Рядом работали иностранцы: бельгийцы, французы, югославы, голландцы. А редкие немецкие рабочие, мастера и начальники, были в основном пожилые и инвалиды. Как же найти единомышленников? А ведь их придется искать! Я стал присматриваться к тем, кто жил со мной в комнате. Один из них привлек мое внимание сразу же. Всем своим видом он часто выражал неудовольствие: то ему начальник цеха не по душе, - очень уж молод и груб, да еще и нацист, то ему не нравился немецкий язык, в котором ничего не мог разобрать: "Гавкающий какой-то!" - возмущался он. Я не выдержал и спросил: - Ладно, тебе не нравится, - что же ты нанялся сюда, чистенький такой? Он подозрительно посмотрел на меня и буркнул: - Обстоятельства вынудили. - Платят тут отлично, всегда есть работа, да еще и чистая. И кормят неплохо! - наседал я. Но собеседник в запальчивости возразил: - И деньги у них ворованные! Во Франции платят мало, а тут много потому, что деньги их ничего не стоят: сами их печатают, сколько хотят! Разговор зашел слишком далеко, и я ретировался. "Болтлив не в меру! Слишком болтлив!" - решил я. Прозвал я его "Рошаном". Почему? - Как-то в вагоне метро он спросил у меня, что такое по-немецки "рошан верботан"? - Откуда ты это взял? - не понял я. - А вон, висит табличка! Я глянул: на табличке написано "Rauchen verboten" ("Курить запрещается"). Если прочитать по-французски, как он это сделал, то и получится то, что он произнес. Меня разобрал смех, а он с негодованием отнесся к моему разъяснению: - Даже писать по-человечески не умеют! Так он и стал у меня "Рошаном".
Сблизился я вскоре с тремя другими французами и югославами. По ходу их высказываний убедился, что у них "зуб" на нацизм. Каждый имел с ним какие-то свои счеты, обиды. Именно из-за него, как это ни парадоксально, их и потянуло в Германию: дома им бы грозил арест. Как все-таки трудно в условиях жесткого контроля и террора искать и находить нужных людей! Югославы, жившие в соседнем бараке, находились здесь уже третий-четвертый месяц, довольно хорошо знали Берлин, были в контакте со своими соотечественниками на других предприятиях: на "Сименсе", на "А.Э.Г", "Дойче Бетрибс-Верк", "И.Г.-Фарбен-Индустри" и др. А для меня они, как полностью здесь освоившиеся, были незаменимыми гидами в этом незнакомом мне городе. То с ними, то с французами, я часто бродил по нему в выходные.
Особенно понравился мне Бошко из Белграда. С ним вспоминали о прошлой жизни, сравнивали ее с настоящей. Еще большим уважением ко мне проникся он, когда я признался, что бежал из плена. Конечно, некий риск был, но он окупился: Бошко стал мне безгранично доверять. До конца его шестимесячного контракта оставалось около месяца, и он переживал, что ничем не сумел напакостить "противным швабам". Я познакомился с его друзьями на "Сименсе", а через них с их соотечественниками на "А.Э.Г.".
Так постепенно ширился круг друзей. Но их необходимо было прощупать на деле. Как? - Без связи с тем, кто должен был подойти ко мне с условленным паролем и стать руководителем, я, как считал, не имел права рисковать и пороть отсебятину. А его-то, этого "антифа", не было и не было. Будет ли вообще? Берлин жил своей скучной, замкнутой, неприветливой жизнью. Бомбардировок больше не было. Лишь изредка раздававшийся вой сирен напоминал, что война всё-таки идет. По ночам часто был такой непроглядный туман, что прохожие натыкались друг на друга. Но и против этого немцы придумали отличное средство: повсюду продавались нагрудные светлячки - фосфорные значки, которые, сквозь молоко тумана, было видно метра за два, и это помогало. Во время воздушных и пока не сопровождавшихся налетами тревог мы покидали свои цеха, спускались в бомбоубежище, где часто, при затянувшихся паузах, нам крутили фильмы. Всегда одно и то же: "победоносная поступь" немецких войск, улыбающиеся лица солдат, взлетающие в воздух или оседающие дома, горящие самолеты, погружающиеся в пучину торпедированные транспорты и военные корабли противника... Всё сопровождалось звуками фанфар, бравурными маршами, угрозами: "Если мы двинем на Англию!..". К самому городу, откуда потоками растекались приказы об убийствах тысяч, десятков тысяч людей, я приглядывался с огромным любопытством.
Однажды мы повстречали строй гитлерюгендов (гитлеровской молодежи). Улицы пустынны: воскресенье, и горожане, по-видимому, на утренней мессе в церквах. А они, подтянутые, стройные, в черных с иголочки новых шинелях и пилотках-мютце, шли странным четким шагом, вытягивая вперед ногу и стремясь ее опустить туда, откуда только что оторвалась нога впереди идущего. Как след в след. Это - чтобы идти сомкнуто, не растягиваясь. Казалось, только одна эта молодежь и была в городе. Бошко и я, из любопытства, благо было по дороге, пошли вслед. Куда это они направляются? Строй четко свернул в какой-то большой двор. Во дворе - здание, на нем - длинные красные полотнища со свастикой. Послышалась команда, и подростки мгновенно застыли. Еще команда,- все сняли ремни и шинели, сложили их аккуратными стопками перед собой. Удивительно ровные ряды! Четкие команды и такие же четкие их исполнения. Один из мальчишек чуть замешкался. К нему тут же с ругательствами подбежал их "вожак" - "Хайот-фюрер". На весь двор раздается звонкая пощечина. Ни малейшего протеста! "Бегом!.. Шагом!.. Ложись!.. Бегом!.. Ползком!.."- чередуются команды взбешенного вожака, всего года на два-три старше остальных. Муштра длилась минут пятнадцать. От бедного парнишки валил пар. Остальные стояли по команде "смирно" и со страхом и чуть ли не с восхищением взирали на своего "фюрера" и на то, как он измывается над их товарищем...
На душе скверно: бедные мальчишки! Из них выбивают детство, стараются превратить в бездушных автоматов! Так мы воочию ознакомились со знаменитой "палочной" - "шток-дисциплин". Но почему в воскресенье, в часы богослужения? - Поняли: чтобы оторвать, отучить от церкви, от религии, провозглашавших гуманность. Национал-социализм вводил свою, древне-германскую религию. Богом теперь должен быть один - Гитлер! Лишь на него должны молиться! Оболванивали не только юнцов. Скорее, это начиналось именно с детства: так всегда поступает любой тоталитарный режим!
В воскресенье нас на Александер-плаце застала длительная тревога. Всех прохожих загнали в бомбоубежище ("люфт-шютцраум"). Там стали проецировать кинокартину. Как обычно, начали с "Вохеншау"- недельного обозрения. На экране движется колонна танков. Солдаты с закатанными рукавами, улыбающиеся летчики нажимают на гашетки, мессершмиты сбрасывают тучи бомб, с воем пикируют "штуки"- юнкерсы с сиренами. А на земле - кромешный ад, оседают, горят многоэтажные дома. В пламени пожарищ мечутся обезумевшие люди. Немецкие же солдаты в уютных землянках, в спокойной обстановке, читают, пишут письма, играют на губных гармошках... Преподносится мораль: всё, что сопротивляется - уничтожается зримо, беспощадно. А наши, мол, герои-солдаты - хорошие, бравые парни, отличные семьяне. Они - неуязвимы! После "вохеншау" фильм "Комиссары". Он и до сих пор перед глазами, настолько был нелеп и глуп. Вперед мчатся всадники-герои в немецких рогатых шлемах. Бой, взмахи сабель, искаженные в злобе лица, кровь ручьем, истошные крики. На переднем плане бравый немец наносит удар саблей по голове буденновца с давно небритым, щетинистым зверским лицом. Сбивает с него рогатую буденновку. Зал подается вперед: не может быть! Да, точно: на макушке у этого врага-комиссара во весь экран торчит волосатый рог! Конечно, немцы побеждают. Лежат ряды вражеских трупов, у каждого десятого -"комиссара" - волосатый рог{22}.
Подобные фильмы и эпизод с гитлерюгендами напомнили слова Гитлера: "Закон и воля Фюрера - едины!.. Я фанатизировал массы, чтобы сделать их инструментом моей политики... Они тотчас же исполнят мои приказы!.." Я вышел из убежища с тошнотворным чувством. Посмотрел на Бошко: он тоже был подавлен подобной глупостью режиссера. Не знал я тогда, что такая глупость свойственна некоторым режиссерам и других стран, изображающим врагов - "фрицев" и "буржуинов", которых храбро побеждают "мальчиши-кибальчиши"! Поздно ночью, подходя к нашему лагерю, на одном из фонарных столбов мы заметили приклеенный листок. В глаза бросился заголовок крупными буквами: "Рабочие и работницы берлинских предприятий! Фюрер ведет нас к краху!". Принялись читать. Говорилось о поражении немецких войск под Москвой, о растущем недовольстве и сопротивлении порабощенных народов, о том, что все они "против Гитлера и его агрессивной политики". Призывалось к саботажу. Подпись под листовкой: "Немецкая коммунистическая партия, Берлин". Значит, и в самом деле имеются другие немцы, - те, которые против Гитлера! Конечно же, мы захотели, чтобы об этой листовке знали и другие наши товарищи. Но на следующее утро, когда их подвели к тому столбу, на нем было только тщательно вымытое место.
* * *
К концу подходит вторая неделя моей "командировки". Никаких новостей, ничего! А меня, как назло, затрясли приступы малярии! Лежал, била лихорадка, пот тек ручьями, а я думал: не зря ли приехал? Не арестованы ли те, к кому меня послали? И вдруг, в забытье, почувствовал: кто-то меня трясет. С трудом приоткрыл набрякшие веки, откинул слипшиеся волосы: надо мной склонилось встревоженное лицо... Мишеля! Да нет, не может быть! Откуда, как? - Ты ли это, Мишель? - не верил я, думая, что это пригрезилось в бреду. А он, успокоившись, насмешливо забурчал: - Значит, жив всё-таки?.. Да-а, как видишь, не одному тебе выпало счастье зарабатывать бешеные деньги!.. Я приподнялся, счастливый. Вокруг нас постепенно стали собираться другие жильцы: как-никак, а земляк приехал! Друг стал рассказывать о Париже, о "неистовстве террористов", которые не дают немцам покоя, о дороговизне, голоде, холоде... О себе добавил, что уже несколько дней как здесь, работает на одном предприятии, а именно - авиа-слесарем на аэродроме "Темпельгоф", ремонтирует самолеты. У бедных немцев, мол, другого выхода нет: все их собственные механики и слесаря брошены на прифронтовые аэродромы. Вместо них приходится работать иностранцам: их-то близко к фронту лучше не подпускать, - вдруг переметнутся! А здесь ими и можно заткнуть дыры, пополнить наземные службы. Своих-то почти никого не осталось!.. - Вот мы, иностранцы, и выручаем их, помогаем, чем и как можем!.. С нашей помощью, всех немцев на фронт. Глядишь, и победят весь мир!.. Наступило настороженное молчание. А Мишель, знай, гнет свое: - Вы тут как буржуи! И чего это я, дурак, так долго сидел и раздумывал в Париже? Знал бы, что здесь так чудесно и спокойно, такие деньги, питание, никаких очередей, - давно бы примчался... В который раз я восхищенно смотрел на друга: вот, как надо агитировать! А мои соседи прячут глаза. Когда мы остались одни, Мишель тихо произнес: - Гастон передал: скоро к тебе подойдут! Опять "Гастон"! Почему не Кристиан, не Викки? И что это за Гастон? на мое недоумение Мишель ответил: - Он - выше Кристиана по должности. Впрочем, как мне известно, ты лично с ним встречался. Это тот, который разговаривал с тобой в подворотне на рут де Шуази, в Иври-на-Сене, помнишь? - Тот, в очках? - не поверил я: - Но он же нас послал в Ля Рошель... - Ну и что? Вы же сами того хотели. Вы так рвались в Англию или Африку... Но ему понравилось, что вы сумели выкрутиться, не растерялись. А Кристиан, - это один из его помощников... Ну и дела! Так запутано, что ничего простому смертному не понять! Но известие, что со мной наконец-то выйдут на связь, затмило всё, и мое недоумение тоже. Впрочем, какая разница? Главное, что всё идет нормально. И кажется, для меня наступят-таки интересные дни.
Переболев, - лихорадка трясла обычно не более трех-четырех дней, - я снова вышел на работу. Шли первые дни января 1942 года. Меня очень раздосадовало, что получил партию каких-то трубок из титана и на нее - "лон-цетель". Это означало, что мой труд будет оплачиваться по часовому тарифу, а не по "аккорду", то есть не будет зависеть от выработки. На этом я много терял в зарплате. Видимо, работа эта не была пронормирована, операция над деталями - новая для этого завода. Первую деталь профрезеровал, как обычно, наладчик, и я приступил к работе.Готовы третья... пятая. И тут проходивший мимо меня пожилой хромой рабочий чуть подтолкнул меня и тихо произнес: - Пасс ауф! Верк-Шпион! (Осторожно, заводской шпион!). Что это такое? Оглянулся, увидел: в мою сторону направляется гладкий немец в белом халате с дощечкой с разлинованным листком бумаги и прикрепленным к ней хронометром. Не трудно было догадаться, что это - нормировщик. Стало ясно, почему мне выписана тарифная ставка: нормировщик пооперационно запишет затраченное на работу время. Хронометраж произведет на 8-10 деталях. Дальнейшее не трудно было сообразить: время, затраченное на операции, суммируется, затем результат делится на количество прохронометрированных деталей и получится средняя норма выработки. В интересах каждого рабочего, чтобы эта норма была выше. Тогда он может больше заработать при меньшей затрате энергии. Следовательно, работать надо как можно медленней, но так, чтобы это было естественно и незаметно. И чтобы время, затраченное на те же операции, было всегда одинаково, чуть ли не по секундам.
С одной стороны, я был польщен: мне, как "опытному мастеру", доверили столь ответственное дело. С другой, была, видимо, и некоторая хитрость: иностранец-де - новичок, не сообразит, в чем дело и, значит, работать будет вовсю. Так и началась моя дуэль с "заводским шпионом", дуэль рабочего с представителем работодателя. Беру заготовку, в уме все время считаю: раз, два... Устанавливаю, закрепляю ее: раз, два, три... Профрезеровываю насквозь: раз, два... десять. Веду фрезой с кондуктором по овальной конфигурации: раз... пять... десять... пятнадцать. Продолжаю по другому боку: раз... пять... пятнадцать. И так далее. Главное: запомнить, сколько секунд я насчитал на каждый раздел и столько же повторять и на других деталях. Не ошибиться, иначе мое плутовство будет разоблачено! Подача здесь осуществлялась не автоматически, а вручную. Начал обрабатывать двадцатую, и тут подходит тот же хромой: - Аусгецайхнет! (Отлчно!). Ты можешь перестать считать твои секунды: шпион уже ушел! Да, нормировщика уже не было. Хромой, лукаво посмеиваясь, спросил: - Не найдется ли у тебя пяти пачек "Голюаз блё"? "Голюаз блё" (Синий голюаз) - марка сигарет с крепким табаком. Послабее, дамские сигареты, были - "верт" (зеленые) и "жон" (желтые). От неожиданности я вытаращил глаза и заикаясь ответил: - Сожалею, но осталось лишь три пачки "голюаз верт". Это и было отзывом на произнесенный мне хромым пароль. И на самом деле, в моем чемодане хранились эти три пачки.
Так и состоялась наша встреча с немецким подпольщиком, которого я ждал столько времени. Он же, оказывается, был рядом, работал за соседним станком! Какое у них, у этих профессионалов-подпольщиков, терпение! Какая выдержка, осторожность! - Есть, чему поучиться! Поистине, правило "не торопить событий!" - один из непреложных законов конспирации. Хромого звали Максом. На встрече, назначенной им тут же в ближайшей пивной, Макс пояснил, что трубки - из титана (это я и сам давно понял), дорогостоющего сплава, и предназначены для оптики перископов. Откуда он это узнал? Ведь на чертежах стояли лишь шифры деталей - номера с литерами и указание, что отклонения-допуски разрешаются ±0,05. - Если допуск превысить в сторону плюса, что возможно, то детали будут забракованы: призмы, которые вставят в такие сверх нормы увеличенные отверстия будут в них болтаться, - будет "люфт", что абсолютно недопустимо. И забракованные детали пойдут на переплавку. Так будет потеряно не только огромное количество времени, но и средств. У подлодок два перископа, с задержкой их производства будет задержан и выпуск самих подлодок. Как этого достичь? Нужна малость: ускорить режим обработки, то есть скорости подачи и вращения, реже охлаждать эмульсией. При этом произойдет не только нарушение разрешенного допуска, но и самой структуры сплава, что намного вредней. И подобное можно ("и необходимо!" - подчеркнул Макс) делать и с другими деталями: все они идут на самолетостроение или на оснащение подводного флота, Но надежней и безопасней саботаж этот осуществлять "на прощанье" - к концу контракта, не ранее, чем за две недели до отъезда. Это спасет саботажников от разоблачения и ареста.
Я рассказал Максу о надежных товарищах не только с этого, но и с других заводов, с кем успел познакомиться. И он дал для них первые "проверочные" задания. Если они себя оправдают, то я получу право передать их фамилии и данные: где, с какого времени, кем они работают и т. д. - Никаких списков, всё устно! - строго наказал немецкий "антифа". Тут же он вручил мне брошюрку, размером чуть меньше школьной тетради. Название - "Иннере фронт" (Внутренний фронт), на французском языке. В ней клеймился национал-социализм, рассказывалось о партизанской борьбе в Греции, Югославии, Италии, Франции. Говорилось, что и в Германии есть люди, борющиеся с фашизмом, и что они призывают иностранных рабочих бороться всеми силами: саботировать, работать медленней, помогая этим разгрому преступного режима, освобождению их родины от захватчиков...
"Рошан" всё-таки не переставал меня интересовать. Вернувшись после встречи с Максом, я подложил полученную от него брошюрку под подушку Рошана: какой будет его реакция? Был уверен, что шума он не поднимет. В последующие дни я видел, что Рошан ходит чуть ли не как чумной, по ночам часто ворочается, днем подозрительно косится то на одного, то на другого из наших постояльцев. Затем всё чаще его испытующий взгляд стал останавливаться на мне. На четвертые сутки он не выдержал, спросил: - Твоя работа? То, что он не назвал, в чем именно должна была быть моя "работа", было хорошим, располагающим признаком. - Нашел на улице. - не стал я отрицать: - Просмотрел: ну, думаю, там есть и твои мысли... - Значит, и здесь есть люди, не все они фашисты! Странно! - бросил он успокоенно и задумчиво: - Если найдешь еще, то... покажи! А эту передай, кому посчитаешь полезным...
Так был установлен с Рошаном первый контакт. И всё же полного доверия еще не было. Другие мои товарищи,- с ними было много проще,- были проверены в деле и переданы Максу. Как он с ними работал, - мне об этом известно не было. Знаю только, что повысилась порча инструментов, начали чаще выходить из строя станки. Особенно те, с которых собирались увольняться. Видимо, то было их "приветом на прощанье". Не забыл я и о наказе побывать в филиале (а может, и в центре?) "Украiнськой Громады". По данному мне в Париже адресу, в небольшой вилле на окраинной улочке находилось какое-то заведение с вывеской "Кауказус Нафта А.Г." (Кавказская нефть). Сотрудники этого общества были русскими и украинцами, но возглавлялось оно, естественно, немцем. То были кадры специалистов по добыче, переработке и транспортировке нефтепродуктов, - инженеры, химики. Уже загодя гитлеровцы готовили себе руководящие кадры для работы на нефтепромыслах Баку! Как они были уверены в себе, в своей победе! Как предусмотрительны! Ко мне, когда я представился и сказал, кто мне дал их адрес, отнеслись очень радушно. Я перезнакомился со многими, стал на учет на тот случай, если понадоблюсь.
* * *
Жизнь шла своим чередом. Днем или ночью, в зависимости от смены, - работа в цеху. В остальное время, после кратковременного сна (много отдыхать, ведя двойную жизнь, не удавалось), контакты с одним или с другим знакомым, а то и с группой, прогулки по Берлину. Много времени отнимал и "промысел": приобретение продуктов, изготовление пищи. С французами из нашей комнаты мы в пищу стали применять конину. Продавали ее в редких специализированных магазинах с вывеской в виде золоченой лошадиной головы: в них мяса отпускали на талоны в двойном весе. Первый такой, не то борщ, не то суп, мы варили с Мишелем. Сколько было смеху и суматохи: в кастрюле кипело, бурлило, а мы еле успевали снимать нескончаемую, валившую из неё, пену! И все равно она валила и капала на раскаленную плиту. Скворчание, дым, вонь ужасающая! А мы всё бегаем и бегаем, от печи на улицу, собирая в миски и из них опорожняя эту треклятую пену!.. А французы ругаются, носы свои нежненькие затыкают!.. Вот так мясо! А может в нем какой-то свой секрет? В итоге, оно хоть и было немного жестковатым, но оказалось вполне съедобным и довольно вкусным.
Излюбленным местом прогулок иностранных рабочих был центр Берлина - Александерплатц. Там проходили встречи, новые знакомства с земляками из многочисленных заводов города и окраин. Почему именно там? - Кроме дешевых кинотеатров, на площади было несколько закусочных, где без талонов продавался "штамгерихт" - довольно вкусное овощное блюдо, в основном из капусты, но бывал и картофель. Излюбленными закусочными были фирмы "Ашингер". Велись беседы, обмены впечатлениями, вестями из родной страны, с фронтов.
Стали мы с Мишелем и Бошко частыми гостями в югославских рабочих лагерях в Сименсштадте. Одного из соотечестввенников, отправляющегося через несколько дней в Белград, я попросил навести справки о родителях. Вернется - расскажет. А если их найдет, пусть мне напишут на адрес кого-нибудь из югославов. Казалось, все идет хорошо. Однако... Своей характерной прыгающей походкой,- у него было явное плоскостопие, из-за которого и не был годен к строевой,- ко мне подскочил молодой лысый начальник цеха. Очень неприятная личность, с особым партийным позолоченным значком, указывающим на то, что он - один из участников фашистского путча, приведшего Гитлера к власти.{23} Протянул мне бумажку с адресом: - Бросай работу, немедленно отправляйся! Это недалеко.
Я нашел этот дом, открыл дверь трехэтажного особняка и... нос к носу столкнулся с шютцполицаем. Тот мне показал на второй этаж. Постучал в нужную дверь. - Херайн! (Войдите!) - услышал я. Сердце мое тревожно забилось еще тогда, когда мне вручили эту повестку, а при виде шютцполицая, обстановки в доме, и при звуках этого приглашения войти, оно во-обще чуть не выскочило: войти-то войду, а вот удастся ли выйти? Вошел. В кабинете сидел штатский с прилизанными напомаженными волосами. Он тут же уставился в меня и стал испытующе разглядывать. Что ж, разглядывай! Стою, делаю вид, что меня это нисколько не волнует. А на самом деле... холодный пот - признак волнения и страха- стал проступать на всей коже. Какие только догадки не пронеслись в уме по поводу такого срочного и неожиданного вызова! Была ли какая промашка? Если да, то в чем?
Я уже понимал, что нахожусь в местном отделении гестапо. Удастся ли из него выйти? Хозяин кабинета стал наконец задавать мне краткие вопросы: кто я такой, где и когда родился, откуда знаю сербский, немецкий? Как хорошо, что в моей легенде были досконально разработанные ответы. Я понял, что основное, чем интересуется гестаповец - не выходец ли я из Советского Союза? Затем он спросил, не нахожусь ли я на учете в каком-то "Руссише Фертрауенштелле"? А что это такое? - Это - русское представительство. - пояснил неприятный господин. И я сообразил, что речь идет об эмигрантской организации. - Нет, не состою, даже не знаю, где это находится: нам, французам, никто об этом никогда не говорил. Получив от господина адрес, я поехал туда. В душе по-прежнему холодящий вопрос: а там, что ждет меня там? Как меня примут? Было ясно, что я чем-то стал подозрителен и что от этого визита зависит, быть мне арестованным или нет. В "Фертрауенштелле" чиновники, в большинстве, видимо, русские, долго и скрупулезно проверяли мои документы, вертели их так и эдак: прислужники всегда недоверчивей и зле своих хозяев. Что делать? Я как бы вскользь упомянул, что в Париже состою на учете в "Украiнськой Громаде", что и здесь, в "Кауказус Нафта", меня знают. Оба проверявших меня чиновника тут же отложили мои бумаги и удивленно вскинули глаза. Затем один из них куда-то позвонил. Навел, видимо, справки. Получив утвердительный ответ, он недовольно спросил: - Так почему же вас ни разу не видели в русской церкви? Ах, вот оно что! Я покаялся, что, мол, впервые слышу, что и здесь, как в Париже, есть наша православная русская церковь, попросил ее адрес. Меня отпустили, дав начальнику цеха справку, что я их посетил, ко мне претензий не имеют. Кто бы мог подумать, что такая сама по себе незначительная мелочь, как посещение или непосещение церкви, могла иметь фатальные последствия? Не будь у меня знакомств с "Громадой", а следовательно и с нефтяной конторой, вряд ли бы всё так просто закончилось...
Впрочем, мои, начавшиеся после этого паломничества в церковь тоже оказались полезными: новый круг знакомств привел меня и к смотрителю церкви. Фамилии и имени его не помню, но то был прекрасный человек по всем статьям. Несколько раз я имел возможность прослушать у него сообщения по московскому радио и узнать правду о положении на Восточном фронте. Встретил я в этой же церкви на Находштрассе и одного из своих знакомых по Белграду, примерно моего возраста, но сейчас он был в форме немецкого офицера. Как хорошо, что увидел его первым: тут же постарался скрыться, - он знал мою настоящую фамилию!
Был и еще один примечательный случай. Получив зарплату, мы с Рошаном, Мишелем и Бошко поехали в Берлин "прибарахлиться": Рошан задался идеей подыскать себе костюм, да и мы хотели купить по шинели. Близ Александерплатца находился известный всем иностранным рабочим дешевый магазин подержанной одежды. Рошан долго выбирал себе костюм. Вдруг он побледнел, ощупывая один, стал рассматривать его тщательней. Затем, схватившись за грудь, начал оседать. Еле успели его подхватить и усадить на стул. Что это с ним? - Лицо, как мел! На наши расспросы он не в силах был ответить что-либо внятное, но костюма из рук не выпускал. Отсидевшись, попросил завернуть покупку. Когда вышли из магазина, он прислонился к стене, из глаз полились слезы, всё тело его вздрагивало. Таким я его никогда не видел. Да и можно ли было подобное ожидать от такого грубоватого и нелюдимого человека?! Оказалось, костюм этот принадлежал его родному брату, взятому неколько месяцев назад заложником и расстрелянному перед его отъездом сюда. Собственно, именно поэтому Рошан и решил скрыться в Германию. Мне стало ясным, какие "обстоятельства" вынудили его покинуть Францию, и что это за "дешевый магазин" и почему он дешевый: в нем продают вещи казненных.
Дня четыре Рошан не проронил ни слова. Наконец произнес: - Вернусь во Францию, - буду их, негодяев, беспощадно крошить! Сомнения отпали: в Рошане мы получили преданного руководителя группы французов. Но слепая ненависть и жажда мщения - плохие спутники и советники, необходимо иметь холодную голову! И надо было порядком поработать, чтобы дать ему это понять. Лишь после этого он был представлен Максу.
С Мишелем у нас всегда были самые искренние отношения, настоящая братская дружба. Она не нарушалась, хоть мы с ним и работали и жили в разных местах. Впрочем, находились мы с ним в непосредственной близи - на одной трамвайной ветке, через 4-5 остановок, - он был ближе к центру Берлина, на перекрестной станции метро ((-бана) "Темпельгоф". Он часто приезжал ко мне, навещал и я его. Жил он в комнатушке слесарей на самом аэродроме. И всё же, ни о его связях, ни о моих, - на эту тему мы разговоров не заводили. Мы понимали: чем меньше каждый из нас будет знать об индивидуальной, автономной работе другого, тем лучше и безопасней будет в случае провала: -"Легче будет на пытках!" - шутили мы.
И вот произошло то, что сблизило нас совсем уж неразрывными узами. В самом начале апреля я от начальника цеха, ставшим после моей проверки в гестапо значительно мягче, получил наряд-задание на обработку... тех самых трубок из титана. Целых 150 штук! А это - для оснащения 75-и подводных лодок! Наладчик занялся своим делом, а я с нетерпением ждал момента, чтобы взглянуть на "аккорд-цетель" и узнать, как они пронормированы. Теперь как первую, так и вторую контрольные детали обрабатывал я сам, но под его наблюдением. В ОТК проверили, поставили на них пуансоном клеймо и, получив таким образом "добро", я приступил к серийной обработке. На сколько же я сплутовал и надул "шпиона"? Когда наладчик ушел, я глянул на время: восемнадцать минут! А затрачиваю на нее всего тринадцать! А если подавать с большей скоростью, то... Полный успех, для рабочих - поистине "золотой наряд"! А Макс заволновался: - Нельзя! Нельзя упускать такой шанс! Необходимо уничтожить все детали! Я был согласен: задержать выпуск или ремонт стольких подлодок необходимо! Но до конца моего контракта оставалось еще два месяца. Он же сам призывал делать большие диверсии лишь "на прощанье". А как же теперь? Ведь я буду разоблачен задолго до моего отъезда во Францию. Значит, буду арестован, следствие, допросы с пристрастием: с кем дружил, с кем общался? И потом ниточка потянется... Что же делать? - Работай... с браком! Что-нибудь придумаем. - ответил Макс.
На следующий день Макс явился особенно сосредоточенным. Лицо его было серым от усталости. Правда, он и раньше выглядел невыспавшимся, глаза его часто были воспалены, слезились, - сказывалось постоянное нервное напряжение. Да это и понятно: ходить по лезвию бритвы - занятие не из веселых. Однако, он никогда не терял бодрости, разговор вел в шутливых тонах, всегда приветливо здоровался, был подчеркнуто жизнерадостным. Возможно, именно таким и должен быть подпольщик? Я понимал, чего это ему стоило, и уважение к нему росло. - Трубки эти и те, что ты обработал ранее по "лон-цетелю", как я узнал, отправят заказчику в одной партии. Следовательно, это примерно для ста подлодок. Это - шанс: на нашем заводе твоя операция над ними - последняя. Кроме того, есть еще несколько сугубо важных деталей, которые нельзя отсюда отправлять. Придется предпринять что-то экстренное и эффективное... Он подчеркнул, что со мной и моим напарником (откуда только он о нем узнал?) вопрос поэтому решится на днях. - Тем более, что вы свою роль выполнили! - добавил он.
Мне повезло: почти две трети работы над трубками пришлось на ночные смены. Начальник цеха, этот вездесущий цербер, ночью почти никогда не удостаивал нас своим визитом и не маячил над душой. Наладчики и мастера тоже предпочитали отдыхать. С самого начала работы я безбоязненно переналаживал на станке режим резания, увеличивал обороты, рукой ускорял скорость подачи. Охлаждающая эмульсия под фрезой кипела, и фреза и металл чуть ли не раскалялись. Я задыхался от испарений, от газа, но работал. Нет, я нисколько не перегружался: на обработку детали у меня шло всего семь минут, и я имел время и возможность чаще отлучаться, отдыхать, дышать свежим воздухом. Но ни в коем случае нельзя было показать, что я чуть ли не в три раза превышаю норму. Поэтому к восьми утра в ящике обработанных деталей лежало чуть больше, чем должно было быть по норме. Оставалось еще трубок двадцать пять, -почти на одну ночь,- когда я, вернувшись утром с работы, получил странную телеграмму из Парижа. От кого бы это? Проверил адрес: да, мне. Вначале я не понял смысла: "Жорж, твоя мама неудачно упала, проломила голову. Состояние критическое, предвидится трепанация черепа. Немедленно приезжай.". И... меня осенило! Я тут же побежал в дирекцию. Не знаю, хороший ли я актер, но на этот раз я проявил действительно артистические дарования: слезы текли градом, всхлипы. Я нарочно вызвал в памяти мою маму, прощание с ней в горящем Белграде, ее отказ выехать со мной, ее последние объятия, поцелуи и... как она меня перекрестила. Я судорожно совал телеграмму под нос начальству и, всхлипывая, просил дать мне немедленный отпуск. Да, - ответили мне, - отпуск мне дадут. Но просят закончить заказ,- так смогут включить его в расчетный листок: - Деньги же тебе пригодятся! Все равно расчет проведут только за день, ты на работу потеряешь лишь ночь, а на следующий день получишь расчет и выедешь. Полный порядок! Срочно надо предупредить Мишеля!
Сажусь на трамвай, еду к нему в Темпельгоф. Подходя к воротам аэродрома, сталкиваюсь с ним. Глаза у него покрасневшие... - Мисси, а я к тебе!.. - начал было я. - Да подожди ты, Сасси. Это я к тебе! - Да нет же! Я получил телеграмму, уезжаю. - Я тоже! Значит, едем вместе! Ур-р-ра! В те времена гитлеровцы не были лишены гуманности: Мишелю даже предложили место в самолете до Парижа, бесплатно! Он отказался, сославшись, что не переносит полетов...
Видимо, счастье - не счастье, если оно не сопровождается горем: вернувшийся из Белграда друг сообщил, что бомбой разрушен мамин дом, и она, по всей вероятности, погибла. Передал он и сведение об отце: партизанский отряд, где он был, попал в окружение близ города Ужице, и он, инвалид, не в силах вырваться и чтобы не обременять собой других, застрелился. Итак, нет у меня больше родителей!{24} Всеми силами постараюсь отомстить за их гибель!
Передал мне друг и просьбу Гриши Писарева и других друзей из моего скаутского звена: меня там ждут, - назревают, мол, большие дела, будет и мне работа. Какая - было понятно. Но... и здесь дела не менее важные и нужные. Вот уже три дня, как со мной творится что-то непонятное: на лице и запястьях появились волдырь на волдырях. Думал - пройдет, ан нет, всё хуже и хуже... Обрабатываю в полночь последние детали, и в тумане эмульсионного пара увидел приближавшегося ко мне Макса. Почему он здесь, - это же не его смена? Из сумочки, в каких обычно носят бутерброды, он достал завернутую колбасу. Я думал, что это мне, хотел было поблагодарить и отказаться, но... - Эту колбаску, - сказал он мне: - Засунь в одну из трубок. Ее диаметр такой, что она туда свободно влезет. А вот в этот торец, - видишь в нем отверстие? - вставь в него вот этот карандашик. Когда будешь вести тележку в склад готовой продукции, согни у него головку. Понял? - Яволь! (Так точно!). На прощанье, Макс долго жал мне руку, затем пошел чуть ссутулившись, обернулся при выходе из цеха, улыбнулся, соединил руки в пожатии и потряс ими над головой - в знак дружбы и солидарности.
Видел я его в последний раз. После обеда следующего дня мне был выдан полный расчет. К тому времени мои запястья и лицо превратились в сплошные волдыри. И в заводской амбулатории мучились со мной долго: смазывали мазями и бинтовали. Руки оказались забинтованными по самые локти. А лицо! - На лице оставили лишь отверстия для глаз, носа и рта. Сказали, что я отравился и обжегся газом эмульсии. В таком забинтованном виде я и оказался вечером в вагоне вместе с Мишелем.
Поезд помчал нас через Аахен, пограничный город, в Париж. На покинутых нами предприятиях остались сколоченные группы - продолжатели борьбы с гитлеровской военной машиной. Нас охватило блаженное спокойствие: как-никак, а вырвались! - Не так страшен чёрт, как его малюют! В Аахене я посмотрел на часы: сейчас, именно сейчас, по словам Макса, и сработает карандашик - химический детонатор. - Ну, дорогая моя "кукла" (я и точно походил не то на куклу, не то на мумию, не то на "Человека-Невидимку" Г. Уэльса)! - обратился ко мне Мишель, когда я не выдержал и рассказал ему про пластиковую взрывчатку: - А я тоже кое-что делал: меня научили, как и где подпиливать тросы управления в кабине пилота. Могу заверить, что еще пару самолетов потерпит в воздухе аварию "по невыясненным причинам". И вот мне, после любезности моего директора, стало как-то не по себе... Стыдновато! - Ко мне по-человечески, а я - как свинья! {25}
Глава 7. ПАРИЖ, апрель 1942 года
- У нас сейчас так мало постояльцев! - сокрушался пожилой маленький услужливый итальянец с роскошными пышными усами, управляющий гостиницей "Миди", куда нас с Мишелем определили подпольщики: - Все бегут из нашего голодного города... Звали его Энрико. Он открыл нам небольшую комнатку с двумя кроватями, столиком, двумя табуретками и газовой плитой, попросил располагаться. Мишель тут же, как "истый санитар", занялся моими бинтами. Меня тронула его заботливость, я бы сказал, даже - нежность. И тут из окна донеслась мелодия венецианской баркароллы, напеваемая теплым бархатным голосом. Мы бросились к окну: внизу, во дворе, маленькая и молоденькая женщина, скорей миниатюрная девочка, развешивала белье. Пела, порхала и вскоре исчезла. Через несколько минут к нам постучали, и перед нами предстала та самая "бабочка-певунья", оказавшаяся дочерью Энрико. До чего же приятная женщина! Сколько обаяния, грации, жизнерадостности! К нам в комнату впорхнула сама весна! Звали ее Ренэ. К сожалению, не всё в ее жизни было "весенним": по ее словам, муж-офицер погиб в первые дни войны на линии Мажино. Мать больна, с кровати ужу давно не поднимается... - Какой у вас, мадемуазель, прелестный голосок! Прямо, как у Эдит Пиафф!- рассыпался в комплиментах галантный Мишель. Выхватил у нее из рук веник и начал помогать. Я стеснялся своего вида, а Ренэ смеялась: - А ваш товарищ, месье, - не глухонемой ли?{26} - Нет. Он просто не привык к таким редким милым созданиям. - отшутился Мишель.
Ренэ интересовалась Германией. Понравилось ли нам там? Мы отвечали неопределенно, или же старались перевести разговор в более нейтральное русло. На следующий день Ренэ неожиданно спросила: - Месье, как вы думаете, скоро ли погонят бошей из России? - Куда там! - засмеялся Мишель: - Немцы - такая силища, что русские скоро сдадутся. Даже наша Франция не смогла с бошами справиться! - Странно... - ни к кому не обращаясь, засомневалась Ренэ. Прошло еще несколько дней. Вскоре мы поняли, почему нас определили именно в эту гостиницу. Ренэ, как и ее отец, очень с нами подружились. Без этой певуньи нам было пусто и скучновато. Мишель уже окунулся в парижские будни, ходил на встречи с нашими руководителями, помогал в распространении листовок. Один я в моих бинтах был прикован к комнате. И вдруг, когда,- а это бывало часто,- Ренэ балагурила с нами, она повторила тот же вопрос: "Когда бошей погонят из России?". А на ответ Мишеля, что этому, по-видимому, не бывать никогда, ехидно заметила: - А по-моему, вы думаете иначе. Нечего принимать меня за несмышленую дурочку: среди книг на вашей полке я видела спрятанные листовки... Мы оторопели: неужели так глупо и элементарно влипли? Посмотрели украдкой и осуждающе друг на друга. - Чего вы переглядываетесь? - заметила на это Ренэ: - До вас здесь ночевала моя кузина Женевьев, активистка компартии. Скрывалась от полиции. Так я ее выручила: пока отвлекала нагрянувших ажанов болтовней, у нее было время улизнуть вот через это ваше окно, на крышу сарая, а с нее - на другую улицу...
Конфликт был исчерпан, нам долее незачем было друг перед другом кривить душой. У нас появился настоящий товарищ и единомышленник. Да какой прелестный! Помню, перед самым комендантским часом Мишель пошел на встречу с "ответственным" Гастоном. Мы с Ренэ долго ждали его возвращения. Давно уже комендантский час, а его всё нет и нет. Как тревожно переживали мы с Ренэ эту задержку, каких только догадок не строили! Уже собирались идти на его поиски, как появился он сам. Угрюмый, нелюдимый, злой. Таким я его еще никогда не видел. Долго отходил, наконец произнес: - Сасси, погиб Морис!.. Передо мной, как живой, встал облик Мориса, его исхудавшее, измученное недоеданием, но милое лицо... Вспомнился незамысловатый ужин на рю де ля Конвансьон, передача Коминтерна, браунинг, совместная работа в ночном Париже и... его мрачный тост... Как он погиб? - Среди бела дня, со своим семнадцатилетним напарником-тезкой он бросил бомбу в форточку немецкой столовой "Зольдатенхайм". Пока там раздавались стоны, примчались полицейские, жандармы. Схватили чуть замешкавшегося напарника. Морис, находившийся уже далеко, вернулся, начал стрелять. Полицейские, выпустив схваченного, ответили огнем, ранили Мориса в ногу. Напарник услышал его крик: "Беги! Меня живым не возьмут!". И тут же Морис покончил с собой. Одни говорят, что он выпустил в себя последнюю пулю, другие - что раскусил ампулу с ядом... Как бы то ни было, но тост его исполнился: сестренка не прочтет его фамилии в списках расстрелянных, не узнает о его гибели...{27} - Я решил, Сасси, передать почти весь наш немецкий заработок, все наши марки, в кассу помощи семьям погибших - в фонд солидарности... Так для нас настали очень голодные времена...
Наконец сняты мои бинты, остались только свежие красные рубцы. Я сфотографировался в том же "Юнипри", куда сходили с Ренэ, затем с Мишелем отправились на встречу с Кристианом. Добирались со всеми предосторожностями, остерегаясь "хвоста". Нацисты стали применять новый метод слежки - передачу "объекта" по эстафете. Поэтому мы часто и неожиданно для посторонних пересаживались из вагона в вагон, пользовались и другими известными нам методами сбивания со следа. Собственно, это делали не столько из опасения,- за документы наши пока бояться было нечего,- сколько для тренировки. К назначенному часу мы были в кафе "Дюпон". Хорошо запомнилась его реклама: "Chez Dupont tout est bon!" "У Дюпона всё отлично!").
В зале, как обычно, царило оживление. Мы в автомате взяли по стакану йогурта и примостились за столиком, лицом ко входу. В дверях показался Кристиан Зервос. Подошел к автоматам, взял тоже стакан напитка и, будто выискивая глазами свободное место, прошел мимо нас: - В порт Дофин!" - тихо обронил он название станции метро: - Оттуда пойдете следом за мной. Через минуту после ухода Кристиана, вышли и мы. В Булонский же лес, следуя за ним, добрались благополучно. Прогуливаясь по весенним пустынным и влажным аллеям, мы жадно слушали отрывистые, краткие фразы нашего руководителя. Прежде всего он отругал меня: - Тебя послали не за тем... То могли сделать и сами немцы. Теперь приходится менять твои документы. А "типография" у нас не такого масштаба... Напоследок он сказал, (видимо, чтобы приподнять настроение после произнесенного выговора), что руководство нашей работой "в основном удовлетворено". Разъяснил положение во Франции. Правительство Виши ведет, по его словам, лицемерную политику: малейшие успехи Гитлера в России вызывают у него заискивание перед оккупационными властями, а неудачи - охлаждение раболепия. В Виши больше всего боятся укрепления коммунистов, восстания. А движение французского Внутреннего Сопротивления набирает силу. Подпольщики приступили к широкомасштабным вербовкам патриотов как в Северной, так и в Южной зонах. Из групп L'Organisation spéciale (OS), куда ранее входили лишь активисты-боевики, организованы первые группы франтиреров-партизан - ФТП, в которые принимаются все, кто не принял политику "аттантизма"{28}, кто желал сражаться немедленно.
Создавалась широкая сеть боевых групп ("груп де комба"), действующих в городах, селах, в лесах и горах. Стотысячным тиражом стала издаваться подпольная газета "Юманите". Вместе с другими газетами, как "Ля ви увриер" ("Рабочая жизнь") и "Франс д'Абор" ("Франция прежде всего"), она публикует комментарии о действиях ФТП и Бэ-Жи ("Молодежные батальоны").
К власти пришел Лаваль, страстно желавший победы Германии и всеми силами обрушившийся на патриотов. Гитлеровцы, чтобы противостоять растущему Сопротивлению, сконцентрировали весь полицейский аппарат в одних руках. Его возглавил эсэсовец Карл Оберг. Так, по мнению Кристиана, сложилась политическая ситуация во Франции.
Затем он рассказал о моих товарищах по плену, - с Михайлом и Николаем всё в порядке. Из лагеря в Сааргемюнде бежала и другая тройка, тоже взявшаяся теперь за оружие. Группа Ковальского успешно организовывает побеги и переправку беглецов в боевые отряды. В нашу группу Кристиан решил ввести новичка, для "стажировки". Дал его описание и "пароль" для встречи с ним. Подробно проинформировал о дальнейшей работе и попросил готовиться к новому заданию. Какому? - не уточнил. А как готовиться? - усиленно заниматься физической тренировкой. - Вредно наращивать жирок на ваши немецкие марки! - съехидничал он. Эх, если бы он только знал, что тот йогурт, который мы выпили перед встречей, по нашей раскладке было единственным на сегодня суточным питанием! Но объяснять судьбу наших "немецких марок", - стоило ли?
* * *
Весна 1942 года набирала силу. Обычно хмурое и грязное парижское небо поголубело, и после ночных (а то и дневных) операций мы с Мишелем нередко посещали Булонский лес. Деревья уже покрывались нежным зеленым пушком, пробивалась молодая, будто свежевымытая, травка. Природа жила своей ни от кого не зависящей жизнью, и не было ей никакого дела до житейских тревог, подпольных листовок, стрельбы, взрывов, облав, расстрелов...
Мы ходили сюда не только, чтобы отдохнуть, но и потренироваться в приемах рукопашного боя: помня слова Зервоса, надеялись, что нас включат в Бэ-Жи. Тренировались и в гостинице. Возня производила много шума и была замечена Энрико и Ренэ: - Вы - как персонажи старинной французской сказки! - обронил как-то Энрико, прибежавший на шум: - Настоящие Зиг и Пюс! Смысл сказки - о дружбе великана "Зига" и малыша, ставших неразлучными. "Пюс"- блоха. А вот значение слова "Зиг" Мишель так и не сумел растолковать. Что-то вроде "Рубахи-парня". И с легкой руки Энрико,, прозвища эти так к нам и приклеились, превратились в подпольные клички. Мишель стал "Пюсом" - блохой.{29}
Новичка звали Марсель. Он оказался приветливым восемнадцатилетним парнем со смуглым цыганским лицом, смоляными вьющимися кудрями и светло-серыми глазами. Ростом он был с Мишеля, но чуть плотнее. Сила так и сквозила из его гибкого тела. Родители Марселя были заключены в концлагерь. Оказался бы там и он, но спас случай: во время ареста семьи он был в отлучке. А когда подходил к дому, его поджидали друзья и предупредили. Да,- не имей сто рублей, а имей сто друзей! Теперь Морис был без родителей и без постоянного места жительства, ненавидел оккупантов! С нами же был отличным и веселым собеседником.
На "работу" мы ходили обычно ночью, но сейчас, втроем, стало легче и безопасней работать днем. Нацисты усилили охоту за распространителями листовок и подпольных газет, поэтому мы ходили гуськом, "на расстоянии видимости" друг друга. Я- посредине, с портфелем, скорей похожим на сито, из дыр которого торчали углы профашистской газеты "Матэн". В портфеле были или листовки, или пистолеты, гранаты. Всё это предназначалось боевым группам. Оружие, после выполнения задания, таким же путем возвращалось на "базу". Как-то на авеню дю Мэн. Мишель, шедший впереди нас, вдруг подал знак опасности. Точно: впереди разворачивался заслон полицейских. С тылу приближалась цепь автоматчиков. Мы в мешке! Это - обычная облава, мы к ним уже успели привыкнуть. Друзья исчезают кто куда, в различные лазейки. Рядом со мной лишь бистро. Вхожу в него, вешаю портфель и кепку на вешалку у двери. Заказываю чашечку кофе. И тут входят двое ажанов и один фельдфебель. - Во папье (Ваши бумаги)! - звучит требование полицейских. Паспорт, с которым я недавно прибыл из Берлина, стараюсь вручить французу, а не немцу. - Бон, са ва! (В порядке!) - глянув на фотографию в немецком документе равнодушно произносит ажан, и я направляюсь к выходу. Выпускают. Вижу: в поперечной улочке за углом полицейский фургон. В него сажают несколько человек. Среди них нет ни Мишеля, ни Марселя. Отлично! Пройдя бесцельно немного вперед и переждав конца облавы, возвращаюсь в бистро: - Забыл кепку! - говорю хозяину и беру ее с вешалки. Но где портфель? - Его нет! Пот обливает меня, я грустно опускаю глаза и... они уткнулись в валявшийся на полу мой миленький затасканный портфель! Схватил его и на крыльях восторга вылетаю прямо... в объятья моих друзей. Ничто не может так породнить, как минута общей опасности!
Так и проходил день за днем в ожидании чего-то существенного, когда можно было бы почувствовать, что ты действительно чего-то да стоишь. Но... пока это были лишь малые трудности, постоянный риск, напряжение нервов и страшный голод. Марселю было намного хуже: у него не было даже постоянного надежного пристанища, и он, бывало, ночевал у нас. Тут нам очень помогла милая Ренэ: никогда не прогоняла Марселя. Наоборот: часто подбрасывала что-нибудь пожевать, хоть и у них самих было не густо. Мишель курил. В свободное время он брал с собой палку со вделанным в ее торец гвоздем и на перронах метро, чаще между рельсами, накалывал валявшиеся там окурки. Занятие это, надо сказать, довольно-таки унизительное, мы называли "рыбалкой". Мои лекции о вреде курения и подтрунивания на эту тему он пропускал мимо ушей. Как мне теперь жаль, что и я заразился этой никчемной привычкой, правда, десятилетиями позже. Возможно, именно это долгое воздержание и помогло пережить пережитое. Если кому-либо из нас удавалось "подстрелить" кусочек хлеба, каждый нес его другу, утверждая, что, мол, свою долю съел еще по дороге. Каким было наслаждением наблюдать, глотая слюнки, как твой друг уплетает твою добычу! Видимо, человек устроен так, что для него не существует большего блаженства, чем упиваться собственной добродетелью. К сожалению, иногда опошляют и это счастье, превращая его в ханжество... Мы потом долго смеялись, когда разоблачили наше "жульничество".
Изо всего этого, из таких, казалось бы, мелочей и складывалась огромная боевая дружба, ставшая крепче любых других чувств. И она была надежна, как гранит. Ренэ же стала для нас родной сестрой. Правда, горячий и довольно экспансивный Мишель попытался, было, в самом начале добиться большей ее благосклонности, но тут же получил решительный отпор: - Сасси! - возмутилась Ренэ: - Вы оба для меня что родные братья. Я люблю обоих одинаково. А быть с одним - родить ревность в другом, поссорить вас. Этому не бывать! Мишель долго виновато заглаживал нелепый инцидент.
Уставшие, но удовлетворенные, возвращались мы домой после наших вылазок. Ренэ неустанно, не смыкая глаз и с тревогой, ждала нас в нашей комнате. Эта ее внимательность, забота, тревога за нас окрыляли, подбадривали и были нам дороги и необходимы. Из листовок и газет мы черпали сведения о победах и героических делах различных групп на невидимом фронте борьбы с фашизмом, о трагизме потерь и поражений: арестах, судебных процессах, казнях. В Нормандии в марте произведено пять диверсий, три из которых привели к крушению поездов с военной техникой. В Па-де-Кале за одну ночь произведена серия взрывов, на длительное время парализовавших железнодорожное сообщение между городами Аррас-Ланс-Дуэ. В Туре брошена граната и убит один из руководителей "ЛВФ" (Легиона добровольцев против большевизма) - бывший кагуляр (член французской профашистской организации)...
Оккупанты, потрясенные начавшимися поражениями на Восточном фронте и крайне обеспокоенные набиравшим силу Движением Внутреннего Сопротивления во Франции, решили усилить идеологическую обработку французов. В самом оживленном районе Парижа, близ Пляс де л'Этуаль, по левой стороне широкого авеню, в зале Ваграм, они открыли 1 марта этого года выставку "Большевизм против Европы". 8 марта, семнадцатилетний студент, немец по происхождению, Карл Шёнхаар и двадцатилетний сафьянщик Жорж Тонделье, оба из Бэ-Жи, оставили в зале выставки чемодан со взрывчаткой и с зажженным фитилем. Но на выходе, один полицейский, запомнивший, что они входили с чемоданом, а выходят без него, поднял тревогу. Оба были схвачены. Мину обезвредили за минуту до взрыва. Безусловно, о таких фактах героизма, пусть и безрассудного, необходимо широко оповещать население, призывая и его включиться в борьбу. Нацисты же всячески стремились их замалчивать. А мы, и такие как мы, должны были сообщать об этом, показать, что борьба идет не на жизнь, а на смерть. И не впустую. Это и было одним из наших заданий.
Узнав о случае в зале Ваграм, мы с Ренэ не преминули полюбопытствовать и побывать там. Смотрели на броско и помпезно оформленные витрины у входа, на антисемитские лозунги и плакаты. Видели шнырявших у входа и в залах переодетых агентов, - для этого не нужно было иметь "особого глаза". Конечно, они боятся! С отвращением осмотрели гитлеровскую стряпню: тускло освещенные электрическими "лучинами" землянки - "жильё большевиков". В них - грязь, запустение, первобытная утварь. Лица у манекенов-"русских" - дегенеративные, отвратительные. Занимаются тем, что ищут в белье вшей. Этим гитлеровцы стремились сказать: вот, мол, смотрите, какую жизнь сулит Европе большевизм, а мы вас от него спасаем! Но этим не ограничились: без суда и следствия совершались казни патриотов. Оправдывали себя тем, что, мол, террор - "необходимая административная мера". Над Парижем, несмотря на весну, сгущались мрачные свинцовые тучи...
Глава 8. У ИСТОКОВ МАКИ ("Лучше погибнуть стоя, чем жить на коленях!")
Мои новые документы изготовлены. Теперь я - Александр Попович, серб-черногорец, французский гражданин. Место жительства - департамент Ду во Франш-Конте. И мы с Мишелем, которому менять его немецкий "Фремден-Пасс" не было необходимости, были направлены туда, во Франш-Конте, к швейцарской границе. Частое изменение фамилий, места жительства, частые перемещения, как я убедился, - самые действенные средства для долговечности жизни подпольщиков. Особенно, если они, возможно, взяты на заметку, -"под колпак". Была и еще одна необходимость изменения нашего места пребывания... Дорогая ты наша Ренэ, увидимся ли опять? Когда?..
Вечер, 30 апреля 1942 года. Лионский вокзал в Париже. На перроне появляемся ровно в минуту отхода нашего поезда. А вон и Марсель. Он контролирует наш отъезд: всё ли пройдет благополучно? Об этом он обязан сообщить руководству. Наш багаж - маленький чемоданчик со сменой белья и парой тощих бутербродов. И сверток: в нем разобранные немецкие автоматы "МП" - "машиненпистоле". Они туго завернуты в грязные тряпки, поверх обернуты старыми газетами и много раз перетянуты бечевкой. Как только поезд тронулся, мы вскочили на подножку вагона. Проследили: не последует ли кто по пятам? Нет, всё в порядке, "хвоста" не видно. Махнули рукой нашему другу: прощай, дорогой Марсель Рейман! Прощай наш симпатичный друг и брат "Житан"-"Цыганенок", прозванный так за смуглую кожу, за смоляные кудри, за искрящиеся задором смешливые глаза!
Вагон третьего класса переполнен. Это нам на руку. Выбрали место, где, кроме пассажиров, по-видимому крестьян, сидела благообразная старушка. Сюда, на полку, мы втиснули наш сверток, поближе к коридору. Для чемоданчика нашлось место на полке соседнего отделения. Где-то близ Дижона возможна проверка документов, изредка сопровождаемая досмотром багажа. Очень неприятное сведение! Нет, насчет документов мы не очень беспокоимся. А вот сверток с автоматами... Целых две штуки с комплектом рожков! Помнится, мы шутили: случается же, мол, что "герои фатерлянда" то "забывают", то "теряют" своё оружие в таком огромном, полном соблазнов, городе, как Париж! Во всяком случае, не повезло двум оккупантам. Но нам в Париже подобное оружие ни к чему: не спрячешь под полой, не пронесешь незаметно. Зато там, куда велено его доставить, оно будет в самый раз.
У моего друга Мишеля был, как я уже сказал, тот же "Фремденпасс", с которым мы недавно вернулись из Берлина, а у меня - "карт д'идантитэ". Разработана была и легенда наего путешествия. Приехав, якобы, из департамента Ду в Париж в поисках работы, я здесь случайно познакомился с Мишелем Зернен, только что вернувшимся из Берлина, где он работал по найму. Сейчас он в отпуску, но ему там так понравилось, что собирается вернуться. И меня уговорил поехать вместе с ним. Но предварительно мы заедем ко мне, чтобы я подготовился к отъезду. Мерно постукивают колеса на стыках рельсов. Лионский вокзал, где мы порядком понервничали, далеко позади. Тусклыми мертвенно-голубыми светильниками затемнения вагон еле освещен. Вскоре поблек и этот свет. Еще долго не клонит ко сну: после посадки с опасным грузом нервы напряжены. Да и впереди не менее неприятная перспектива возможного обыска. А мой новый документ? Не очень-то я уверен в его безупречности и надежности. А вдруг в нем какая-нибудь ошибка, не та заковыка?..
Чтобы отвлечься, болтаемся по коридору. Заходим в тамбур. Мишель курит чаще обычного, свертывая сигаретки чуть толще спички. Это - чтобы экономить: очень уж скуден запас,- всего один пакетик "Грокюб". Так, кажется называется этот пятидесяти граммовый кубик скверного табака. Какой же я счастливчик, что не курю! И я мысленно сам себя похвалил! Наконец нервы отпускают. Заставляем себя не думать ни о нашем грузе, ни о будущей возможной проверке. Мы как-то привыкли овладевать собой. До чего же все-таки удивительна человеческая натура: в Германии я ловил себя на том, что сны снились на немецком, а во Франции- на французском языке! Мишелю намного проще: ему нечего опасаться случайно во сне вырвавшегося слова. Я же снов боялся. Минуты уединения используем, чтобы переброситься парой слов. В голове так и бурлило: мы столько узнали, столько услыхали и прочитали в газетах и листовках! И нас не удивляет, что мысли наши синхронны и текут будто по одному руслу.
Листки подпольной газеты "Ля ви увриер" ("Рабочая жизнь") от 28 марта, которые мы засовывали под двери или вбрасывали в форточки, сообщали о бомбардировке в ночь с третьего на четвертое марта: союзная авиация бомбила завод "Рено" в Булонь-Бианкуре. Оккупанты, расстреливавшие невинных заложников, решили сыграть на чувствительных струнках парижан, и стали клеймить в прессе и по радио "англо-саксонских плутократов". А газета эта писала: “Рабочий класс не может оставаться простым созерцателем мировой борьбы с фашистскими захватчиками. Героизм состоит не в том, чтобы рукоплескать налетам РАФ (Рой-яль эйр форс- союзной авиации) и подвергать себя опасности бить убитым, производя военное снаряжение для Гитлера. Можно делать кое-что и получше..." Мы полностью согласны с этим призывом к действию, тем более, что это было нашим кредо и в Берлине. Нет, мы не намеревались его менять. Более четким был призыв "Юманите" за 3 апреля: “Рабочие! Ваш долг отказываться работать на бошей, саботировать всё, что предназначено для Гитлера, организовывать борьбу, устраивать стачки. Этим вы ускорите падение реакционного и антирабочего режима нацистов и приблизите день освобождения Франции. Товарищи рабочие, за дело!"
Наши руководители - Викки и Кристиан,- с которыми мы встречались (с "Гастоном" встречался лишь Мишель), дали нам понять, что это "кое-что", как говорилось в "Ля ви увриер", уже делается. Очень богат событиями 1942 год! А он только начинается!.. 3 января взлетел на воздух книжный магазин оккупантов на Елисейских полях. В том же месяце, не ожидая призыва газеты, была проведена забастовка в Монсо-ле-Мин, в департаменте Сона-и-Луара. Это в Бургундии, где столицей Дижон, через который мы проедем.
Столкнувшись с небывалым единством шахтеров, оккупантам пришлось отступить. Гитлеровцы не решились призвать на помощь армейские части и не досчитались 100.000 тонн угля. Неплохой вклад в дело борьбы с захватчиками! И всё это рядом с тем же Дижоном, в котором разместилась резиденция "Милитер Фервальтунг Норд-Ост Франкрайх" (Военное управление Северо-восточной Франции). Администрацию гитлеровцев дублировал комиссар Марсак, убежденный вишист, ярый сторонник Лаваля и заядлый антикоммунист. Да-а, его надо опасаться! В Северной зоне в начале года было убито шесть офицеров и солдат вермахта. Группа франтиреров во главе с Дебаржем атаковала стратегически важный мост у местечка Сезарини. Уничтожили двух часовых, захватили их оружие. Две недели спустя та же группа успешно напала на резиденцию гестапо в городе Аррас. В Южной зоне 20 марта тишину города Перпиньян оборвал мощный взрыв: заряд динамита превратил в развалины вербовочный пункт "ЛВФ". В нем призывали французскую молодежь записаться добровольцами на Восточный фронт. Началась и "рельсовая война". Диверсии на железнодородном полотне в треугольнике Малоней-Аргей-Соттвиль, на линии Амьен-Шербур. Вражеские составы с техникой и живой силой летят под откос. Рост диверсий вынудил оккупантов создать постоянно действующие ремонтные бригады и поезда.
Разумеется, всё это обозлило врага. В Париже и во всей Северной зоне вновь запестрели "Ави-Беканнтмахунг" - и с сообщениями о новых экзекуциях- расстрелах заложников. Облачив себя в тогу "верховного судьи", Гитлер ввел драконовские репрессии. Викки говорила, что гонения оккупантов на евреев и коммунистов значительно упрочили позиции Гитлера в реакционной среде. А в народных массах? - Чем ожесточенней становились репрессии, тем сильней сплачивался народ, исполненный гневом к варварам. И естественно: в умах стал зарождаться вопрос: -"Не я ли на очереди попасть в списки расстрелянных?". Кристиан Зервос сказал, что мнения в народе все же разделились: одни считали, что репрессии гитлеровцев - следствие актов Сопротивления, и поэтому предавали его анафеме. Другие - наоборот, что, мол, именно жестокость оккупантов вызвала законное противодействие, хоть, правда, и приходится за него расплачиваться. Но рассуждения, - что было в начале: курица или яйцо?- не меняли положение: оккупанты хватали заложников и расстреливали их десятками и сотнями.
Не было блестящим и военное положение на фронтах, хоть зима 1941-42 года и приостановила их активность. В конце года Германия и Италия объявили войну Соединенным Штатам. Сингапур и Ява были захвачены японцами. Роммель продолжал наступление в Триполи и угрожал Египту. Второго фронта в Европе по-прежнему не было. Но была и обнадеживающая новость: на референдуме Канада вынесла решение об отправке контингента войск за пределы доминиона. Значит, антигитлеровский блок пополнится новыми резервами! Ну а самым для нас главным было то, что Гитлера отбросили от Москвы и что его похвальба справлять Новый Год в гостинице "Астория" в Ленинграде провалилась с треском...
Поезд останавливался часто. Одни пассажиры сходили, другие заходили. Сменялись и попутчики старушки. Лишь она одна осталась в том отделении, где лежал наш сверток, и была единственной свидетельницей, знавшей, кому он принадлежит. Уже около полуночи. Затих гомон в вагоне. Стало клонить ко сну, и мы Мишелем договорились подремать поочередно: нельзя упускать из виду наш груз. Первым- я. В одном из отделений, чуть потеснив пассажиров, я примостился на краюшке скамьи, у коридора. Спать сидя мы привыкли. Я почти тут же погрузился в приятную дрему... -...Знаешь, Жак, я бы никогда не подумал, что русские...- будто издали, сквозь перестук колес, донесся до меня обрывок фразы: попутчики, решив, видимо, что я крепко уснул, продолжили прерванный моим появлением разговор. И этот полушепот, слово "русские", насторожили меня и отогнали сон. - Болван!.. Не Жак, а Реймон. Сколько раз нужно повторять? Для бошей я Реймон! - послышался ответный встревоженный шепот. - Извини. Но мы же среди своих: ты же слышишь, как этот парень посапывает? Так вот, я бы никогда не подумал, что Советы договорятся с Гитлером. Оказалось, что пакт - лишь желание выиграть время. Он и действительно был противоестественным... - Сейчас это легко говорить. А тогда?.. "Выиграть время, выиграть время.". А руки Гитлеру развязали! И сколько это крови стоило? А урон престижа? Так или иначе, раз русские несут сейчас основное бремя войны, то и нам бездействовать нельзя. Впрочем, у нас не ждали этого 22 июня, чтобы начать войну с агрессором. Были, правда, дураки, - хотели с ними якшаться,- вздумали обратиться за разрешением издавать "Юманите"!.. Помнишь, мы читали обращение от 10 июля: "Никогда такой великий народ, как наш, не станет рабом!" Его подписали Торез и Дюкло... - Тс-с-с, тише ты! - зашептал третий, сидевший рядом. Я почувствовал, что он подозрительно покосился в мою сторону, и тут же постарался, чтобы мое дыхание было по-прежнему ровным. Голос продолжил: - Пара идиотов! Вы боитесь произнести ваши имена, а сами произносите известные всему миру, за которые запросто можно угодить в каталажку... А 26 августа, помнишь, было написано: "За единение французской нации против гитлеровской агрессии!"? Мы не должны повторять ошибок прошлого, когда в одну кучу ссыпали фашистов и буржуазную демократию. И все-таки на Даладье, Блюма и Рейно была возложена решающая и ответственейшая роль. А они? - Проложили Гитлеру дорогу в Европу, к нам. Будто не знали, что дорога на Украину пройдет через Париж... Они оказались командиром крепости, к которой подступал враг. Но как поступили: отдали ему без боя редуты, а их защитников посадили за решетку... - Да, теперь мы платим за всё... А тут еще "старый петэн" (он произнес это так, что послышалось "старый перд."), да и Лаваль... Нет, давно пора начать драку, чтобы смыть и этот позор! - Вам легко трепаться! - вклинился в разговор голос молчавшего до тех пор пассажира у окна: - А каково мне? У меня ушел сын. Куда? - не знаю, но догадываюсь. Теперь того и жди, нагрянет полиция. Или гестапо... Тогда прости-прощай! И меня, и дочь, всю семью, - всем будет крышка... Когда же откроют этот Второй фронт? О-ох-ох, дела наши, Господи!.. Во вздохе послышались нотки неимоверной тоски, безысходности, одновременно надежды: вдруг услышит внятный, определенный и успокаивающий ответ. Нет, такого ответа дать никто не мог. И я понял, почему так трудно начинать борьбу: страх, оправданный страх за судьбу семьи! - Ходят слухи, что советский посол в Лондоне... как бишь его?.. Бо-го-мо-лёф? (Произнес он по слогам трудную для него фамилию). Да, верно: Бого-молёф. Так вот, будто он встречался с Де Голлем, предложил союз со "Свободной Францией"... - Твои сведения устарели: в декабре прошлого года "Свободная Франция" переименована в "Национальный Французский Комитет". Советский Союз признал Де Голля руководителем эмигрантского правительства. У нас с Россией одна цель: изгнать из наших стран оккупантов. Да и генерал раздражен поведением англичан и американцев. Как те, так и другие не блещут благородством. Вот только идейные разногласия слишком сильны... - При чем тут разногласия? Впрочем... взять хотя бы того же Черчилля. Он признался, что уже двадцать пять лет является последовательным противником коммунизма... - Но тут же добавил, что, мол, несмотря на это, опасность, которая нависла над Россией, угрожает, мол, и Англии и США. И что, мол, дело русского, защищающего свой дом - дело каждого народа... - Конечно. Мы сейчас с русскими в одной упряжке, в одном окопе, и у каждого из нас свой сектор обстрела. - И всё же, как насчет Второго фронта? - не унимался тот, у окна. - Политика Черчилля одна: ждать, пока боши и русские взаимно себя не обескровят. А тогда можно будет "чужими руками каштаны из костра выгребать!". - Знать бы хоть, где тайные склады с оружием, о которых так трезвонят из Лондона!.. Собеседники умолкли. Да, если бы знать! А среди их охраняющих наверняка найдутся порядочные люди. Насколько бы эффективней стала борьба! А то, подумаешь, пара каких-то автоматов: риск огромный, а толку? - капля в море!
Переждав для верности еще немного, я сделал вид, что просыпаюсь. Потягиваясь и зевая вышел в коридор. Нашел Мишеля. Вкратце передал услышанное. - Ты не шутишь? - удивился он и с подозрением посмотрел на меня: - Надеюсь, хватило ума не встревать в болтовню? - За кого ты меня принимаешь? - То-то и оно. Мы не имеем права рисковать. Думаю, сам убедился, какие бывают олухи? А еще "Реймон" называется! - и Мишель, недовольно покачав головой, пошел вздремнуть. Светало. Новые пассажиры спать не укладывались, и их тихие разговоры, сливаясь с гомоном просыпавшихся, нарушили царившую ночную тишину.
На одной из очередных остановок, у станции Талан, в вагоне засуетились более обычного, и он заметно опустел. Не на следующей ли ожидается проверка? И я поспешил к своем другу. - Какая сейчас станция? - обратился встрепенувшийся Мишель к соседу. - Дижон. Заскрипели тормоза. Мишель бросился к окну, но тут же отпрянул. Выглянул и я: по всё медленней проплывающему перрону парами стояли фельджандармы. Каски, традиционные плакетки на цепях на груди{30}, автоматы. Я прихватил чемоданчик, и мы вышли в коридор. В некоторых отделениях, как и в том со старушкой, окна были опущены, оттуда веет приятной прохладой. Наша старенькая попутчица, как и ее спутники, не спешат. Но многие повыскакивали в коридор и нетерпеливо жмутся к выходу. Поезд остановился. Хлопнула дверь и, потеснив назад толпу, в проеме тамбура показалось два стража "Нового порядка". - Ваши документы! Что у вас тут? - стандартно началась проверка, осмотр багажа. В такие моменты мне всегда кажется, что ищут именно меня. Фельджандармы всё ближе и ближе подходят к "нашему" отделению. Туда же, подталкиваемые сзади пассажирами им навстречу, приближаемся и мы. Один из фрицев, решив почему-то, что мы собираемся прошмыгнуть мимо, перегораживает путь: - Хальт! Папире! - Я - вольнонаемный рабочий. - по-немецки представляется Мишель и с самым заискивающим видом протягивает свой "Фремденпасс". Услышав родную речь, фельджандарм явно удивлен. С интересом вглядывается в моего друга, затем в корочки его документа. - Ах зо... Ист гут, ист гут! - явно теплеет его настороженный взгляд. - А это мой друг. - указывает на меня Мишель. И я, протянув мой документ, в свою очередь начинаю изощряться в знании немецкого и в комплиментах. - Мне так понравилось у вас в Германии! - поддерживает меня Мишель: - Какая удивительная чистота! Какой непревзойденный порядок! Один ваш Берлин чего стоит! Опять поеду туда. Вот с этим другом. Заберем его вещи и... да здравствует Германия! Всё это происходит у отделения со старушкой. Чувствую: и ее спутники, и те, что сзади нас бросают в нашу сторону недоброжелательные взгляды. Это, признаюсь, коробит, и мы умеряем свой пыл. Кажется, фельджандарм "созрел" и готов нас пропустить. "Не рискнуть ли?" - и я начинаю подаваться поближе к заветному свертку. Еще мгновение, и он бы был в моих руках.
В этот момент перед нашими глазами предстает второй страж, закончивший осмотр предыдущего отделения. Бросив на нас придирчивый взгляд, он указал на чемоданчик: - Вас ист дринн? (Что внутри?) Лишь после осмотра мы услышали долгожданное: - Можете проходить! На секунду приостановились. Нет, взять сверток и пронести его мимо такого ретивого жандарма не удастся! С сожалением смотрю в его сторону, затем невольно опускаю глаза вниз: старушка недоуменно уставилась в меня! Тороплюсь опередить ее возможное напоминание, выражаю свою безысходность, слегка развожу руками, пожимаю плечами и, как-то само получилось, подмигиваю. Успеваю заметить, что собравшаяся что-то сказать, она сдерживается и демонстративно отворачивается к открытому окну. До сих пор перед глазами то, что произошло несколькими минутами позже. Возможно, наша, умудренная жизненным опытом попутчица, единственная, кто знал, кому принадлежит сверток, о чем-то догадалась. Война, тяжелые времена, надменность, лицемерие и жестокость "завоевателей", к которым кроме "бошей", добавилось много не менее брезгливых и обидных кличек, как "гренуй" - лягушки, "фризе" - стриженные и др. менее литературных, - всё это приучило быть сдержанней, наблюдательней и осторожней. Во всяком случае, не столь скоропалительными в вынесении суждения, как раньше. Дали себя знать и чисто галльские тонкость души, находчивость и сообразительность. Видимо, старушка поняла, что неспроста избегали мы заходить в ее отделение за всю долгую ночь. А чем объяснить наше странное и не совсем искреннее заигрывание перед бошами? Старушка явно догадалась, что в свертке что-то, о чем не должны знать проверяющие. А раз так, то надо помочь ребятам! Так или иначе, но как только на перроне поравнялись с "нашим" окном, где, как видели, всё еще копошились фрицы, мы неожиданно были остановлены окриком: - Эй, молодые люди! А ваш сверток? Вы же его забыли, держите! - и старушечьи руки протянули нам из окна этот явно тяжелый для них груз. Не знаю, как Мишель, но я покрылся противной испариной: на перроне находилось много закончивших проверку фрицев. Вслед за старушкой в окне показалась и голова одного из жандармов. Он было сделал жест, словно стараясь ее остановить. Но сверток был уже в руках Мишеля. А благородная женщина затараторила что-то о нынешних юношах-растеряхах, призывая в свидетели оторопелого гитлеровца. Поблагодарив ее и помахав одураченному стражу, степенно и не торопясь мы стали удаляться. Как трудно было остановить ноги, порывавшиеся помчать нас во всю прыть! Казалось, что мы ползем со скоростью неповоротливой старой черепахи. Но вскоре ворота вокзала поглотили нас. Уф, пронесло! В душе я ругал руководство: ведь должно же было оно знать, что именно в эти дни, на Первое Мая, оккупанты будут сверхпридирчивы, или не должно?! И лишь по воле случая, благодаря мудрости незнакомки, всё сошло благополучно. - Итак, - отметил Мишель, когда мы садились в поезд-омнибус, следующий на Клер-валь: - Мы везем двойной первомайский подарок: от парижских франтиреров и от этой замечательной старушки. Да хранит ее Бог на вечные времена и многая ей лета!
* * *
Люди во Франш-Конте прибывали со всех сторон. Горная, лесистая местность, оазисы малых и больших лугов и пастбищ, обилие источников с прекрасной водой, отдаленные фермы, к которым вели лишь узенькие тропки, - всё это способствовало предоставлению убежищ тем, кто в них нуждался. Были здесь беглецы из плена, концлагерей-интербригадовцы; было много и французских юношей из разных уголков Северной зоны, пожелавших быть подальше от оккупантов. Здесь стали образовываться первые отряды макизар - французских партизан. Подпольщики и сочувствующие из местного населения прятали беглецов, кормили, по цепочкам переправляли на отдельные фермы, всегда нуждавшиеся в сезонной рабочей силе, в леса.
Одним из интереснейших здесь людей был Пьер Вильмино. Под натиском гитлеровцев, вместе с отрядом французской армии ему пришлось укрыться в Швейцарии. Вскоре после капитуляции, он вернулся к себе в Клерваль, городок на реке Ду. В его душе болью разливались картины панического бегства и горечь поражения. Нет, раз не удалось противостоять врагу солдатом, необходимо бороться с ним другими путями. Он - француз, любит Родину, но она оказалась под каблуком, под игом захватчиков. Юная душа не могла смириться с таким положением вещей, требовала действий. Но чтобы сражаться необходимо оружие. Он запомнил места, куда отступавшие солдаты бросали свое оружие, амуницию. И вот, вместе со своей невестой Ивон он часто отправляется, якобы, на рыбалку. Ныряет в ледяные воды Ду и со дна выуживает винтовки "Лебель", ящики с патронами, мины, гранаты... Сосед-оружейник помогает приводить оружие в порядок, сушит, ремонтирует, смазывает. В нескольких береговых гротах, а также и в том, где его отец-виноторговец хранит бутылки с вином, Пьер Вильмино маскирует склады с оружием. А оно скоро должно пригодиться: раз уж у тебя висит ружье, то оно, рано или поздно, а выстрелит! Вокруг Пьера концентрируется и разрастается кружок молодых единомышленников, горящих желанием внести вклад в дело борьбы с захватчиком. Созданные им небольшие группы стали разрастаться в роту из двух отрядов. Один - "седантер" - оседлые или "легальные", под его личным командованием. Он в нем стал "лейтенантом Ноэлем". Его бойцы днем работали на заводах и фермах, а ночью проводили боевые операции против оккупантов, саботаж на работающих на них предприятиях.
Второй отряд - "летучие" - действовал по всей территории Франш-Конте и департамента Кот д'Ор. Им стал командовать недавно появившийся здесь и познакомившийся с Вильмино "капитан Анри". Сюда нас и отправили в качестве "офисье д'энстрюксьон" - инструкторов по обучению молодежи обращению с огнестрельным оружием. Каких только марок и систем здесь не было! И казалось, не столько стволов, сколько именно их систем! Старинные и современные, кольты, наганы, браунинги и "зельбстладеры", вальтеры, парабеллюмы и дамские револьверы "бульдоги"... Мы показывали, как их разбирать и собирать, их устройство, учили целиться. Да и самим пришлось подчас учиться: всего не знали, и капитан Анри терпеливо инструктировал нас. Он поистине был знаток. Анри, наш командир, наш мозг... Зная некоторые эпизоды из его жизни, я ему удивлялся, им восхищался. Когда он, раздевшись до пояса, умывался, на его жилистом сухощавом теле я увидел страшные рубцы - память об Испании. Был он всего на год старше меня, а уже столько отметин! Член Союза коммунистической молодежи он,- настоящее его имя Пьер Жорж,- в 1937 году помчался защищать Испанскую республику. Ему не было и семнадцати. Целый год его не пускали в бой. Став адъютантом штаба, он передавал приказы на передовую. Однажды он прибыл на место назначения. Там все офицеры убиты, а фашисты наседают. Собрав оставшихся в живых солдат, он с криком "Но пассаран!" повел их в атаку, отбил наседавшего врага. Но сам был скошен пулеметной очередью. Прибывшая подмога нашла его истекающим кровью в груде тел. Думали, не выживет. Выжил! На носилках его переправили обратно во Францию. Он уже имел чин лейтенанта и звание инструктора Эскуриала, был награжден медалью "За независимость". Ему было всего девятнадцать. "Самый юный боец Интербригад" предстал перед друзьями-парижанами в ореоле славы. Вскоре его сажают в тюрьму. Бежит. В годы оккупации, под кличкой "Фредо", он восстанавливает молодежные организации в Лионе. В Марселе он водружает красные флаги над городом: один - на фермах моста, второй - на шпиле церкви. На Корсике перевоплощается в полицейского агента и производит "обыск" с целью найти ротатор. На нем он вскоре печатает свой "Авангард". Именно в этой листовке был призыв от 10 июля 1940 года за подписью М.Тореза и Ж.Дюкло к населению встать на путь борьбы с агрессором.
За голову Пьера - "Фредо" назначена высокая награда, и руководство ФКП (Французской компартии) возвращает его с юга в Париж. Здесь, на станции метро Барбэ-Рошешуар, среди бела дня, раздался его выстрел, всколыхнувший всю Францию: 21 августа 1941 он застрелил немецкого офицера, положив этим начало вооруженной борьбы французского народа против оккупантов. Гестапо, агенты полиции сбились с ног в его поисках. И он нарывается на засаду, но ловкий удар головой в живот опешившего агента, и он благополучно скрывается. Руководство переправляет его во Франш-Конте, где мы и встретились. Естественно, большую часть эпизодов из его жизни мы в то время еще не знали. Пожалуй, и не оправдывали бы. Однажды Анри вручил нам "Учебник легионера", Мишель возмутился: - Зачем нам такая пакость? Мы стать легионерами не собираемся! - А вы всё-таки ознакомьтесь! - строго ответил Анри: - Там есть много полезного... Кроме того, когда борешься с врагом, не вредно изучить его заранее! - и дружески похлопал Мишеля по плечу. Как оказалось, под таким названием, даже с укаанием адреса ЛВФ, было замаскировано руководство военного штаба франтиреров. {31}
Анри организовал настоящую школу. Мы посещали отдельные фермы, обучали молодежь обращению с оружием, тактике нападения, обороны и ретировки, методам диверсий на железнодорожном полотне. Многое из этого черпалось из умного "руководства". Были и неудачи: никто и понятия не имел об "обратной связи" на рельсах. Из-за этого, при первой попытке, разводя рельсы, отсоединили соединявший стыки кабель: никто не знал его назначения. Первый эшелон удачно был пущен под откос близ туннеля "Ля Претрьер", что между Монбельяром и Клервалем. Успех окрылил: даже без взрывчатки можно нанести эначительный урон! Узнавая о месторасположении складов с продуктами, в основном с маслом и сыром, производимых в этой местности и предназначенных к вывозу в Германию, складов с горючим, франтиреры поджигали их с помощью бутылок, прозванных "коктейлем Молотова". Было освобождено и несколько арестованных заложников.
Успех таких акций, хоть и малозначительных, окрылял, сплачивал, вселял уверенность и желание новых диверсий. Население всё чаще обращалось к франтирерам за помощью и содействием, с просьбой защитить от зверств, бесконечных поборов, реквизиций. Операции по уничтожению доносчиков, предателей-коллаборантов, освобождению арестованных поднимали авторитет партизан, увеличивали и укрепляли их ряды и связь с населением. А связь эта была обязательным условием деятельности и самого существования групп. Конечно, нас послали сюда не просто обучать молодежь. Была более важная задача: изучить азбуку морзе. И основное наше пребывание было во Вьё-Шармоне, где мы и брали курсы работы на ключе у одного железнодорожного телеграфиста. Занятие это настоль нудное, что Мишель долго отлынивал от него. До короткого и резкого разговора с Анри. Тогда он и приступил к занятиям. Пригодились и мои знания, полученные у русских скаутов-юных разведчиков: я отлично знал азбуку кириллицей, переучиваться на латинский шрифт особого труда не составило. Тем более, что основная масса букв идентична. Я показал способ мнемотехники для более быстрого запоминания знаков. Почти каждой букве-знаку было нами найдено слово, начинающееся с этой буквы и с количеством слогов, равных количеству знаков. Слог с гласной "а" - точка, с другими гласными - тире. Например, букве " V" соответствовало слово "Valantany": первый, второй и третий слога с гласной "А" означали точки, слог с другой гласной, в данном случае с "Y" - тире. Валантани: ва-лан-та-ни то есть: точка, точка, точка, тире = ...- (три точки, тире). Давалась учеба нелегко, нудная зубрежка и обрабатывание техники работы на ключе-манипуляторе надоедали. Я и сам был против, спросил Мишеля, зачем нам эта муть? Надеялся, он меня поддержит, но услышал: - Приказы не обсуждают, их выполняют! - бросил он зло. Вот-те и Мишель!
Вскоре раскрылся и "секрет" задания. Спустившийся под новый 1942 год на парашюте полномочный представитель генерала Де Голля во Франции Жан Мулен, под фамилией Жозеф-Жан Мерсье, а для подполья "Рекс" или "Макс", начал объединение всех стихийно образовавшихся в стране организаций Сопротивления. Само Сопротивление разделили на ветви: "рансеньеман" - связи и сбора информации; "аттериссаж" - приема самолетов и транспортировки отдельных лиц; "парашютаж" - приема сбрасываемых грузов и агентов и "рамассаж" - вербовка авиаспециалистов и механиков, поиски и переправка летчиков со сбитых самолетов союзников...Службы эти между собой не были связаны, но должны были подчиняться единому Центру. Каждая из них должна была иметь своих "пианистов", то есть радистов. Пеленгаторная служба гитлеровцев местами была развита хорошо, - радисты часто гибли.
Коммунистам, имеющим сильную боевую организацию "ФТП" или "ФТПФ" (франтирер-партизан франсэ), необходимо было оружие, взрывчатка. Отказать им в помощи представители Де Голля не могли, рискуя лишиться подобной поддержки. Поэтому голлисты решили выделить их в обособленную организацию с собственными базами, средствами связи, подчиняющимися непосредственно Центру -Лондону. Для этого им придавались офицеры связи. При условии: мы вам - оружие, взрывчатку, вы нам - разведданные. О радистах же ФКП должна позаботиться сама. Поэтому многим, нам в том числе, вменили в обязанность изучать работу на ключе и саму азбуку. Условие, на каком заключено было подобное соглашение, говорило о том, что генерал Де Голль признал-таки немаловажную роль компартии в деле активного Сопротивления: во Франции народ стал воевать, не нося военной формы, и согласен был примкнуть к любому, кто активно борется. "Свободная Франция", где до сих пор были лишь голлисты, отныне переименована во "Франс комбаттант" -"Францию сражающуюся". Надо отметить, что в ФТПФ, естественно, в массе своей были все, кто хотел драться с врагом, не только коммунисты. И все-таки, несмотря на усилия "Макса", до окончательного объединения организаций и групп Сопротивления в одну, управляемую Центром, структуру было ой, как далеко. Мешали амбиции, амбиции, амбиции...
* * *
По два-три человека с разных ферм стягивались молодые люди на полянку в лесу. Это - репетиция для последующих вылазок на боевые задания. Вижу, - глазам своим не верю: приближается Михаило Иованович с Николой Калабушкиным! А еще через час появляются и другие мои друзья: круглолицый и розовощекий Добричко - "Добри" Радосавлевич (ну и отъелся же!) и Средое Шиячич, как всегда улыбчивый и жизнерадостный. Сколько радости доставила мне эта встреча! Так вот, о ком намекал Кристиан Зервос, когда говорил, что, мол, из нашего лагеря в Сааргемюнде вырвались и другие! Бежали они, как и мы, втроем, вскоре после нас. По тому же испытанному методу, со средствами от собак. Но на границе под пулю угодил Джока Цвиич. Не повезло парню! Добраться сюда помог "Щепанек"-Ковальский из Варанжевилля. Он к тому времени уже наладил цепочку по переправке беглецов. Я сразу представил их Мишелю. - Мы бежали с помощью тех же мальцов из Ремельфингена. - говорил Добри: - Они передавали вам привет... Будто знали, что мы свидимся... Да, если находиться по одну сторону баррикады, то такие встречи не в редкость! Михайло и Николай работают на ферме близ села Грей. Средое и Добри - на другой, поближе. Им и в голову не приходило, что находились так близко друг от друга! И теперь восторгу от встречи не было предела.
Горит, потрескивает костер. Одна за другой зажигаются над нашими головами звезды. Ночная тишина навевает спокойствие. Мне вспоминается далекое прошлое: Украина, ее сосновые боры, деревня Покотиловка у речушки Лопани, близ Харькова. Там я отдыхал с дядей Валей. В Лопани, с ее коварными ямами и водоворотами, даже умудрился тонуть, - в последний момент спас дядя. Не зря был он знаменитым спортсменом! Ночная рыбалка, грибы, совершенно такой же костер... Вспомнился и Кошутняк под Белградом, полянка за Авалой, скауты, игры, интермедии... "Король Лир", "Жертвенные танцы" вокруг костра из "шалаша и колодца", "Журавель", "Будь готов!", "Коль славен"... Эх, где ты, далекое безмятежное прошлое, романтическое детство?..
Причудливо извивающиеся языки пламени выхватывают из тьмы силуэты и лица моих товарищей. Нас, людей разных национальностей, собрала здесь не романтика, - объединила нас война. И мне кажется, что в неповторимой лесной тиши каждый из нас на мгновение, на сладкое мгновение окунается в воспоминания о дорогом прошлом, о родных, о Родине. Для одних она далека и недосягаема. Для других - вот она, рядом, - они на ее земле... Самый юный из нас - Жан-Марк, родом из Дижона. Ему всего шестнадцать. Жестоко обошлась с ним судьба! Нацисты расстреляли родителей, затем он стал свидетелем гибели старшего брата при поджоге склада с горючим. Самому старшему, испанцу Хосе-Мария, под тридцать. И у него жизнь была суровой. Боец республиканской армии, он до последнего дня сражался против Франко и фашизма. Надеялся найти убежище во Франции, но здесь его сразу же заточили в концлагерь. В начале оккупации ему удалось бежать из лагеря в Гюрсе. И вот он среди нас. Капитану Анри всего двадцать три, но какой командир! Рядом со мной примостились мои друзья и, естественно, Мишель...
"Тучки над городом встали, В воздухе пахнет грозой..." - высоким тенором запевает Толик Жуковский. Недавно он бежал из лагеря советских военнопленных. Заболев в плену чахоткой, тощий, изможденный вечным голодом и непосильным трудом, еле дотащился он до этих мест... Если бы не помощь его попутчика-крепыша с Полтавщины Алеши Метренко, - погиб бы в дороге. В эту местность им обоим помогла добраться молодая жена Анри - Арлетт. Поет Толик медленно, с расстановкой. Все замерли, понимают, - трудно ему! Песня берет за душу. Кажется, и сам костер стал потрескивать как бы застенчиво, не так шумно и задорно, будто боясь помешать певцу. Родной Толька! Как страшно ложатся тени в твоих ввалившихся глазницах!.. "...Далека ты путь-дорога..." - подпевает своему другу Алеша. Да, далека! Ой, как далека!.. Увижу ли тебя, Родина? Наслушаюсь ли всласть наших прекрасных песен? Ведь Толик и Алеша - первые мои соотечественники за эти долгие бурные годы. Мой язык, моя русская песня! Всё это - впервые за столько лет!..
Смотрю на измученного Толю и думаю: такая сейчас и она, моя Родина. Обливается она горючими слезами, купается в крови, покрыта пожарищами и взывает о помощи. Слышу тебя! Слышу твои стенания, твои мольбы!.. Не может быть, чтобы мы простились с тобой навеки!.. Нет, не может того быть! Закончена песня, но долго стоит мертвая тишина. Внезапно она взрывается бурей аплодисментов, возгласами "Браво!". На лицах- воодушевление: прекрасный голос, душевный лирический мотив! Слова песни непонятны, но мотив всех задел за живое! Ребята запели снова. То была другая песня: "Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой!.." Я услышал ее впервые. Как здорово, мощно, призывно звучит она! Я тут же перевел ее слова. - Народ с такой песней непобедим! - как всегда кратко, но весомо, изрек капитан Анри, подняв руку со сжатыми в кулак пальцами. В глубине души я исполнился гордостью Лишь в глубине души: здесь все, кроме Мишеля, считали меня югославом Поповичем. Многие так и звали "Юго"... "Монтенегро"... Еще и еще песни. Поет Хосе-Мариа. Это - "Кукарача". Она известна многим, подпевают. И чудится нам топот коней, их развевающиеся в беге гривы, всадники в широкополых сомбреро со страшными ножами-навахами. Неудержима победоносная поступь героев-повстанцев Панчо-Вильи! "Венсеремос!.. Венсеремос!.." - и мы все встаем в круг, беремся за руки. Да, мы победим. Обязательно! Пусть это будет не завтра, не через месяц... Даже, может, не через год. Все равно победим! Место одного павшего займут десятки новых бойцов. Неважно, что мы - разные. Когда враг общий, то с ним дерутся сообща. Конечно, и мы, югославы - "питомцы" (воспитанники) Белградской военной акдемии на Банице, - мы ведь тоже должны выступить, или как? Одной из наших песенок была шуточная черногорская:
Ој дјевојко љепотице, стиг'о Швабо до границе. На граници стража стоји и сумњива лица броји. Кралу Петре, српско дете, чуваjу те баjонети, Од Цетина до Босфора пружа нам се Црна Гора, Од Загреба до Берлина - Хрватска jе домовина!.." (Ой, девушка-голубушка, где ты была? На границе. На границе стража подозрительных лиц считает. Король Петр, сербское дитя, штыки охраняют тебя. От Цетиня до Босфора - Черногория, От Загреба и до Берлина - Хорватия!)Мы - безвестные солдаты. Даже ближайшие товарищи не знают наших настоящих имен и фамилий. В них ли дело? Мы боремся, жизнь наша сурова. Никто не знает, что ждет нас завтра. Многие уже погибли. Может случиться - погибнем и мы. И вряд ли кто-нибудь сообщит об этом нашим матерям, близким. Останемся мы "без вести пропавшими". Нет!.. Долой слабость! Не зря наш девиз: "Лучше погибнуть стоя, чем жить на коленях!"
* * *
Наш "пикник", как можно было бы назвать подобные сборы, закончен. Спустя некоторое время мы с Мишелем тронулись в путь: в Шатенуа, близ Доля, надо было сдать взятые напрокат велосипеды, и поездом отправиться к Монбельяру. Перед домом хозяина мы увидели идущего нам навстречу аббата. Аббат, как аббат: черная сутана со стоячим воротником, требник в руке. - Зиг и Пюс! - неожиданно услыхали мы и вздрогнули: эти наши клички мог здесь знать лишь один человек! "Аббат" и оказался капитаном Анри! Почему он здесь, а не в Безансоне? - Поторапливайтесь! Вас отзывают в Париж. Связная ждет на вокзале. До отхода поезда три часа... ... Поезд тронулся. Анри поднял руку, и будто поправляя свою черную шляпу, слегка помахал ею... - Ты знаешь, что у него за требник? - хитро спросил меня Мишель: - В нем, в специально вырезанной полости, он носит свой браунинг!..
Глава 9. В АВТОШКОЛЕ
В Париже, у площади Согласия, близ моста имени Александра III через Сену, нас ждала Викки: - Не собираетесь ли вы снова навестить "Великую Германию"? Мне кажется, что по вас там уже давно скучают... - вместо предисловия шутливо спросила она и, заметив перемену на наших физиономиях, тут же добавила: - Уверена, что оккупанты вас ищут здесь, а не у себя... Опять она, Германия, будь она неладна! После всего, что было там, во Франш-Конте? Ужасно! Но Викки уже протягивала обоим направления в бюро набора на Кэ д'Орсей, а Мишелю - новую "карт д'идантитэ". К его фамилии приставили букву "е", и он теперь именовался "Зернин", русский по происхождению. Я с ехидной улыбкой стал разглядывать кислую мину новоиспеченного "сына русского эмигранта".
Кое-чему я его успел обучить, Был он способным, любознательным и прилежным учеником, быстро усвоил за время нашего знакомства простейшие русские фразы. Но произношение! Бог ты мой, какое варварское произношение! Ничего, на первый случай сойдет: многие здешние русские юноши, особенно дети малограмотных казаков, очень плохо владели языком родителей, каждое третье-четвертое слово было у них французским.
Я открыл одну закономерность: в изучении иностранного языка, как и в сохранении своего собственного, незаменимо знание песен, скороговорок, басен... Мишелю нравились русские песни, и он многие исполнял довольно удовлетворительно. Теперь-то я с полным правом смогу отомстить этому "русскому" за его начавшие мне надоедать подтрунивания над моим французским. Особенно над "л'оркестр", - словом с картавым "р": не получалось у меня картавить по-французски, хоть убей! А тут еще целых два этих треклятых "р"! Может, у меня глотка, язык, или что другое - откуда я знаю? - не так устроены! Вначале я здорово злился над его замечаниями, да за то, что он чуть ли не помирал со смеху... Потом вспомнил, что русские не могли произнести украинскую "паляныцю", и стал успокаиваться...
Итак, нам надлежало стать шоферами. - Шоферами?! - Да, немецкими шоферами. Идет набор в Берлинскую автошколу, и мы подумали о вас. Ведь Александр имеет некий опыт. Оба вы прекрасно знаете Берлин... Вот вам рекомендации. По указанному адресу предъявите их господину (Викки назвала фамилию чиновника), только ему. Мы еще не знаем, как всё это будет выглядеть. Важно другое: шофера будут работать здесь, во Франции. Строгий вам наказ: в Берлине ни в коем случае не возобновлять старых связей и знакомств! Это более, чем опасно! Я тоже порываю с вами. Но дружба наша продолжается: мы ведь делаем одно дело. Сейчас вы познакомитесь с вашим новым непосредственным руководителем. Итак, прощайте! И да хранит вас Бог!..
Викки вынула из сумочки платочек (видимо, условный знак), приложила его на секунду к щеке и стала удаляться. Не успел еще развеяться чудесный тонкий аромат парижских духов, как к нам подошел высокий, стройный мужчина в ладно скроенном костюме, богатырь с густой черной бородой "а ля Анри IV", в темных очках в толстой роговой оправе. Весь его вид заставил вспомнить шуточную французскую песенку:
“Quand on conspire, Quand, sans frayeur, On peut dire Conspirateur, Pour tout le monde Il faut avoir Perruque blonde Et collet noir." "Конспирируя, ты знай - И обычай сохраняй: Белый надевай парик, Носи черный воротник!"- Анри Менье! - представился он. Внимательно нас разглядывая, краткими фразами он разъяснил, что именно нам в первую очередь надлежит делать. Предупредил, что видеться мы будем редко, лишь по мере надобности. Но он всегда должен знать, где нас искать. Последнюю, более подробную инструкцию он даст Мишелю, - "старшему группы", - сообщит, как держать с ним связь.
На этот ознакомительный разговор ушло не более трех-четырех минут. Встреча эта оказалась обоюдным знакомством. Утром следующего дня мы побывали на рю Гальера, в какой-то маленькой конторе и предъявили данные нам рекомендации, где указывалось, что мы - "достойны доверия" (подписаны они были незнакомыми нам фамилиями). И мы получили направление в бюро по трудоустройству на Кэ д'Орсей. Прошли медосмотр, подписали несколько разноцветных больших и малых формуляров-анкет, сфотографировались. До отправки в Германию осталось два дня.
* * *
Полные раздумий о нашем неясном будущем, мы прогуливались по бульвару Менильмонтан. На той его стороне - знаменитое кладбище "Пэр Ляшез" со своей Стеной Коммунаров, той, у которой некогда расстреливали бойцов Парижской Коммуны. Нас потянуло к ней. Почему-то перед чем-то неизвестным и тревожным всегда тянет в священную тишину - на кладбище. Вот и она, эта стена Плача, Почета, Памяти. Именно такой была она для меня. Сейчас она - табу! Но и строжайший запрет оккупационных властей не смог воспрепятствовать, чтобы у ее подножия нет-нет да и не появлялись робкие малюсенькие букетики. Мы увидели их, эти бесценные дары людской признательности и памяти. Гвоздики и розы, все - красные, цвета крови, цвета сердца! И никого поблизости, пустынно! А ведь некоторые из букетиков совершенно свежие, - положены, видимо, только что. Правда, когда мы сюда подходили, встретившаяся молодая парочка обратилась к нам с каким-то довольно мудреным вопросом, на который Мишелю пришлось долго отвечать. Не за это ли время успели отсюда уйти те, кто пожелал, чтобы их благоговению не было свидетелей?
Пройдя чуть дальше мы увидели и другое: ряды свежих продолговатых холмиков. Могилы! Они были без крестов, - их заменили короткие колышки с прибитыми к ним дощечками с номерами. На некоторых, рядом с номером карандашом были торопливой рукой нацарапаны имя, фамилия, даты рождения и казни. Мы поняли: здесь похоронены казненные оккупантами. По всей вероятности, хоронили ночью, во время комендантского часа. И все же не удалось расстрелянных предать вечному забвению: неведомыми путями родственникам или друзьям-соратникам удавалось узнавать, под каким номером и где лежит тот, кто отдал свою жизнь за самое дорогое на свете - за свободу и честь Родины. Говорили, что время от времени власти производили "уборку" у безымянных могил, стирались надписи, убирали цветы. Но все равно они вновь, с завидной настойчивостью, появлялись на прежних местах. Видимо, хорошие дела неотделимы от людской памяти.
И стало немножко стыдно за себя: бывало, во мне копошилась мрачная мысль, что, мол, в случае чего, никто не узнает, что был такой человечек, и не помянет добрым словом... Не тщеславие ли это? Ведь мной до сих пор ничего не сделано, во всяком случае - ничего стоящего: пребывание во Франш-Конте оказалось всего лишь отдыхом,- никаких "подвигов", о которых так мечталось...
- Да-а, Сасси, люди помнят и не забывают. И совершенно неважно, если не останется конкретных имен, - в них ли соль? Наши имена, как ты любишь повторять, "брызги жизни". Правы римляне, утверждавшие, что "Nomina sunt odiosa", что не его имя, а сам человек, его дело, во имя которого он жил, - вот, что единственно ценное. И если оно, это дело, останется жить и после тебя, то с ним продолжишь жить и ты. Значит, ты жил правильно, не зря. А всё остальное - "суета сует и всяческая суета!", или, как ты говоришь по-латыни "Vanitas vanitatum et omnia vanitas!" После некоторой паузы, словно отвечая на какую-то свою только что возникшую мысль. Мишель добавил:
- Даже если тебе и не удастся самому дойти до намеченной цели, но ты уверен, что шел к ней правильно и что она будет достигнута твоими последователями, - разве не в этом смысл и радость жизни?
- "Самое дорогое у человека это - жизнь!" - вставил я слова автора из присланной мне бабушкой книжки "Как закалялась сталь".
- Жизнь?! - недоуменно вскинул брови Мишель и с какой-то необъяснимой внезапной злостью окинул меня с ног до головы:
- Ты говоришь, самое дорогое - жизнь? Это что: по-твоему за нее надо цепляться, стараться ее сохранить во что бы то ни стало? Избегать риска? Это же - бояться за свою шкуру! И что же тогда по-твоему: кто здесь лежит? Дураки? Те, кто по-глупому рискнули жизнью, кто отказался спасти ее и не выдал поэтому других?..
Я не узнавал Мишеля: он так расходился, вскипев от негодования, что еле сдерживал себя:
- Нет уж, мон шер, уволь! (словами "мон шер" он обращался ко мне лишь в минуты крайнего мной неудовольствия). Нет, мон шер, ты тут что-то не того... Он стал заикаться, не находя слов и выражений, чтобы выплеснуть на меня всю бурю возмущения. И мне долго пришлось разъяснять ему подлинный смысл мысли Н. Островского. Мишель недоверчиво слушал меня, пока я не закончил почти дословного перевода всей сути этого выражения.
- Если так, то - другое дело! - вымолвил он наконец облегченно: - Так и надо было сразу сказать... А то выхватил какую-то часть фразы, и этим перевернул всё с головы на ноги... Тоже мне - деятель!.. А знаешь ли, что часть одной правды - уже ложь! Часть ее - ничто иное, как однобокое выпячивание, тенденциозное искажение всей истины. А может ли истиной быть ее искажение?
* * *
Набор на курсы шоферов в Париже обернулся для оккупантов неудачей: в Берлин согласилось поехать всего семь человек. И торжественных проводов не было. Четверо были таксистами-профессионалами, пожилыми русскими эмигрантами,- отсутствие бензина лишило их работы. Был и один молодой русский, хорошо говоривший по-немецки, по фамилии Антонов. В пустынном лагере в Берлине-Шпандау несколько дней мы ожидали пополнения. Оно прибыло из Польши, - юноши из Вильно и Кракова. И нас стало сто пятьдесят человек. Сразу же нас переодели в особую черную униформу: кители со стоячим воротником, брюки-галифе, ботинки с обмотками, пилотки-мютце. Выдали и черные шинели. На пилотках - металлические буквы "Sp".
В нашей одежде кто-то признал перекрашенную австрийскую униформу, а ботинки - французской армии. Знак на кокарде обозначал начальные буквы фамилии наследовавшего погибшему в авиакатастрофе министру строительства и обороны Тодту нового министра - Шпеера. Видимо, наша моторизованная колонна и была его первым детищем. Что ж, "Todt ist tot" (Тодт мертв),- как посмеивались его недоброжелатели,- "да здравствует Шпеер!". Образованные Тодтом военнизированные инженерно-строительные части в желтой форме продолжали существовать и дальше, с контингентом исключительно из немцев - инженеров и мастеров.
Взамен наших документов, мы получили "Динст-Бухи" - трудовые книжки с фотографией, служившие одновременно и паспортом. Каждому из нас было выдано по походному сундуку, где мы могли хранить нашу гражданскую одежду и личные вещи. В выданном нам нательном белье был большой процент синтетики. "Специалисты" утверждали, что то была стеклоткань. Очень похоже: оно было очень тяжелым, нисколько не грело, да вдобавок от него часто зудело, будто после ожогов крапивой. Зато легко и быстро стиралось и высыхало, и не нужно было его проглаживать. Старшим были двое фельдфебелей, освобожденные по ранению от фронта.
Начальником колонны был офицер-инженер, тодтовец - в желтой форме, личность высокомерная, всем своим видом показывавшая, что мы для него - низшая раса и внимания недостойны. Лицо его было будто каменное, без признаков каких-либо эмоций. Интересно: был ли он таким же и в своем семейном кругу? А может быть, семья погибла под бомбардировкой? - И это возможно, тогда и судить его нельзя. Впрочем, видели мы его редко: всю работу с нами выполняли его подчиненные. За первые три недели мы поменяли три местожительства: из Шпандау нас перевели в Ораниенбург, а оттуда - в Целлендорф. Всё это время с нами занимались исключительно муштрой (приучали к выполнению военных команд по-немецки), а также и физической тренировкой. По утрам и вечерам мы должны были по часу бегать по двору гуськом и прыгать по-лягушечьи на корточках. Странный "спорт", но он действительно давал надлежащую разминку.
Руководил муштрой и спортом русский, лет сорока пяти, в чине штабс-фельдфебеля, с четырьмя звездочками на погонах. Занимался этим с видимым удовольствием, особенно, если невдалеке проходил начальник колонны или его фельдфебели.. По его выправке можно было без ошибки догадаться, что он чуть ли не потомственный вояка, был, возможно, поручиком или даже капитаном царской армии: офицеры иностранных армий принимались в армию немецкую с обязательным понижением на один-два чина, а то и больше. Как-то вечером, когда во дворе никого не было и, как ему казалось, никто не мог наблюдать, штабс-фельдфебель в одиночку "репетировал" тот маршрут, по которому назавтра собирался прогнать нас. Делал он это своеобразно и непонятно: бежал с вытянутыми вперед руками, осторожно, будто наощупь. И все равно ему не удавалось избегать столкновений со столбами во дворе. Я понял: бедняга был слеповат! Так вот почему он нередко представал перед нами с шишками, ссадинами, а то и с пластырем на лбу! А скрывал свою слепоту, чтобы не лишиться работы. А мы-то думали, что виной - ревность его жены.
Лишь в Целлендорфе начались теоретические занятия по правилам дорожного движения. Для этого нас разбили на группы по 30 человек, и занимались мы в нескольких классах. С материальной частью нас почти не знакомили: ремонт будут осуществлять механики и слесаря - бывшие таксисты. Нам же - "крутить баранку". С нашими русскими мы не сближались - разница в возрасте. А Антонов стал сразу же "переводчиком", и, следовательно, подскочил на полголовы выше нас, став "начальством". Поляки обладали очень бурным характером. Между ними часто возникали ссоры и драки с обоюдными увечьями. Здесь и помогли мои медицинские познания: мы с Мишелем оказывали первую помощь, накладывали повязки и скобки. Это было замечено начальством, и мы были "произведены" в официальные санитары и фельдшера, - нам вручены были медицинские нарукавные знаки-змейки, которые мы тут же и нашили на кителя. Затем нас обоих поместили в отдельную загородку-медпункт, выдали шкаф и аптечный сундук с перевязочным материалом и медикаментами. Знакомый с латынью и правилами выписки рецептов, названиями лекарств, я ходил от аптеки до аптеки и приобретал необходимое, обзаводился особенно спиртом. Разводил его, разливал по мелким флаконам, подкрашивал в различные цвета, наклеивая на флакончики различные этикетки с мистическими для непосвященных названиями: "Tinktura", "Infu-sum", "Solutio" такая-то.. На некоторых флаконах дописывал: "Gift"-"Яд! Для внешнего употребления!"", да еще и череп с костями пририсовывал.
Эти "яды" сблизили нас с обоими фельдфебелями, а также и с некоторыми поляками, "благосклонно" пользовавшимися такими "средствами от зубной или головной боли". На случай, если кто будет проявлять чрезмерное нахальство, у меня были флакончики с чистым спиртом, да еще и настоянном на лютом (гвианском) перце, от которого захватывало дух, лезли на лоб глаза, а слизистая рта горела "ярким пламенем". Роль пожарника в этих случаях играл заранее приготовленный помидор. Наш отдельный медпункт служил и местом для тренировок по морзе, которым Мишель стал уделять особое внимание.
Нельзя сказать, чтобы наша жизнь была полностью казарменной: в свободное от занятий время каждый мог ходить, куда ему вздумается, но обязан был присутствовать на утреннем и вечернем построениях-перекличках, так называемых "рапортах". По радио и в газетах сообщались отнюдь не обнадеживающие нас новости: часто гремели фанфары, возвещая то о взятии Севастополя, то о том, что в Северном Ледовитом океане гитлеровцами уничтожен большой английский конвой "PQ-17" со всеми военными материалами для Советского Союза; что пали Луганск и Ростов-на-Дону; что немцы овладели Майкопским нефтяным районом... Германская подлодка потопила в Средиземном море британский авианосец "Игл", неудачей закончилась попытка англичан высадить десант в Дьеппе (Франция). В районе Калача гитлеровцы форсируют Дон, их горно-стрелковые части поднимаются на Эльбрус, а танковые соединения достигают северных склонов Кавказского хребта у города Моздок... Не зря гитлеровцы загодя учредили свое акционерное общество "Кауказус Нафта А.Г."! Интересно, ищут ли меня его сотрудники, чтобы пополнить свои "кадры"? И опять фанфары: 6-ая немецкая армия подходит к Сталинграду! "Вохеншау", захлебываясь от восторга, рассказывает и показывает улыбающиеся лица своих солдат, черпающих касками волжскую воду. Да-а-а, они - герои: за неполный год протопали от границ СССР до Сталинграда! Чуть ли не до Урала!.. И от таких побед меркнет неудавшаяся попытка немецко-итальянских войск совершить в Африке прорыв у Эль-Аламейна... Фанфары, фанфары... А что будет, "Венн вир фарен геген Энгеланд" ("Если мы двинем на Англию")?.. - Именно с этого лихого марша-песни начинаются сообщения об успехах на фронтах. Неужто они и в самом деле в Англию наметили?!
* * *
С первого дня моего приезда в Берлин, несмотря на полученный строжайший запрет, по которому я обязан был "оборвать и не возобновлять прежних связей", всё более и более стало меня обуревать желание навестить "Асканию": хотелось посмотреть, что там, как там, узнать о Бошко и других друзьях, нет ли более точных сведений о родителях, чем закончилась задуманная Максом диверсия... Заикнулся об этом Мишелю, но получил от него такой разнос, что и сам был не рад. Но желание... желания от этого отнюдь не убавилось, - оно разгорелось еще больше. Не мой ли характер делать всё назло тому виной? Что ж, придется побывать там втайне от друга...
* * *
На практические занятия по вождению нас переселили еще раз - в Кёпенник, на юго-восток Берлина. Мы сели за руль десятитонных грузовиков "МАН". Вскоре с инструктором я стал ездить по Берлину, по Унтер-ден-Линдену. Несколько раз проезжал под Бранденбургскими Воротами, даже задел одну колонну бортом, за что получил отменный нагоняй взбешенного инструктора. Близился день экзаменов, получения водительских прав - "Фюрершайнов". А затем... затем нас куда-то отправят. Надо торопиться, и я рискнул пойти на нарушение запрета.
В воскресенье я подходил к лагерю в Мариендорфе. Как здесь всё изменилось! Я не узнал пустыря, на котором раньше одиноко стояло два барака: сейчас на нем раскинулся огромный лагерь! Перед его воротами я повстречал одного югослава. То, что это именно югослав, я понял по характерному очертанию его лица и по манере носить одежду. Долго пришлось ему объяснять, что означает моя униформа, что я - не солдат. Наконец мы вошли с ним в лагерь через проходную. В бараке югославов тоже пришлось рассеивать их недоверие. Лишь после этого ко мне подошел скрывавшийся до того от моих глаз старый знакомый Йоца. От него я узнал, что Бошко решил не возвращаться, но просил мне передать, что прежние сведения о моих родных были верны. Как-то стало не до дальнейших расспросов... Но тут Йоца показал на соседние, отдельно огороженные забором из высокой колючей проволоки, два барака с малюсеньким двориком между ними. В них содержались 12 - 15-илетние девчонки и мальчишки из Советского Союза,- "ОСТ"-овские "рабочие.". Ну какими они могут быть рабочими? Какая жуткая теснота!
Через высокую сетку из колючей проволоки на нас с мольбой глядели изможденные грязные мордашки этих оборвышей... - Настоящий концлагерь!.. Гоняют их на самую грязную и тяжелую работу! - сказал Йоца: - Бьют за малейшее... Помогаем, чем можем, но с опаской... - Почему с опаской? - Понимаешь ли, их, бедняг, так терроризируют, что некоторые не выдерживают: надеются доносами на товарищей улучшить своё положение. Доносят и на нас... "Какая ерунда!" - не поверил я. Но чем им помочь?
- Ребята, может вам чего надо? - спросил я через проволоку, вызвав у Йоцы удивление: он не знал, что я владею русским. - Хлеб!.. Кусочек карандаша!.. Иголку, ниток!.. А кто вы такой? Эмигрант?.. Откуда знаете русский?.. Мыла!.. Что это за форма?.. - посыпались просьбы, заказы, вопросы. Естественно, при мне не было ничего из того, что они просили. Пообещал привезти на следующее воскресенье, примерно к одиннадцати часам, или чуть раньше. На мою не совсем удачную, вернее глупую, просьбу спеть что-нибудь русское или украинское, мне ответили, что нельзя, - за это их бьют! Странно!.. У забора стояло всего несколько парней, очевидно, из более храбрых. А весь двор был полон: кто стирал белье, кто его развешивал, а кто просто лежал - загорал и совершенно не интересовался разговором с нами. Скорей всего, чтобы не навлечь на себя непрошенной беды... До чего же они напуганы!
В назначенный день с утра была гроза с ливнем, и я подъехал к лагерю не к одиннадцати, как обещал, а к трем часам после обеда. Только думал свернуть в переулок, где была проходная, как услышал окрик: - Ацо, стой!.. Нельзя!.. - остановил меня запыхавшийся Йоца. Поздно: я увидел, что вахтер успел меня заметить и быстро скрылся в своей каморке, чтобы, видимо, куда-то позвонить. - Как хорошо, что я тебя дождался!. Только час назад отсюда уехала гестаповская машина... Ждали тебя! Тут к остановке подъехал автобус, и мы с Йоцей вскочили в него. Югослав наскоро рассказал, что о беседе "человека в немецкой форме" сообщили в гестапо, оттуда приехали, стали избивать ребят и те сообщили о дне и часе обещанного мной визита. Ждали, - не дождались! Ливень спас меня! На следующей остановке мы пересели на обратный автобус, и заметили, как мимо, вдогонку тому, с которого мы только что пересели, пронеслась черная машина. Еще одна пересадка на трамвай, и я в Темпельгофе благополучно спустился в "U-Bahn" (метро). Перед тем сверток с "передачей" для ребят я передал Йоце...
- Куда ты запропастился? - накинулся на меня Мишель: - Нас ждут в Ораниенбурге. Прибыла новая партия французов, есть посылка для нас... В Ораниенбурге, среди нового контингента, было и двое югославов. Пока я с ними разговаривал,- землякам всегда есть о чем поговорить,- Мишель вернулся с двумя переданными ему из Франции коробками. Что в них? От кого? Очень уж тяжеленные! На мои вопросы Мишель никакого путного ответа не дал, и я должен был тащить один из грузов до самого Кёпенника. А там, на следующий день, пришлось заниматься переоборудованием нашей походной аптечки-сундука. Соорудили внутри верхний быстро и легко съемный этаж. Таким образом, в сундук можно было поместить не только медикаменты, инструменты и перевязочный материал (на верхнем - съемном этаже), но и полученное из Франции - на дне.
* * *
После встречи с земляками в Мариендорфе и Ораниенбурге, на меня напала какая-то апатия. Зачем мне эта школа, эта чуждая для меня униформа? Я почувствовал себя изгоем, чуть ли не предателем. Этому особенно способствовала встреча с первыми, увиденными мною, ОСТ-овцами, их расспросы. "Надо!" - Мало ли что надо! А для чего?..
Наконец сданы экзамены, получены "фюрершайны": в них было указано, что мы имеем право водить транспорт до 21-го метра длиной, то есть с двумя прицепами. Скоро нас отправят. Куда? И вот, нам выдают сухой паек: батон хлеба в целлофане, консервы - на двое суток. Когда я с хлеба снял упаковку, на нем оказалась оттиснутой дата - "1934"! Значит, выпечен восемь лет назад, а будто позавчерашний! Умеют, черти, хранить! С приходом Гитлера к власти, Германия стала заготавливать запасы на войну. Не зря был выдвинут лозунг: "Пушки вместо масла!". И о хлебе не забыли,- заготовили впрок!..
Отправили нас не грузы возить, а в Рейнскую область, к Майнцу: к виноградарям, им в помощь! Что за неразбериха у немцев? Разве для того нас учили?
* * *
Село Костхайм, на правом возвышенном берегу Рейна, у устья реки Майн, напротив города Майнц. Разместили нас в каком-то строении, похожем на бывший большой склад. С местным населением у нас сразу же установились дружеские отношения: мы с охотой помогали виноградарям в сборке урожая, а им наша задорная юношеская активность пришлась по душе. Труд, если он по душе, - что может быть приятней и радостней? Ни виноградарям, ни нам не нужна была никакая война: знай, работай себе спокойно, обрабатывай землю, собирай плоды своего труда и благодарности природы - отменный, вкусный, сочный и сладкий урожай - дар солнца! И в нашем совместном труде не было ни врагов, ни чужеземцев: все мы были одинаковыми трудягами. Делить что-либо и из-за этого ссориться - нам было незачем... Казалось, что и сама война нас абсолютно не касается...
По вечерам и выходным мы с наслаждением плескались в теплых чистых водах Майна. Там познакомились и подружились с веселой ватагой местных девушек. Мишель особенно увлекся (а может и наоборот, - она им увлеклась?) жизнерадостной Ирмгард: высокая, стройная и гибкая, как лоза, с побронзовевшей на солнце упругой кожей, Ирма, как мы ее звали, была настоящей богиней красоты. Во всяком случае, в наших глазах! Ну и везет же Мишелю! И вообще, надо сказать, приветливый рейнский народ оставил самые хорошие воспоминания.
Понравился нам и сам Майнц, - не чета скучному и угрюмому Берлину! В самом центре его находился комплекс каких-то строений со стеклянным покрытием, огороженный каменным забором. Не цеха ли это какого-то завода? Мишель оказался более осведомленным: - Нет. Это - склады военных материалов и инструментов из хром-ванадиевого сплава. Очень дорогой сплав. А дня два тому назад сюда сгрузили около двухсот новых авиадвигателей... Откуда ему всё это известно? Я знал только, что поблизости, в Рюссельхайме, находится завод "Опель", а он... Впрочем, старший на то и старший, чтобы знать больше. Однако, я заметил, что Мишель не на шутку занервничал.
Но... прервемся немного: настало время объяснить, что именно было в тех двух коробках, переданных Мишелю в Ораниенбурге. В них было три ящика, каждый размером в большой кирпич. Один - радиопередатчик с манипулятором-ключом, второй - приемник с мотком многожильной медной проволоки - антенной, третий - аккумулятор-батарея. В Париже, получив наше сообщение, что на границе в Аахене немецкие таможенники не производят досмотра багажа вольнонаемных-"добровольцев", руководство посчитало необходимым заблаговременно снабдить нас этой приемо-передаточной аппаратурой, изготовленной по последнему слову техники. Ранее радисты вынуждены были пользоваться тяжеленными чемоданами, где и был смонтирован весь такой агрегат. Поэтому, как я уже упомянул, мы и переоборудовали наш сундук-аптеку: все три ящика удобно разместились на дне, под съемным этажом с медпринадлежностями. Данные о времени выхода в эфир Мишелю были известны.
Стало ясно, что не зря нам приходилось обучаться во Вьё-Шармоне работе на ключе. Сообщение о складе с авиадвигателями в Майнце Мишель посчитал необходимым срочно передать в Центр, а через несколько дней получил оттуда соответствующие указания.
По ночам, под предлогом "рандеву" с девушками многие поляки из нашей колонны отлучались из спальни. Отлучались и мы, неся с собой "подарки". Примерно в двух километрах от Костхайма, на вершине холма, росло могучее развесистое дерево, с вершины которого отлично обозревался весь Майнц. Оно и явилось нашим наблюдательным пунктом. Нам было поручено корректировать намечавшуюся бомбардировку склада и сообщить о ее результатах. Около одиннадцати часов ночи. Небо затянулось тучами, - непредвиденная помеха! Нехотя шагал я за Мишелем, неся два ящика. Думал: бесполезная затея, - какая может быть бомбардировка при отсутствии видимости сквозь тучи? С концом антенны я взлез почти до вершины дерева. Мишель - подо мной, на земле, у соединенных штеккерами ящиков. Как можно корректировать, когда такая темень, Майнц затемнен и его почти не видно? Раздалось завывание предварительной, а сразу за ней - полной тревоги. Значит, англо-америкацы всё же прорвались! Сумасшедшие летчики! Натужно гудят в небе тяжело груженные самолеты, приближаются...Уже закружили над головой... Сквозь тучи стали опускаться осветительные ракеты на парашютах. Город осветился ярким светом: всё произошло так быстро, что искусственный туман не успел его накрыть. Видимо, и сами немцы не ожидали налета. Это неплохо. Нам-то сейчас всё прекрасно видно, а как там, за тучами? Я задрал голову, и мое внимание привлекли странные хлопки: в тучах - несколько сквозных круглых отверстий! Вот вверху раздалось еще несколько хлопков, и там, где они прозвучали, тучи, будто сильным взрывом, разлетелись в стороны, а через образовавшиеся в них дыры-окна засверкали звезды. Вот это - да! До чего додумались химия и техника! Мишель принял позывные, ответил своими. Засвистели бомбы. Впиваемся в то место, где склад, Над ним взметнулись языки пламени, почти сразу же доносится грохот взрывов. Мо-лод-цы! Прямое попадание с первого же разу! Мишель в восторге шлет в эфир: "О-кэй!", и сразу же засвистели серии за сериями, сброшены карандаши-зажигалки. Но что это? - Бомбы свистят над самой головой! "О-ой, братцы! Что вы делаете? - Не туда!" - только и успел я подумать, как меня словно щепку, сдуло с дерева. Мишеля несколько раз перекувыркнуло. К счастью, ни один осколок нас не задел. Зато мы порядком ощутили, как больно могут бить и царапать комки взбесившейся земли! Когда очухались, Мишель кинулся к рации: ящики перевернуты, но будто целы, лишь один штеккер выдернуло. Вставил его обратно в гнездо, в эфир послал двойной знак вопроса: "В чем дело?". Переключился на прием, слышит: "Ха-ха-ха!". При чем тут смех? Не поняли, что ли? Хотел переключиться на передачу, но тут послышался стрекот продолжения: - Подбиты. Пришлось опорожниться. Если на ваши головы, ЭМ СВП. По морзе эти сокращенки обозначают: "ЭМ" - извините, "СВП" - пожалуйста. Мы потом долго хохотали, вспоминая этот ответ.{32}
На следующее утро нас повели в Майнц спасать, что можно было спасти. На месте бывших складских ангаров - одни дымящиеся развалины, скрученные и оплавленные швеллера, двутавровые балки перекрытий... Дышало жаром. Мишель дернул меня за рукав, показывая на стену соседнего четырехэтажного здания. Крышу с него сдуло, зияли пустые оконные проемы, стена была в трещинах... Но что это в ней за прыщ? - Почти на высоте третьего этажа в нее вдавился остов чего-то металлического! Присмотрелся: так это же покореженный авиамотор! Ну и бабахнуло! Такую махину, да на такую высоту! В еще худшем состоянии были на пожарище останки других моторов, повсюду разлетелись обгоревшие и полуоплавленные слесарные инструменты... Мы осторожно, чтобы не обжечься, стали их собирать клещами на одну кучу... - Метко сработали! - удивился я: - В центре города, а жилые здания почти все целы! - Специалисты!
Возвращались поздно вечером, уставшие, грязные, провонявшиеся копотью. И тут в моей голове мелькнула мысль: а ведь оба мы были на краю гибели, на волосок от смерти! Украдкой глянул на Мишеля: как он себя чувствует? Он шел как ни в чем не бывало. Может, чуть сосредоточенней, чем обычно. Казалось, он погрузился в какие-то свои сокровенные мысли, витает где-то далеко. А может, и он думает о нашем чудесном спасении, о нашей дружбе, которая, еще чуть-чуть, и прекратилась бы навеки?.. И тут мне послышалось, что он мурлычет какую-то песенку. Да, то была песня, которую нередко напевал наш бывший командир. Безотрадная, вместе с тем гордая песня бедняка-отверженного. И она, эта песня нашего командира капитана Анри, раскрылась мне во всем ее сентиментальном значении и величии, заострила во мне понятие Родины для человека, о долге его перед ней. Родина - превыше всех благ, единственная ценность:
On m'appelle l'homme aux guenilles Je suis sans foyer, sans famille Tous mes concitoyens Me traitent comme un chien Mais, bon Dieu, vous pouvez me pendre Un Français ne saurait se vendre Car j'ai beau n'être qu'un vaurien Ma patrie c'est mon bien. Меня дразнят "паршивцем в рубище", Я одинок, ничем не богат. Для всех я - бездельник-бедняк, Но Франция мне - превыше всех благ!Могучее слово, еще могущественнее понятие - Родина! Да вот, бывает, что, как подметил русский народ: "Что имеем - не храним. А потерявши - плачем!"
* * *
Дней через пять начальство получило телеграмму: "Всех вернуть на базу!", и мы вернулись в Кёпенник. Еще через трое суток мы уже были в Париже, где должны были получить грузовики, но... застряли там более, чем на полторы недели: из 1500 машин, заказанных оккупантами, 1200 оказалось с недоработками или с явным браком. Вот, оказывается, почему, мы побывали на уборке винограда! Но и сейчас брак полностью не был устранен, пришлось ждать. Молодцы, французы! На час, на день застопорить военные поставки, - много значит и многое решает во фронтовой обстановке. А тут - чуть ли не два месяца!!! Первым, грузовик "Матфорд" под номером "WH-4800" получил Мишель. В моем протекал бензобак, были неполадки в коробке скоростей. "До ума" довели все требовавшиеся нам 150 машин лишь через несколько дней.
Глава 10. БЫТЬ НАЧЕКУ: "КОШЕЧКА"!
Париж обдал нас новостями, словно струями обильного душа. А струи эти были разные: и ледяные и ошпаривающие кипятком. Одна из новостей взволновала больше всего: слух о некой могучей и таинственной организации "Combat" ("Борьба"), начавшей противоборствовать оккупантам. Состоит она, якобы, из шестерок - первичных ячеек. Пять шестерок составляют тридцатку. Руководители шестерок знают лишь руководителя тридцатки. И многие диверсии, акты саботажа приписывали этой "Комба". Поговаривали, что, мол, организация эта сумела снарядить в горах Высокие Савои целую, хорошо оснащенную армию "А.С" (Армэ секрет). Другие говорили, что армия эта сброшена на парашютах. И законспирирована-де организация так, что до нее не добраться ни абверу, ни гестапо, ни вишистам... Естественно, в первую же встречу с Анри Менье мы задали вопрос об этой "Комба". Но он и сам, как оказалось, пригласил нас, чтобы проинформировать: - Дабы вы извлекли соответствующие уроки!
* * *
...Итак, "Комба" действительно существовала и развивалась, но слухи о ней, как и подобает слухам, несколько утрированы. Она вербовала в свои ряды членов из числа офицеров. Группировала их, занималась агитацией, сбором информации об оккупантах, готовила ударные отряды для восстания. Конспирация была отличной. Действовала эта организация, в основном, в Южной зоне (не в Париже). Там были созданы ее территориальные ветви, куда входило по несколько департаментов. Соответственно территориям-регионам, было их шесть: R-1, R-2... R-6. Возглавлял "Комба" кадровый офицер, скрывавшийся под многими фамилиями: Жерве, Молен, Франсан...
Коллаборационистское правительство в Виши продолжало сотрудничать с оккупантами. Вишисты во главе с маршалом Петеном, вместе с их министром внутренних дел Пюше, бросились было ловить руководителя "Комба", которым оказался Анри Френей. Но схватить "неуловимого Френея" было непросто. Тут до агентов Пюше дошли сведения, что Френей, якобы, встречался с самим "Максом", он же "Рекс" - с Жаном Муленом, полномочным представителем генерала Де Голля на территории Франции. Уже давно круги вишистов раздирало двойственное положение: кто знает, как повернет судьба? Официально они с оккупантами. Но ведь жизнь не стоит на месте. Рано или поздно, победитель перестанет им быть. Как тогда? Не останутся ли они один на один с народными массами? Тщетно стремятся оккупанты сделать из Франции страну-друга. Нет, не получается: она, как стала, так и осталась страной покоренной. И в этом всё дело, вся разница. К кругам, раздираемым противоречиями, относился и Пюше. Он знал, что имя генерала Де Голля - знамя на баррикаде - и собирало всех, кто решил бороться. Разве можно сказать такое о главе правительства - Петене? Да, Пюше служит ему. Но разве не он сам называет маршала так же, как и многие, - "старым перд..ом", а то и просто "Шлюхой" (пютен). Да-а-а, очень уж у Пюше зыбкое положение. Он уже многих голлистов арестовал. А глава правительства приговорил к расстрелу самого Де Голля. Заочно, конечно. Но он, Пюше, не стремится арестовать "Макса": тот тоже умеет скрываться, умеет работать! Разве трудно будет потом заявить, что-де он и не думал лишать его свободы? А вот Френея он ищет. Агенты с ног сбились. Но и Френей не лыком шит. Плюс, у него козырь: сам "Макс" с ним якшается! Надо бы, ох, как надо бы повстречаться с этим неуловимым соперником, потолковать с ним по душам, прощупать почву на будущее, а может, и заручиться поддержкой!
Видимо, так рассуждал Пюше, когда дал указание генеральному директору по национальной безопасности, майору Роллану, освободить арестованную им Берти Альбрехт, руководительницу одной из ветвей "Комба". Ей и поручают связаться с ее шефом Френеем, передать ему просьбу о встрече. Безопасность ему гарантируется. Первым условием при встрече, Френей ставит освобождение некоторых его товарищей. Пюше не возражает, и вскоре ряд лиц по списку Френея выпущен на свободу. Но Пюше тут же распространяет слух о "сговоре Френей-Пюше". Узнав об этом, взбешенный Френей прерывает начавшийся диалог. Поздно! Зерна недоверия посеяны в рядах Сопротивления, и авторитет Френея порядком подорван. Так обошлись Френею его политическая недальновидность и неискушенность в хитростях закулисной дипломатии...
Еще поучительней были события, зародившиеся в Тулузе, где была создана польская разведсеть под названием "F-2" ("фамий"- землячество, семья). Во главе организации стояли бывшие польские офицеры военной разведки, майоры: Зарембский, под кличкой "Тюдор", Словиковский -"Птах" и Чернявский -"Арман". Они сгруппировали вокруг себя единомышленников, не только из земляков, но и из французов, и создали основной костяк разведсети в тесном контакте с британскими секретными службами. Арман оказался толковым и способным организатором. Разведсеть "F-2" быстро набрала силы и стала разрастаться. Вместе со своей помощницей - брюнеткой Матильдой Карэ, по кличке "La Chatte"("Шатт"-"Кошечка"),- Арман перебирается в Париж, где еще больше расширяет свою организацию. Подумывает и о создании отдельных ветвей в Бельгии и даже в самой Германии. Но ему необходима знающая переводчица, и он приглашает свою старую знакомую - молодую блондинку-вдову, Рене Борни из Люневилля, города в "Запретной зоне" ("Через который мы проходили в сентябре 41-го!" - подумал я).
Лондон в восторге от активности разведсети, которая теперь носит название "Интераллье". Но тут произошла катастрофа. В сентябре 1941 года 3-ий Отдел абвера Сен-Жермен (немецкой контрразведки) напал на след, приведший его в итоге к "Интераллье". Как это произошло? На одной базе грузчик, работавший на складе горючего, выпивая с немецким ефрейтором, проговорился, что его расспрашивали о размещении немецких военных объектов, о противовоздушной обороне города и окрестностей, о самом складе. Этот разговор дошел до абвера, и на место происшествия отправился капитан Боршер с унтерофицером Гуго Блейхером, хорошо владевшим французским языком. Грузчика арестовали. Через него вышли на связного - бывшего офицера французской авиации Рауля Кифера, по кличке "Кики", шефа отдела сети Армана. При нем нашли данные о немецких объектах, зашифрованные донесения. Кики отправили в Париж, в ставку абвера Сен Жермен, где добились признания, в результате чего в Бретани и Нормандии было схвачено более двадцати человек - членов сети "Интераллье". Кифер не знал адресов Армана и Кошечки. Но, под наблюдением абверовцев, в парижском кафе "Ля Палетт" он вошел в контакт со связным Армана - Кристианом. Арестованный Кристиан ни в чем не признался. Тогда в его камеру подсадили Кифера, схваченного, якобы, только-что. Кристиан доверчиво открыл "товарищу" адрес шефа.
Ничего не подозревавшее руководство "Интераллье" справляло свой юбилей - годовщину существования. Организовали по этому поводу маленькое торжество. Из Лондона получили поздравление: "С днем рождения - всю семью!". Горестным оказалось пробуждение: утром все были окружены. Арестовали почти всех. Но у абверовцев вышла накладка: они вначале стали стучать не в тот номер виллы, где происходило торжество, и двоим, услышавшим шум, удалось бежать со второго этажа по связанным простыням. На вилле была оставлена засада, в которую первой угодила Кошечка, ночевавшая у подруги.
Решив во что бы то ни стало уничтожить всю сеть, Блейхер пытался склонить Армана к сотрудничеству, но, хотя тот и признался, что да, он является польским офицером и активно сотрудничал с британскими службами, добиться от него большего так и не смогли. Теперь у Блейхера вся надежда осталась на Кошечку. Красочно описав все неудобства тюремной камеры, абверовец предложил ей взамен комнату "во дворце", где и провел с ней приятную ночь. А на утро... что ж, на утро надо работать! Матильда Карэ вместе с Гуго колесит по Парижу. В кафе "Пам-Пам", что на площади Опера, Кошечка показала членов сети, с которыми имела встречи. Дала и адреса тех, кого знала. Затем она заходила на квартиры жертв, или же появлялась в условленных местах встречи, после чего абверовцы делали своё дело. Петля затягивалась над последними членами сети...
Однако, узнав о крупном провале, они подняли тревогу и прервали все связи. Блейхеру же не терпелось. Одному из арестованных, переметнувшемуся на сторону абвера, он поручил распространить слух, что, мол, тревога поднята напрасно и что Кошечка на свободе. Так удалось арестовать еще несколько человек.
Не удовлетворившись этой, весьма успешной операцией, Блейхер, которому представился случай доказать, что сержант стоит большего, чем некоторые его руководители, придумал поистине дьявольский план. Захватив на вилле, где был арестован Арман, пять передатчиков, Гуго решил заняться радиоигрой с Лондоном. Разместившись на вилле в непосредственной близи от штаба абвера, он бросился на поиски "пианиста" (радиста) со знакомым англичанам "почерком". Кошечка помогла и тут: вспомнила о радисте, с которым некогда рассорился Арман. Это "Марсель". И тот, увы! стал работать на абвер. В Лондон сообщено, что Арман действительно арестован, но что сетью, мол, руководит теперь Кошечка, именуясь отныне "Виктуар".
Так началась радиоигра. Незадолго перед тем, на парашюте приземлился резидент разведки Пьер Вомекур, под кличкой "Лукас". Но "пианист", с которым он прыгал, был тут же схвачен. Лукас, оставшись таким образом без связи с Центром, не зная о крахе "Интераллье", связался с Кошечкой-Виктуар, дал ей свои шифровки на собственном специальном коде. В Лондоне удивились: передавать донесения по каналам чужой сети категорически воспрещалось! Но код Лукаса рассеял подозрения, и в Центре согласились, что, пожалуй, и действительно иного выхода у Вомекура не было. Связь продолжилась. Спустя некоторое время, Вомекур засомневался, вкралось подозрение: о дне прибытия самолета из Лондона Кошечка сообщила ему слишком поздно. Затем как-то похвалилась, что отослала своему польскому центру детальные сведения о противовоздушной обороне Сен-Назера. Лукас тут же тайно отправил в Нант (примерно в сорока километрах от этого города) своего человека. Вернувшись, тот сообщил, что гитлеровцы только что предприняли ряд предосторожностей и передислокаций. И последнее, что укрепило подозрения: всего лишь за два дня Кошечка-Виктуар раздобыла ему документы для перехода через демаркационную зону в Южную (Неоккупированную). А таких надежных - Лукас в том толк знал - он еще не видывал! И он заподозрил неладное.
Вместе с адъютантом он схватил Матильду Карэ и допросил. Припертая к стене, Кошечка призналась во всем: она и несколько человек из псевдо-Интераллье действительно работают на абвер, что старая сеть уничтожена и заменена этой, фальшивой, а "месье Жан" является сотрудником абвера Блейхером. У Вомекура возникает план разыграть немецкую контрразведку, используя ее же метод.
Матильда, рыдая от благодарности, что ее оставили в живых, согласилась войти в игру. В Лондон отправлено сообщение о предательстве и двойной игре Кошечки-Виктуар, а также и о придуманном плане. Скрытно, Вомекур показывает Матильду своему брату, - пусть знает, кого необходимо ликвидировать в случае надобности. Предостерег он и саму Кошечку: обо всем, что она отныне предпримет, будет знать Лондон. И ей было дано задание убедить Блейхера в необходимости отъезда Лукаса в Лондон, чтобы он, якобы, превознес там заслуги мнимой сети Интераллье, разведданные которой приобретали всё более и более весомый характер. Так и началась контригра. Вомекур регулярно встречался с Кошечкой, а та - ежедневно с Блейхером. Одновременно, Вомекур и его адъютанты постарались изолировать собственную сеть "Автожиро".
Одиннадцатого февраля 1942 г. было получено сообщение, что быстроходный катер прийдет на следующий день. План отъезда Вомекура и Кошечки был одобрен всеми гитлеровскими инстанциями: абвером, гестапо и высшим военным командованием оккупационных сил. Были даны инструкции всем береговым охранным службам - не чинить никаких препятствий! Думается, попросил бы Лукас эскорт мессершмитов, и его бы ему дали! Но в ту ночь разразился шторм, резиновые лодки с британского катера, на которых готовились отчалить Лукас, Матильда и другие, перевернулись. Неудачливые путешественники, чуть не захлебнувшись, еле выбрались на берег. С трудом успокаивали они впавшую в истерику Кошечку: у нее утонул чемодан и испорчена была новая меховая шубка! В половине четвертого утра, не имея больше права подвергать себя опасности, английский катер умчался, оставив всех на берегу. Лишь с третьей попытки, Лукас и Кошечка оказались на борту катера, где, с пистолетом в руке, Матильду ждал майор Баддингтон, помощник начальника отдела "Френч Секшен", - полковника Бакмастера. Так, под контролем и при содействии абвера, эта "Мата Хари Второй мировой войны" была в конце концов обезврежена и препровождена в английскую тюрьму Эйлсберри. {33}
- Обо всех этих печальных событиях, - закончил Анри Менье, - чтобы всем впредь быть начеку и соблюдать бдительность, были проинформированы все наши подпольные организации. Рассказывая вам об этих историях, хочу, чтобы вы знали, какие вас подстерегают опасности. Тем более, что вы будете в местах, где всё начиналось и кончалось. Готовы ли вы подвергнуть себя опасности? Готовы ли, в случае провала и ареста, вынести все допросы и пытки? Мы молча шагали по аллеям Булоньского леса. Осень входила в свои права. Неповторимую окраску принимали отмиравшие листья. Чудесны осенние цвета! Как прекрасна природа, как прекрасна жизнь! Опавшая листва грустно шуршала под нашими ногами. Не по ушедшей ли безвозвратно жизни скорбела она?
- Что же стало с Арманом? Замучали до смерти? - Могу вас порадовать, - ответил Менье, - ему недавно удалось бежать. Через Гибралтар он достиг Англии и теперь находится в Лондоне. На этом мы распрощались с Менье. - Сасси, я бы не поверил ему... Слишком уж похоже на кино! Если бы... если бы не знал о нем побольше. - А что именно? - Он уже попался раз. Крупно. Сумел бежать, заочно приговорен к расстрелу. За его голову - огромная сумма. Я сам читал... Основная его резиденция - в Лионе...
* * *
...Как теперь, вот здесь, в этом морозильнике, я жалел, что рассказ нашего руководителя мы с Мишелем все-таки восприняли более как приключенческую повесть, мало нас касающуюся, чем как строгое и серьезное предупреждение! Впрочем, всё равно я вряд ли бы избежал ареста, настолько он оказался неожиданным...
Глава 11. ГРУППА "БРЕТАНЬ"
Уже несколько дней как мы в Париже. Нас всё подмывало пройтись по знакомой улочке, где жила Мари Златковски, подняться к ней на второй этаж. Еще более хотелось повидаться с Ренэ. Но - конспирация! Мари была нам важнее: хотелось узнать о Викки, Кристиане, Марселе. Кроме того, было бы неплохо оставить у нее нашу гражданскую одежду. Решили почаще прохаживаться по рю Кастаняри, - а вдруг повезет? Повезло Мишелю. К его униформе, как ни странно, Мари отнеслась удивительно равнодушно, будто была в курсе. Назначила нам встречу. Мы принесли ей нашу одежду. Узнали, что со всеми нашими друзьями всё в порядке, живы и работают. А сам Кристиан Зервос пожелал увидеться с нами, и мы тут же поспешили в метро. Опять тот же бульвар Менильмонтан. Какое красивое название!
Ménilmontant mais oui madame C'est là que j'ai laissé mon cœur C'est là que je viens retrouver mon âme Toute ma flamme Tout mon bonheur…(Менильмонтан! О да, мадам, - Своё я сердце оставил там!..) - любили мы напевать с Мишелем, когда с Ренэ танцевали это замечательное танго или что-то вроде знаменитого шансонье Шарля Тренэ... Кристиан прохаживался у входа на кладбище Пер Ляшез. Мы пошли следом. Радость: к нам присоединился и наш друг Марсель - "Житан". Так и хотелось стиснуть его в объятиях, - жив! Но пришлось сдержаться: показалось бы крайне странным, что два "боша" обнимают француза!
Узнали горестную новость: в Берлине раскрыта и арестована организация антифашистов, которую гестаповцы прозвали "Роте Капелле" (по-французски - "Оркестр руж"). Многие уже казнены... - Но, - пояснил Кристиан, - это лишь обособленная ветвь большой разведсети, которая и дальше продолжает свою работу... Кажется, и наши бывшие шефы с Темпельгофа, с "Асканиа", с "АЭГ" - все схвачены.. Бедный Макс! То был поистине настоящий человек! {34}
Успешно стали действовать макизары во Франш-Конте: напали на отряд гитлеровцев и уничтожили при этом более сорока карателей. Там же взорван большой трансформатор, и этим на месяц остановлено несколько заводов Пэжо и Лонжин. Отличился и Марсель: исполнил свою давнюю мечту - бросил бомбу в машину Шаумбурга, который после Штюльпнагеля подписывал смертные приговоры. Бомбы бросил он и в маршировавшие отряды оккупантов: первый раз - на авеню Поля Думера, второй - у площади Наций. В центре Парижа, среди бела дня! Все участники этих операций вернулись без единой царапины. Поистине ювелирная, отлично продуманная работа!
Правда, подобное было не в моем духе, но мы в восторге смотрели на Марселя, поздравляли. Тот смущенно отшучивался. Нацисты меняли тактику террора. Убивали больше, чем раньше, но делали это уже в концлагерях, упразднив оповещения о казнях. Поздно: эхо злодейских расстрелов подняло в сердцах справедливый гнев и еще более заострило давно, как я уже отмечал, возникший вопрос: "Не я ли на очереди?".
Зервос показал листок "Либерасьон" от 18 сентября этого года. Мы прочли: "Французы! Когда в эти дни, тайком приникнув к вашим радиоприемникам, вы услышите скупые слова: "Сталинград всё еще держится!", вдумайтесь: сколько в них кроется героизма, страданий и надежды!.." Подполье Франции ждало коренного перелома под Сталинградом и всеми силами стремилось его приблизить. Нам стало более ясным, что предстоит важная работа против оккупантов, - нас готовят к сбору информации. Мы - лишь одна пара из множества других таких же.
- За это, - подчеркнул Кристиан, - англичане будут поставлять нам оружие и взрывчатку. А это крайне необходимо для усиления активной борьбы. Нам надо оттянуть на себя побольше гитлеровских сил... Нам предстояло создать разведсеть и вербовать в нее патриотов.
- Держите связь с Мари! - бросил Кристиан на прощанье: - "Париж-XV, до востребования"... Здесь вторично раздался свист, будто подзывают собаку, и Зервос с Марселем поспешно ретировались. Когда мы выходили, то увидели цепь полицейских, прочесывавших кладбище. На нас, в нашей немецкой форме, они не обратили внимания.
* * *
В огромном автопарке пригорода Венсенн стояли ровные ряды новеньких грузовиков "Матфорд" (на бензине) и газогенераторных "Ситроэн". Но, как я сказал ранее, в предназначенном мне протекал бензобак, был и дефект в коробке передач - шестерни выскакивали из зацепления. Эх ты, неудачливый "WH-4804"! Во многих других тоже были дефекты. "Матфорд" Мишеля "WH-4800", оказался в порядке. Он посадил меня, "безлошадного", в свою кабину и, желая пофорсить, совершил пробег на большой скорости. Машина легкая, верткость - прелесть! И тут неожиданно взвизгнули тормоза, грузовик чуть ли не встал на дыбы как норовистый конь, а я, по инерции, со всего размаху врезался лбом в корпус стеклоочистителя с внутренней стороны лобового стекла. В голове - колокола зазвонили, а в глазах - искры и слезы...
- Ты что, спятил? - накинулся я на друга, готовый его отмолотить. - Не пойму, что за тормоза... Я только хотел их проверить... - Хо-о-тел проверить? Тормоза как тормоза, - злился я: - Пнев-ма-ти-ческие! Мы же учили! Плавно надо было наживать, пла-а-авно! А если бы я глазом? - Гм... тут, наверно, всё рассчитано. - Что рассчитано, болван? Чтобы я стукнулся лбом, а не глазом? Скотина!.. Товарищи-поляки покатывались от хохота, щупая и измеряя мою быстро растущую шишку...
Наконец, через несколько дней, все мы получили свои машины. Части из нас достались все-таки газогенераторные "Ситроэны", а остальным, как и было предвидено, - "матфорды". Кончилось наше бесцельное валандание по Парижу! Колонной в 150 грузовиков мы тронули на запад. Дорога была долгой и нудной, а новоиспеченные шофера - без достаточного опыта. На многих грузовиках появились вмятины, у других исковерканы бамперы. Четыре машины вообще вышли из строя, с ними остались аварийки. А тут, как назло, - беспроглядный, густой туман. Ну и Атлантика! Временами ехали шагом за неясным силуетом шагавшего впереди "направляющего". Приходилось даже так! Сплошная пытка! Штурмфюрер, начальник колонны, впадал в ярость.
Лишь на вторые сутки, проехав города, Шартр, Ле Ман, Анжер и Нант, мы прибыли в Сен-На-зер, почти полностью разбитый бомбардировками. От многих домов остались одни стены, горы развалин. Всюду воронки на воронке, лом, битое стекло, пожарища, смрад... Утром, когда туман рассеялся, на нашу стоянку заявились "тодтовцы" в своих желтых униформах и с шапками-котелками на голове. Каждый из них уселся в кабину рядом с водителем. Мы ехали к устью реки Луары, где на складах загружались мешками с "портланд-цементом", арматурой, досками, другим строительным материалом. - Налево!.. Направо!.. - указывали сопровождавшие, и мы крутили баранки. Проезжали шлагбаумы с охраной, въезжали в запретные зоны, расположенные скрытно, вдали от основных коммуникаций, разгружались на различных строительных площадках.
Ознакомившись с расположением объектов - бетонных дотов, площадок для батарей ПВО, - шоферы стали ездить туда самостоятельно. Теперь настало время приступить к выполнению задания. Но как сделать, чтобы не вызвать подозрений? Однажды, на сложном перекрестке я увидел нескольких местных жителей-бретонцев в их традиционных беретах. Притормозил, спросил: - Месье, как мне проехать в Сен-Марк? Заслышав французскую речь и увидев немецкую форму, бретонцы удивленно переглянулись. Я повторил вопрос. Они пожали плечами, о чем-то посовещались на их не-понятном мне языке и... одновременно каждый молча указал мне руками в разные стороны! Вот это да-а! Это было так неожиданно, что я чуть не прыснул со смеху: очень уж им, видимо, нетерпелось услужить "бошу"! - Куда же все-таки ехать? - А это как вам будет угодно, месье. Вы же здесь хозяин! - с вежливыми улыбками и ничуть не смущаясь ответили они.
Всю дорогу меня корчил смех. И вдруг осенило: я рассказал о случившемся штурм-фюреру. - Эти французские свиньи никогда не укажут нужное направление! - возмутился он. И после этого мы получили рекомендацию приобрести и пользоваться дорожными, очень подробными в те времена, картами "Мишлен". Во всяком случае, они были достаточными для привязывания местности и нанесения на них нужных нам объектов. Одна такая карта была у нас с Мишелем главной, чистовой. После того, как вечером с наших повседневных карт перенесем в нее сделанные днем пометки, мы ее надежно прятали. Затем с рабочих всё стирали. На основной карте с каждым днем появлялось все больше и больше кружочков, квадратиков, треугольничков и других геометрических фигур и цифр рядом с ними. Такими обозначениями отмечались доты, орудия в них, секторы их обстрела, площадки с батареями ПВО, калибры орудий, количество.
Если нас задерживали (что случалось редко) у объектов, где нам попросту нечего было делать, мы оправдывались, что "заплутали", неправильное направление указали нам, якобы, "французские свиньи". Задание не ограничивалось на составлении схемы объектов. У нас потребовали информацию о мобильной технике нашего берегового сектора. У оккупантов была странная, но для нас полезная, страсть - на их технике отмечать-разрисовывать особые значки, как например: прыгающий заяц, олень, туз-треф, рычащий лев, десятка червей и т. д. И не только на отдельных машинах, но и на технике всего полка. Это и помогало: кроме номерных знаков танков и машин, уточнять еще и знак боевого соединения, мехбатальона, а то и корпуса. Таким образом, Центр мог расшифровать, какая именно часть, какое примерно количество техники, какой численный состав дислоцируется в регионе.
Требовались Центру и срочные донесения о прибытии, стоянке на пирсах и отправке в рейд подводных лодок, торпедных катеров, эсминцев. В нашем секторе в основном были подводные лодки. Все они не могли вместиться в бетонное укрытие -"гараж": туда ошвартовывались лишь те, которым требовалась длительная стоянка для ремонта, замены и подзарадки аккумуляторов, исправления повреждений...{35} Остальные же, пришедшие пополнить боеприпасы и загрузиться новыми торпедами, швартовались у внешних пирсов. Вот об этом и требовались регулярные срочные донесения, чтобы бомбардировщикам успеть их атаковать. А это было важно: ведь именно из таких баз и "гаражей" (они были еще в Бресте, Лорьяне, Ля Рошели- Ля Палиссе), с полным боекомплектом, уходили лодки в Атлантику- к берегам Англии, Норвегии, Африки.
Если было достаточно времени для переправки карт и сведений о мобильной наземной технике через Париж, то тут необходима была немедленная связь, то есть по радио. Надо сказать, что в этом месте, подвергавшемся один или два раза в сутки налетам и бомбардировкам, пеленгаторной службы или не было вовсе, или поставлена она была крайне неудовлетворительно. Впрочем, времени, чтобы рыскать по развалинам, успевать из одного квартала руин в другой, чтобы оцепить и захватить радиста, все равно бы не хватило. К тому же эфир здесь был переполнен морзянкой, и всегда краткую.и неожиданную "вражескую" шифровку захватить в клещи было трудновато.
Краткие сообщения на личной волне выглядели примерно так: позывные; после получения отзыва - сообщение по схеме: водоизмещение, количество "SМ" (подлодок), номер пирса, длительность возможной стоянки, номер радиста или его кличка. И всё! За бомбардировщиками оставалось, в случае подходящих метеоусловий, не опоздать, прицельно попасть. Что же касается охоты на сам "гараж", то она была лишена всякого смысла: толщенный железобетонный потолок надежно предохранял базу и всё, что в ней. Говорили, что для пробы была сброшена на базу специальная, в десять тонн, бомба. Она, якобы, даже взорваться не успела - рассыпалась от удара о железобетон, толщиной в одиннадцать метров! Но я не специалист.
А раз база была явно неуязвима, стали бомбить все вокруг нее, разрушая коммуникации, склады и жилье рабочих. Другое дело с "гаражом" в Бордо: в него лодки поднимались по шлюзам. Удалось попасть и разрушить последний шлюз, вода из гаражей мгновенно схлынула, от удара днищами о бетонный пол лодки раскололись. Так это было или не так, - не знаю. Ввиду частых бомбардировок, стоянку нашей колонны вскоре вывели из Сен-Назера и нас переместили в местечко Сент-Андрэ-дез-О. Нам стало легче дышать.
Мы знали, что идентичные задания выполняют и группы других организаций: "Фаланги"- от организации "Ли-Бе-Нор", руководимой Кристианом Пино-"Фрэнсис"-ом (об этом я узнал позже, познакомившись с Пино в Бухенвальде), "Когорты" - от организации под руководством Жана Кавайеса и "Центурии" - от нашей организации "ОСМ". Почему-то вошло в обычай подпольные организации называть древнеримскими военными названиями. Конечно, у нас, шоферов военно-строительной организации "Шпеер", было намного больше преимуществ перед нашими коллегами. Не хотелось ударить перед ними лицом в грязь.
Объем работы нам был поручен очень широкий. Без помощников, в особенности "учетчиков", не обойтись. Назрела необходимость создания ряда автономных групп. Начали с нашей колонны. Мы уже неплохо пригляделись к контингенту поляков. Еще в Берлине Мишель познакомился с некоторыми из них, да и у меня появились неплохие друзья. Этому способствовало и то что я был полуофициальным фельдшером, и к моим услугам обращались все. Кстати, к медицинской работе я, как упоминал, приобщил и Мишеля. Между "медиками" и их "пациентами" всегда устанавливаются теплые отношения. У поляков к немцам не было ни малейших симпатий и, естественно, нетрудно было добиться их помощи. Непосредственно нас знал и перед нами отчитывался только один Янек, боксер-любитель, здоровенный детина с очень покладистым добродушным характером.
Однажды у нас произошла крупная стычка в столовой у тодтовцев. Мы оказались в меньшинстве, - трое против тридцати,- но в самый критический для нас момент Янек так разошелся, что быстро разметал наседавших торговцев, и мы "без потерь" вернулись на базу! Правда, у меня была разбита голова. С тех пор Янеку стало очень лестно чувствовать себя нашим "телохранителем". Он и стал старшим над остальными группами соотечественников. Через него мы передавали им указания и советы, носившие первоначально самый безобидный характер "похулиганить", поиздеваться над фрицами. Янек был проинструктирован, как разрегулировывать карбюраторы, зазоры клапанов... В колонне катастрофически стал увеличиваться расход бензина и из-за того, что масса шоферов, чтобы напакостить "хозяевам", ежедневно сливали некое его количество в песок на обочинах. "Матфорды" стали поглощать горючего, бывшего у немцев на вес золота, намного больше запланированной нормы. Механики с ног сбились, регулируя и перерегулируя узлы питания. Штурмфюрер выходил из себя...
Эмигранты-механики что-то поняли, и полякам пришлось устроить им "предупредительную темную", и мир был налажен: какая им, в конце концов, разница, - не из их же кармана! - "Заводской брак!" - доложили они начальнику колонны и тот увеличил нормы. - "А не лучше ли сэкономленным бензином снабжать местное население?" - намекнули мы Янеку, а тот - дальше по цепочке. Посредниками с населением были, как знающие французский, мы с Мишелем. У поляков интерес к такому невинному саботажу возрос еще больше: через местных фермеров, у которых весенняя страда была на носу, они за горючее получали натурой: сыр камамбер, масло, сметану, вино... Просто хулиганство переросло в экономическую и утробную выгоду.
Проверенные на саботаже переходили к невинному сбору информации - учету военной мобильной техники, а затем и к фиксированию на карте объектов. А условные обозначения мы им подсказывали опять же через Янека, руководителя их групп. Вернувшись с рейса, водитель обменивал свою карту со сделанными в ней пометками на уже чистую. Нам добавилось работы: переносить отметки со всех карт на нашу основную. Да еще необходимо было проверять достоверность и правильность.
* * *
Гитлеровцы торопливо возводили оборону побережья, сооружая свой "Атлантический вал". На улицах Сен-Назера, Нанта, других прибрежных городов были расставлены передвижные ежи из швелеров и колючей проволоки. Над городами высоко в небе парило множество колбас-аэростатов. Доты, противотанковые заграждения. На перекрестках улиц и дорог, спускавшихся к океану, в шахматном порядке в несколько рядов были вырыты колодцы, в них заложены мины. Заправленные, они вновь накрывались крышками: всё было подготовлено, чтобы в нужный момент взорвать коммуникации. Береговые и зенитные батареи и отдельные орудия были чуть ли не на каждом пятом километре друг от друга.
Всего несколько месяцев перед нашим прибытием, английская флотилия во главе со старым броненосцем "Кемпбельтаун", выполнявшим на этот раз роль "брандера" (плавучей мины), прорвалась сюда в устье Луары. Уткнувшись носом в шлюз дока "Жубер", где некогда был построен всемирно известный трансатланический лайнер "Нормандия", броненосец взорвался. Док, предназначенный немцами для стоянки и ремонта мощного крейсера "Тирпиц", был этим выведен из строя, а крейсер лишен своего пристанища.
Наученные горьким опытом, немцы стали судорожно укрепляться. На другую сторону устья, к Сен-Бревену и Пэмбефу, мы не ездили. Наш сектор ограничивался береговой полосой от города Нанта - на востоке до городка Пирьяк-сюрмер - на западе. Отрезок большой, необходимо было привлечь на помощь и местное население. Помог случай. Однажды, на рынке Сен-Назера ажаны (полицейские) схватили мальчишку. - Что натворил этот паршивец? - приняв грозный вид, подошел я к тащившим сопротивлявшегося парня полицейским. Был я в своей черной немецкой форме, на кокарде таинственно поблескивали две незнакомые латинские буквы "Sp" (Speer). Что могли подумать обо мне ажаны? Только сейчас могу об этом догадаться: "Черная форма, как у СС или гестапо, а буквы,- не Сипо ли (Зихерхайтс-Динст - Служба Безопасности)?" По-моему, именно так меня и расценили. - Спекулировал иголками, месье. - подобострастно ответил один из них. - Was? Spe-ku-lation! - возмутился я, придав немецкий акцент: - Мерзавец! Спекуляция преследовалась немцами самым строжайшим образом, вплоть до расстрела. Ажаны переглянулись, ожидая моего решения. - Вот что, я сам отведу его в комендантуру. Чуть что, - пристрелю! Ферштейстду? - обратился я к мальчишке. Струхнувшие ажаны тут же передали мне парня, даже не обратив внимания, что у меня нет кобуры. Лишь два дня назад, подвыпивший офицер застрелил на улице какого-то парня за то, что тот нечаянно его задел. Или самого его качнуло на парня... Естественно, ажаны поспешили ретироваться: мало ли что взбредет на ум оккупанту!
Парень шел смирно, не вырываясь. Решил, наверно, что дело его - труба. На мои вопросы отвечал дрожащим голосом. Я узнал, что ему семнадцать лет, зовут Кристианом Христидисом, живет в Нанте. В семье девять детей в возрасте от четырех до двадцати одного года. Самая старшая - сестра Анна, он же - самый старший из мужчин. Наш разговор, приняв непринужденный тон, успокоил парня. Он понял, что зла я ему не желаю, даже сочувствую. "Почему?" - так и светился вопрос в его глазах. А мне стало ясно, почему этому "самому старшему из мужчин" пришлось заняться рискованным делом - спекуляцией. И я решился: - Послушай, Констан. Я - югослав, а не немец. Видишь: у меня и оружия нет, так как я обычный рабочий - шофер. Паришка недоверчиво зыркнул исподлобья. - Да, я - серб. Фашистов не люблю, как, должно быть, и ты. Как, говоришь, твоя фамилия? - Христидис. - Ты - грек? Значит, мы - земляки, оба с Балкан, соседи... - и я протянул ему сверток, в котором было несколько коробочков камамбера и с полкило масла.
Так я приобрел нового знакомого, самое главное - из Нанта,- ставшего вскоре преданнейшим другом и помощником, как и вся его семья. Появился и еще один, вернее - одна помощница, - Тереза Бинэ. Рыженькая девушка, совсем еще ребенок. Работала она официанткой в гостинице "Осеан" в городке Ля Боле, где между рейдами отдыхали немецкие офицеры-подводники, а также и летчики, офицеры ПВО. Познакомились с ней так. Как-то проходя мимо гостиницы, я застал ее за заготовкой дров для кухни. Довольно трудная работа для девушки! Чтобы размяться, я взял топор и стал колоть дрова. Ко мне и моей галантности благосклонно отнеслись пожилые женщины-поварихи. Улыбаясь, они стали что-то нашептывать веснущатой Терезе. Та так и зарделась. И я стал часто бывать не только на кухне, но и в самой гостинице. Мое признание, что я - не немец, не по своей охоте работаю у оккупантов, помогло укрепить с ними дружеские отношения. Стойкое сопротивление югославских партизан, о которых часто упоминало Би-Би-Си (они, конечно же, его слушали!), придало нашей дружбе оттенок особого доверия. Я жадно глотал все новости, которые мне любезно по секрету пересказывали. И не только услышанное по радио, но и просачивающиеся в разговорах и бахвальствах отдыхавших офицеров. Некоторые женщины, в том числе и Тереза, неплохо владели немецким.
В Терезу был влюблен шестнадцатилетний паренек Клод, ее сосед. Он выразил желание помогать в борьбе против оккупантов. Покидая гостиницу, немецкие офицеры часто сетовали на то, что их опять отправляют туда-то и туда. Сведения, хоть и не особенно важные, тоже отправлялись через связных. Вскоре звено "Тереза-Клод" расширилось за счет их друзей: юность всегда склонна к романтике и не всегда отдает себе отчет в рискованности и в возможных последствиях. Тереза и Клод были представлены Мишелю. Она стала запасной связной, Клод - связным между нами и Нантом, в частности с Констаном Христидисом.
В местечке Сен-Марк немцы спешно возводили доты для дальнобойной артиллерии, которая должна была прикрыть устье Луары, куда ранее так безнаказанно вошел "Кемпбельтаун". Внизу, на площадке, заканчивавшейся крутым обрывом к океану, не развернуться, и я, груженный цементом, спускался на машине задом. Мастер - торговец шагал передо мной спереди, указывая, как править. Крутизна увеличивалась. Вдруг машина сорвалась с зацепления (заводской брак так и не был надежно устранен!) и, набирая скорость устремилась вниз. Я жал на тормоза, что есть мочи. В уме проклиная недобросовестных французских рабочих, неисправивших этот брак... Завоняли тормозные колодки. Я ожидал, что вот-вот машина сорвется с обрыва. Успею ли выскочить из кабины? Да нет, даже об этом у меня не было времени подумать... В самый последний момент заднее колесо наскочило на какой-то выступ скалы и грузовик остановился у самой кромки обрыва! Я спасен! - Свинья!.. Сволочь!.. - орал на меня истерическим голосом порядком струхнувший мастер. Он был готов избить меня.
Всё это произошло у эстакады, где я обычно сгружал цемент. Здесь работали марокканцы. Они стояли и с ужасом наблюдали за происходившим. Я, весь вспотевший от переживаний, еле выскочил из кабины, уселся в бессилии на подножку и... послал тодтовца ко всем чертям ада. К моему удивлению, тот замолчал и поспешил удалиться. Есть такие натуры: яростно показывают власть перед слабым, а нарвавшись на отпор, поджимают хвост: волк среди овец, а среди волков - сам овца! Глядя на марокканцев я, в знак благодарности к Всевышнему, произнес известное мне по Югославии изречение из Корана: "Ля иллаха иль Алла, Мухамед расул Алла!" (Нет Бога, кроме Бога, и Мухаммед - Его пророк!). Африканцы разинули рты и стали подсаживаться поближе, разглядывая меня с любопытством. Так я познакомился с очень умным и по всем статьям интересным человеком - Мухаммедом-бен-Мухаммедом, - "Мухаммедом в квадрате" - как его окрестил Мишель.
Откуда здесь марокканцы? - Во французской армии были колониальные войска, "зуавы-сенегальцы", набранные в Алжире, Тунисе, Марокко, куда входили многие народности Северной Африки. За время войны они были на передовой, на линии Мажино, где и взяты были в плен. Частично были оставлены во Франции для работы. Мухаммед вскоре был назначен старшим над группой марокканцев и других арабов, строительных рабочих, среди которых пользовался завидным авторитетом. Честно и самоотверженно они в свое время сражались за Францию, да и сейчас ее любили и считали своим долгом помогать ей в трудные времена. Здесь же встретил я и далматинца Саву. Лет за пять до войны, в поисках заработка, он приехал во Францию из своих голодных мест (на "печалбу", как это называлось в Югославии). Нападение "швабов" на эту страну, затем и на его родину, обозлило гордого и свободолюбивого горца. Оповещения о массовых расстрелах заложников и патриотов звали к отмщению. А еще больше к этому призывали вести о героическом сопротивлении в Греции, под Сталинградом, во Франции и в его собственной стране. По-французски и по-немецки Сава говорил бегло. Как и большинство далматинцев говорил и по-итальянски. Документы его были в порядке. Кроме того, он был связан со своими земляками в Бресте, где те работали вместе с бельгийцами-малярами на немецком военном аэродроме.
После проверки, по указанию Центра, Мишель часто стал посылать Саву в Брест, непосредственно связав его с руководством. В Нанте нашли еще двух ценных помощников. Ими стали бретонцы Ив Селлье, проживавший на рю д'Анфер (странное название - Адская улица!) и Анж Ле-Биан. Ив еще отходил от искусственно поддерживаемой им болезни: ею он спасался от отсылки на работы в Германию. По совету Мишеля, он и его друг Анж, бывший сержант колониальной армии, нанялись в местные полицейские и вооружились пистолетами. Они несли охранную службу в Нанте и со своими пропусками могли бывать в любых местах в любое время. Ив и Анж возглавили группу, которой было вменено в обязанность нанести на план города дислокацию зенитной обороны. В нее вошел и Констан Христидис.
Связь с этой группой обеспечивалась через Клода и Терезу. В середине декабря 1942 года, Мишель по распоряжению руководства распрощался со своей рацией, передав ее легализировавшемуся в Сен-Назере радисту-профессионалу. Конечно, профессионал намного лучше, чем дилетант. У нас на душе отлегло, Связь с радистом осуществлялась вначале самим Мишелем, а затем и Терезой с Клодом. Теперь можно было отправлять более объемные информации, что облегчало работу.
Шел январь 1943 года. Редким был день, когда Сен-Назер и окрестности не подвергались бомбардировкам. Мы уже привыкли быстро тормозить и выскакивать из кабин, еще быстрей мчаться в поисках более или менее надежных укрытий. Оборудованных бомбоубежищ давно не существовало, оставалось, если нас заставал налет в городе-развалине, примоститься в дверном проеме какой-нибудь чудом оставшейся от дома стены и тешиться надеждой, что она на тебя не рухнет от взрывной волны. Если же это случалось на шоссе, то и придорожные кюветы и ямы были "утешением".
Бурная была жизнь! Какие только меры защиты не применялись! По всему Сен-Назеру, окрестным городишкам, особенно в порту вокруг "гаража" и пирсов, были установлены бочки с "небельзойре"- искусственным туманом. Огонь изрыгали многочисленные турели "эрликонов" - четырехствольных зенитных пулеметов-орудий и глубоко эшелонированные тяжелые зенитные батареи, покрытые пологом маскировочных сетей, - им тоже порядком доставалось! На разных потолках высоты над городом были подняты многочисленные аэростаты... Несмотря на это, "летающие крепости" бомбили с поразительной точностью. Всё это происходило до одного дня...
В то воскресенье бомбардировщики внезапно появились к вечеру, будто вынырнув из ярких лучей опускавшегося в воды океана яркого солнца. Шли самолеты почему-то очень низко. В ушах звенело от их надсадного рева и извергавших огонь зениток. Я, как и обычно, принялся их считать: двадцать... пятьдесят... восемьдесят.. еще и еще... Перед клином летящей армады - стена сплошных разрывов. Вот, ватные хлопки разрывов уже в самой гуще армады. Но самолеты неуклонно и упрямо надвигаются, будто это их нисколько не касается. Величественная картина! Никакой попытки отвернуть, нарушить строй! Какими поистине стальными нервами надо обладать, чтобы так ровно вести машины среди густой каши разрывов! Стрельба: в бой вступали всё новые и новые батареи. Вот вспыхивает крыло у одного... вот у другого самолета. Сверху до меня доносятся глухие взрывы, и там ширятся густые белые облака, из которых в разные стороны начинают кувыркаясь выпадать серебром сверкающие на солнце обломки. Задымилось еще несколько самолетов и от них пошли черные шлейфы. Они теряют высоту, начинают вихлять и всё с большей скоростью нестись к пучине океана. Только тут некоторые бомбардировщики стали сворачивать в стороны и, ковыляя и прихрамывая, поворачивать назад, под прикрытие слепящего яркого солнечного диска, опускавшегося в океан. Из подраненных самолетов, то там, то здесь выпадают черные точки, над некоторыми вспыхивают белые купола парашютов... В тот день я насчитал 27 сбитых или подраненных бомбардировщиков. Одни врезались в зеркало океана, другие взрывались на береговой полосе с нашего берега Луары или с противоположного - у Сен-Бревена.
Такого массового урона РАФ (Ройяль Эйр Форс) на моей памяти еще не видывал. Почти треть! Бомб так и не сбросили, - атака была полностью отражена. В Сен-Назере обнаружили тела двух летчиков с нераскрытыми парашютами. Они так и лежали, обнявшись. Лица их чудом остались целыми: оба - блондины, очень похожие друг на друга. Кто-то определил, что то были канадцы, выразил догадку, что это - братья, не захотели попасть в плен, поэтому, мол, и парашютов не раскрыли...Одного летчика нашли с располосованным парашютом, погрузившимся ногами в навоз. Ужасная картина: туловище, как гармошка, осело на ноги, бедренные кости вылезли из плеч...
С тех пор налеты прекратились надолго. Над городом установилась непривычная тишина: ни сирен тревоги, ни рокота, ни уханья зениток. Будто война уже закончилась. А нам от руководства полетели приказы: ускорить работу над картой зенитной обороны, составить детальную схему дислокации точек ПВО береговой полосы и городов Сен-Назера и Нанта.
Так настал месяц февраль. В первых числах этого месяца на всех своих учреждениях оккупанты приспустили флаги со свастикой. На лацканах мундиров - траурные ленточки. Заметно поникла надменность "властителей мира": объявлен трехдневный траур. Сталинград! Огненная точка, в которой расплавился мощный кулак гитлеровского "Дранг нах Остен",- натиска на Восток. В Югославии, как говорят, Сталинград прозвали "Стани-град" - "Стань-город".
И воспрянули жители Франции, да, наверно, и других стран. Одиночная вооруженная борьба патриотов стала перерастать в настоящую войну -"гериллу". Воспрянули и те, кто ранее не то боялся, не то раздумывал и выжидал, - слишком долго надеялись, терпели унижения, ожидали "Второго фронта", которого всё не было и не было. Пора! "А то, глядишь, и без тебя обойдутся!"
В тот поздний вечер я долго лежал в сумерках под противно моросящим дождиком. В яме, до половины наполненной лужей. Я уточнял последние привязки выявленного днем нового объекта- бетонной площадки зенитной батареи, к которой не удалось подъехать днем поближе, - слишком зоркое было охранение. Грузовик замаскировал в придорожной заросли метрах в пятистах отсюда. А сюда пришлось подкрадываться ползком. Недалеко - часовой, я его вижу. Он то топчется, постукивая каблуком о каблук, то делает короткие пробежки, пытаясь согреться. Противная погода! Переживем!.. Зато гитлеровцам здорово всыпали! Сталинград не только выдержал натиск, но и разгромил целую армаду фельдмаршала Паулюса! Скороспелый "фельдмаршал"! На душе радостно!.. Зарисовка закончена, еще раз проверим. Нет, ни одна привязка не забыта, глазомерная съемка вроде соответствует. Ползком возвращаюсь назад. Ух, как промок! Сажусь в кабину, еду в Сент-Андрэ-дез-О.
Мишеля еще не было: у него сегодня встреча со связным из Парижа. Интересно: какие сообщат ему новости? Я перенес все отметки на основную карту, спрятал ее в тайник. Принялся резинкой стирать карандаш с моей путевой. Не получается: бумага набухла и раскисла, резинка сдирала и скатывала верхний ее слой в катышки. Да ладно уж, - отложу до завтра, к тому времени она подсохнет... Скорей почиститься, выжать и развесить одежду, белье - пусть просохнут! А теперь... теперь быстренько под манящее одеяло. Согреться!.. Задремал...
Мишель заявился угрюмым, и я вскочил выслушать новости, - видимо, они не из лучших! Да, во Франш-Конте разгромлена группа капитанга Анри. Гризбаум -"лейтенант Николь"- погиб, сам капитан Анри ранен, но спасся. Метренко схвачен. Об остальных - никаких точных сведений. Добричко Радосавлевич и Средое Шиячич тоже арестованы близ Лиона... Жуткие новости, я не мог заснуть... Крутился на кровати, поднимался, снова ложился... Мишель ворочался тоже. Я не выдержал, встал. Кое-как натянул влажную еще одежду, направился к выходу. - Ты куда? - услышал я голос друга: - Сасси, назад! Но я уже захлопнул за собой дверь. Не знаю, что на меня нашло. Подбежал к машине. Не успевший еще остыть двигатель завелся сразу. Я рванул в неизвестность... лишь бы не остановил Мишель!
Слезы застилали глаза, текли по щекам. "А говорят, мужчины не плачут! Брехня!" - промелькнуло в голове. Собаки! Изверги!.. Сколько же можно терпеть? Да еще и любезничать, улыбаться, рапортовать: "Кайне безондере эрайгниссе!" - никаких, мол, особых происшествий... Нет, они, эти "особые происшествия", есть, да еще какие!.. Как всё это отвратительно, как надоело! Когда все это кончится?..
Передо мной ровное, блестящее от дождя полотно асфальта. До отказа жму на педаль: скорость - вот, что сейчас способно развеять! Не заметил, как промчался через Порнише, Ля Боль... Мало, ой, как мало мы делаем! У поляков и то лучше: результаты их "работы" на лицо - они буквально уничтожают двигатели!.. Машины, замечательнейшее творение разума и труда человека, и так варварски им же самим уничтожается! "О темпора, о морес!". А мы и этим, -саботажем,- не имеем права заниматься! ...Где это я? Это же Ле Круазик! А время? Боже, уже скоро семь! Немедленно назад, иначе опоздаю под погрузку!.. Я развернулся, помчался в обратном направлении.
Показался краешек поднимавшегося солнечного диска. Ярко светит утреннее зимнее солнышко! Лучи его, как в зеркале, преломляются на мокром полотне асфальта, больно ударяют в глаза, все еще затуманенные слезами. Впереди какая-то неясная помеха... Начинаю различать крестьянскую фуру на двух высоких, чуть ли не в рост человека, колесах, доверху груженную сеном. Обгоняю ее. Вижу: навстречу едут во всю ширину асфальта велосипедисты. Глупая привычка: ехать развернутым строем, положив руки друг другу на плечи! Нажал на клаксон, велосипедисты стали перестраиваться в затылок. Вихрем пролетел мимо первого, второго, третьего... Последней, шестой, ехала девушка. Успеваю заметить, как она начала вдруг вилять рулем и, теряя равновесие, стала крениться в мою сторону. Проехал мимо, услышал сзади глухой удар: голова ее задела за задний бортовой крюк! Визг тормозов. Выскакиваю: она лежит на асфальте.
Тут, откуда ни возьмись, мотоцикл с коляской, в нем - фельджандармы. Сделали промеры: измерили расстояние до обочины, след торможения... Я всё стою, как чумной, ничего не соображаю. Меня успокаивают: "Ты не виноват, парень!". Тот, который проверял в кабине рулевое управление, вылезая, заметил торчащий из кармашка дверцы краешек карты. - Что это? - Карта, чтобы не сбиться и не плутать... - отвечаю безучастно, еще не отойдя от случившегося. Фельджандарм стал ее разворачивать: кружочки, треугольнички... Показал другим. Лица их посуровели. С опаской обыскали меня и повезли в комендатуру, в Порнише. Клацнул замок камеры на втором этаже. Я очнулся. Так глупо влипнуть! Знал: скоро приедут за мной из абвера или из гестапо. Немедленно, немедленно предупредить Мишеля! Сейчас все поставлено на карту: грозит обыск в моем, - в нашем с Мишелем, - закутке. А там... Но как предупредить?
Мечусь, как птица в клетке, ищу способа. Окно с козырьком выходило на улицу. Через щель увидел, как по улице изредка проходят люди. Вырвал стельку из ботинка, завалявшимся огрызком карандаша нацарапал: "Отель Осеан. Терезе Бинэ. Влип. Срочно предупреди Пюса!". Свернуд трубочкой и стал ждать, прильнув к щели. Показалась женщина, вид у нее подходящий. Бросил трубку прямо впереди ее ног. Она глянула в сторону окна, откуда вылетела трубка: решетки, козырек. Поняла! Нагнулась, будто поправить шнурок на ботинке. Когда отошла, трубки уже не было.
Я знаю: мое отсутствие на утреннем построении должно было насторожить Мишеля. Он обязательно заскочит в обеденный перерыв к Терезе. Через час снова показалась та женщина. Чего она хочет? На секунду приостановилась, подняла голову в сторону моего окна, утвердительно кивнула и тут же заспешила прочь. Молодец! Часа через четыре послышался знакомый рокот "матфорда". Показался грузовик. Номер машины Мишеля - "WH-4800". Машина чуть притормозила, затем рванула дальше. Сейчас Мишель помчится в лагерь, устранит все следы, предупредит ребят. Пожалуй, времени у него хватит.
Вечером, когда стемнело, меня перевезли сначала во временную тюрьму-барак (городская Сен-Назеровская была повреждена бомбардировками), затем в тюрьму Нанта - "Мезон Ля Файетт". Поместили в особый "квартал" - "Картье Аллеман" - в ведомстве абвера и гестапо. Следствие... Чего я там не натерпелся! - На кого работал?.. Кому готовил карту?.. Я признался сразу: хотел, мол, подработать, знал, что подобными вещами иногда интересуются, хорошо за них платят; ждал подходящего случая, чтобы продать... Начал этим заниматься несколько дней назад... - таковыми были мои ответы.
Били, снова допрашивали, опять били. Но я твердил одно и то же. Под конец, без сознания, доставили в тюремную палату больницы "Отель Дьё". Видимо, не хотели, чтобы я в подобном истерзанном состоянии предстал перед трибуналом. У дверей дежурили французские охранники. Однажды, - я просто не поверил своим глазам! - на дежурство заступил... Ив Селлье! Надо же, такое везение! Потом охранником был Анж. И вот, этим бретонским друзьям удалось привести на встречу со мной Мишеля. Врачами и медсестрами-монашками были французы. Мой истерзанный вид вызывал в них сострадание, желание помочь хоть чем-нибудь. Этим я и объясняю возможность тайного визита Мишеля. Он передал: решается вопрос о моем вызволении. Я в это не очень верил. Ив и Анж предложили более надежный вариант: исчезнуть за время их дежурства. Да, то был бы стопроцентный успех, но какой ценой! Я категорически отказался: дело прежде всего, а разбрасываться такими людьми, как они, - не имеем права.
Вскоре меня повезли на заседание военно-морского трибунала в Ля Боль. Зал, флаги, тройка за столом. Приговор краток: за попытку шпионажа - к расстрелу! Утверждение приговора "верховным судьей" (им недавно объявил себя сам Гитлер) следовало ждать дней семь-восемь. Я имел право подать на помилование, просить заменить отправкой на Восточный фронт, - так об этом провозгласил переводчик. Из суда повезли обратно в тюрьму. Тряска "воронка", именуемого у французов "панье а салад" (кошелка для салата), а у немцев "грюне мина", прибавилась, скорость снизилась: "подъехали к городу, на булыжную мостовую." - догадался я.
Вдруг удар, скрежет, фургон валится на бок... Я совершаю немыслимое "сальто мортале". Дверь от моего бокса срывается с петель и врезается в щиколотку левой ноги. От боли чуть не теряю сознание. Слышу хлопки выстрелов, почудились голоса Ива и Анжа. Кто-то рвет дверку, резкая боль еще больше пронизывает ногу, и я окончательно теряю сознание... Пришел в себя на каком-то чердаке. Надо мной склонилось озабоченное лицо Констана Христидиса. Узнаю, что столкновение с фургоном устроил Мишель своим грузовиком. Участие в этом принимали Ив, Анж и он, Констан. Охрану перестреляли. Мишелю пришлось скрыться, кажется, в Париж...
Страшная боль в ноге, большая опухоль щиколотки. Конечно, звать врачей, - об этом и думать не приходится. Определяю, что сломана или треснула "капут осис тибие" - головка тибии. Сестра Констана - Анна- прикладывает уксусные компрессы. Нужен покой. Лубок сделал сам из дощечек. Какая удивительная героическая семья: повсюду, как рассказал Констан, расклеены розыски с моей фотографией - "Зондерфандунги", а они, родители и девять детей, меня прячут и лечат! Целых пять или шесть недель. Навеки запомнил адрес этого гостеприимного дома: 15-бис, рю До д'Ан ("Ослиная спина"). {36}
Кость срасталась долго. За это время, с помощью Анны, я отпустил модные усики "а ля Дуглас Фербанкс" (американский киноактер). Ребята из группы достали мне форму немецкого ефрейтора, точно по росту, да еще и с отпускным свидетельством- "Урлаубшайном" голубого цвета. На френче была пришита и желтая ленточка "за ранение". Об этом, как сказали, позаботился специалист по таким делам - Сава. Наконец я был в состоянии передвигаться на костылях. Надо срочно покинуть этот тревожный район, где меня разыскивают и где я подвергаю смертельной опасности семью Христидисов.
* * *
...Как только в третий раз ударили в станционный колокол, извещая об отправке экспресса "Нант-Париж", на перроне появился немецкий ефрейтор. Двое парней несли его вещи - рюкзак и чемоданчик. Опираясь на костыли, ефрейтор устремился к начавшему движение поезду. Его поддерживала девушка. "Герой фатерлянда", который, видимо, лечился в Нанте, явно опаздывает на поезд. К нему бросается немецкий комендант с патрулем. В его обязанности - проверять документы у военнослужащих. Но как неловок этот раненый солдат: документы застряли в нагрудном кармане, виден лишь голубой уголок отпускного свидетельства..."Ладно, ладно!" - отмахивается военный комендант и подсаживает ефрейтора с нашивкой "За ранение" на подножку классного вагона. Вслед летят рюкзак и чемоданчик. Ефрейтор машет рукой своей невесте, друзьям, а потом, в тамбуре, вытирает со лба холодный пот...
Вот так выглядел мой отъезд из Нанта. Но это было еще полдела. У меня нет железнодорожного билета. Поезд наверняка будут проверять ажаны и ревизоры. Вхожу в купе, присаживаюсь на свободное место, - долго стоять не могу. Делаю вид, что читаю газету, - для этого был припасен свежий номер "Фёлькишер Беобахтер". Мои соседи молчат. Один - штабсфеьдфебель танковых войск, другой - штатский. Разговор начал штатский несколько неожиданным вопросом: - Ты из какого корпуса? - обратился он к штабсфельдфебелю. Тот подозрительно таращит глаза. - Ну, чего смотришь? - ухмыляется крепыш в пиджаке и с галстуком: - Я тоже штабсфельдфебель, тоже танкист. Только ваш корпус перебрасывают в форме, а нас всех переодели в гражданское... Для скрытности. И он, в подтверждение, показывает свой "зольдатенбух". На меня - я же младший чин - никакого внимания.
Запоминаю их разговор: в Париж приеду не с пустыми руками. Если... если, конечно, доеду... По вагонному коридору идут ревизоры и ажаны. Всё! Теперь... Странное дело: никто не спрашивает ни билетов, ни документов, и все прошли мимо! Уже потом, выйдя на перрон вокзала Монпарнасс, я прочитал на вагоне дощечку: "Только для вермахта". Спасибо нантскому коменданту - удружил еще раз, посадил в такой вагон, у пассажиров которого билетов не спрашивают: сам бы я не догадался!
Поезд прибыл около полуночи, в разгар комендантского часа. Вокзал оцеплен. Знаю уже по Ля Рошелю: из него можно выйти, лишь предъявив специальный пропуск или солдатскую книжку. Перрон быстро пустеет, только у выходных дверей стоят очереди. Судорожно думаю: что же предпринять? Выбираю носильщика, лицо которого внушило доверие. Подзываю его по-французски с деланным немецким акцентом: - Портер, туа, иси! (Носильщик, сюда!) Он подкатывает свою тележку, и я шепчу ему на ухо: - Месье, выручайте: я - дезертир... Носильщик быстро окидывает меня взглядом с ног до головы и после краткого раздумья бросает: - Вещи - на тележку! Следуйте за мной! Он везет мои вещи, я шкандыбаю за ним. Даже покрикиваю иногда: "Скорей! Лос! Вит!". Это - когда мы слишком уж близко проходим мимо проверяющих документы фельджандармов.
Увлеченный этой игрой и в ожидании окрика "Хальт!", я и не замечаю, как окончился перрон, здание вокзала. Носильщик свернул в какой-то проход, открыл калитку, и... мы очутились на привокзальной площади. - Вон там - спуск в метро. Если еще потребуется моя помощь, - запомни мой номер. Я всегда тут. - сказал носильщик и категорически отказался от денег.
Минут через двадцать я был у гостиницы "Модерн", позвонил. С той стороны зашаркали туфли и двери открыл Энрико. Услужливо взял чемодан. - Как вас записать? - вскинул он голову, усевшись и раскрыв свой гроссбух. Я молча снял пилотку. Видя, что он и дальше вопросительно смотрит на меня, я прикрыл рукой усики. В глазах Энрико сначала недоумение, потом - догадка и изумление. Он вскочил и помчался к лестнице: - Ренэ! Быстро вниз! По ступенькам быстро-быстро застучали милые каблучки. Она было ринулась ко мне, но тут же остановилась: - Почему на тебе эта мерзкая униформа?
* * *
Я снова в своей комнатушке. Рядом - Ренэ. Выскочил все-таки из лап смерти! Надолго ли? Ренэ будто подменили. Прибегала чуть ли не каждые пять минут, надолго оставалась, восклицая: "Ты жив!.. Ты жив!.. Теперь от меня не уйдешь!". С ее помощью я продолжил свое перевоплощение. Ножницы, изменение прически, окраска волос. Долго не получалось с бровями,- никак не хотели перекраситься! Наконец, кажется всё: - Настоящий итальянец! - поражался Энрико, всё время подававший советы.
Через Ренэ я связался с руководством. Принесли мою старую одежду, сфотографировался в "фотоматоне", и вскоре получил новые документы. Их принес мне сам Анри Менье. Я стал Качурин Александр, французский гражданин русского происхождения, родом из Туниса, с рю де Шампань, сражавшийся на линии Мажино в числе солдат колониальной армии такого-то полка, санитар. Освобожден из плена из-за слабого здоровья, на днях демобилизован в городе Манд (Южная зона). Приехал сюда поступить в автошколу, чтобы, получив права, наняться на работу в Германию. - Такова была легенда, подтвержденная соответствующими документами: актом о демобилизации, солдатским билетом и другими бумажками. Фамилию "Качурин", как и раньше, взяли, как мне сказали, из "Журналь Оффисьель".
Из Туниса к тому времени гитлеровцев выдворили: уже в Бретани я видел танки Роммеля, так что проверить мой тунисский адрес сложно. Но на всякий случай, "мой" дом и сам город мне подробно опишет один из тунисцев... Уходя, Менье вручил мне тысячу франков на жизнь и показал на цветок в горшке, стоявший на подоконнике: пусть он будет сигналом безопасности.
На следующий день мы с Ренэ посетили мэрию. Она своим щебетаньем ловко обработала чиновника, и мне без каких бы то ни было осложнений были выданы "карт д'идантите" и "сертифика де домисиль" - о моей прописке в гостинице. А также и продовольственные карточки повышенной нормы, как и подобало "пострадавшим за родину", то есть вернувшимся из плена. На этот раз моя легенда была намного лучше, чем предыдущие, пачка документов - безупречна. А вот сигнал "безопасности", о котором будет предупрежден "тунисец" и другие, которые, возможно, должны будут выйти на связь, имел некоторые неудобства: прежде, чем прийти в гостиницу, им бы пришлось сделать крюк, войдя во двор с другой улицы, чтобы убедиться, стоит ли он на месте.
"Тунисцем", который должен был описать мне "мой город и мой дом", оказался Мишель! Он появился под вечер. Рассказал, как всё произошло в Бретани. Получив от Терезы записку, Мишель помчался в барак, надежно перепрятал карту и всё другое. Успел переговорить с Янеком, чтобы тот предупредил других. Вовремя! Ночью нагрянули абверовцы, перевернули всё вверх дном. Безуспешно! Допрашивали. Мишель, "естественно", не предполагал, что "этот идиот способен на подобную пакость". Поляки, предварительно проинструктированные Янеком, в один голос заявили, что в последнее время заметили во мне что-то ненормальное, что я, по их мнению, начал "свихиваться". Затем Мишель, получив "добро" от руководства и узнав день назначенного суда, совершил с ребятами наезд на тюремный фургон, возвращавший меня в Нантскую тюрьму: своим грузовиком врезался в него сбоку, но "чуток не рассчитал", а сопровождавшие его ребята прикончили охрану. Меня высвободили из бокса опрокинувшейся машины. - Ну и хлипкий же: чуть что и... в обморок!
Сам Мишель, бросив помятую машину, сразу же скрылся в Париж, отвезя туда и очередную карту-схему ПВО прибрежного района. Осталось закончить план обороны самого Нанта. Этим сейчас занимается группа Ива-Анжа. А Констана, учитывая многодетность семьи и ее вклад в мое спасение, освободили от рискованной работы, оставив в резерве. Тереза стала связной. Как только схема будет готова, она сообщит, и за нею поедут из Парижа... Итак, мой друг сделал всё, чтобы спасти меня и всю группу.
Мишель остался доволен моим перевоплощением: "Почти никакого сходства с разыскиваемым Поповичем!". Впрочем, насчет "Поповича" и самого Мишеля было дано указание пустить слух, что, мол, оба бежали из Франции. Ренэ улыбалась и, не стесняясь Мишеля, в порыве нежности прижималась ко мне: - Я не хочу, чтобы его арестовали!.. Я стоял словно оцепенелый. Сколько раз, еще тогда, оставаясь с Ренэ наедине, я пытался дать ей понять, что испытываю к ней большее, чем просто братские дружеские чувства, но дух Мишеля всегда витал между нами. Я знал, что и он к ней неравнодушен. Но не знал, что сама она изо всех сил старалась "не замечать" моих чувств. И как было обидно: кругом смерть, жизнь коротка и ненадежна, каждая минута дорога,- может оказаться последней,- а она будто этого не понимала и отстранялась от меня. Эх, таинственны и неразгадываемы женские сердца! Лишь сейчас всё стало ясным: - Я тебя полюбила сразу же! Но вы с Мишелем такие друзья, - ты бы не простил потерю друга, и я бы потеряла вас обоих! Как она права! Сколько в ней самообладания, чистоты!..
* * *
Первые дни я почти не выходил из гостиницы, лишь по крайней надобности: костыли были помехой. Ренэ и Энрико делали всё, чтобы скрасить положение человека, загнанного в подполье. - Сасси! - сказала однажды Ренэ: - У меня для тебя сюрприз. Поедем со мной! На метро мы отправились по направлению к Монруж. Выйдя наверх на последней остановке, повернули в маленькую тихую улочку. Поднялись на первый этаж необитаемого, видимо, дома. Ренэ отперла ключом дверь и... мы очутились в опрятно обставленной чистой комнатушке. В ней были газовая плита, рукомойник, столик, застланная кровать, два стула. Удивительно: нигде не пылинки! - Знаешь, Сасси, - нежно прильнула ко мне Ренэ: - В твоем положении невредно, даже необходимо, иметь запасное убежище, а? Если надо будет скрыться, тут и переждешь. Я сняла эту комнатку "для брата". Как и в отеле "Миди", здесь такой же запасной выход - через окно. Смотри: даже удобней, чем у нас! И мы с ней целые сутки обживали эту уютную квартирку...
* * *
Однако, всё случилось не так, как мы предполагали. В середине июня по пневматической почте я получил сообщение от Анри. В нем указывалось время и место встречи, - в излюбленном кафе "Дюпон". Я даже замурлыкал от радости: "Ше Дюпон тут-э бон!.. Ше Дюпон тут-э бон!" Летел туда, как на крыльях, насколько позволяла моя хромая нога, но уже без костылей. Сколько времени маялся я без дела, ужас! Менье, как обычно, был жизнерадостным, полон юмора: - Ну, "баба Яга- костяная нога", как самочувствие?.. Так вот, день "Жи" (высадка союзников и открытие Второго фронта) не за горами. Восточный фронт заставил бошей оголить побережье, о чем свидетельствует и твоя информация о разговоре фельдфебелей в поезде. По всей территории Франции - то же самое. Сейчас оккупанты боятся восстания, особенно в Париже. Принялись пополнять "Милис де Дарнан". И нам пришлось начать работу среди милиционеров, выпускаем для них специальные листовки "Полис э Патри" ("Полиция и Родина"). Рассчитываем воздействовать на тех, кто не погряз в крови соотечественников, - на свежевербуемую туда молодежь... {37}
От меня требовалось вступить в контакт с одним из руководящих лиц милиции, заведующим отделом оргнабора и уже давшим согласие сотрудничать за определенную мзду. Первую часть взятки - 500.000 - он уже получил. Но надо его прощупать получше: - Это твой соотечественник. Возможно, будет с тобой более откровенным. Предупреждаю: дело это опасное, необходима осторожность. Ты будешь ему представлен согласно новой твоей легенде.
Менье уехал на место встречи, а через полтора часа и я условным стуком постучал в дверь квартиры по адресу 61, рю Шардон-Лагаш. Дверь открыл Менье. Сзади него меня пытливо разглядывал господин в пенснэ. Представился: - Константин де ля Люби. - и, помолчав, добавил: - Русский. (Почему "де ля Люби"? - Возможно: "Любимов", да переделал на французский лад? - подумал я.){38} Сухощавый, с выправкой, какой гордятся кадровые военные, лет сорока-пяти - пятидесяти. Он прихрамывал и ходил поэтому с тростью. По-французски говорил безупречно, но большую часть разговора мы вели с ним по-русски. Вскользь он поинтересовался моей историей. Я ему описал свое неустроенное положение: только что выпущен из плена, демобилизовался, денег почти нет, думаю устроиться в школу шоферов, но не уверен, что благополучно пройду медосвидетельствование. Де ля Люби сказал, что рад услужить стоящим парням и мог бы устроить их на легкую работу с хорошей оплатой и питанием: - Это ведь лучше: служить дома и не ехать к черту на кулички, в чужую страну!.. Конечно, для многих молодых французов это было бы отличным шансом увильнуть от обязанности выезда в Германию по "STО".
Все же, я посчитал необходимым уведомить об этой встрече моего старшего - Мишеля.{39}- Странно! - удивился он: - У нашего руководства явная накладка: Гастон решил, что нам обоим больше не стоит здесь оставаться и рисковать. Обязательства наши выполнены, и мы с тобой на днях отправляемся во Франш-Конте... - Во Франш-Конте? - не поверил я: - А кто там сейчас? И я узнал, что капитан Анри, как оказалось, не погиб. Да, был ранен - пуля прошла по виску, вышла у самого глаза. Он спасся, переплыв реку Ду. Подлечившись у друзей, прибыл в Париж. Но в Париже попал в облаву, вновь оказался в лапах полиции. Сделав подкоп, бежал из лагеря. Сейчас, окрепнув, готовится к боевым действиям во Франш-Конте. ("Ну и двужильный!" - подумалось мне). Алексея Метренко, раненого в ногу, схватили. Говорили, что под пытками он многих выдал. Немца Гризбаума - "лейтенанта Николь"- друзья нашли в каком-то сарае, скончавшимся от раны в живот.
Сейчас капитан Анри обратился к "старикам" с призывом явиться к нему в Безансон. Туда нам и предстояло выехать. В начале июля Мишель приказал: на следующий день взять на Лионском вокзале билет на вечерний поезд к Безансону, с пересадкой в Дижоне. - На утренний, который следует прямиком до Безансона, не бери! - Какой же смысл? Ведь всё равно в Дижоне я пересяду именно на него. Почему же не выехать утром послезавтра? - Слушай, что тебе говорят! Смысл есть: прежде всего, оповестишь всех здешних, что выедешь послезавтра утром. В том числе и твоего Де ля Люби. Менье - тоже. Не нравятся они мне что-то с их новой затеей. На самом же деле отправишься накануне вечером. Кроме того, в Дижоне будешь иметь время убедиться, что не везешь "хвоста". Во всяком случае, так безопасней. Учти, что проверю. Не забудь о сигнале безопасности!
Сам Мишель должен выехать дня через четыре. Перед отъездом он в моей комнате заберет рюкзак, чтобы кому-то передать униформу ефрейтора. Задержка его отъезда объяснялась еще и тем, что он должен дождаться связного, посланного в Нант: Ив сообщил, что схема ПВО города готова. Прощаясь с другом, я высказал сожаление: - Ренэ будет переживать... - Ничего, она поймет. Пошли ее завтра утром за билетом. Пусть развеется и в себя придет! Мишель уехал, а я долго думал, что он по-прежнему любит Ренэ. Не из-за ревности ли торопит меня? Эх, если бы я мог знать, что видел его сегодня в последний раз!
Ренэ сначала молчала, потом, выявив свой итальянский темперамент, заметалась как зверек в клетке. Я обещал, что уеду ненадолго, через недельку-вторую вернусь. Молча, со слезами, она поехала выполнять мое поручение. Я стал готовиться к отъезду, как вдруг постучали в дверь. Вошел Де ля Люби: - Здравствуйте. Это господин Менье дал мне ваш адрес. Извините, не готов ли список желающих поступить к нам? Вопрос для меня был неожиданным: мне не было указаний на этот счет. Какой список? Ведь никакой конкретной договоренности не было, был только разговор. С другой стороны, только Менье знал мой адрес. Это факт. Следовательно, я его плохо понял. Виновато признался, что вплотную данным вопросом я еще не занимался. Ренэ вот-вот должна вернуться, и я не хотел, чтобы Константин Де ля Люби о ней узнал, а тем более, чтобы они встретились. Памятуя наказ Мишеля, я сказал, что должен уехать на следующее утро на несколько дней, вот после этого и начну подбирать добровольцев.
Проводив его до метро, я вернулся с каким-то гадким чувством. Что-то неприятное было в совершенно неожиданном визите этого господина. Однако, вернувшаяся Ренэ и ее переживания отодвинули на задний план впечатления от этой встречи. Как все-таки Ренэ меня любит! Разве это не счастье? Она стала мне еще дороже.
А вечером, когда я собирался прощаться, сразили ее слова: - Сасси, не торопись: я взяла билет на утренний поезд, - так мне посоветовали в кассе. Этот поезд идет прямо до Безансона, нет надобности делать пересадку в Дижоне. И не надо будет болтаться целый день. Это же глупо! Правда, здорово я придумала?
Не выполнить приказа Мишеля! Я заметался по комнате, обхватив голову руками и чуть ли не крича: - Ой, что ты наделала... что ты наделала!.. Она заплакала. А слезы женщины, да еще такой, как Ренэ, - что нож по сердцу. Я принялся ее утешать... - Сасси, - говорила она, всхлипывая: - Что-то в моем сердце неспокойно... Будто оно говорит, что видимся с тобой в последний раз... Так хоть подольше побудем вместе, проведем последнюю ночку. А если это и впрямь так?! Вдруг это действительно в последний раз? Жизнь ведь такая ненадежная...
* * *
6 июля, в пять часов утра, в дверь громко постучали. Кто бы это? Если Мишель решил проверить, то нагорит же мне! Я притих, обхватив Ренэ. - Откройте! - и опять настойчивый стук, требовательный, уже грохочущий! - Уврэ иммедьятеман! Немедленно откройте!.. Полис аллеманд! - и дверь заходила ходуном. Такой "немецкий прононс", какой часто изображал Мишель. Вот чертяка! - Брось ерундить! Хоть бы совесть заимел! - кричу зло: - Ну да, я задержался. Сейчас поеду, Чего зря шумишь? - Уврэ иммедьятеман! - ("Вот болван!"), и я, протянув руку, откинул щеколду.
Тут же комнатушка наполнилась людьми. В штатском и в форме СД. С пистолетами в руках. Ума не приложу, как в такой тесной "келье" смогло вместиться шестнадцать человек! (А Реймонда утверждает, что она их хорошо пересчитала, - их было восемнадцать!). Эта мысль вернула меня к действительности и одновременно к шутливому настроению. Я так был уверен в надежности моих документов, что посчитал это вторжение случайной облавой: проверят документы и, извинившись, уйдут. Но... документы никого не интересуют, их даже не спрашивают! Обыскивают комнату, обшаривают карманы брюк, пиджака, проверяют под подушками. А бедная Ренэ сбилась в углу кровати, стыдливо прикрывается одеялом.
- Где оружие? - Помилуйте, какое оружие?.. Вы меня с кем-то путаете, - у меня его никогда не было! Только тут стали просматривать документы, вытащенные из пиджака: - Качурин... Француз, русского происхождения, натюрализэ... Демобилизованный... Не успел из плена вернуться, как уже с коммунистами стал якшаться!?.. - Какие еще коммунисты?.. Вон у вас в руках справка, что учусь в автошколе. А для чего? - Чтобы поехать на работу в Германию. Чувствую, они в замешательстве. Видимо, были уверены, что найдут оружие, встретят сопротивление, что должны будут обезвредить террориста, а тут - парочка! Спокойствие, - еще не все потеряно! Раз поверили документам, - не страшно, явно какое-то недоразумение. Блеснула надежда: с кем-то спутали. Не в фамилии ли "Качурин" дело? Кто он? Не был ли замешан перед войной с компартией? Тогда это фатально: я ведь о нем ровно ничего не знаю, кроме фамилии и скупых данных, взятых из "Журналь Оффисьель", из сведений о военнопленных.
Набираюсь наглости - Хотя бы совесть имели, дали бы невесте одеться! Отвернулись бы, что ли... Агенты отворачиваются. Ренэ одевается, садится на краешек кровати. Осматривают кровать, поднимают матрац... Что они ищут и долго ли еще будут здесь торчать? - Нельзя ли поскорее, а то опоздаю на поезд... Побриться можно? - Брейтесь! Чувствую, что настороженность и недоверие, вроде бы, сползает с их лиц. Брился тщательно, аккуратно: усики - мой шанс. Так же спокойно, как ни в чем не бывало, занималась туалетом и Ренэ, ополаскивая лицо у умывальника. Молодец! Тут я "неуклюже" повернулся и вазон с цветком сорвался с подоконника, полетел вниз и вдребезги разбился на крыше сарая. - Ой, медведь! Мой самый любимый цветок! - это вскричала Ренэ. "Молодец в квадрате!" - восхитился я. Всполошившиеся было агенты, видя неподдельное негодование моей подруги, успокоились. Теперь еще раз, не торопясь и более тщательно, они прощупывают матрац. Другие на выбор просматривают книги на полке, книги на тумбочке: - О-о, Казанова!.. - говорят и бросают сальные ухмылки: - Король любви!.. - А это что такое? - один из агентов зацепился ногой за торчащую из-под кровати лямку рюкзака. "Ой, как я мог забыть! В нем же немецкая униформа!" - Ах, это? - деланно равнодушно переспрашиваю я: - Это вещи моего кузена. Он служит в вашей армии, был ранен, сейчас где-то лечится... ("Пройдет ли или не пройдет моя отговорка?" - думаю, а на сердце мурашки). - Действительно, ранен: ленточка "За ранение". - и агент, вяло осмотрев содержание рюкзака, ногой вновь заталкивает его под кровать. ("Чудеса: пронесло! Тьфу-тьфу!").
А дальше... дальше надевают наручники ("Дурной признак!"), выводят. И сверху и снизу улица перекрыта шеренгами автоматчиков, движение остановлено. Впрочем, какое движение в шесть утра! Раннее утро, не видно ни души. А может, все попрятались? Сворачиваем за угол. Там - целая колонна грузовиков и легковушек. Сажают в одну из них, оставляют наедине с водителем-гестаповцем, или эсэсовцем, - форма-то одинаково черная! Он спрашивает: - Откуда ты? - Из Туниса. Рю де Шампань, номер... - Рю де Шампань? А какой там дом? Описываю, как мне обрисовал его Мишель. - Постой-постой! Я же его хорошо помню! Сам недавно оттуда. Почти весь город разбит. Но не волнуйся: твой дом,- хорошо помню,- цел-целехонек. Тебе повезло! Значит, мы почти земляки! - и он протягивает мне портсигар. - Спасибо, я не курю. "На ляд ты мне сдался, землячок такой!" - зло подумал, а сам расточаю улыбки вежливости. Ну и положеньице!..
Как хорошо, что Мишель так подробно всё описал! Кто бы мог подумать, что это пригодится,- во всяком случае, помогло выдержать первую проверку!.. На душе стало легче: выкручусь! Да и водитель высказывает предположение, что произошла явная ошибка: такое, мол, у них часто случается. Проверят, мол, и выпустят. Явное недоразумение: зачем было из-за меня оцеплять вест квартал? Конечно же, искали кого-то сверхопасного, вооруженного... Хотя... Что-то не очень всё клеется. Не очередная ли это уловка? Этот гестаповец и вдруг корчит из себя благодушного "земляка"! Нет-нет, тут определенно не всё чисто! Явная уловка! Для чего?.. Одним глазом вижу, как сзади, в другую легковушку сажают Ренэ, чуть дальше - Энрико. Оба в наручниках. Бедный старикан, бедная Ренэ! Сколько неприятностей из-за меня. Что будет с опустевшей гостиницей? -В ней же теперь никого нет!
На рю де Соссэ нас поодиночке поднимают в лифте на пятый этаж. Маленькая, узкая проходная комната-коридор. Справа, за столом - белокурая "фройлайн" в форме СД. Останавливают перед ней, дают ей какую-то бумажку. - Имя, фамилия? - и она заполняет каллиграфическим почерком готическим шрифтом: "Качурин... Александр". Когда доходит до рубрики "Wegen" (причина) она, посмотрев в бумажку, красиво выводит: "Шпионаже". Вот-те и на! Значит, всё-таки... Значит, ошибки не было? При чем же тогда "коммунисты"? "Оружие"?, "землячок из Туниса"? Ну и мистификаторы! Да, я слыхал, что гитлеровцы - мастера подобного дела. Эх-эх-хэх... В чем же промах?... {40}. По окончании процедуры заполнения анкеты, меня вводят в большую комнату. Ужас! В ней уже несколько человек. Под охраной. Мужчины и женщины. Среди них есть и знакомые мне: женщина, которой недавно передавал какое-то поручение, по-моему, ее звали мадам Леклерк... Фотограф... Это - провал! Полный!
{Конец 1й части}
Сноски и исторические справки
1
1*. (стр. 7).Во Франции фильм "Броненосец Потемкин" был допущен на экраны лишь в 1962 году. Предыдущие правительства, под предлогом его революционного характера, способного пропагандировать непослушание в армейских частях, показ его запрещали. В Веймарской Республике власти пошли еще дальше, устроив над ним настоящий судебный процесс с соблюдением всех юридических норм с присяжными и прокурором. В своей речи прокурор заявил:: "...Коммунисты хотят обучить своих членов военной тактике и показать им, как надо себя вести в будущих сражениях. Такова основная цель фильма. Хоть это и было историческим фактом, но взят он лишь для того, чтобы натравить солдат против правительства и обучить их захватывать власть в свои руки...".
(обратно)2
2*. (стр. 8). В действительности же фрагменты финальной сцены фильма, где, якобы, участвуют "корабли Черноморского флота", были взяты из документального фильма "Последних Новостей" еще до 1-ой Мировой войны, показывавшего маневры одной иностранной державы. И если югославские зрители и попались на удочку, то они были не единственными: даже более сведущие лица, как, например, парламентарии Рейхстага, обратились к правительству относительно ложных, по их мнению, сообщений военных атташе из Москвы о, якобы, слабом военно-морском потенциале Советского государства.
(обратно)3
3*. (стр. 8). Знал бы я тогда, что, когда в 1927 году мы с тетей Ритой проводили ее отпуск в Ялте и, прогуливаясь в Алупкинском парке, любовались каменными львами Воронцовской усадьбы, именно эти львы засняты в фильме, я бы почувствовал себя "кумом королю"! И не предполагал я, что через 30 лет и до моего выхода на пенсию, буду преподавать в Севастополе, где на рейде и проходили съемки фильма Эйзенштейном. Для этого им был использован броненосец такого же типа - "Двенадцать Апостолов", где и была разыграна сцена бунта.
(обратно)4
4*. (стр. 9). Никита Ракитин в Испании лишился ноги. В СССР жил под другой фамилией.
(обратно)5
5*. (стр. 9). Учитель Е. А. Елачич погиб за время оккупации.
(обратно)6
6*. (стр.12). Всеволод Селивановский после войны перебрался в США, где стал знаменитым художником-иллюстратором учебников. Скончался несколько лет тому назад.
(обратно)7
7*. (стр.31). Gustave Le Bon (1841-1931): "La psychologie des foules". 1895.
(обратно)8
8*. (стр.33). Шибанов, Кочетков, Роллер, Покотилов, Качва и Савицкий - известные активисты Французского Сопротивления. После бегства из тюрьмы, Шибанов, став членом "Национального Фронта при ФКП", руководимого Гастоном Лярошем (одесситом Борисом Матлиным), вел с товарищами, к которым примкнул и бежавший с немецкой каторги И. Троян, активную пропагандистскую и организационную работу среди советских военнопленных на территории Франции. Они организовали много боевых отрядов. Сам Шибанов участвовал в Парижском восстании, штурмом освободил от гитлеровцев здание бывшего советского посольства. После войны многие вернулись на родину, награжденные испанскими, французскими и советскими орденами. Савицкий и Покотилов участвовали в редколлегии подпольной газеты в Париже "Русский Патриот" (позже - "Советский патриот"). Г. Шибанов скончался близ Донецка, а его сын Александр служил на военном аэродроме "Бельбек" в Севастополе, где часто бывал моим гостем. Л. Савицкий проживал в Волгограде, А. Покотилов - в Астрахани. Мы встречались и долго переписывались.
(обратно)9
9*. (стр.33). Л. Илич и М. Калафатич, после побега из тюрьмы, возглавляли работу по вербовке иностранных рабочих в боевые отряды "М.О.И.". После Победы Калафатич жил в Одессе, работал преподавателем политэкономии в Одес. Гос. Университете, а я некоторое время был у него студентом.
(обратно)10
10*. (стр. 33). И. Троян после побега стал видным активистом и организатором нелегальной работы в Париже и в Лотарингии. Организовал побеги военнопленных и их переправку в боевые отряды ФТПФ. Попал в засаду в городе Туле, близ Нанси (Лотарингия), в начале июня 1944 г. На допросах вел себя стойко и принял мученическую смерть. Посмертно награжден Орденом Отечественной войны. О нем я сообщал на допросах в СМЕРШ-е. Встретиться с ним так и не довелось.
(обратно)11
1*. (Стр.36). Так называемыми "брошенными регионами и землями" - собственностью тех, кого изгнали из приграничных районов, заведовало нацистское общество "Остланд".
(обратно)12
2*. (стр. 36). Henri Noguères, Marcel Degliame-Fouché: Histoire de la Résistance en France. T.1. Edition Robert Laffont. Paris, 1967
(обратно)13
3*. (стр. 41). В 1967 г., свое первое письмо мне Поль и закончил именно этими лозунгами.
(обратно)14
4. (стр. 43). Исследователь Анри Колпи отмечает в своем труде: "У песни "Лили Марлен" и у ее исполнителей было много необычного. Слова ее были написаны в 1923 году, на музыку положена Норбертом Шульцем в 1938 г. Исполненная в первый раз шведской певицей Лале Андерсен в одном из берлинских кабаре, успеха она не имела. Затем в апреле 1941 года, ее транслировали по белградскому радио для немецких солдат, оккупировавших Югославию. Только тут она произвела такой фуррор, что "по просьбе радиослушателей" ее стали передавать каждые двадцать минут. Затем "Лили Марлен" стала песней-амулетом для танкового корпуса Роммеля "Африка-Кор". Вскоре и британские войска, переложив танго на марш, сделали ее маршевой песней 8-ой Армии. Но раньше "благодарные немецкие солдаты" установили на дороге у Смоленска памятник-статую Лале Андерсен. Сама же певица, за ее критику нацистского режима, была брошена в концлагерь На этом история песни не закончилась. В 1951 году вышел на экран английский фильм "Лили Марлен", где музыка песни явилась его лейтмотивом. А в 1958 году, немецкий фильм "Лили Марлен", с благополучно выжившей Лале Андерсен в главной роли, был заснят и пущен в прокат...". (Henri Colpi: Défense et illustration de la musique dans le film, 455 p., SERDOC (Société d'édition, de recherches et de documentation cinématographiques), Lyon, 1963)
(обратно)15
1*. (стр.56.). В 1968 году Поль Негло поинтересовался, принял ли нас и как его кузен: -"На мой вопрос о вас он мне ничего не ответил!", и сообщил его адрес. Хоть и нехотя, но Луи нам всё-таки помог, и я посчитал своим долгом поблагодарить его. Вскоре получил статью из газеты "Репюбликен Лоррен", под заголовком: "Сопротивленец из Домбаля разыскал одного из тех, кого некогда спас." На фотографии он такой же тщедушненький, но уже старенький. Указывалось, в каком бедственном виде мы пред ним предстали: "...Моя супруга и я были очень напуганы: меня только освободили из плена, а тут трое незнакомцев, за которых запросто можно было угодить в концлагерь...". Говорилось, что Луи совершил "поистине героический и самоотверженный поступок, достойный настоящего, благородного лотаринжца".
(обратно)16
2*. (стр.59). Из письма мэра Варанжевилля, месье Клавеля, от 21 марта 1968 года - в ответ на мой запрос о Ковальском: "...Действительно, группа молодых поляков организовала в Варанжевилле центр Сопротивления, особо отличившийся в распространении листовок, в переправке беглецов, в актах саботажа. Все были арестованы. Руководитель группы Ковальский был обезглавлен в Кёльне, немецком народе. Остальные погибли в концлагерях. Вернулся лишь один, очень больным...". Леопольд Захарович Треппер, шеф "Оркестр руж" (Роте Капелле), находясь со мной в камере в Лефортовской тюрьме (или на Лубянке - сейчас точно не помню) вспоминая о Ковальском, рассказал, что с помощью последнего ему, вырвавшемуся из рук гестапо, удалось в 1943-м году вновь связаться с Москвой. О гибели Ковальского в то время - в 1950 году - мы еще не знали.
(обратно)17
1*. (стр. 65). Раскольников был послом СССР в Болгарии. Опубликовал в знак протеста "Открытое письмо Сталину".
(обратно)18
2*. (стр. 66). А. Левицкий и Б. Вильде, этнографы в парижском "Музее Человека", арестованы в марте 1941 года. Перед тем их связной съездил в Ля Рошель, откуда привез план строившейся в Ля Палисе базы для немецких подлодок. Не он ли, семнадцатилетний парнишка "Гос" - Рене Сенешаль - ночевал у старушек? В феврале 1942 г. на Мон-Валерьене казнили семерых из этой группы, в т.ч. Левицкого, Вильде и Сенешаля. Столбов было четыре, и Левицкий, Вильде и Норман упросили, чтобы их расстреляли в последнюю очередь, избавив этим друзей от неприятного зрелища. "Все они умерли героями, даже еврей Норман!" - цинично восхитился их палач-эсэсовец Готлеб.
(обратно)19
3*. (стр. 66). Мать Мария (Елиз. Юрьевна Пиленко - поэтесса Кузьмина Караваева - Скобцова по мужу) арестована вместе с сыном Юрием и священником Д.Клепининым, ведавшим переправкой беглецов в Южную зону. Мать Мария погибла в концлагере Равенсбрюкк. Д.Клепинин и Юрий погибли в Бухенвальде.
(обратно)20
4*. (стр. 68). В.А.Оболенская вступила в ряды Сопротивления, работая секретаршей у руководителей "ОСМ"- капитанов Д'Артюиса и Лефоришона, в августе 1941 г. По их указанию, вела разведывательную работу для Союзников, организовывала побеги военнопленных и переправку добровольцев в армию Де Голля. Арестована в декабре 1942 года. На все вопросы гестаповцев отвечала "Я ничего не знаю!". Они ее так и прозвали: "Княгиня Я Ничего Не Знаю". В августе 1944 года ей в Берлинской тюрьме Плётцензее отрубили голову на гильотине. Посмертно награждена Орденом Почетного Легиона, медалью Сопротивления с присвоением ей звания "Лейтенанта войск Свободной Франции", а также и советским орденом Отечественной войны 1-ой степени.
(обратно)21
1*. (стр. 69). В Париже, на бульваре Капуцинов № 14 были продемонстрированы первые фильмы братьев Люмьер: "Прибытие поезда на вокзал" и др.
(обратно)22
1*. (стр.76). Из немецкой листовки на русском языке: "Бей жида-политрука - морда просит кирпича!"
(обратно)23
2*. (стр. 80). "Goldenes Abzeichen" - "Золотой значок" был выдан первым 200.000 членам НСДАП.
(обратно)24
3*. (стр.83). Мать осталась жива, прошла через концлагерь в Линце, затем жила в Нью-Йорке, где и скончалась от рака в 1975 году. В письме она подтвердила, что отец действительно застрелился.
(обратно)25
4*. (стр.83). Французская газета "Républicain Lorrain" от 07.01.1968 года подтвердила, что склад готовой продукции завода "Аскания" был действительно взорван и сгорел. Считала это моей заслугой. На самом же деле операция была продумана и организована берлинской группой антифашистов под руководством Харро Шульце-Бойзена и Адама Харнак, неправильно названной "Роте Капелле". На Лубянке, в 1950 году я сидел в одной камере с Л.З. Треппером, резидентом советской разведки. Он мне и рассказал, что это именно по его указанию, по просьбе берлинской группы, и было в Берлин отправлено несколько пар "посредников", в том числе и мы с Мишелем. Сейчас уже доподлинно известно, что именно по вине "Директории", т. е. Московского Главразведуправления, погибли отважные немецкие антифашисты. Очевидно, и мой "Макс".
(обратно)26
1*. (стр.84). По некоторым причинам имена и национальности я изменил.
(обратно)27
2*. (стр.85). Фамилия Мориса с рю де ля Конвансьон - Феферман, напарника - Фельд, оба - евреи.
(обратно)28
3*. (стр.86). "Аттантизм" - выжидание до дня высадки - начала открытия Второго фронта, запрет до тех пор употреблять против врага оружие.
(обратно)29
4*. (стр.86). Осенью 1972 года, в канун 30-летия со дня Сталинградской битвы в Волгограде проходила Советско-Французская встреча участников Сопротивления. Генерал Пьер Пуйяд, командир полка "Нормандия-Неман", вручил мне номерной Почетный знак "ФАФЛ" ВВС Свободной Франции. Тут же произошла неожиданная встреча с м-м Жизель Крепо-Паскрэ, бывшей одно время, под кличкой "мадемуазель Жод", связной у "двух братьев - Зига и Пюса".
(обратно)30
1*. (стр. 93). У немецких полевых жандармов на груди - пластинка в форме полумесяца, висящая на цепочке через шею. Немецкие солдаты называли ее "Хундемарке" - "Собачий жетон".
(обратно)31
2*. (стр. 96). Эти руководства разрабатывались и издавались начальником военного штаба ФТП - полковником Марселем Пренан. По поручению ФКП было издано их пять или семь. Мы пользовались лишь одним.
(обратно)32
1* (стр. 107). Об этом эпизоде я рассказал в парижской тюрьме "Фрэн" своему сокамернику Морису Монте. А тот, после войны, друзьям. Так и нашелся наш собеседник. В 1987 году, на вокзале "Гар дю Нор" (Северный вокзал) в Париже, среди меня встречавших, был незнакомец: - Хочу тебе представить, Алекс. - обратился ко мне Морис: - Вот и еще один твой старый знакомый, штурман-радист Венсан. Не удивляйся, вы знакомы давно, даже разговаривали с ним... по морзе. Только он был над тобой, а ты - на земле. Помнишь случай в Майнце? Конечно, помню! Я был рад увидеть этого удивительного шутника. Ему тоже запомнился тот случай. Надо же: самолет горит, еле ковыляет, а радист сохраняет присутствие духа! Всего доля минуты способна жить вечно! Через десятилетия, через расстояния, и нет для нее границ!.. Мы долго трясли друг другу руки, а затем продолжили встречу в парижском клубе летчиков "Free French"!
(обратно)33
1*. (стр.111). Известно, что Матильда Каррэ в английской тюрьме написала книгу своих воспоминаний "Меня звали Ля Шатт", конечно, по-своему интерпретируя события. Абверовец Хуго Блейхер, тоже в английской тюрьме, написал мемуары "История полковника Анри", в которых рассказал и о разоблачении им и аресте английского разведчика Питта Черчилля (о нем я упоминаю в главе 12). Под "полковником Анри" Блейхер некое время подвизался во французском Сопротивлении. См. также: Михаэль Золтиков «Кошка» Издательство: "Гея" (1997)
(обратно)34
1*. (стр. 112). Макс и другие антифашисты-рабочие Берлина состояли членами Берлинской ветви большой разведсети, для борьбы с которой органы гестапо и абвера создали коммандо под названием "Роте Капелле", по-французски - "Оркестр руж".
(обратно)35
2*. (стр.115). "Гараж" - высокий железобетонный короб с несколькими альвеолами, вмещавших более одиннадцати подлодок. Его жел. бетон потолок первоначально был толщиной в четыре метра, затем его долили до семи, и под конец - до десяти метров толщины. С любопытством посетил я их в Ля Палиссе и в Сен-Назере в 1991 и 1994 году. Они стоят и поныне.
(обратно)36
3*. (стр.123). В октябре 1943 г. Нант подвергся массовой бомбардировке, дом этот был разрушен, но семья чудом уцелела.
(обратно)37
4*. (стр. 126). "Милис де Дарнан" была предназначена в помощь оккупантам для розыска, облав, поимок "террористов"- франтиреров, имела также и карательные функции. В случае высадки союзников, ею планировалось подменить немцев, охранявших стратегически важные объекты, но брошенных на фронт.
(обратно)38
5*. (стр.126). Как оказалось, фамилия была настоящей. Сам он - из эмигрантов, бывший гардемарин.
(обратно)39
6*. (стр.127). В 1942 году было выполнено требование Заукеля, ведавшего обеспечением Германии наемной рабочей силой: 240.000 французских рабочих отправлено в Германию, где уже работало 923.000 французских военнопленных. 27 января 1943 г. был издан закон о "СТО" (Сервис де травай облигатуар), об обязательной трудовой повинности для всей фр. молодежи. По нему Заукель потребовал отправки в Германию до 15 марта еще 250.000, из которых - 150.000 - квалифицированных рабочих.
(обратно)40
7*. (стр.130). Согласно справки из Интернациональной Службы Розыска, Арользен, № 262150 от 21 ноября 1972 г. наша группа была арестована в акции СД под кодовым названием "Меершаум" (Морская пена), по распоряжению начальника Службы Безопасности Парижа. В тот день было арестовано более десяти членов нашей организации, почти вся ветвь - "Группа"Бретань".
Из документов СС - Главного Хозяйственного Управления, Ораниенбург, №829/43, от 6 июля 43 г.: "Секретно! Начальникам концлагерей. Относительно "Акции Меершаум"... В случае гибели узников, арестованных по данной акции, ни в коем случае не ставить в известность кого-либо из их родственников, а сообщать непосредственно Начальнику Службы Безопасности (БДС)-Париж. - Оберштурмбанфюрер (подпись)
(обратно)
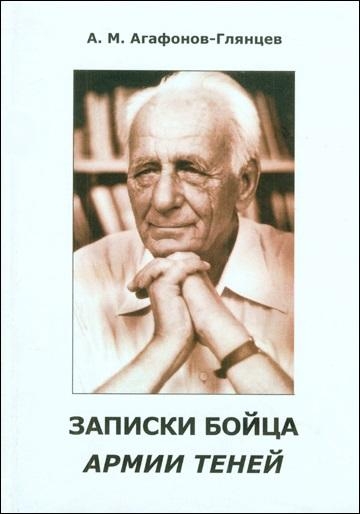


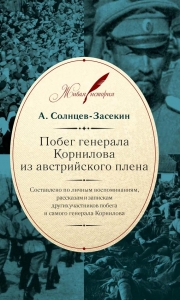
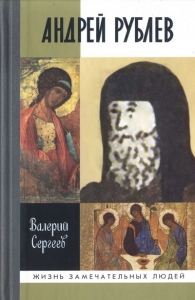

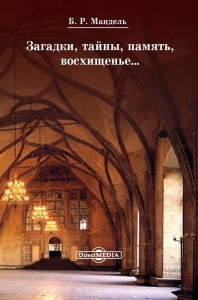
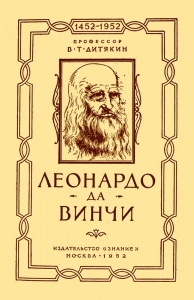
Комментарии к книге «Записки бойца Армии теней», Александр Михайлович Агафонов-Глянцев
Всего 0 комментариев