В. А. Сухомлинов Генерал В. А. Сухомлинов. Воспоминания
© ООО Издательство «Питер», 2015
Предисловие Николая Старикова Военный министр, которого судил царь, посадил Керенский, а освободил Ленин
Это кажется невозможным, но это действительно так. Автора мемуаров в тюрьму посадил царь, осудил на каторгу «демократический» Керенский, а на свободу выпустил «кровавый» Ленин. Полное разрушение исторических стереотипов – особенно если упомянуть, что речь идет о военном министре царской России. Именно при нем Россия вступила в Первую мировую войну.
Зовут этого человека Владимир Александрович Сухомлинов. Его мемуары вы держите в руках. Они наполнены фактами, оценками и… огромной горечью. Боевой офицер, участник Русско-турецкой войны 1877–1878, награжденный боевыми орденами и золотой саблей, закончил свою карьеру презираемым арестантом, подвергнутым в обществе остракизму. И ведь даже не сказать, что он разделил общую горькую судьбу многих подданных России начала ХХ века, что хлебнули горя в Гражданской войне и эмиграции. Сухомлинов начал путь на свою Голгофу безо всякой революции, при том самом режиме, при котором был командующим войсками Киевского военного округа. Затем в момент максимального разгула революционной анархии – с октября 1905 года – одновременно киевским, подольским и волынским генерал-губернатором. В 1908 году недолго побыл начальником Генерального штаба, а потом стал военным министром. И оказался в тюрьме по обвинению в ряде должностных преступлений, вплоть до государственной измены. Возможно, что нелюбовь к некоторым министрам обороны со стороны общества, с ярким желанием посадить их в тюрьму, является повторяющимся циклом российской истории с интервалом примерно в столетие…
Но к Первой мировой, или Великой войне, как ее называли вплоть до начала еще более страшной Великой Отечественной, карьера Сухомлинова развивалась блестяще. Давать оценки его решениям накануне крупнейшего военного конфликта сегодня очень непросто. Нашей армии не хватало снарядов, но никто ни в одной стране не планировал столь длинной и столь масштабной войны. А ведь именно Сухомлинова Николай II хотел назначить Главнокомандующим всей русской армией. Однако военный министр проявил странную для военного, но понятную для придворного «скромность» и попросил, чтобы второй потенциальный кандидат на этот пост дал заверение, что отказывается от верховного командования. Этим вторым претендентом был великий князь Николай Николаевич Романов. В итоге он и стал командовать нашей армией, и боевой путь русских войск стал таким, каким мы его знаем из учебников истории. Как воевали бы наши солдаты под руководством Сухомлинова, можно только предполагать. Сам военный министр, как следует из его мемуаров, считает, что армия и страна были готовы к войне хорошо. Он так и пишет: «Никогда Россия не была так хорошо подготовлена к войне, как в 1914 году». Тем не менее, недостаток боеприпасов, в первую очередь снарядов, и винтовок в самый первый период войны поставил Россию в сложное положение. И тут кто-то должен был ответить за понесенное поражение. В 1941 году роль стрелочника первых неудач выполнил генерал Павлов. Он был обвинен, судим и расстрелян за колоссальный разгром вверенных ему войск Красной армии в Белоруссии. Надо отметить, что Павлов действительно был виноват: получив распоряжения о приведении войск в боевую готовность, он эти приказы не выполнил, что в итоге привело к разгрому. Насколько виноват в поражениях армии именно Сухомлинов, сказать куда сложнее. Политическое руководство царской России вмешивалось в деятельность военных куда больше, чем это делал в первый период войны Сталин. Достаточно напомнить, что русская армия, «спасая Францию», начала наступление в Восточной Пруссии раньше своих собственных планов, толком не отмобилизовавшись. Итог – застрелившийся генерал Самсонов, покончивший с собой после гибели вверенной ему армии. Это было сразу после начала войны в 1914 году, а в 1915 военное положение еще более ухудшилось. Нужен был «официальный виновный». И им назначили военного министра Сухомлинова. В своих мемуарах он постарался дать ответ на обвинения и объяснить, что же происходило на самом деле. Поводом для ареста и обвинений послужило так называемое «дело Мясоедова», когда один из русских офицеров был разоблачен как немецкий агент, и следствие начало «подтягивать» к этому делу бывшего военного министра. Достигшему 70-летнего возраста Сухомлинову довелось посидеть сначала в тюрьме, а потом под домашним арестом. А дальше произошел Февральский переворот 1917 года, который по своей сути очень напоминает то, что произошло в Киеве в феврале 2014 года. «Торжество свободы» для Сухомлинова ознаменовалось новым арестом и судом. Временному правительству очень были нужны доказательства «предательства» царской семьи и лично монарха. Поскольку таких фактов не удалось накопать, то на первый план опять-таки выдвинули Сухомлинова. В результате генерал был приговорен к лишению всех прав состояния и к пожизненной каторге.
Но тут случился Октябрьский переворот, большевики сменили «временщиков», в стране начиналась Гражданская война. А Сухомлинов тихо сидел в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Вот как он описывает свою тюрьму: «Режим при царском правительстве был строгий, но гуманный, а при новом порядке или, говоря правильнее, беспорядке – бесчеловечный, чисто инквизиторский. Существовавшую до революции инструкцию забраковали, стали вырабатывать новую, и недели три нашу жизнь заключенных отдали на произвол солдат гарнизона крепости. Обнаглевшие, со зверскими физиономиями люди в серых шинелях под видом каких-то гарнизонных комиссий врывались периодически в камеру, шарили в убогой и без того обстановке. У меня решительно ничего не было своего, полагалось быть в казенном белье и халате. Утешались эти изверги тем, что выбрасывали в коридор подушку, одеяло, матрац… При неоднократных обысках… раздевали меня догола, на каменном полу, в холодной камере…».
Хочу подчеркнуть, что таковы порядки в «новой демократической тюрьме» были еще ДО прихода к власти большевиков. Парадокс в том, что именно Советская власть освободила Сухомлинова, никоим образом не имея претензий к царскому военному министру. Выйдя в мае 1918 года на свободу, он почел за благо побыстрее уехать за границу через Финляндию. И вовремя – ведь в сентябре 1918 года был объявлен Красный террор, который он вряд ли пережил бы.
Уехав за границу, бывший военный министр сел писать мемуары. Они, безусловно, являются для нас очень ценным источником для изучения истории. И не только истории Первой мировой войны. Тут и история Русской армии в целом, и записки очевидца важнейших государственных решений последнего русского императора. Что же касается понимания Сухомлиновым политических хитросплетений, то тут достаточно привести лишь одну цитату. Мемуары он писал в начале 20-х годов, когда обескровленные Россия и Германия начали налаживать отношения и понемногу отходить от катастрофы, в которую их ввергли страны Антанты. Зная, что случится в тридцатых и сороковых годах ХХ века, мы читаем слова Сухомлинова совсем по-иному:
«Начинающееся на моих глазах мирное, дружественное сближение России и Германии является основной предпосылкой к возрождению русского народа с его могучими действенными силами. Русский народ молод, силы его неисчерпаемы. Русские и немцы настолько соответствуют друг другу в отношении целесообразной, совместной продуктивной работы, как редко какие-нибудь другие нации. Но для сохранения мира в Европе этого было недостаточно – необходим был тройственный союз на континенте. Вместе все это создавало почву для предопределенной историей коалиции: Россия, Германия и Франция – коалиции, обеспечивавшей мир и европейское «равновесие», угрожавшей лишь одной европейской державе – Англии. Эта угроза заставила ее взять на себя инициативу создания другой, более выгодной ей коалиции – «entente cordiale». Альбион не ошибся в своих расчетах: два сильнейших народа континента лежат, по-видимому, беспомощно поверженными в прах. Одно лишь упустил из виду хладнокровно и брутально-эгоистически рассчитывающий политик: ничто не объединяет людей так сильно, как одинаковое горе».
Уверен, что мемуары Сухомлинова добавят много новой информации для вашего понимания истории нашей Родины.
Николай Стариков
Часть первая. Детство и юность
Глава I. Мое воспитание
Родился я 4 (16) августа 1848 года в г. Тельши Ковенской губернии, вблизи прусской границы. Отец мой происходил из украинской фамилии Сухомлин, которая при переселении в Симбирскую губернию в восемнадцатом столетии превратилась в Сухомлинова. Отец начал свою службу в лейб-пехотном Бородинском полку, но затем перешел на гражданскую службу и стал начальником уезда. В Тельшах он женился на дочери переселившегося в Литву белорусского дворянина Лунского и жил там со своими тремя детьми (из которых я был старший) сносно, беззаботно и миролюбиво среди русских офицеров, немецких и польских дворян, литовских крестьян и евреев.
Позже, в 1860 году, отец был начальником Белостокского уезда.
В десятилетнем возрасте мне посчастливилось совершить большое путешествие: в 1858 году я сопровождал мою матушку в путешествии за границу, в Германию, где ей должны были оказать медицинскую помощь.
Из Берлина отправились мы в Эмс, а оттуда на несколько месяцев на Женевское озеро. Эта поездка глубоко врезалась в мою память: в Берлине я любовался прекрасными лошадьми, каких до того еще не видел; солдатами с их марсиальной выправкой; на Женевском озере – грандиозными горами, зеленовато-голубой водой и такими художественными строениями, как Шильонский замок. Он даже воодушевил меня на рискованную попытку зарисовать эту чудную картину.
После возвращения из-за границы меня и брата стали готовить к поступлению в кадетский корпус. В 1861 году мы оба прибыли в Вильно и были приняты в Александровский кадетский корпус. Зиму кадеты проводили в большом каменном здании в предместье Антоколь. Классные помещения, тронный зал и церковь находились в деревянных пристройках. На лето корпус переходил в лагерь, устроенный на живописном берегу реки Вилии, в нескольких верстах от города.
Нам хотелось устроить любительский спектакль. Это желание удалось осуществить, и мы пригласили на представление наших родственников и знакомых. В одном из актов пьесы «Бедность не порок» на мою долю выпала роль девицы, и бывшему на спектакле генерал-губернатору Назимову я был представлен в модном тогда кринолине.
Половина воспитанников были католики, но мы жили с ними вполне миролюбиво. В общем, содержали нас хорошо, кормили с избытком, хотя нередко легкий, но сытный завтрак состоял из куска черного хлеба, который в громадных корзинах приносили нам в камеры.
При такой спартанской пище неудивительно, что многие из нас были настоящими лакомками, гонявшимися за лучшими кусками, в особенности те, которые свой хлеб отдавали голодным товарищам в обмен на предстоявшую раздачу конфет.
Из-за этого всегда возникало беспокойство, когда в известные праздничные дни полагавшиеся пакетики со сладостями запаздывали или вовсе не появлялись. В один из таких праздников мы тщетно ожидали за столом эти полагавшиеся пакетики. Когда, тем не менее, подан был сигнал «вставать на молитву», никто из нас не поднялся, молитва пропета не была и ни один из кадет столовую не покинул.
Когда озадаченный дежурный офицер попытался проявить энергию, его забросали хлебными корками. Все ревели: «Конфет!» Вызванный в столовую командир батальона Ольдероге не мог восстановить порядка, его постигла та же участь, что и дежурного. Лишь с появлением директора Баумгартена, который пользовался у нас большим уважением, все успокоились.
Дело это не имело никаких дальнейших последствий; такой благожелательный человек, как наш директор, отнес его к глупой юношеской проделке, а не воинскому преступлению. Мы вышли на этот раз сухими из воды.
Хуже для нас разрешилось дело в другом случае. Понять его можно, только приняв во внимание нервное состояние, господствовавшее в 1863 году не только в Вильно. В Польше вспыхнуло восстание, а в Литве – лишь беспорядки. Для их подавления в Вильно были присланы гвардейские части. Несколько рот л. – гв. Финляндского полка были помещены в наших корпусных зданиях.
Однажды, в свободное от занятий время, когда кадеты играли или просто гуляли на воздухе, появился командир полка генерал Ганецкий – маленький человек, восседавший на необычайно большом коне. Несколько кадет, увлеченных игрой, не заметили его и не приветствовали генерала.
Вообразив, что это был умышленный афронт со стороны кадет, генерал потерял самообладание и разразился руганью, к которой мы не привыкли и которая возбудила в нас смех, да и сама фигура начальника представлялась нам в высокой степени комичной. В то время как генерал неистовствовал на дворе, то наезжая на одиночных кадет, то осаживая коня, во всех окнах корпусного здания, вследствие поднявшегося шума, показались кадеты и подняли невероятный вой. Смущенный донельзя генерал круто повернул коня и поскакал к генерал-губернатору. Последний не замедлил явиться лично и учинить нам разнос…
Мальчишество изображено было мятежом, и в таком смысле об этом было донесено в Петербург. Через несколько дней нам пришлось выступать на вокзал под конвоем казаков для рассылки по другим кадетским корпусам. Таким образом Виленский корпус был расформирован.
* * *
В 1866 году, согласно моему желанию, я был переведен в Николаевское кавалерийское училище.
Уже одно наименование этого заведения указывает на то, что в нем преобладало кавалерийское образование. Оно не было настолько односторонним, чтобы препятствовать развитию кругозора юнкера для усовершенствования знаний в различных областях. Это военно-учебное заведение дало русской армии немало деятельных генералов, а лично для меня – нескольких выдающихся сотрудников из различных областей деятельности. Большинство же, конечно, осталось в рядах конницы.
Глава II. Мое военное образование
Наконец я действительно корнет! После восьми лет обучения в закрытых учебных заведениях, постоянного надзора и постоянной опеки я стал сам себе господин! Только тот, кто сам переживал внезапный скачок из военных учеников в офицеры, может понять те чувства, которые меня обуревали, когда я в 1867 году, едва лишь в возрасте девятнадцати лет, в роли корнета л. – гв. Уланского его величества полка, очутился в Варшаве. Описать мое настроение того времени я не в силах. Голова кружилась! Все казалось мне в розовом свете. Вследствие привычки жить все время по установленному расписанию я на первых порах не знал, как распорядиться своим временем.
Нас было всего десять корнетов, прибывших в полк одновременно: восемь из Николаевского кавалерийского училища и двое из Пажеского корпуса. В офицерском составе полка мы застали очень много немецких фамилий: трех баронов Оффенбергов, барона Притвица, Сюнерберга, Берга, Дерфельдена, Бадера, Багговута, Фейхтнера, Авенариуса и др. Один из немногих православных, который был истинно русским, и тот имел несчастие носить фамилию Штуцер. Этот Штуцер, как ни странно, кроме русского, никакого другого языка не знал.
В то время положение корнета в эскадроне не соответствовало тому, чтобы молодые офицеры имели возможность совершенствоваться и своей службой приносить пользу. Вся служебная работа в совокупности выполнялась эскадронным командиром и вахмистром, вместе с унтер-офицерами, но довольно часто даже одним вахмистром, как, например, в нашем эскадроне. Нас, молодых офицеров, оба они считали балластом. Только когда эскадрон выступал в строевом порядке, мы появлялись на своих местах, предназначенных нам по строевому уставу.
Точно так же и Варшава как гарнизон не очень соответствовала тому, чтобы молодые офицеры относились с особым усердием к работе. Город был очаровательный. Жизнь его скоро втянула нас в свое русло. Она протекала на виду, целиком на улице: элегантное общество появлялось всегда и везде в праздничном настроении. Несмотря на то что город по его величине нельзя и сравнивать с Петербургом, в Варшаве жизнь пульсировала несравненно больше, и жилось легче на берегу Вислы, нежели на берегах Невы. Ко всему этому присоединялось еще одно важное обстоятельство: жизнь была чрезвычайно дешевой.
В офицерском собрании, находившемся вблизи чудного парка в Лазенках, с его прекрасными верховыми и колесными дорогами, жилось нам прекрасно. Все, что требовалось для нашего обихода, доставлялось еврейскими торговцами, быстро взявшими нас под свою опеку и сравнительной дешевизной в отношении магазинных цен устранявшими всякую другую конкуренцию. О нашем обмундировании заботился полковой портной, он же приискивал квартиры для офицеров и обучал нашу прислугу как в своих интересах, так и не без удобств для нас: денщики сообщали ему о состоянии нашего обмундирования – что надо починить, что построить заново. Он зарабатывал на этом несколько рублей в месяц, а мы были всегда безупречно одеты, не имея надобности ломать голову соображениями, что и как по этой части предпринимать. Низкие цены давали нам возможность посещать разные увеселительные заведения, преимущественно императорский театр и балет. Для меня лично большим козырем было то обстоятельство, что я как воспитанник Александровского Виленского кадетского корпуса говорил по-польски, поэтому быстро освоился в Варшаве не только с речью, но и с письмом.
В варшавском обществе, в центре которого стоял генерал-губернатор граф Берг, уланы пользовались большим уважением. Полк держал себя безупречно, поэтому мы, молодые офицеры, были желаемые гости везде, где только ценили молодых, воспитанных людей.
* * *
Когда я теперь на чужбине вспоминаю превосходные поручичьи годы, оглядываясь более чем на полстолетия назад, и сам себе задаю вопрос: как мы в Варшаве относились к мировым историческим событиям 1870–1871 годов, объединению германского народа в новом германском государстве, должен сознаться, что мы, молодежь, в полку вообще не задумывались над этим. Газет мы не читали, а говорить о политике в собрании считалось дурным тоном. Все наши помыслы и стремления сосредоточивались на жизни в обществе, соответствующей нашей службе в шефском полку царствующего государя. Мысли, зарождавшиеся в Варшаве, уносились в Петербург, ко Двору, к петербургскому обществу, от которого мы, собственно, были откомандированы.
Мы легко примирились с этим, когда убедились, что никогда не найдем в Варшаве родного очага. Лишь немногие из нашего офицерского состава примкнули к семейной жизни польского общества. Официально мы находились в России, а в действительности – на чужбине. Ни одна из сторон не шла друг другу навстречу, и та и другая держали себя корректно, но кинжал за пазухой в местных семьях нами всегда чувствовался. Такая обстановка, при сознании большой ответственности в условиях официального нашего положения, для некоторых из наших молодых офицеров заранее служила поводом не бороться с желанием как можно скорее покинуть Варшаву.
* * *
В академии было два основных курса и один дополнительный. Оба первых включали теоретические и практические занятия, тогда как в дополнительном курсе никаких лекций не было.
Первый курс я стал проходить с осени 1871 года. Переходный экзамен, с 2,5-месячным перерывом для практических занятий, состоялся в 1872 году.
Этот первый экзамен мне пришлось сдавать при особенно неблагоприятных условиях. После того как я вечером, перед предпоследним экзаменом по артиллерии, всю ночь проработал при керосиновой лампе, сильно нагревшей мне голову, я проснулся утром с легкой головной болью, и мне трудно было смотреть на свет. Тем не менее я надел мундир, защитил глаза синими очками и отправился на экзамен.
По артиллерии я получил очень интересный билет и усердно покрыл всю доску чертежами и цифрами. Генерал Эгерштрем внимательно просмотрел мою работу и больше никаких вопросов мне не задавал. Я увидел, что он мне поставил оценку 12, но затем я потерял сознание. В беспамятстве меня доставили домой. Доктор констатировал воспаление мозговых оболочек. В течение нескольких недель лежал я тяжелобольным, но благодаря неутомимому уходу моей матери и сестры поправился раньше, нежели надеялся.
* * *
Третий учебный год, так называемый дополнительный курс, был сплошным экзаменом.
На первую военно-историческую тему мне досталась «Английская экспедиция в Абиссинию в 1867 году». Так как большая часть лучших источников была на английском языке, то мне принесло большую пользу посещение лекций английского языка во время прохождения двух первых курсов. Из области военной администрации мне пришлось разработать тему «Сравнение организаций продовольственных транспортов в армиях: русской, германской, австрийской и французской». При разработке этого вопроса обнаружилось, что полковник Газенкампф в своих курсовых записках об обозных колоннах германской армии пришел к неблагоприятному заключению для этой последней, что не отвечало действительному положению дела. Так как мои выводы были совершенно иными, то предстоял диспут. Оппонентами были профессора Лобко и Газенкампф, а кроме того, присутствовал и начальник академии генерал Леонтьев.
В моем докладе я ни словом не упомянул о курсовых записках. Когда Газенкампф спросил, каким путем у меня получился такой вывод, я взял лежавший на столе германский регламент и выписал на доску соответствующие цифры. Начальник академии объявил вопрос исчерпанным.
В противоположность первым двум темам, для которых письменно требовались лишь программа-конспект и устный доклад, третью, стратегическую, тему полагалось обстоятельно разработать письменно и затем доложить устно. Мне достался вопрос о вторжении нашей конницы в Германию для разрушения железных дорог. В основание принято было исходное положение, самое неблагоприятное для России в политическом отношении. Войсковые условия наши были таковы, что в то время, как германская армия заканчивала свою мобилизацию на шестой день, нашей армии, чтобы развернуть ее, требовалось времени приблизительно в десять раз больше. Вследствие этого для такого выдвинутого вперед театра войны, как Варшавский военный округ, создавалась серьезная обстановка: одновременным наступлением из Восточной Пруссии и Галиции весь этот район, со всем тем, что в Привислинском крае находилось, мог быть отрезан. Обезопасить округ от такой возможности системой крепостного строительства было немыслимо, так как на это требовались такие расходы, до которых наши финансы не доросли.
Генералу Обручеву вследствие этого пришла мысль задержать мобилизацию наших возможных противников на западе путем разрушения их железных дорог. По этим соображениям наша кавалерия и была расположена уже в мирное время вдоль германской и австрийской границ. Именно подобное вторжение я должен был разработать до мельчайших подробностей. Это была, вне всякого сомнения, одна из самых интересных работ, которая для будущего офицера Генерального штаба в 1870-х годах могла быть предложена, даже если бы он и не был кавалеристом. Для меня же, 40 лет спустя, когда я принял наследство Драгомирова в Киеве, она имела особенное значение.
Моя работа рассматривалась: статистическая часть – генералом Обручевым, тактическая – полковником Левицким и административная – полковником Газенкампфом.
В день доклада собрались многочисленная публика и крупные чины военного ведомства. Приехал и великий князь Николай Николаевич (старший). Перед началом доклада он подошел ко мне, как к старому знакомому, осмотрел приготовленные карты, ободрил несколькими ласковыми словами и проследил затем с большим вниманием все то, что я излагал. Мои оппоненты не нашли никаких серьезных поводов для возражений. Великий князь остался очень доволен, благодарил меня и рассказал начальнику академии о моей службе в эскадроне Уланского полка.
Только что назначенный инспектором классов Николаевского кавалерийского училища генерал Домонтович тоже присутствовал на моем докладе. Как бывший дежурный штаб-офицер академии, он знал меня раньше, а теперь предложил преподавать тактику в кавалерийском училище.
В то время я склонен был принять лично на свой счет многое из того, что в моем докладе встречено было с большим интересом: мне удалось вполне живым изложением выяснить идею и обстановку и приковать внимание слушателей. В голову тогда не приходила мысль о том, что моя тема могла иметь какую-либо связь с политическим положением в Европе. В полном соответствии с внеполитическими убеждениями, чисто военно-технические воззрения мои и моих товарищей были естественным следствием нашего воспитания.
Многозначительный вопрос германо-австро-венгерского союза, волновавший тогда кабинеты всех государств, в нашем кругу не играл никакой роли. Это было дело Министерства иностранных дел, а моя задача – чисто технически-кавалерийская.
В то время великий князь и другие высокопоставленные лица, быть может, могли давать себе отчет о политическом положении и проистекавших от него возможных последствиях, я же лишь с увлечением техника над своим творением разрабатывал задачу как кавалерист в отношении теоретически взятого противника. Моя позднейшая деятельность помощника Драгомирова и командующего войсками в Киеве, а также борьба за восстановление наших вооруженных сил, которыми я руководил с 1905 по 1914 год, позволили мне осознать, какая в 1874 году донельзя серьезная практическая работа выпала на мою долю в академии.
В 1874 году, с производством в штаб-ротмистры, я был причислен к Генеральному штабу и прикомандирован к штабу войск гвардии и Петербургского военного округа.
Глава III. В Генеральном штабе
Главнокомандующим Петербургского военного округа был тогда великий князь Николай Николаевич (старший), а начальником его штаба – граф Шувалов, создавший впоследствии себе громкое имя в должности нашего посла в Берлине и затем варшавского генерал-губернатора.
Граф Шувалов носил мундир Генерального штаба, не быв в Академии Генерального штаба, исключительно благодаря доверию Александра II, личным другом которого он был, как и вообще пользовался доверием всей царской фамилии. Во всей своей манере и склонностях Шувалов был большой барин. По личности графа мы часто сознавали ту глубокую пропасть, которая отделяла корпус офицеров всех степеней от тонкого слоя действительно правящих. Несмотря на то что он был начальником штаба, то есть по своему положению главным работником штаба, Шувалов господствовал над всеми остальными штабными почти так же, как и великий князь. Вследствие этого мы, молодые офицеры Генерального штаба, едва лишь соприкасались с ним.
Как посредничество с верхами, так и вся вообще воинская служба была в действительности в руках генерала Гершельмана. Именно он сообщил мне о выпавшей на мою долю обязанности по работе в штабе. В течение предстоявшего лагерного сбора в Красном селе я должен был сопровождать его императорское высочество и записывать все его замечания.
В штабе я застал точно так же прикомандированного годом раньше капитана полевой конной артиллерии Пузыревского, впоследствии начальника штаба Варшавского округа при Черткове. С однофамильцем, моим дядей-профессором, он ничего общего не имел.
После турецкой кампании мы с ним породнились, так как я женился на родной сестре его супруги, урожденной баронессе Корф, также сестре супруги министра юстиции Набокова, сын которого был убит в Берлине русским эмигрантом по ошибке, вместо Милюкова. С Пузыревским мы жили вместе в штабном бараке.
Затем в штабе находился профессор, полковник Газенкампф, хорошо знавший нас обоих. Великий князь Николай Николаевич (старший) почти ежедневно посещал занятия, следя своим опытным глазом за целесообразностью обучения частей. Все замечания, указания и распоряжения, которые он при этом делал, я записывал, а вечером составлялась сводка, которую я передавал Газенкампфу. В форме бюллетеней все это печаталось и рассылалось в войсковые части. К окончанию обучения в лагере был составлен сборник руководящих указаний, дававший возможность ознакомиться с требованиями и взглядами главнокомандующего на службу и образование вверенных ему войск.
Этот томик представлял большой интерес для командующих войсками других округов, которым не лишним было считаться с тем, что и как делается на глазах у верховного вождя русской армии.
Эта точка зрения имела особенно большой вес ввиду того, что опыт франко-германской войны вызвал партийную рознь, причем такой крупный воинский вождь, как Драгомиров, был противником в душе всех технических новшеств.
В то же самое время генерал Драгомиров командовал 14-й пехотной дивизией в Бендерах, и своеобразные приемы его обучения создали славу Бендерского лагерного сбора, своего рода суворовской Мекки, куда ездили на поклонение.
Великий князь Николай Николаевич (старший) чтил Суворова как великого полководца, но не находил правильным при современном состоянии оружия и военного искусства считать, что все приемы суворовского воспитания и обучения войск применимы в настоящее время.
Драгомиров был поклонником рыцарского романтизма в войсках и именно вследствие этого, подобно немногим, дух войск и личные свойства начальника старался развивать и поддерживать.
Очень много тогда толковали о том, что Михаил Иванович Драгомиров стал у мишени и одному из хороших стрелков приказал обстрелять свою фигуру вокруг, сажая пули на некотором расстоянии одну от другой.
Этот личный показ должен был служить примером для применения способа приучения к пренебрежению опасностью в бою, когда вокруг свистят пули.
Великий князь любил Драгомирова, но считал его «чудаком», одновременно используя его преимущества в интересах армии. Когда он приехал в Петербург, он пригласил Михаила Ивановича сделать сообщение у него во дворце, чтобы ознакомить начальников частей Петербургского округа с приемами Бендерского лагерного сбора.
Я тоже присутствовал на этом сообщении, где мне впервые посчастливилось познакомиться с Драгомировым, его манерой и способом изложения на кафедре. Это была не лекция, а сообщение в форме беседы. Михаил Иванович обращался к кому-нибудь из слушателей и задавал ему вопрос, предлагая закончить фразу, выражающую его вывод.
Временами казалось, что являешься новобранцем на школьной скамье, благодаря той упрощенной форме изложения, в которой он внушал слушателям свои убеждения.
Многочисленным слушателям, офицерам высших рангов, такой прием, понятно, не нравился. При горделивом сознании своего достоинства и непогрешимости, которыми они кичились, им было известно, что лектор не остановится перед тем, чтобы при случае вышутить кого-нибудь из них перед аудиторией. Вследствие этого создавалось слегка неблагоприятное настроение во время его сообщений, что генералу на кафедре, конечно, не было на руку и раздражало его.
Так это было и на памятном для меня сообщении во дворце великого князя. Драгомиров, не стесняясь, иногда попросту прекращал лекцию и без всякой церемонии удалялся. У великого князя Михаил Иванович был так оригинален в приемах своего сообщения, что, поддаваясь общему настроению, я не утерпел изобразить на листе бумаги известную позу лектора в карикатуре. Рисунок имел большой успех. Во время перерыва он пошел по рядам и попал к Дмитрию Антоновичу Скалону, который показал его самому Драгомирову. Рисунок ему понравился, он засмеялся и пожелал непременно познакомиться с автором. Моим товарищам ничего не оставалось, как вытащить меня из моего угла и представить генералу. «Одобряю, – сказал Михаил Иванович, – его высочество вас хвалит. Вы ловко схватываете оригинальные черты. Не бросайте вашего искусства…»
Вскоре после этого меня пригласил к себе на ужин Иван Федорович Тутолмин, воспитатель Петра Николаевича, второго сына Николая Николаевича (старшего), где я встретился опять с Михаилом Ивановичем. (Это было в 1874 году.) Здесь мы с ним познакомились ближе, довольно долго говорили об академии, и он взял с меня слово, что я буду ежемесячно посылать ему карикатуру.
Вплоть до турецкой кампании я слово свое держал и назвал этот свой ежемесячный журнал «Молодой Змеей», высылая художественную обложку на год и номер – каждый месяц.
Я приобрел не только крупного учебных дел мастера, но личного друга и ценного покровителя, дружбу к которому я сохранил и после его смерти. Вся моя войсковая жизнь протекала под влиянием этого, правда, оригинального, но чудного человека, солдата и русского фанатика.
* * *
Причисленным я оставался недолго и к 1875 году был переведен в Генеральный штаб капитаном, с назначением старшим адъютантом штаба 1-й гвардейской кавалерийской дивизии.
Дивизией командовал светлейший князь Голицын, большой барин старого времени, не отвечавший уже новым требованиям, но всеми высоко почитаемый. Он не был свободен от некоторых причуд. Так, например, он не мог видеть равнодушно корнета, чтобы не распечь его или не наложить даже взыскания.
Однажды, проезжая в закрытой карете по Большой Морской улице, он заметил корнета л. – гв. Конного полка, не отдавшего ему чести. Командиру полка приказано было посадить его на гауптвахту. Когда «светлейшему» доложили, что офицер заявляет о несомненной ошибке, так как он начальника дивизии не видел нигде, князь ответил: «Еще бы он меня видел да не отдал чести: я был в карете». И корнет все-таки сутки отсидел.
Князь жил на Миллионной улице. Однажды кавалергардский взвод отвозил штандарт в Зимний дворец мимо окон его дома; один из офицеров при этом ехал не на своем месте, по уставу. Князю показалось, что этот корнет – граф Толстой, и он приказал посадить его на гауптвахту. Командир полка, граф Игнатьев, приехал доложить, что граф Толстой в наряде не был.
На это «светлейший» приказал для компании посадить и того, который был в наряде. Толстой же отсидел за «здорово живешь».
Мне тоже пришлось отсидеть несколько часов, но только при совершенно других условиях. Гвардейским корпусом командовал наследник цесаревич Александр Александрович, и на Пасху приказано было прислать в Аничковский дворец от всех гвардейских частей известное число лиц для христосования.
Начальник штаба дивизии, полковник Аргамаков, был в отпуске, и распоряжение об этом по дивизии делал я. Прибыли мы с начальником дивизии во дворец, а кавалергардов не оказалось, тогда как все остальные были на месте.
Наследник этого, конечно, не заметил, но князь Голицын очень волновался и приказал мне немедленно отправиться в полк, чтобы разобраться, в чем дело. Подъезжая к квартире полкового адъютанта графа Келлера, я встретил его на подъезде. На мой вопрос, почему кавалергарды не прибыли во дворец, он ответил, что никакого распоряжения получено не было. Мы вошли затем в его квартиру, и первое, что мне бросилось в глаза: не на письменном, а на ломберном столе лежала телеграмма за моей подписью. Обвинение штаба дивизии, таким образом, само собой отпадало. Полковой адъютант был посажен на гауптвахту.
По городу быстро распространилось известие об этом аресте, и мне передали, что к этому добавляли: «Штаб дивизии путает, а полки за это отвечают…»
Тогда я отправился к начальнику дивизии и попросил освободить полкового адъютанта, а меня посадить вместо него. Сперва князь заартачился и не соглашался, но затем понял, что только таким образом можно не только парализовать сплетню, но и пристыдить виновных.
Согласившись на это, князь Голицын только сказал мне, чтобы я «садился на гауптвахту сам», а он никакой бумаги подписывать не будет.
Я поехал к коменданту, генералу Адельсону, хорошо меня знавшему, объяснил ему всю историю, и он согласился поменять меня на графа Келлера, о чем и дал мне предписание для начальника караула на Сенатской площади.
На гауптвахте, в гостях у «несправедливо потерпевшего», я застал почти весь полк и, вручая графу Келлеру его палаш, объявил решение начальника дивизии: так как до него дошли сведения, что кавалергарды убеждены в невиновности их полкового адъютанта, о чем и говорят в городе, то виноват в таком случае штаб. Поэтому взыскание переходит на меня как исполняющего должность начальника штаба дивизии.
Получилась картина прямо для сцены театра: мнимый несправедливо потерпевший не хотел уходить из-под ареста, а начальник караула просил его покинуть гауптвахту. Через полчаса кавалергарды приехали опять, и мое помещение наполнилось корзинами от Смурова, в которых было все лучшее, что только нашли в этом гастрономическом магазине.
На одном из так называемых опросов претензий, при инспекторском смотре, любимец светлейшего доставил ему большое удовольствие.
На вопрос начальника дивизии, нет ли претензий, обыкновенно никто их не предъявлял. Но на этот раз, когда князь Голицын проходил мимо Всеволожского, последний заявил:
– Я имею претензию, ваша светлость.
Князь остановился, пораженный такой неожиданностью, и спросил:
– Какую такую претензию может иметь юнкер?
– На красоту, ваша светлость, – ответил Всеволожский, не моргнув глазом.
Эффект получился совершенно исключительный, в особенности когда светлейший с улыбкой отдал приказание:
– Посадить эту «красоту» на гауптвахту.
По академическим правилам окончившие курс получали право увольнения в отпуск на четыре месяца с сохранением содержания.
Я воспользовался этим правом, побывав во многих городах Германии, Австрии, Швейцарии, Италии и Франции.
Обо всем том, что я наблюдал за границей с военной точки зрения и личных впечатлений (за неимением под рукой заметок того времени), я не имею возможности рассказать сейчас так, как это было бы мне желательно. Наиболее сильное впечатление оставила в моем сердце Ривьера, и я после того почти ежегодно паломничал туда, – под конец еще министром, весной несчастного 1914 года…
* * *
По возвращении в Петербург я приступил к чтению лекций по тактике в Николаевском кавалерийском училище. Затем мне предстояло в каком-нибудь полку откомандовать эскадроном для получения ценза на командование в будущем кавалерийским полком.
Не нарушая ничьих интересов в этом отношении, оказалось наиболее подходящим мое прикомандирование к л. – гв. Кирасирскому полку его величества, которым командовал тогда граф Нирод. В своем полку отбывать эскадронный ценз было нельзя, так как он находился в другом округе.
В Царском Селе я принял 3-й эскадрон. Офицеры полка встретили меня как своего старого товарища. Лишь мой опытный вахмистр Ларичкин, когда я явился в эскадрон, отнесся к «новичку» с некоторым сомнением: какой такой из меня может быть командир?
Но через два-три дня работы он убедился, что у меня кое-какой опыт есть, а когда на выводке лошадей я отобрал всех, требовавших перековки, то всякие сомнения у него отпали.
Зимний сезон того времени не отличался большим оживлением. Балов при большом дворе было мало, что объяснялось тем положением, которое сложилось после смерти императрицы, отношениями императора Александра II к княгине Долгоруковой. Но в частной жизни петербургского общества веселились довольно много. Участие в танцах я принимал охотно, а также из меня выработался хороший дирижер, и вместе с таковым же, гвардейским сапером Прескотом, мы дирижировали на больших балах, где танцевало более двухсот пар.
Так называемый малый двор жил совсем скромно. Наследник цесаревич Александр Александрович предпочитал балам рубку дров, рыбную ловлю и вообще тихую, спокойную жизнь хуторянина в Гатчине, где он на озере охотился на щук с острогой. Сформировал он у себя любительский оркестр, в котором сам играл на большой басовой трубе.
На барабане играл генерал Чингизхан, действительный потомок этого монгола, так похожий на своих предков, что в этом не могло быть ни малейшего сомнения. Любителей поступить в этот высокопоставленный оркестр было, конечно, много, но попасть туда удавалось немногим.
Особенность этого оркестра заключалась в том, что он играл для самого себя во дворце цесаревича. Слушателей у него не было, если не считать членов императорской фамилии.
* * *
В воздухе уже тогда носились признаки возможной войны на Балканском полуострове.
Нам казалось, что болгарам тяжело жилось под мусульманскою властью. В России, особенно в Москве, «панслависты» и «славянофилы» настаивали на заступничестве за соплеменников, томящихся под игом турок. Наша дипломатия не смогла мирным путем добиться в этом отношении каких-либо существенных результатов, даже под угрозой наших вооруженных сил, демонстративно собранных в направлении к Дунаю, точно так же, как и мобилизация румын, живших в постоянных трениях с турками.
Начались регулярные занятия лагерного сбора, но до конца его мне не пришлось пробыть в полку, так как в числе некоторых других молодых офицеров Генерального штаба я был командирован в действующую армию, на Дунай.
Часть вторая. Турецкая кампания (1877–1878)
Глава IV. В тылу
Сдав эскадрон, я отправился в Петербург и быстро покончил с несложными приготовлениями к выступлению в поход. Брать с собой лошадей мне не советовали, но седельный убор я взял. Со многими другими офицерами мне предстоял путь на Москву, Тулу, Орел и Курск – на юг. В Харькове нам устроили трогательный прием-проводы. Местные дамы объединились, чтобы выразить свое внимание отъезжающим на фронт, роскошно угощали и осыпали цветами.
Когда после продолжительной остановки поезд тронулся и я высунулся из окна вагона, чтобы еще раз поблагодарить за сердечные напутствия, одна из милых изящных дам успела дать мне темную, пунцовую розу, сказав: «Сохраните ее: она вам принесет счастье…».
И эта роза совершила со мной весь поход и приехала в Петербург. Дамы же я нигде не встретил, хотя ее красивое лицо запомнил очень хорошо. В Унгенах мы переступили румынскую границу и прибыли затем в Бухарест. Здесь нам пришлось ждать отправки к Дунаю.
В тот же вечер мы отправились дальше и утром не доехали до Фратешти, конечной станции, против турецкой крепости Рущук на правом берегу Дуная. На полустанке нам заявили, что Фратешти обстреливается турками, поэтому поезда пустить дальше нельзя. Между тем вагон с нашим багажом проследовал туда.
К счастью, здесь оказался наш военный инженер, к которому я обратился с просьбой раздобыть как-нибудь наш багаж. Начальник станции наотрез отказывался дать для этого паровоз, и мы с инженером отправились к паровозу, набиравшему воду, и, взобравшись к машинисту, потребовали, чтобы он доставил нас на станцию Фратешти. Он решительно отказался и ушел на тендер, к кочегару.
Тогда мы решили сами съездить во Фратешти. Я переводил стрелки, инженер управлял машиной, и мы, выбравшись на путь, в несколько минут долетели до станции. Турки действительно стреляли, но огонь их был безвреден.
Мне посчастливилось скоро найти вагон с нашим багажом, и, захватив его, мы задним ходом преблагополучно вернулись на полустанок.
В числе моих спутников было два юных корнета. Как и мне, им тоже надо было попасть в Зимницу, которая находилась на запад по Дунаю, километрах в ста от нашей высадки.
Никаких перевозочных средств здесь на полустанке не было.
Долго пришлось ходить по соседним поселкам и хуторам, в которых уже все было забрано раньше нас. Тогда мне пришла мысль собрать волов, коров, жеребят, пристроить упряжку из веревок и холста и запрячь дюжину этого скота в широкую повозку.
За довольно большие деньги удалось уговорить румын наладить дело. На импровизированную колесницу настлана была кукурузная солома, уложены наши седла и вещи. Капитан Генерального штаба и два корнета взобрались поверх всего этого, и шествие тронулось.
Без смеха, конечно, нельзя было смотреть на стадо, переплетенное веревками, как паутиной, и на нас, восседающих на багаже. В таком виде тащились мы трое суток и прибыли в Зимницу, словно совершив тысячеверстный поход.
В Зимнице чувствовался тыл действующей армии, открывались лазареты, виднелись флаги Красного Креста и повязки с тем же крестом, мелькали сестры милосердия, двигались обозы, транспорты, открывали свою торговлю маркитанты и т. д.
Главная квартира главнокомандующего переправилась уже на правый берег, в Систово, и понтонный мост был наведен.
Я явился в штаб главнокомандующего. Начальником штаба был генерал Непокойчицкий, а помощником его генерал Левицкий.
* * *
Мне было объявлено, что через несколько дней Главная квартира переходит в Тырново и я должен следовать за ней. Надо было приобрести лошадь. На удачу продавалась очень хорошая и недорого, так что при вступлении в город Тырново, в свите великого князя Николая Николаевича (старшего), я был верхом.
Войска наши продвинулись уже к Балканам, к Плевне на запад и к Рушуку на восток. Тырново приходилось в центре. Половина его населения были турки, вторая половина – болгары.
С наступлением русских войск последние начали уничтожать турок. При следовании великого князя по городу слышны были еще выстрелы, загорались дома.
Поэтому решено было Ставку главнокомандующего расположить не в городе, а проехав его, на Марино-поле. Мне же великий князь приказал привести город в порядок, для чего в мое распоряжение дан был взвод казаков 21-го Донского полка.
* * *
С тридцатью казаками и без копейки денег я принялся за работу.
Город был построен на скалах, среди которых змееобразно протекает р. Янтра в глубоких, крутых берегах.
Небольшие дома самой примитивной архитектуры, точно гнезда ласточек, лепятся на скалах. Ни одной широкой улицы. В центре на небольшой площадке выстроен единственный двухэтажный дом, по-турецки «ко-нак», куда я и отправился.
Там я застал довольно многолюдное собрание болгар, которые «судили и рядили» о том, как им быть после бегства турецких властей.
Чтобы ознакомиться с местными людьми, я пригласил тех, которые говорили по-русски, в отдельную комнату. Двое или трое из них долго жили в России, и говорить с ними было легко. В результате, после беседы в течение часа или полутора, у меня в руках был уже список горожан, где зафиксировано, кто на какое дело пригоден, а главное, для меня было ясно, кто может быть городским главой.
До устройства болгарской полиции казаки несли патрульную службу по городу.
Надо было выбрать участковых приставов и составить городской совет для заведования хозяйственными делами города.
У меня нашелся прекрасный переводчик, сын известного болгарского поэта, Рачо Словейко, воспитывавшийся в России.
Жизнь в городе стала понемногу налаживаться.
Необходимо было иметь план города, и я его быстро сделал глазомерной съемкой. Этот мой собственный план позже я имел возможность купить на Невском проспекте, в географическом магазине Главного штаба в Петербурге.
Через Тырново проходило много войск, в том числе и генерал Драгомиров со своей 14-й пехотной дивизией, которая шла на Шипкинский перевал.
Расположена она была биваком на Марино-поле, и когда я явился к Михаилу Ивановичу, он меня радостно встретил. Узнав о том, что в горах над городом засели башибузуки и обстреливают город, Драгомиров предложил мне роту, командир которой устроит облаву и выкурит разбойников.
Эта облава состоялась. До гнезда их мы добрались и забрали все, что у них там было припасено, но сами башибузуки улизнули по какой-то тропе, которая нашими стрелками не была занята.
Наконец был назначен и тырновский губернатор – генерал Домонтович.
Глава V. Бои за Балканские проходы
На театре военных действий положение между тем обострилось. Передовой отряд генерала Гурко, перевалив Балканы, наткнулся на превосходящие силы Сулеймана-паши и должен был отойти обратно на север. Полковник Сухотин, впоследствии имевший случай причинить русской коннице немало горя, был первым вестником, доставившим это известие в Тырново. Он находился при штабе этого передового отряда. Его возбужденное состояние производило неблагоприятное впечатление, так как от нервного раздражения у него поседели волосы и борода. По его рассказам можно было думать, что передовой отряд Гурко полностью раздавлен. В действительности же, хотя и с большими жертвами, ему удалось остановить турок на Балканах и самому в порядке отойти. Геройской обороной Шипкинского прохода «железной бригадой», к которой на помощь пришла 14-я пехотная дивизия, этот огромной важности горный перевал остался в наших руках. Позиция эта была теперь в руках Радецкого. При одной из атак Сулеймана-паши на почти неприступную позицию Радецкого генерал Драгомиров был ранен в колено навылет. Его доставили в Габрово, откуда я его сопровождал в Систово.
Из Софии армия Османа-паши наступала на Плевну и угрожала нашим сообщениям с запада. В целом ряде кровавых боев под Плевной мы понесли большие потери, и положение обострилось настолько, что мы вынуждены были вызвать из России подкрепления. В поход должна была выступить гвардия. За исключением кирасирской дивизии, вся она прибыла. Осман-паша создал под Плевной укрепленный лагерь. Под командой короля Карла Румынского нашей армией, при содействии румынских войск, этот лагерь был обложен. Вследствие недостаточности вооруженных сил на левом берегу р. Вид, кольцо обложения не могло быть замкнуто. Под Рущуком наследник цесаревич прикрывал наш восточный фланг.
После того как я получил поручение из Ставки передать лично генералу Радецкому пакет и затем исполнить то, что он найдет нужным мне приказать, я отправился в Габрово.
За Габровом начинается подъем на Шипкинский перевал, около 5 тыс. футов высоты по широкому, хорошо разработанному шоссе. Я добрался до ставки корпусного командира, где застал Федора Федоровича Радецкого в палатке, играющего в свой любимый «полтавский ералаш». Его начальник штаба, генерал Дмитровский, порядочный пессимист, ходил и при этом что-то ворчал.
Оказывается, что перед тем турецкий снаряд пробил палатку, в которой они играли, и Федор Федорович приказал поставить другую всего в нескольких шагах от первой. По этому поводу и высказывал свое неудовольствие Дмитровский, настаивая, что с этого места надо уйти совсем, а Федор Федорович продолжал играть в карты, мурлыча себе под нос какой-то марш.
Он вскрыл конверт, когда закончил игру, передал его начальнику штаба и затем попросил меня повидать лично командующего 14-й пехотной дивизией генерала Петрушевского, чтобы передать эту бумагу ему и с ним переговорить.
Я откланялся и прошел к другой палатке, где находился Виктор Викторович Сахаров, состоявший в штабе Радецкого. Дороги на позиции 14-й дивизии я не знал и просил Сахарова отправиться вместе со мной. Он рассмеялся и сказал, что к Петрушевскому тропинка находится под таким обстрелом, что днем обыкновенно по ней не ходят, а если уже надо пробираться, то лучше в одиночку. Сбиться с пути невозможно, потому что по обе стороны пропасти.
Пришлось идти одному. Действительно, я мог наслушаться, как свистят пули. Никакого удовольствия эта музыка мне не доставляла.
Повидав генерала Петрушевского и получив от него указания, я уже в сумерки добрался обратно до ставки командира корпуса. В палатке Сахарова я отдохнул несколько часов, а с рассветом выступил обратно, но не в Тырново, а в Богот, в Ставку великого князя.
Подъезжая к Боготу, я встретил императора Александра II, который, с конвоем казаков, в коляске выезжал на прогулку. Увидав и узнав меня, государь остановил экипаж, подозвал меня, назвав по фамилии, спросил, откуда и куда еду.
Доложив об исполненном поручении, я спросил генерала Левицкого, могу ли я вернуться в Тырново. На это он мне ответил, что полковнику Фрезе поручено составление топографического плана обложения Плевны, и он просит, чтобы меня назначили к нему в помощь. Мне надлежит вернуться в Тырново, сдать должность и прибыть немедленно в Ставку.
Как я уже сказал, линия обложения из-за недостатка войск охватывала всего лишь две трети круга; по шоссе из Плевны на Софию у турок сообщение было открытое. По этой дороге турки сооружали укрепленные этапные пункты для более безопасного следования транспортов и защиты их от покушений нашей конницы.
Рекогносцировки на правом берегу р. Вид были окончены, оставалось исследовать турецкие работы в секторе обложения, пока нами не занятого. Удобнее всего было производить разведки на левом берегу из правофлангового участка, занимаемого румынами.
У них здесь и кавалерии было достаточно, но договариваться с ними было нелегко, поэтому я предпочел переехать на левый фланг. Левее всех стояли киевские гусары, которыми командовал полковник барон Корф. С рассветом я отправился на разведку с разъездом из девяти гусар.
Спустившись с высот, мы направились к броду на реке, который был известен гусарам.
В густой, высокой кукурузе, закрывавшей почти всего всадника, продвигались мы к шоссе. Спешив разъезд, я пешком продвинулся настолько, что мог наблюдать следование турецкого обоза, рассмотреть в бинокль производившиеся работы по возведению земляных укреплений и набросать кроки. Очевидно, наше движение было замечено, так как мои люди видели на нашем правом фланге черкесскую папаху и затем около 50 черкесов, занявших нашу переправу через реку.
При таких условиях пришлось избрать другую дорогу для возвращения. Окончив работу, я двинулся налево по опушке кукурузного поля, вдоль шоссе. Параллельно с нами шел и турецкий транспорт из Плевны. Пройдя около четырех верст, мы повернули опять в сторону реки, чтобы избежать столкновений с охраной, которая могла быть выставлена следующим турецким этапным пунктом.
Подходя к самой окраине кукурузы, мои гусары вдруг быстро соскочили с лошадей и бросились на лежащих, по всей вероятности, спавших турецких пехотинцев, так как ружья лежали около них.
Это был, должно быть, отдельный сторожевой пост из Черного Дубняка или секрет, наблюдавший за рекой, на противоположном берегу которой стояли наши передовые посты киевских гусар.
Верстах в двух или трех левее от этого места находилась наша переправа, где, как мы знали, сторожили нас черкесы. Медлить было нельзя. Четверо гусар, на лучших лошадях, посадили на крупы позади себя турок, и мы во весь опор помчались прямо к реке. Проскакали уже больше половины всего расстояния, когда черкесы нас заметили и понеслись в нашу сторону, открыв пальбу.
Один из наших пленных во время скачки не удержался, упал и не мог больше подняться. Доскакав до берега реки, первыми переплыли всадники без «пассажиров» и, открыв огонь по приближавшимся черкесам, удачно подстрелили лошадь у скакавшего впереди. У черкесов произошла задержка, а все мы, с тремя пленными, благополучно вышли на правый берег Вида.
На аванпостах стоял эскадрон ротмистра Кареева, моего товарища по Николаевскому кавалерийскому училищу. С передовых гусарских постов видно было все, что происходило на левом берегу, и навстречу мне на помощь шел галопом полуэскадрон гусар, с Кареевым во главе.
Таким образом, не только задача по рекогносцировке была выполнена, но удалось раздобыть у противника в тылу так называемых «языков», то есть людей для допроса. Я ходатайствовал о награждении крестами молодцов-гусар, что было уважено. Когда же пленные турки были доставлены для опроса в штаб главнокомандующего и великому князю было доложено, каким путем они к нам попали, то меня наградили золотым Георгиевским оружием.
Великий князь был очень доволен выполненной мной работой по съемке плана и приказал явиться к Карлу румынскому и поднести ему экземпляр, так как он официально считался в то время начальником войск, облагавших Плевну.
Мы были ласково приняты им и получили румынские ордена с мечами.
* * *
Нам пришлось иметь дело с противником стойким и хорошо вооруженным. Да и генералы у них оказались такие, как Сулейман-паша и Осман-паша. Поэтому мы радовались прибытию подкреплений из России. Когда в Румынию прибыли первые эшелоны гвардии, направляемые на западный фронт к Плевне, мы приступили к полному обложению укрепленного лагеря.
Под начальством генерала Гурко наши войска начали переходить на левый берег р. Вид. Великий князь Николай Николаевич (старший) пожелал находиться ближе к месту предстоявшего боя. Мне поручено было из Богота провести к Медовану, на р. Вид конвой, свиту и лошадей штаба.
Со взятием Горного Дубняка сообщение Плевны с Софией было прервано, и установилась полная блокада. Затем гвардия получила приказание двигаться на Софию под командой генерала Гурко.
На Шипкинском перевале, к востоку, сидел Радецкий. Поэтому генералу Карцову в Ловче, между нами, необходимо было следить за всеми теми доступными местами в горах, которыми мог воспользоваться противник, точно так же, как и знать, где можно было бы перейти Балканы, если бы понадобилось.
На линии Плевна – Троян лежала Ловча. Именно туда совершенно неожиданно получил я новую командировку после производства в подполковники.
Мой новый начальник дивизии Павел Петрович Карцов, умный, очень хозяйственный генерал, который не ходил на поводу у своего начальника штаба, подробно ознакомил меня с создавшейся обстановкой.
Начальником Ловче-Сельвинского отряда мне и поручено было эту работу выполнить. Все сведения, какие у него имелись, Карцов мне передал, но почти все они основывались на показаниях лишь «братушек» и проверены не были. Предстоял, таким образом, целый ряд рекогносцировок. Я купил еще две лошади: одну для рекогносцировок в горах, привычную к движениям по балканским тропам, а другую, упряжную, – для повозки с моим багажом. Кроме казака Усова, мне назначен был еще и пеший вестовой.
На участке между Шипкой и Орханией существовали проходы через горы на юг в виде тропинок, из которых одна, от Трояна на Сопот, считалась более доступной. Перевал этот у «Орлиного гнезда» был занят турками, где они укрепились. Я ходил в горы на разведки с местными проводниками и пехотными разведчиками.
Турки держали себя довольно пассивно, закупорив Троянский перевал. На этот же, последний, тропа шла по гребню отрога и вела к небольшой площадке на высоте шести тысяч футов, южная окраина которой была укреплена. Отдельные скалы, здесь нагроможденные, носили название «Орлиное гнездо».
Для колесного движения Троянский перевал был непригоден, но зимой весь путь до площадки мог быть удобно проходим, так как с гребня снег должен был сноситься ветром. Что касается подступов к устроенным каменным завалам «Орлиного гнезда», то для атаки они представляли нечто труднодоступное. Но к правому флангу с нашей левой стороны имелось мертвое пространство, непосредственно перед бруствером на скалах. Что касается других тропинок в горах, то они были для движения всех родов оружия совершенно невозможными, а зимой и в одиночку даже не пытались по ним пробраться.
Возвращаясь как-то с рекогносцировки, я заехал в Трояновский монастырь, настоятель которого меня радушно принял.
Небольшой, но зажиточный, этот приют иноков, видимо, благоденствовал. К монашескому укромному уголку, у подножья Балканского хребта, турки не добрались, и все монастырское хозяйство было в полном порядке. Гостеприимный игумен заявил, что недалеко от них имеется и женский монастырь, который состоит тоже в его ведении, и предложил мне пройти туда.
Мы отправились и через несколько минут подошли к ограде, заключавшей несколько небольших деревянных построек.
Встретила нас сама мать-игуменья, красивая болгарка лет тридцати, знавшая несколько русских слов. Чувствовалось во всем, что настоятель мужского монастыря здесь полный хозяин.
Всех монахинь было не более десяти, но ни одной старой я не видел. Нам подали настоящий турецкий кофе и всякие восточные лакомства. Беседовали мы непринужденно, я мог уже говорить по-болгарски довольно прилично.
В этих монастырях хорошо знали все дороги и тропинки в окрестных горах. Из расспросов мне стало ясно, что зимой всякое движение по ним прекращается и попытка перевалить на южную сторону возможна лишь по Трояновской тропе, так как все остальные бывают занесены снегом выше человеческого роста.
Тесная блокада привела к полному истощению продовольствия, и с последним сухарем Осман-паша вышел из плевненских укреплений, пробиваясь в сторону Софии.
Однако прорваться ему не удалось: в ожесточенном бою сам он был ранен, а армия его сложила оружие. Под ним была ранена и лошадь, белый араб, которого великий князь передал Офицерской кавалерийской школе. Лошадь эта никогда не ложилась и пала, опустившись только на колени. В музее школы сохранилось препарированное чучело этого исторического коня.
С ликвидацией Плевны руки русского главнокомандующего были развязаны, и предстоял переход в наступление. Зимний поход с движением через Большие Балканы в литературе признавался тогда предприятием рискованным и невыполнимым.
Великий князь, главнокомандующий, был другого мнения.
Генерал Гурко наступал уже на Софию, чтобы оттуда повернуть в долину Марицы, на которой находились Филиппополь и Адрианополь.
Генералу Радецкому предстояла трудная задача: спуститься к Казанлыку, преодолев сильные, укрепленные против него позиции турок. Помочь этой операции должен был отряд генерала Карцова из Ловчи. Поэтому, несмотря на прибытие полковника Сосновского, принявшего штаб 3-й пехотной дивизии, меня оставили в распоряжении Карцова.
Сосновского мы все знали по его репутации путешественника в Китай, куда он был командирован с научно-торговой экспедицией. Курьезный отчет его вызвал против него литературную кампанию, которая выяснила полную несостоятельность Сосновского в роли начальника подобной серьезной экспедиции, его неискренность и двуличность как человека. Последнее вполне подтвердилось на деле и в походе нашего отряда за Балканы.
Когда получено было приказание о наступлении на Сопот, по ту сторону гор, в долину Гиобса, генерал Карцов приказал мне отправиться в Трояновский монастырь и распорядиться там сбором болгарских четников и подготовкой всего, что будет нужно при движении отряда по Трояновскому проходу.
Прибыв в монастырь и приступив к выполнению данного мне поручения, через день я получил диспозицию о наступлении. В ней говорилось, что я назначаюсь начальником колонны из двух сотен 30-го Донского казачьего полка и двух рот Новоингерманландского пехотного полка, которые прибудут ко мне в д. Шипково из Орхании.
С этим незначительным отрядом я должен был обходным движением способствовать овладению «Орлиным гнездом» главной колонной генерала Карцова. Между тем из моих рекогносцировок и докладов в штабе было известно, что данное моей колонне направление зимой непроходимо. Тем не менее я выступил с казаками на Шипково, вдоль подошвы Балканского хребта, где ко мне должны были присоединиться две роты пехоты. С неимоверными трудностями, раскапывая лопатами снежные сугробы, мы дотащились к д. Шипково в полном изнеможении. Целый следующий день свирепствовала снежная буря, и пехота к нам не пришла.
На следующий день метель утихла. С лопатами вышло человек двадцать, и моя колонна из одних только казаков двинулась в путь. Наши болгары не брались быть проводниками. Сперва мы шли не более полуверсты в час, но затем глубина снега увеличилась настолько, что уже не было физических сил пробиваться в снежных сугробах выше человеческого роста.
Вернувшись обратно, не имея никаких известий от пехоты, которая должна была прийти, и переночевав в Шипкове, мы пошли обратно в Троян. По дороге нам встретился болгарин, сообщивший, что турки не пустили нашу колонну через Трояновский перевал и много раненых было доставлено в долину.
Когда я явился к Карцову, тот бросился ко мне со слезами на глазах. Он опасался, что я со своей колонной мог погибнуть.
У перевала осталось около пяти тысяч человек с генералом графом Татищевым во главе и при нем полковник Сосновский. Карцов дал мне предписание отправиться в распоряжение графа Татищева, а Сосновского просил прислать в Троян.
Происходило все это в двадцатых числах декабря, в снежную и холодную зиму 1877 года.
24 декабря я прибыл к графу Татищеву и доложил о том, что начальник отряда просит полковника Сосновского спуститься к нему в Троян. Вид его поразил меня своей растерянностью. Из его лепета я понял одно: он смешал данные моей рекогносцировки. Надо было обходить правый фланг позиции неприятеля, а он с нашего правого фланга искал обход левого фланга турок.
К перевалу были привлечены наши две девятифунтовые пушки. На колесах их доставить не представлялось возможности, поэтому тело орудия, лафет, колеса на салазках пришлось тащить отдельно. Что же касается снарядов, то люди несли их в сильный мороз на руках.
После отъезда Сосновского генерал граф Татищев, со свойственной ему прямотой, рассказал мне все то, что произошло так бестолково и в какую «калошу» начальник штаба посадил отряд. Не могли убрать даже нескольких раненых, и турки, выйдя из укреплений, закалывали их.
С мнением Сосновского, что турок выбить нельзя, граф не соглашался, решил штурмовать «Орлиное гнездо» и желал знать мое мнение по этому поводу. Я просил разрешения предварительно ознакомиться с создавшимся положением и тем, какие изменения произошли на позиции у турок.
Результат разведки был следующий: прямым, лобовым ударом сбить противника было трудно, поэтому являлась необходимость овладеть завалами на его правом фланге, на тропе, отделявшейся от самого «Орлиного гнезда» крутым, скалистым оврагом. К этим завалам можно было пробраться с главного пути только в темноте. Овладев же этою частью укрепления, можно было спуститься в долину и выйти на путь отступления из «Орлиного гнезда». Моей обходной колонне предстояло выступление в четыре часа утра.
Чтобы можно было заснуть хоть на несколько часов, мы с Грековым, прибывшим со своим полком, завернулись в бурки и улеглись в шалаше; у входа в него казаки зажгли костер.
На рекогносцировке, в снегу по колено, я сильно устал и уснул, как только положил голову на свернутый башлык. Но спать пришлось недолго: мы вскочили под огнем вспыхнувшего нашего шалаша, из которого выбрались довольно благополучно.
Еще затемно и по глубокому снегу мы двинулись вперед для атаки. Чуть стало светать, турки обнаружили наше наступление и открыли огонь.
С криком «ура!» началась наша эскапада, и как только в одном месте удалось группе стрелков взобраться на завал, турки не выдержали и бросились из укрепления по крутому спуску вниз.
Обходная колонна начала спуск в долину Гиобса, а я возвратился к генералу графу Татищеву. Он находился у наших орудий, обстреливавших «Орлиное гнездо» и отвечавших на огонь турецкой артиллерии.
Мы лежали на бурке, наблюдая накопление наших рот перед главным укреплением, когда доложили, что генерал Карцов со штабом прибыл, остановился у выхода из лесу и приглашает нас к себе.
Как раз в это время прекратилась пальба турок. Успех обходной колонны и риск быть отрезанными привели их к решению покинуть позицию.
Орудия турки не успели убрать, и они были взяты вместе с несколькими десятками пленных, штабом офицеров и знаменем. Наши потери не превышали 100 человек, но было, кроме того, много обмороженных. Когда все это выяснилось, генерал Карцов поручил графу Татищеву преследовать противника и оставил меня при нем.
Генерал Карцов со штабом вернулся обратно в Троян. На следующий день он предполагал со штабом и всем тем, что осталось, прибыть следом за нами.
Но в ту же ночь, с 26 на 27 декабря, поднялась в горах снежная буря, бушевавшая несколько дней, и разобщила нас с ним на все это время.
В ожидании прибытия генерала Карцова разведками выяснилось, что по всем признакам генерал Гурко от Софии наступает в долину Марины, генералы Радецкий и Скобелев перешли в наступление в долину Тунджи. Дорога из Сопота на Филиппополь была свободна.
* * *
Через три дня наши разъезды донесли о движении со стороны Орхании, на соединение с нами, генерала графа Комаровского со 2-й бригадой 3-й пехотной дивизии. По дороге из Филиппополя прибыл парламентер для переговоров о приостановке нашего наступления.
Чтобы войти в связь с войсками, спустившимися с Шипкинского перевала, Карцов приказал мне со взводом казаков через Калофер пройти к Казанлыку, где можно было предполагать присутствие и главнокомандующего. Вместе с тем я должен был доставить туда и парламентера. Он оказался доктором, получившим медицинское образование в Париже, и поэтому я мог говорить с ним без переводчика.
По пути в Казанлык он рассказывал мне, что в Филиппополе никто не верил в возможность перехода русских войск через Трояновский перевал зимою.
Моему прибытию очень обрадовался генерал Левицкий. «Фактически установлена связь», – несколько раз повторил он. О штурме «Орлиного гнезда» главнокомандующий знал из донесения генерала Карцова, и мне поручено было сейчас же вернуться к нему и передать, что он подчиняется генералу Гурко, который двигается на Филиппополь.
На мой вопрос, что делать с парламентером, Левицкий решительно заявил: «Отпустите на все четыре стороны».
В Главной квартире царила такая суета, что я решил немедленно же двинуться в обратный путь.
Стоявший всюду запах роз напоминал мне, что долину Тунджи называют и «долиной роз». Запах этот усиливался при встрече с пехотными колоннами. Можно было подумать: не смазывают ли наши солдаты сапоги розовым маслом? Так оно и оказалось, потому что почти в каждом доме можно было найти сосуд с этой драгоценной эссенцией, добываемой из невероятного количества роз, культивируемых в этой долине.
На следующий день мы прибыли в Сопот, где застали генерала Дмитрия Ивановича Скобелева, отца «Белого генерала», приехавшего от Гурко с приказанием: всему отряду генерала Карцова немедленно двинуться к Филиппополю. Сам Скобелев был назначен начальником кавалерии армии Гурко и меня взял к себе в роли начальника штаба.
Не теряя времени, 30-й Донской казачий полк и Казанские драгуны выступили в тот же день, а за ними потянулась и 3-я пехотная дивизия.
Под Филиппополем в это время уже шел бой; Сулейман-паша отбивался на арьергардных позициях, и Гурко, нажимая на него энергично, отжал его армию к югу от Филиппополя.
Когда мы подошли к самому городу, то единственный мост на Марице был сожжен, и переправляться приходилось почти что вплавь.
Сулейман, прижатый к Родопским горам, отчаянно отбивался до поздней ночи и, не желая сдаваться, решил ночью уйти в горы. Артиллерию и обозы взять с собой не было возможности в связи с отсутствием колесных путей на этом плоскогорье, изрезанном глубокими пропастями. Поэтому Сулейман оставил артиллерию и приказал пехоте, прикрывавшей ее, пробиваться к Адрианополю вдоль подножия гор. С остатками армии Сулейман-паша по тропам ушел в горы на юг.
Когда разведками это выяснилось, решено было захватить их орудия. Казанские драгуны и донцы ночевали вблизи этого парка, и рано утром 7 января казаки Грекова, поддержанные казанцами, атаковали в конном строю турецкое прикрытие, опрокинули его и преследовали в горы.
Артиллерия успела дать всего несколько выстрелов, пехота же открыла огонь в полном беспорядке, поэтому и потери были незначительны, а 54 турецкие пушки, крупповского изготовления, очутились в наших руках.
У селения Карагач и был, собственно, последний акт Филиппопольского трехдневного сражения.
* * *
Старик Скобелев был «на седьмом небе» и говорил мне: «Вот пусть почитают теперь в Москве про взятые мною пушки, а то пишут мне дуры-тетки: что же ты, батюшка, ничего на войне не делаешь, а сын-то мой какой молодец? Ну, да, сын – молодец, сам знаю: в кого же он пошел, герой-то? Вот пусть теперь-то и подумают об этом!»
Своеобразный, типичный казак был Дмитрий Иванович. После целого дня на коне и массы работы укладываемся спать в одной с ним комнате на соломе. Ему не спится, все зажигает спички и смотрит, который час.
– Владимир Александрович, вы спите?
Молчу, притворяюсь спящим, хотя и проснулся. Опять тот же вопрос.
– Поневоле не сплю, раз вы меня будите, – огрызаюсь в сердцах.
– А вот надо бы послать донесение Гурко.
– О чем же прикажете доносить, ведь обо всем уже донесено?
– А уж это ваше дело, а мое вам сказать, чтобы вы написали донесение.
Зато приезжаешь с разведки, а обед, собственноручно приготовленный Скобелевым, готов. Стряпал он аппетитно, вкусно – лучше всякого повара. Ординарцем у него был Лейб-казачьего полка князь Сумбатов – душа-человек, которого он очень любил. Совсем необычайный был у них фасон дружеской беседы: со стороны можно было подумать, что они ссорятся, в особенности если предметом разговора было кулинарное искусство.
С окончанием филиппопольской операции войска двинуты были на Адрианополь, к казачьему генералу Чернозубову, с Казанским драгунским полком и 30-м Донским, Гурко приказал преследовать остатки армии Сулеймана.
Генерал Скобелев отозван был в Филиппополь, куда мы и прибыли вечером, а утром, со штабом генерала Гурко, выступили в Адрианополь. Этот поход мы совершили вместе с братом, командовавшим конвоем генерала Гурко.
Глава VI. Поход за Балканы
Можно считать, что этим окончился период боевых столкновений, наступили лишь одни походные движения. Наше занятие Адрианополя походило на церемониальный марш. Кавалерия Струкова быстро заняла его, и армии Сулеймана не дали отступить в этот хорошо укрепленный лагерь, на который турки возлагали большие надежды.
Наши войска наступали со стороны Шипки и Софии на Константинополь. Впереди бежало туда же почти поголовно все мусульманское население. В обратную сторону, по направлению к Дунаю, в Россию тянулись колонны пленных турок. По пути пришлось видеть немало тяжелых сцен, неизбежных следствий паники среди местных жителей, внезапно сорвавшихся и с детьми на руках бросивших насиженные места.
В Адрианополе я поселился вместе с генералом Скобелевым, который ко мне привык и от себя не отпускал. Город был в относительном порядке, не испытав участи населенных пунктов, переходящих из рук в руки по несколько раз между противными сторонами.
Мне хотелось осмотреть большой турецкий город, но начальство мое, Дмитрий Иванович, был недоволен, когда я уходил. «Ну что вам за охота слоняться. Сидите дома, мало ли какие теперь приказания могут быть», – ворчал он.
Скобелев считался начальником кавалерии, весь же штаб его состоял из меня и князя Сумбатова. Ни одна из конных частей нам никаких донесений не присылала, и мы понятия не имели, где какая из них находится. Но мы получили приказание из штаба генерала Гурко прибыть на вокзал для встречи великого князя Николая Николаевича (старшего).
Обходя встречающих, великий князь спросил меня: «А ты почему же не по форме одет?» И, улыбаясь, дотронулся до моей груди.
Я понял это в буквальном смысле и стал объяснять подошедшему ко мне генералу Левицкому, что, кроме полушубка, у меня нет никакой другой одежды. Но, засмеявшись, «Казимир» крепко пожал мне руку и сказал: «Да нет же, совсем не то, ведь вы награждены Георгиевским крестом».
На этот раз, очевидно, экзамен из тактики я и у него выдержал.
В тот же день я получил приказание разыскать генерала Чернозубова, от которого не получали никаких донесений, что вызывало беспокойство в связи с тем, что на фланге находились отступившие войска Сулеймана. Чернозубову предлагалось следовать по пятам отступавших турок в Родопских горах. Перевалив последние, его отряд должен был спуститься на берег Эгейского моря.
Немедленно оседлав коней, с моим казаком Усовым мы тронулись на поиски чернозубовской бригады.
Двигались мы по тому же пути, по которому пришли из Филиппополя. Навстречу нам шли войска, обозы, и шоссе в оттепель превратилось в неудобопроходимое месиво из щебенки. На второй день нашего движения мы наткнулись вскоре на двух казаков 30-го полка, искавших свою часть.
Я их забрал с собой, и к концу дня у меня набралось еще три станичника того же полка, так что ночевали мы всемером в каком-то брошенном чифлике близ отрогов Родопских гор.
На следующий день, перед выступлением, Усов заметил довольно далеко всадника и признал, что это казак. Пошли к нему навстречу, оказался станичник 30-го полка, высланный командиром накануне с пакетом в штаб. По праву начальника штаба я его распечатал и узнал место стоянки всей бригады: не особенно далеко от Станимака.
Явившись к генералу Чернозубову, я передал приказание генерала Гурко: его беспокойство и сильное неудовольствие тем, что отряд не выполняет своего назначения и о преследовании противника не присылает никаких донесений.
Оказывается, что, попав в район с обильным фуражом, Чернозубов признал за благо подкормить немного коней, а затем двинуться в горы. Его связывали конные орудия, которые по Родопским горам следовать не могли.
Я предложил их отправить под конвоем полуэскадрона драгун в Адрианополь и немедленно двинуться в горы на юг, чтобы восстановить потерянное соприкосновение с неприятелем. До Гюмурджины, на берегу Эгейского моря, по прямому направлению через всю горную площадь было не менее 120 верст. Колесных дорог не было, и предстояло тяжелое движение по тропам, в один конь.
Среди населения было много «помаков» – болгар, принявших ислам. Эти ренегаты не внушали к себе доверия, хотя охотно предлагали свои услуги проводников. Без последних же было очень трудно пробраться благополучно в этой горной толчее, именуемой Родопскими горами. У меня была десятиверстная карта, русская, в отношении точности с большими погрешностями.
Тем не менее по нашей десятиверстной карте и с проводниками из помаков мне удалось провести наш партизанский отряд с севера на юг, от Хаскова до Гюмурджины. Никакого обоза, даже вьючного, у нас не было. Шли совсем налегке, длинной колонной в один конь, что производило впечатление большого отряда, несмотря на то что в нем не было и тысячи всадников. Я мог представить себе, насколько местные жители могли преувеличивать силу нашего партизанского отряда.
За время сравнительно продолжительного пребывания чернозубовской бригады на поправке остатки сулеймановской армии успели, почти без остатка, пройти родопскую горную площадь.
Застряли лишь больные и слабые, небоеспособные люди, поэтому нам пришлось преодолевать лишь природные препятствия, проходить по тропам над пропастями.
Очень тяжелой операцией была наша переправа через реку Арду, почти в центре всей горной площади.
На наше счастье, вода уже значительно спала, и хотя немало людей выкупалось, но все же обошлось относительно благополучно.
Поднявшись, в конце концов, на горное плато, с которого открылся уже вид на Эгейское море, нельзя было не поразиться той дивной картиной, которая предстала нашим глазам. О зиме, понятно, мы забыли совсем.
От встречных турок я узнал, что Гюмурджина занята табором турецкой пехоты и в окрестностях города лагерем расположилось несколько десятков тысяч мусульманского населения, частью вооруженного, бежавшего перед «московом». В соседнем же порту собрались отступившие войска Сулеймана, которые грузятся на броненосцы для отправки в Галлиполи.
При таких условиях отряд наш был слишком слаб, чтобы брать открытой силой довольно крупный город, раскинувшийся на плоском морском побережье. Взять его можно было только с налета, и для этого необходимо было, чтобы о численности нашего отряда в Гюмурджине не знали. Поэтому, закрыв выход из гор, мы никого уже в город не пускали до занятия его нами.
Занятие же его я просил разрешения генерала Чернозубова исполнить так: с небольшим разъездом из трех-четырех всадников возможно быстрее пробраться в город и потребовать сдачи его во избежание якобы артиллерийского обстрела и неизбежного разрушения домов.
Не особенно охотно, но согласие на это последовало, и с трубачом и тремя казаками я довольно быстро прошел три или четыре версты от гор до города.
Большой торговый город, населенный преимущественно греками, не мог ожидать таких невиданных гостей. На улицах было большое движение, приходилось останавливаться.
Продвигались мы все медленнее и медленнее, на балконы выходили женщины, дети, за нами собиралась толпа, и мы наконец добрались до ворот в решетке, отделявшей от улицы конак в глубине небольшой площади. Там же были часовые, а также около десятка оседланных лошадей.
Часовой у ворот не только не задержал нас, но отдал нам честь. Я думаю, что он ошалел и ничего не понял.
Я направился к подъезду дома, а за казаками хлынула с улицы толпа любопытных.
Отдав лошадь казаку, я вместе с трубачом взошел по ступенькам в подъезд, в котором широкая лестница вела на второй этаж.
Здесь мы не встретили ни одной живой души, поэтому я открыл большую массивную дверь и был поражен неожиданным зрелищем: на сплошном диване вдоль стен залы сидели турки именно по-турецки, то есть не опуская ног на пол. Посредине сидел красивый турок с окладистой, черной как смоль бородой и в красной феске.
Если я был поражен неожиданностью очутиться среди городского собрания представителей враждебной страны, то и этих последних не мог не поразить русский офицер, вошедший к ним неожиданно.
Эта «живая картина» прервалась моим заявлением через переводчика, что я прибыл от начальника больших русских сил, головная колонна которых, пройдя горы, остановлена, чтобы избежать тяжелых последствий для города, если бы его пришлось брать силою.
Что мы сильнее и настроены мирно, доказывает мое появление среди них. При добровольной сдаче город будет занят только кавалерийским отрядом. За порядком мы сами будем строго наблюдать, а за фураж и продовольствие заплатим золотом.
Моя спокойная речь, а в особенности последнее заявление подействовали успокоительно. Начались благоприятные для меня разговоры, но в это время вошел командир турецкого батальона, окинул меня сердитым взглядом и обрушился на каймакама за то, что меня не арестовали и ведут какие-то переговоры. В своей резкости и несдержанности он, очевидно, пересолил, и это, в свою очередь, возмутило некоторых энергичных отцов города, которые начали возражать. Поднялся порядочный гвалт, и я попросил выслушать меня, чтобы не затягивать дела.
Из того, что мой переводчик им передал, они узнали следующее: если на мои миролюбивые условия они не согласны, я покину город; начальник отряда долго ждать не будет, начнет враждебные действия и предоставит разговаривать с ними своим «топам» (топ – по-турецки пушка), а тогда уже в покупке припасов мы нуждаться не будем и ни на какие соглашения не пойдем.
На это я потребовал немедленного ответа. Тут уже все набросились на командира батальона, к которому на помощь пришлось уже прийти мне. Я просил передать ему, что война приходит к концу и от него зависит теперь сохранение этого города в целости. Пусть его батальон сложит свое оружие в цейхгауз, поставит своих часовых. Мы введем тогда в город только отряд конницы. За порядок ручаемся и, наверное, долго оставаться здесь не будем.
В окно я видел на площади море голов и затертых в массе казаков с нашими конями. К оседланным лошадям у караульного помещения вышли всадники, как потом оказалось, из конвоя Сулеймана и удрали с площади.
Я собирался уходить, но ко мне подошел каймакам и заявил, что условия мои принимаются, и просил, чтобы все мною обещанное было выполнено.
Мы пожали друг другу руки, и я покинул зал городского совета. К моей лошади было нелегко пробраться, а когда мы сели, то еще труднее было выбраться через густую толпу на улице. Казаки собирались уже призвать на помощь свой универсальный инструмент – нагайку, но я строжайше запретил, и шаг за шагом нам удалось выйти на улицу и направиться к выходу из города.
Как только появилась возможность, мы пошли рысью, и, выйдя из города, не далее как в версте, я, к ужасу своему, увидел наш отряд, двигающийся нам навстречу. Подскакав к генералу Чернозубову, я просил остановить бригаду и доложил ему все, что произошло.
Сотни и эскадроны подтянулись, спешились, и, насколько можно, люди привели себя в порядок.
Навстречу нам показалась целая кавалькада: впереди сам начальник города, а за ним верхом разные его представители, в том числе и греческий священник. С обеих сторон последовали дружелюбные приветствия.
Когда все церемонии и формальности относительно занятия нами Гюмурджины, расквартирования и снабжения войск продуктами были окончены, колонна вступила в город.
С депутацией впереди, хором трубачей казачьего полка и пением песенников, точно у себя дома, в условиях глубокого мира, двигались мы по улицам города.
Я просил только, чтобы турецкие солдаты, аскеры, не показывались на улице, в районе нашего расположения, так же как и нашим не разрешено будет появляться в одиночку.
На все это изъявлено было согласие, даже командир турецкого батальона не протестовал, убедившись в действительно мирном нашем настроении.
Так, совершенно благополучно, наладилось дело с занятием города, но необходимо было принять меры, чтобы мы не очутились в ловушке ввиду близкого соседства с портом, где были еще сосредоточены остатки армии Сулеймана.
Не успел я сойти с коня, как ко мне подошел грек, хорошо говоривший по-французски, и предложил свои услуги. Он находился на службе в банке, а до того служил на телеграфе в Константинополе. Такой человек был мне очень на руку, поэтому, взяв двух казаков, мы сейчас же отправились на телеграфную станцию, где телеграфист энергично настукивал какую-то депешу, не обернувшись даже при нашем входе.
С греком я условился о вознаграждении за его труд, и он принял станцию, опытною рукою пересмотрев ленты.
Кроме того, на телеграфной станции поставлен был часовой и приняты меры охранения и разведки.
Разместились мы вместе с Грековым так хорошо и удобно, что после всего испытанного в походе мой сожитель находил Гюмурджину «седьмым небом». Я был «един в трех лицах» личного состава штаба отряда: начальника штаба, адъютанта по строевой части и такового же по хозяйственной. Но дел было много, поэтому наслаждаться благоденствием времени не хватало.
Непосредственное соседство с турецким батальоном, хотя и сложившим свое оружие в цейхгауз, но имевшим возможность забрать вновь свои ружья, да притом вблизи остатков армии Сулеймана, создавало для нас такое положение, в котором долго оставаться было нельзя.
Я был того мнения, что в условиях, в которых находился наш отряд, нельзя рисковать сидеть в городе до наступления турок и целесообразнее атаковать их.
С этим согласились генерал Чернозубов и командиры полков. А так как на основании этого решения необходимо было произвести предварительно рекогносцировку, то и я пошел на свою квартиру, чтобы приказать седлать лошадей. Но по дороге меня догнал есаул сторожевой сотни с известием о прибытии турецкого парламентера.
Действительно, очень скоро показалось около 20–25 всадников, к которым я пошел навстречу.
Впереди ехал немолодой человек с длинными усами, который остановился передо мной и спросил по-французски, где начальник отряда. На мой вопрос, с кем я имею честь говорить, он в высокомерном тоне ответил: «Скендер-паша». Этот тон меня обозлил, и я заявил, что он говорит с начальником штаба, а потому я уполномочен узнать о цели его приезда, так как паша прибыл без парламентерского флага.
На это он ответил, что имеет письменное заявление лично для русского генерала и что мы должны немедленно покинуть город.
В это самое время приближался пеший караул дежурного эскадрона драгун с примкнутыми к винтовкам штыками. Когда он подошел к нам, я приказал начальнику караула остановиться за прибывшими турками и преградить дорогу. Затем попросил пашу слезть с коня, рекомендовать сделать то же самое своим спутникам и быть нашими непрошеными гостями. А так как Скендер не слезал, то я приказал караулу подойти и принять коней у турок.
После этого, конечно, они спешились, в присутствии уже большой компании любопытных местных жителей.
Надо было водворить гостей на квартире, и целой процессией мы двинулись на площадь.
Краткий манускрипт Савфет-паши заключал в себе требование турок, чтобы отряд наш немедленно покинул Гюмурджину, так как заключено перемирие.
Подобное требование было совершенно невыполнимо, тем более что мы не имели никакого официального извещения о состоявшемся перемирии.
Я был того мнения, что Скендер-пашу надо отправить назад, причем я буду его сопровождать, что даст возможность ознакомиться с местностью для предстоящей атаки турецкого лагеря.
Планам моим не суждено было осуществиться. Из Адрианополя прибыл корнет Бунин с предписанием из штаба об отходе нашего отряда за демаркационную линию реки Арды, так как перемирие действительно состоялось. Дело существенно менялось.
Радость была неописуемая: перспектива скорого возвращения на родину всех ободрила.
Весь день превратился в праздник. На плацу города играл хор наших трубачей, исполнялись песни; улицы были иллюминованы. Скендер-паша принимал участие в нашем празднестве.
Его решено было отпустить лишь на следующий день, после выступления нашей бригады за демаркационную линию.
Глава VII. Перемирие, болезнь и возвращение
Мое поручение считалось выполненным, и мне предстояло возвращение в Адрианополь. Полковник Греков выпросился в отпуск, чтобы поехать вместе со мной.
Он взял с собой одного офицера, сотника и несколько казаков. Это была уже прогулка на протяжении около 200 верст, сперва вдоль морского побережья, а затем по долине Марицы. Погода стояла превосходная, местность живописная, повсюду населенные пункты, не тронутые войной. На одном из ночлегов я под подушкой оставил все свои деньги, и через несколько верст нас догнал на неоседланной лошади хозяин-турок и вручил мне мои капиталы. Надо отдать справедливость мусульманам: честность, чистота и порядочность у турок замечательны.
На четвертый день мы прибыли в Адрианополь. Я явился в штаб главнокомандующего с докладом и здесь узнал, что от генерала Скобелева я откомандирован. Дмитрий Иванович мне передал, что наш набег на берег Эгейского моря произвел сильное впечатление.
За эту экспедицию к уже заслуженному золотому оружию и Георгиевскому кресту у меня прибавился Владимир 4-й степени с мечами.
После моего продолжительного скитания, полного всяких лишений, я был уверен, что заслужил отдых в большом городе и в хороших условиях. На самом деле вышло совсем по-другому. Меня никто не предупредил, что надо избегать показываться на глаза Казимиру Левицкому. Он не может никак остановиться в отдаче приказаний, независимо от надобности в них, поэтому все попадающиеся в поле его зрения офицеры Генерального штаба рассылаются им в разных направлениях.
За завтраком, подходя к закуске, я натолкнулся на Левицкого.
– А, здравствуйте, дорогой, здравствуйте. Вот что, – призадумался он. – Надо осмотреть Сан-Стефано, мы туда на днях переходим. Сегодня же отправляйтесь туда, вы нас встретите. Пожалуйста, все осмотрите, все узнайте, это очень важно.
На другой день вместо отдыха мы с Усовым ранним утром покинули Адрианополь. До Сан-Стефано было около 240 верст.
Путь был неприятен тем, что приходилось идти по следам уходившего населения, а под конец двигаться вместе с ним. На четвертый день мы с казаком Усовым были первыми русскими воинами, появившимися верстах в пяти под Константинополем.
На узком перешейке против Константинополя было сосредоточено много войск. Переговоры продолжали тянуться нескончаемо, и продолжительное пребывание на месте войсковых частей вызвало заболевания. Появился сыпной тиф, принявший затем угрожающие размеры.
Прибывшая английская эскадра и указания из Петербурга от князя Горчакова связывали руки великого князя Николая Николаевича – вступать в Константинополь он не мог.
Но когда терпение его лопнуло, он передал графу Игнатьеву, ведшему переговоры, что если в тот же день прелиминарный договор не будет подписан, то русские войска войдут в турецкую столицу. В то же время приказано было всем войскам выступить из окрестностей Сан-Стефано и выстроиться лицом к Константинополю.
Минута была серьезная, и турки сдались, подписав договор. Я стоял на пригорке, с которого виден был выезд из Сан-Стефано. Показался экипаж вскачь, граф Игнатьев, стоя в нем, высоко держал подписанный документ.
Лично мое чувство было далеко не радостное. Сознавалось, что дело нам испортила «англичанка», как всегда пожинающая плоды там, где она их не сеяла. И не я один был огорчен таким окончанием; чуткое сердце главнокомандующего это понимало, и после «парада», вместо «атаки», чинам свиты и штаба разрешено было проехать в Константинополь, но вернуться непременно в тот же день в Сан-Стефано.
Мы все этим воспользовались, но к вечеру вернулись домой. После того, во время приготовлений к отправке войск в Россию, нам разрешили бывать в Константинополе лишь в штатском.
Во время одной такой поездки я посетил Аи-Софию. Она была набита беженцами, среди которых было довольно много больных черной оспой.
Несмотря на то что у меня была сделана предохранительная прививка, я после того заболел оспой. Лечения особенного не требовалось, надо было отлежаться и никого не принимать. Лежа в походной постели, я испытал землетрясение, причем меня раза три подтолкнуло с одной стороны на другую. С комода попадали на пол апельсины, окна и двери отворились, вся деревянная дача скрипела.
Я предназначен был к эвакуации и ожидал уведомления о времени отправления. Между тем в одну ночь мне облегчили ликвидацию имущества добрые люди, стащившие моих лошадей и повозку.
* * *
Наконец, с сильными еще следами оспы на лице, я погрузился на санитарный транспорт «Буг» для следования в Николаев. Двое суток пробыли мы в Черном море, в Николаеве нас ждал санитарный поезд для эвакуации в глубь России.
В этом поезде я доехал только до Харькова. Для дальнейшего следования в Петербург мне предоставлено было купе второго класса.
В петербургском комендантском управлении мне заявили, что я на следующий день должен представиться государю, так как последовало высочайшее повеление прибывающим георгиевским кавалерам немедленно являться в Царское Село.
На заявление, что мое обмундирование требует обновления, последовал успокоительный ответ, что его величество указал этого не стесняться. На следующий день я и явился в Царскосельский дворец, где оказался большой прием генералов в парадной форме, в лентах и орденах, в мундирах с иголочки.
Меня, конечно, это стесняло, и я поскорее пробрался в самый конец зала, чтобы стать на левом фланге как самый младший среди блестящего генералитета.
Были, конечно, также и мои знакомые, но никто, видя меня в таком облачении, ко мне не подошел.
Дежурный генерал-адъютант предупредил, что государь сейчас выйдет, и все стали на свои места по старшинству.
Открылась дверь, и вошел Александр II, в белом кителе и с папиросой в руке. Вся длинная шеренга отвесила его величеству поклон. Государь остановился, окинул всех своим взором; должно быть, я очень уж выделялся, словно пятно на этой звездной ленте, потому что он направился прямо ко мне, обнял меня, прослезился, говоря слегка картаво: «Бедные вы мои, сколько вы там выстрадали. Ну, отдохни теперь, поправляйся, мне такие самоотверженные, верные люди нужны».
Затем его величество прошел к правому флангу и обошел представляющихся генералов. Дойдя до меня, он еще раз подал мне руку и благодарил за службу.
Государь ушел, и, когда закрылась дверь, сколько знакомых у меня нашлось! Были даже и знакомые незнакомцы, с которыми я не имел даже удовольствия когда-нибудь говорить. Но радость эта скоро сменилась большим огорчением: я заболел, как потом оказалось, сыпным тифом. Все доктора были еще на войне. На Гороховой удалось отыскать двух молодых врачей, только что окончивших университет и поэтому не рисковавших практиковать в одиночку.
Таким «консилиумом» они явились ко мне, совершенно правильно поставили диагноз и лечили меня очень внимательно и добросовестно.
Но когда термометр показал максимум – 42º, они заявили, что больше им делать нечего. Это была единственная их ошибка, так как кризис миновал и дело пошло у меня на выздоровление.
Часть третья. Теория и служебная практика (1877–1902)
Глава VIII. На учебном поприще (1878–1884)
В то время как я еще лежал больной тифом, ко мне приехал генерал Драгомиров, чтобы предложить мне место правителя дел Николаевской академии Генерального штаба.
Соответственно опыту, вынесенному корпусом офицеров Генерального штаба, заслуживших прекрасную репутацию в последнюю войну, предстояло расширение академии. Начальником этого высшего военно-учебного заведения был назначен раненный на Шипкинском перевале генерал Драгомиров, имеющий немалый боевой опыт.
Его назначение указывало на предстоявшую тогда определенную программу.
Как только здоровье мое восстановилось, я явился к своему новому начальнику и переехал в здание академии. Кроме текущих дел, отнимавших довольно много времени, я продолжал чтение лекций, прерванных войной, в Николаевском кавалерийском училище, и, кроме того, пришлось взять на себя преподавание тактики в старшем классе Пажеского его величества корпуса.
Одно время мне пришлось руководить занятиями по тактике и в Михайловском артиллерийском училище. Кроме того, Драгомиров поручил мне, в дополнение к его лекциям великому князю Павлу Александровичу, проштудировать с его высочеством некоторые разделы.
Точно так же мне предложено было преподавание тактики и военной истории великим князьям Петру Николаевичу и Сергею Михайловичу.
В результате этих более частного характера занятий получился сборник исторических примеров, которые я приводил в течение целого ряда лет моего преподавания великим князьям. Решено было их издать под личным моим руководством, однако отпечатан был только первый том. Даже корректуру его великие князья держали без меня, так как я командовал уже полком в Сувалках.
Немало времени уделял я и литературной работе, частью по настоянию Михаила Ивановича Драгомирова.
Все это, вместе с 23 лекциями в неделю и работой в академии, составляло труд большой, но хорошо оплаченный, о чем тоскливо приходилось вспоминать уже будучи в генеральских чинах.
* * *
В 1878 году едва не совершился переворот в нормальном течении моей жизни, который мог привести к непредвиденным последствиям не только для меня одного.
Драгомирову предложено было рекомендовать кого-нибудь из офицеров Генерального штаба, который в ближайшем будущем мог бы заменить воспитателя будущего наследника престола Николая Александровича – сильно постаревшего генерала Даниловича.
«Я ответил, – сказал мне Михаил Иванович Драгомиров, – что я со спокойной совестью могу рекомендовать только тебя, как, по моему мнению, более или менее подходящего из сравнительно молодых офицеров Генерального штаба, которых я знаю. Что ты скажешь на это? Я Даниловичу подчеркнул, что лишусь в тебе ценного помощника, но эгоистические побуждения в данном случае были бы преступлением».
На это я ответил, что последнее заставляет и меня смотреть на дело именно с этой точки зрения.
Педагогическая деятельность моя ограничивалась преподаванием исключительно военных наук в академии, Пажеском корпусе и Николаевском кавалерийском училище. Способностей своих в деле воспитания я не знал и в несамостоятельной роли помощника мог разойтись во взглядах с Даниловичем, с которым я совсем не был знаком.
В то время недавно только минуло мне 30 лет, и мой служебный стаж ограничивался четырьмя годами службы в л. – гв. Уланском его величества полку, 2,5-летним прохождением курса в академии, непродолжительным командованием эскадроном в л. – гв. Кирасирском его величества полку и, в качестве офицера Генерального штаба, участием в походе 1877 и 1878 годов.
В смысле воспитания, да еще такого в высочайшей степени ответственного, с таким багажом браться за подобный опыт было бы рискованно и легкомысленно с моей стороны.
Все это я высказал генералу Драгомирову…
Это назначение так и не состоялось.
Теперь, спустя сорок лет после тех критических дней, могу лишь одобрить тогдашние мои соображения: в характере будущего царя едва ли я мог бы добиться тех перемен, которые были необходимы для его спасения. При его глубокой привязанности к семейному очагу – своего рода семейной дисциплине – влияние воспитателя могло быть лишь поверхностным, в то время как развитие характера у Николая II по существу происходило под преобладающим влиянием семьи и, как оказалось, во вред России.
* * *
Предпринятые после войны преобразования в академии сопряжены были для правителя дел с массой организационных работ. До войны желающих получить высшее военное образование было немного. В самой армии не было к этому благоприятного расположения, так как лишь немногие командиры относились сочувственно к тому, чтобы их офицеры занимались наукой. По их мнению, в этом отношении служебная практика гораздо полезнее. Строевые офицеры, прибывавшие в академию, часто имели большие пробелы в образовании. К тому же между гвардией и армией была большая разница: армейцам приходилось напрягать все свои силы, чтобы овладеть элементарными знаниями, достававшимися без особого труда гвардейцам в крупных гарнизонах. Дела их шли неуспешно, и лишь единичным армейским офицерам удавалось сделать выдающуюся карьеру. До войны было до того мало желающих поступить в академию, что пришлось прибегнуть к вербовочным приемам, чтобы заинтересовать академических слушателей.
Во время самой войны обучение было нарушено. Количество слушателей существенно уменьшилось.
После войны все изменилось, и число поступивших увеличилось настолько, что успешно окончившими являлись тогда до 100 человек. Прибыли и болгарские офицеры, которые были постоянными слушателями нашей академии до тех пор, пока Болгария не изменила свою политику по отношению к России.
* * *
Создавались неприятности во время пребывания слушателем академии великого князя Николая Михайловича, которого начальник академии поставил в условия, одинаковые со всеми однокурсниками. Решая заданную мной тактическую задачу, великий князь поставил целый армейский корпус тылом к реке, на которой, судя по устаревшей карте, не было моста.
Со своей стороны, я не стеснялся при разборе задач критиковать работы великого князя, а в данном случае указал на опасность подобного решения.
На следующий день великий князь влетел ко мне в канцелярию, показывая полученную им телеграмму, в которой значилось, что в действительности мост есть – он недавно построен. «Разрешите мне, ваше императорское высочество, ответить вам на это в часы, назначенные для разбора задач», – получил он от меня ответ.
Сам он также не рад был своей выходке, потому что мне не трудно было доказать ему, в присутствии всей партии, бестактность его поступка.
Об этом я обязан был доложить начальнику академии, а через несколько дней Драгомиров получил приглашение вместе со мной пожаловать во дворец, к великой княгине Ольге Федоровне, матушке Николая Михайловича.
– Надевай мундир и пойдем на расправу, – объявил мне Михаил Иванович.
Когда мы вошли, великая княгиня возлежала на кушетке; у ног ее была шкура громадного белого медведя.
Она предложила нам сесть.
Разговор между Михаилом Ивановичем и великой княгиней был приблизительно такого содержания (я в нем участия не принимал).
– Как вы, довольны, генерал, моим сыном?
– Пока да, ваше высочество, Бог грехи терпит.
– Но вы его ведь неспособным не считаете?
– Это скажется к выпуску, тогда его высочество сам выскажется.
– Я нахожу, что к нему не совсем справедливо относятся, пристрастно.
– А тому, кто вам это сообщил, ваше высочество, вы скажите, что он врет, в этом я вам ручаюсь.
– Я думаю, что занятия в академии поставлены не совсем правильно.
– Это дело конференции академии, а мы с вами, ваше императорское высочество, не судьи, – ни вы, ни я изменить ничего не можем.
Пользуясь минутным молчанием, Михаил Иванович, тяжело подымаясь и опираясь на палку, на прощание сказал:
– Разрешите откланяться, у нас с ним много дела, да и вы, вероятно, пойдете Богу молиться: слышу звон вашей домашней церкви.
Мы удостоились милостивого кивка головой и удалились. Выйдя на набережную Невы, Драгомиров сказал только: «А я думал, она умнее».
* * *
Великому князю Николаю Михайловичу была известна склонность Драгомирова хорошо выпить и закусить. Большой знаток хороших вин, редкий гастроном, он охотно принимал предложения разделить трапезу там, где кулинарное искусство процветало. Имея острый зуб против начальника академии, именно эту слабую струну Драгомирова великий князь и задумал сделать орудием мести.
С шестью офицерами моей партии и великим князем Николаем Михайловичем я был в тактической полевой поездке в Павловске. Неожиданно получена была телеграмма о том, что начальник академии приедет к нам на эти занятия. К прибытию поезда у вокзала верхом мы встретили Михаила Ивановича; для него же самого приготовлен был извозчик, так как раненая нога его еще не давала возможности сесть на коня.
Работа распределялась так, чтобы можно было продолжительное время оставаться в поле. Поэтому завтракали мы на лоне природы или в какой-нибудь деревне. На этот раз великий князь взял на себя заведование продовольственной частью. После нескольких проверенных задач все мы проголодались, не исключая и нашего начальства, которое даже спросило меня, каким способом мы подкрепляем наши силы.
Так как место нашего завтрака было уже недалеко, то, прекратив занятия, вся партия двинулась к оврагу у села Федоровский посад. Там мы нашли большой зеленый шатер, придворную прислугу и роскошно сервированный стол с обильными закусками, водкой, винами, фруктами. Один вид всего этого привел Михаила Ивановича в оживленное настроение. Николай Михайлович любезно заявил Драгомирову, что он теперь в гостях у великого князя, и принялся усиленно угощать вином начальника академии, причем я заметил, что в бокал шампанского последнему подливали коньяк. Николай Михайлович старался напоить и меня, но я предусмотрительно выливал свой бокал в траву под столом. Погода стояла жаркая, и вино одолело Драгомирова.
Когда мы вошли на дачу, где была общая квартира партии, Николай Михайлович предложил Драгомирову сыграть партию в винт.
Не хватало четвертого партнера, и великий князь предложил пригласить живущего недалеко на даче профессора Кублицкого, человека очень щепетильного. Ему послана была записка в форме приказания начальника академии. Посланному с этой запиской я дал понять, что лучше всего будет, если Кублицкого дома не окажется. Когда затем доложили, что профессора дома нет, то великий князь сказал, что этого не может быть. Драгомиров решил это проверить лично, и все мы отправились на дачу, находившуюся совсем близко от нашей. Кублицкий оказался дома, и произошла очень неприятная сцена: начальник академии обвинял профессора в нарушении порядка службы неисполнением письменного приказания.
Великий князь торжествовал, точно Мефистофель. Было ясно, что из всего этого будет создан грандиозный скандал с прискорбными последствиями. Драгомирова я с трудом увез в Петербург и передал в руки его супруги.
Николай Михайлович на тройке помчался к своей матери в Стрельну, где она жила во дворце. Этим путем до государя вся история быстро должна была дойти в форме, весьма неблагоприятной для моего начальника. Надо было дело это немедленно ликвидировать, что мне вполне удалось.
В отсутствие великого князя я переговорил с офицерами, и было решено, что Николай Михайлович нас всех так хорошо, по-царски угостил, что никто не может дать себе отчета, что вообще происходило. Кублицкого я уговорил помириться с Драгомировым.
Когда на следующее утро я приехал к начальнику академии, то застал его в самом угнетенном состоянии: он действительно не отдавал себе отчета в том, что произошло. Состоялось примирение с Кублицким, и когда при следующей поверке работ великий князь ехидно стал говорить о своей мефистофельской проделке, мне оставалось лишь дать ему понять, что угостил он нас по-царски и такими крепкими винами, что я решительно ничего не помню.
Все славные офицеры моей партии слово свое сдержали, и ни один из них на сторону великого князя не перешел. Таким образом, эта палка Николая Михайловича оказалась о двух концах, причем другим концом она угодила по автору всей этой каверзы.
* * *
В день храмового праздника л. – гв. Уланского его величества полка, 13 февраля, ежегодно, как офицеры Генерального штаба, бывшие уланы, так и все служившие в полку и уланы, почему-либо находившиеся в этот день в Петербурге, представлялись утром императору Александру II в Зимнем дворце.
Государь всех нас знал и многим напоминал при этом, кого и где видел в последний раз. В 1881 году нам в голову не могло прийти, что мы его видим именно в последний раз. 1 марта, проехав по Невскому Казанский мост, я услышал сильный взрыв на Екатерининском канале и затем второй такой же через несколько минут.
На Дворцовой площади после того промчались передо мной сани полицмейстера Дворжицкого, бежавшая публика повторяла, что государя убили. У подъезда дворца я узнал, что у государя перебиты ноги и он кончается от потери крови.
Я был в Зимнем дворце во время похорон императора Александра II. Вступивший на престол Александр III, мой бывший командир гвардейского корпуса, плакал так, что самые устойчивые в слезах люди не могли удержаться от рыданий.
Обстановка, при которой вступил на престол Александр III, была такова, что его нелюдимость и замкнутость от природы еще больше возросли. Многочисленной свиты он не признавал, считая, что и той, которую он получил по наследству, достаточно.
Будучи колоссального сложения, царь поселился в самых маленьких комнатах Гатчинского дворца, в котором жил замкнутой семейной жизнью хуторянина. Когда ветром сваливало какое-нибудь дерево в парке, он с детьми, вооружившись топорами и пилами, отправлялся разделывать и складывать в саженки дрова и ветки.
О застенчивости этого сильного, устойчивого, с твердой волей монарха на первых порах можно было судить на представлении ему в Гатчине первого выпуска в его царствование окончивших Николаевскую академию Генерального штаба.
Буквально у каждого из 60 офицеров он спросил одно и то же: когда он поступил в академию? – не давая себе отчета в том, что они все поступили одновременно. То, что ему отвечали, он, очевидно, не воспринимал даже мыслью, а лишь слухом, нервно крутя концы своих аксельбант.
* * *
В царствование императора Александра III я пробыл в академии всего три года. После производства в полковники в 1880 году я в 1884 году был назначен командиром Павлоградского гусарского полка. В течение этих трех лет в армии произошли перемены, которые не могли не вызвать тяжелых последствий: новая форма одежды, равно как и преобразование гусар и улан в армейских драгун, затронули драгоценное чувство в войске, отречься от которого ни одна армия не может без соответствующего, в должной мере, существенного возмещения за это.
Глава IX. Командование полком (1884–1886)
Пять эскадронов 6-го драгунского Павлоградского полка размещены были в Сувалках, небольшом еврейском городе на прусской границе, а один эскадрон стоял в местечке Сейны, резиденции католического епископа. Полк прибыл из окрестностей Москвы, где Павлоградские гусары пользовались большим почетом. (В «Войне и мире» Л.Н. Толстой изобразил их особенно красочно и картинно.) Наименование «Шенграбенские гусары» они получили за победоносные сражения с французами в ноябре 1805 года под Шенграбеном. Я застал их в Сувалках – под названием Павлоградских драгун.
Полк пришлось мне принимать от генерала Гарденина, получившего назначение бригадным командиром в другой округ. На его долю выпало испытать первые последствия перемещения полка из центра России на западную границу, одновременно с лишением красивой гусарской формы: катастрофическое бегство состоятельных офицеров. Их осталось так мало, что в эскадроне, расположенном в Сейнах, кроме эскадронного командира, большею частью болевшего, находился всего один офицер.
Не в меру усердная экономия делала полк неприглядным и затрудняла службу. Гусарскую форму надо было донашивать, но все то, что можно было считать излишним, требовалось сдать в интендантство.
Поэтому с гусарских киверов сняли металлические государственные гербы и приказали эти бирюзовые колпаки носить вместо фуражек! Эти совершенно выцветшие головные уборы делали драгун смешными. Печальный вид имел эскадрон в строю: в рядах стояли люди в отмененной гусарской форме, а перед ними – офицеры в не вполне законченном драгунском обмундировании. Гусарские сабли висели на драгунской портупее через плечо, так как транспорт с драгунскими шашками затонул где-то на Волге.
Последствия упрощения в форме одежды были столь катастрофичны для кавалерийского корпуса офицеров, что каждый командир полка должен был дать себе отчет о тех мерах, которые надо было принять, чтобы не оказаться в беспомощном положении.
В то время фискальные соображения сочетались с печальным финансовым положением России. Приходилось считаться и с тем, что упрощение обмундирования и снаряжения в интересах образования запасов военного времени имело важное значение. Хотя основная причина оказалась банальной. Прежде всего царь, при его массивной фигуре, хотел носить удобную для него одежду: высокие твердые воротники стесняли его; ни гусарский доломан, ни уланка не отвечали его сложению; точно так же и пехотное кепи, которое его отцу придавало элегантный вид, а ему было не к лицу. К несчастью, вопрос этот попал в руки таких чистокровных теоретиков, как Обручев и Сухотин. Тот и другой потеряли всякое единение с войсками и не имели поэтому никакого представления о значении сохранения традиций в отдельных полках. Двигательной силой был Сухотин, черпавший свои основные выводы из истории не русской конницы, а американской кавалерии, трезвость которой он задумал прививать нашей кавалерии без всякого вреда для нее.
Сам он был драгун, и с его точки зрения уланы и гусары не что иное, как игрушки, романтическое опьянение. Но в этом он жестоко ошибался. Если распределение русской конницы вдоль западной границы государства, в сотне мелких, скверных стоянок, в стратегических видах могло быть еще оправданно, то, во всяком случае, весьма опасным экспериментом было подрезание дерева одновременно с пересаживанием его на чуждый грунт! Необходима была многолетняя напряженная работа, предстоявшая армии, чтобы починить изъян, оказавшийся после того, как нашу конницу из родных русских гарнизонов перевели в Литву и Польшу.
«По платью встречают, по уму провожают!» В этой пословице кроется глубокая философия. Мы все это, конечно, глубоко чувствовали, но с большими усилиями могли подавлять вкравшееся в нас уныние. Сердце могло не выдержать у того, кто по этому полку видел, какие результаты получились от осуществления идей Сухотина в нашей кавалерии. Когда я в день приема полка ложился спать, слезы потекли у меня из глаз. Я так и не смог заснуть. Было все гораздо хуже, чем я думал и мог ожидать.
* * *
Когда в Петербурге я высказывал желание получить полк, мои академические товарищи настойчиво советовали в армию не уходить. Материальное положение мое в академии было прекрасное, лекциями и литературным трудом я много зарабатывал. В должности командира полка, в провинции, все это в значительной степени отпадало. Мои сослуживцы считали, что в провинции я заглохну и меня забудут. С этим я не был согласен тогда и сейчас сохранил совершенно иной взгляд на это дело. Я признавал некоторые нападки строевых офицеров на Генеральный штаб вполне заслуженными. Предпочтение канцелярских должностей строевым заходило уже слишком далеко. Наши офицеры Генерального штаба ограничивались наблюдением строя издали. К подобным критикам без личного опыта относились с недоверием, а иногда и с нескрываемым озлоблением, когда какому-нибудь юному академику хотелось притом щегольнуть еще и своей ученостью.
* * *
Именно как преподаватель и военный писатель, я должен был познакомиться поближе с жизнью провинциального гарнизона, его особенными законами на тот случай, если бы моя деятельность для армии могла быть полезной. Куда может завести некомпетентность в этом отношении, примером могут служить Обручев и Сухотин.
Тягостнее было другое следствие недостаточной осведомленности о практической жизни в армии у высших ответственных лиц управлений и крупных должностей: они не знали духа войсковых частей, а поэтому не понимали и не ценили его проявлений в той или другой форме, что опять-таки имело свои последствия; злостная сплетня и недоверие зачумляли атмосферу, и вредные элементы находили возможность впутываться в судьбу отдельных войсковых частей, офицерского корпуса и отдельных офицеров.
Когда я явился к военному министру генерал-адъютанту Ванновскому, мне пришлось выслушать такой горький реприманд полку:
– Имейте в виду, что вы получили полк, который позволил себе демонстрацию, устроив парадные похороны гусарского ментика. Потрудитесь взять драгунский полк в руки!
Выяснилось, что военный министр был полностью введен в заблуждение. О какой-либо демонстрации по поводу преобразования гусарского полка в драгунский вообще не могло быть и речи. Все дело было вне какой-либо преступности: после кончины Александра II, в видах поддержания традиций, полку пожалован был почетный дар – ментик покойного государя.
Командир полка распорядился принять эту «реликвию» с надлежащею церемонией. Для почетной встречи при въезде в город выставлен был эскадрон его величества при хоре трубачей; собрались все офицеры полка; отслужена была панихида по в «Бозе почившем шефе полка»; ментик был принят командиром от прибывшего фельдъегерского офицера и торжественно доставлен в полковую церковь, где и помещен в приготовленную для него витрину.
Усердствующие жандармы донесли об этой церемонии военному министру, сочинив из нее небывалые похороны.
В Сувалках же мне пришлось ознакомиться с несоответственною деятельностью жандармских чинов по отношению к войскам.
Вскоре после моего прибытия мне было доложено о дурном обращении с нижними чинами молодого офицера; доклад был сделан не по войсковой команде, а через жандармов; позднее жандармский полковник позволил себе донести в Петербург какую-то невероятную сказку про меня и моих офицеров по поводу нашего возвращения в город по окончании занятий на плацу.
Но об этом я буду говорить дальше, в связи с другими фактами.
Командиром корпуса был генерал барон Дризен, начальником дивизии барон Мейендорф и командиром бригады – барон Вольф.
Все эти хорошие генералы напомнили мне пословицу: «У всякого барона своя фантазия». Действительно, у каждого из моих начальников было именно по такой «фантазии». С ними я познакомился на смотрах, которые они мне делали.
Барон Дризен, которого я знал еще командиром л. – гв. Кирасирского его величества полка, не делал особого смотра, приехав в Сувалки, а посетил занятия, обошел конюшни, казармы. Все шло благополучно, и «фантазия» проявилась в лейб-эскадроне, где командир корпуса приказал одной шеренге вытянуть для осмотра руки. Остановившись перед одним гусаром, барон спросил его:
– Ты грызешь ногти?
– Так точно, ваше превосходительство!
Тогда, обратившись к командиру эскадрона, недовольным тоном Дризен сказал подполковнику графу Ребиндеру:
– Граф! Он грызет ногти! Я запрещаю ему, и если он будет продолжать, остригите ногти во всем эскадроне и заставьте его скушать.
С фантазией начальника дивизии было легко справляться. Барон Мейендорф требовал, чтобы все знали, что такое кокарда на шапках и какой ее смысл. Когда он находил человека, затрудняющегося в ответе, то сам добродушно и образно принимался объяснять:
– Вот ты идешь по улице, – понимаешь, идешь… Навстречу тебе идет вольный человек, – понимаешь, – штатский. Он тебе кланяется и шапку снимает, понимаешь, перед тобой шапку ломает, а ты ему прикладываешь руку к кокарде на шапке, знак служилого человека, – стало быть, все равно как бы говоришь: «Я состою на царской службе и ломать шапку не должен».
Что касается моего третьего барона, то у генерала Вольфа фантазия переходила в пунктик и касалась одного лишь командира полка.
Этот командир бригады был глубоко убежден, что русский солдат склонен к воровству. Поэтому он рекомендовал мне организовать раздачу фуража таким способом, чтобы ни один гарнец овса не был похищен.
Проект барона сводился к постройке особого элеватора, автоматически насыпающего определенную дачу овса в торбу. К одному такому элеватору, общему на весь полк, люди должны были приходить взводами и под конвоем относить отсыпанный автоматическим прибором овес прямо в стойла на конюшни.
Получаемый от подрядчика овес, после проверки кулей, ссыпался в подобный магазин-автомат, приемник запирался на замок, и накладывалась печать, подобно денежному ящику.
По поводу этой дикой фантазии мы спорили с ним, но убедить барона Вольфа в несостоятельности его проекта я не смог.
Но лучше всего это то, что когда я, устав спорить, посоветовал барону Вольфу доложить об этом начальнику дивизии, он ответил, что барон Мейендорф в этом деле неопытен, поэтому он советует мне осуществить его проект самостоятельно и удивить всех необычайной практичностью.
* * *
Через несколько недель после моего прибытия я уже знал, за что надо приняться, чтобы полк вполне отвечал своему боевому назначению. Прежде всего необходимо было восстановить дисциплину среди офицерского состава. Один из бывших моих учеников по кавалерийскому училищу подлежал ответственности за дурное обращение с подчиненными. Расследование показало, что должного наблюдения за молодыми офицерами не было.
Рядом с алкоголем было спанье – главный враг службы: в полку существовал обычай укладываться спать среди бела дня! Чтобы отучить их от этой привычки, я стал поднимать полк во всякое время дня по тревоге и выводил его за город, в поле на учение.
В первую такую тревогу выехало всего два-три офицера, и с вахмистрами, вместо эскадронных командиров, я вывел полк в поле. Построив резервную колонну лицом к городу, я стал ожидать прибытия господ офицеров. Один за другим они начали появляться, причем имели забавный вид вследствие поспешного подъема, спросонья. Трудно было удержаться от хохота, когда несколько человек, больше всего опоздавших, чтобы не появляться поодиночке, проскакали группою все расстояние от города до полковой колонны.
Командиру кавалерийского полка не трудно было вообще культивировать среди офицерского состава хороший воинский дух, боеспособность и товарищество. Кавалерийская служба, во всех ее отделах и занятиях, способствует развитию спорта, телесных и духовных сил и здравому соревнованию без стремления к карьере. От молодых офицеров я требовал лишь применения плодов моего уланского опыта в Варшаве, от эскадронных командиров и вахмистров – упорядоченного хозяйства и ухода за конем. Таким образом в офицерском составе установилась жизнь, отвечавшая моим желаниям. Дальние пробеги, охоты по искусственному следу, испытания по манежной выездке лошадей восполняли пустоту офицерской жизни глухой стоянки малого гарнизона.
Конечно, товарищеская жизнь требовала особой о ней заботы, для того чтобы достигнутые результаты служебной работы опять не сошли на нет. Мой полк страдал, как я уже сказал, от последствий перевода из Московского округа на западную границу. Многие офицеры вышли в отставку. Пополнение из Николаевского кавалерийского училища, насколько оно могло влиять на преуспевание полка, не могло еще восполнить всего того существенного, что было потеряно. Когда я принял полк, среди офицеров не было единения: недовольство грызло каждого в отдельности и превращало в угрюмого отшельника. А какой же отшельник на коне кавалерист! Истинным кавалеристом может быть лишь бодрый духом и телом человек.
Я знакомился с моими офицерами на служебной работе, ездил сам в манеже, целыми часами присутствовал на конных и пеших занятиях, а затем с моими сослуживцами отправлялся завтракать в собрание. Вечером собирал часть офицеров у себя или в полковом собрании, где устраивал военную игру и тактические сообщения, после которых мы продолжали частную беседу. Вскоре офицерский состав принял приветливый вид. Это сказывалось ясно во всем: во внешности, одежде, манерах, общем настроении.
На тревоге, месяца через два после первой, опоздавших уже не было.
Вообще, чтобы быть справедливым по отношению к личному составу полка, я должен сказать, что под правильным руководством все чины его работали добросовестно. По мере сил каждый выполнял свой долг, чтобы поддержать блестящую славу бывшего гусарского полка.
* * *
С католическим духовенством у меня, к сожалению, произошло небольшое недоразумение. Умер гусар четвертого эскадрона – католик. Похороны нижних чинов в полку не обставлялись вообще с подобающим этому обряду приличием.
Командиру эскадрона, подполковнику Паевскому, тоже католику, я приказал устроить похороны с соблюдением как религиозного обряда, так и почестей по воинскому уставу, заявив, что сам буду присутствовать на похоронах.
В назначенное время у покойницкой полкового лазарета собрались офицеры, прибыл почетный караул, но не было ксендза. Командир эскадрона доложил мне, что настоятелю католической церкви послана официальная бумага. После целого часа ожидания в костел был послан вахмистр и, возвратившись, доложил, что все кругом там заперто, а достучаться он не мог.
Тогда я приказал поднять гроб на носилки и отправиться всей церемонией к костелу. Гроб был поставлен на ступеньках перед церковными дверьми, и я просил самого Паевского добиться ксендза и заявить, что покойник и караул останутся на площади, пока обряд погребения не будет совершен.
Через полчаса, по крайней мере, отворились врата костела, вышел ксендз с причетником, произнес над гробом несколько латинских слов, сухим кропилом мотнул два раза по крышке и ушел обратно.
Мы все ожидали, что затем последует внесение тела в храм, поэтому не трогались с места.
Через некоторое время мы убедились, что ждать больше нечего. Поэтому, покинув храм, в котором нас так неприветливо встретили, мы в сопровождении толпы любопытных, жаждавших знать, чем это закончится, отправились на кладбище.
Эскадронный командир, католик, был возмущен этим демонстративно-враждебным поведением ксендза.
На кладбище, где была приготовлена нашими же павлоградцами могила, после прочитанных наших уже, православных, молитв, тело предано было земле.
Пришлось донести об этом начальнику дивизии и через командующего войсками Виленского военного округа также и генералу Гурко в Варшаву.
С Иосифом Владимировичем Гурко шутки были плохи, и последовало, должно быть, сильное воздействие с его стороны, потому что в один прекрасный день к подъезду моего дома подкатила запряженная цугом, с форейтором впереди, старинного фасона карета, в которой приехал епископ, живший в Сейнах.
С покорным видом, сложенными накрест руками на груди, в лиловой рясе, вошел ко мне начальник епархии и начал с извинения на русском языке о случившемся недоразумении на похоронах. При этом он выразил сожаление, что не узнал о таком прискорбном случае от меня непосредственно. По его словам, все дело лишь в том, что привратник получил пакет и не передал его настоятелю костела.
От этого, шитого белыми нитками объяснения у меня сложилось очень неблагоприятное впечатление о представителе католического духовенства. Поэтому я ему заявил, что не имею права допустить, чтобы устами такой духовной особы мне сообщалась ложь. Оставляя в стороне вопрос о переписке, я не могу не выразить моего удивления, до какой степени жалок и бесцветен обряд погребения у католиков.
По-видимому, от него скрыли все то безобразие, которое имело место на паперти костела, когда мы принесли гроб. Но когда на его вопрос, почему я считаю обряд жалким, он узнал от меня, что произошло, то сперва смущение, а затем гнев были у него, казалось, искренними.
Пришлось затем отдавать епископу визит в Сейнах, где стоял второй эскадрон, куда я и отправился. Прием я встретил самый предупредительный, полный утонченной вежливости и гостеприимства. Католический владыка не знал, чем только меня угостить; появилась старая-престарая, древнего фасона бутылочка с венгерским вином, покрытая «плесенью времен», измеряемых многими десятками лет.
* * *
Соответственно цели, с которой сопряжен был перевод полка на границу, наша мобилизация ограничивалась сроком в 24 часа. Тем не менее, принимая полк, никакого мобилизационного плана я не нашел. В течение первого же лета он был разработан и представлен по команде, а перед началом лагерного сбора начальник дивизии, на пробной мобилизации, мог лично убедиться, что в назначенное время полк был готов для вторжения в Пруссию.
Летом полк выступал обыкновенно в специально кавалерийский сбор в лагерь под Оранами, Гродненской губернии, а затем в общий сбор с пехотой – под г. Гродно. Поход совершался по присланному маршруту, а по пути назначалась дневка в Друскениках.
Этот очень хороший курорт, расположенный на обрывистом и лесном берегу Немана, мы проходили в разгар сезона. В честь нашего прибытия принято было устраивать в «казино» большой бал. Благодаря очень раннему приходу накануне дневки и позднему выступлению после бала мы провели почти два дня в Друскениках.
Дальнейший поход наш надо было совершать с военными предосторожностями, так как части дивизии, уже прибывшие в Ораны, должны были атаковать нас во время похода. На последнем переходе я воспользовался случаем устроить внезапное нападение на псковских драгун, которые хотели устроить нам засаду, что внесло не только очень большое оживление, но и испытание радостного чувства в деле нашего кавалерийского ремесла.
Поле, на котором предстояли наши дивизионные учения, было сплошь песчаное, оканчивавшееся довольно большим озером, очевидно, когда-то покрывавшим все это песчаное пространство, бывшее его дном.
Весь наш специально кавалерийский сбор прошел благополучно, кроме одного бригадного учения, которое производил генерал барон Вольф. В достаточной мере бестолковые эволюции, которые он заставлял нас проделывать, завершились направлением атаки Павлоградского полка на целый ряд предательских ям и различных углубленных укрытий во время артиллерийской стрельбы; там же оставалось еще достаточно и неразорвавшихся снарядов.
Опасное место это было нам хорошо известно. Поэтому, когда я доложил бригадному командиру о тех вероятных последствиях, которые могут быть при маневрировании в этом районе, то получил на это ответ: «Полковник, на войне может быть гораздо хуже! Прошу атаковать!»
Атаковали и могли любоваться картиной боя, действительно, «не хуже», чем на войне. Самое скверное место пришлось на долю первого эскадрона, в котором выбыло из строя более сорока лошадей. Один взвод, вместе с офицером, провалился в блиндированный навес, совершенно незаметный со стороны атаки.
Понеслись лазаретные линейки с докторами, началась перевязка раненых, и неоконченное учение прекратилось. Бригадный командир поехал с докладом о происшествии к начальнику дивизии, на учении не присутствовавшему.
Зная кратчайший путь вброд через р. Меречанку, я поскакал тоже к барону Мейендорфу и прибыл раньше бригадного командира. Спокойный и уравновешенный начальник дивизии, выслушав мой доклад, высказал сожаление, что на этот раз отсутствовал на учении, так как не допустил бы бессмысленной порчи конского материала только потому, что на войне его будут тоже уничтожать.
Я дождался прибытия барона Вольфа, который стал докладывать о том, что произошло, не упустив упомянуть и своего мнения о том, что на войне бывает «гораздо хуже».
На это барон Мейендорф, уже с улыбкой, заметил: «Ну, знаете, барон, если мы будем работать с вашими взглядами, нам не с чем будет выступить в поход».
* * *
Второй год моего командования был несравненно для меня легче и приятнее, – я мог смело уже бить в шляпку гвоздя, не рискуя попадать по пальцам. То, что в ближайшем будущем может предстоять какая-либо перемена, мне и в голову не приходило.
При моем назначении командиром полка я думал, что в Сувалках пробуду долго. Но великий князь Николай Николаевич (старший) решил иначе. Совершенно неожиданно, в апреле 1886 года, я получил от него телеграмму о моем назначении начальником Офицерской кавалерийской школы, а вскоре затем приказание: сдать полк старшему штаб-офицеру и, не ожидая прибытия моего преемника, прибыть в Петербург.
Глава X. Начальник Офицерской кавалерийской школы (1886–1898)
Генерал-инспектор кавалерии, великий князь Николай Николаевич (старший), задумав широкое развитие Офицерской кавалерийской школы, на что требовалось продолжительное время, решил избрать для этого одного из младших командиров кавалерийских полков, чтобы он, таким образом, подольше пробыл у сложного нового дела. Выбор его пал на меня.
Почти 12 лет я пробыл во главе этого высшего кавалерийского учебного заведения, которое принял от генерала Тутолмина. Последний, в свою очередь, принял его, как учебный эскадрон, от генерала Штейна и под руководством великого князя преобразовал его в большое, самостоятельное учреждение.
Когда я принял школу в 1886 году, она была размещена в Петербурге, в Аракчеевских казармах, под Смольным монастырем, на Песках, очень неудобных по своим размерам для школы. Постройки не отвечали новейшим требованиям: конюшни, казармы и классы не соответствовали увеличенному числу командированных. Часть офицеров вынуждена была поселиться на частных квартирах, находившихся далеко от школы. Тайна этого недочета заключалась в том, что преобразование и развитие школы происходили при соперничестве военного министра с великим князем, который тогда ему подчинен не был.
Поэтому, когда я представлялся по случаю нового назначения генерал-адъютанту Банковскому, то он принял меня недружелюбно. «Как это вы согласились принять назначение начальником школы?» – спросил военный министр.
Генерал Ванновский находил, что Николай Николаевич создал себе просто забаву, и не ожидал серьезной пользы для армии, пока школа не будет подчинена военному министру. Со спокойной совестью я мог ответить Ванновскому, что я этого назначения не добивался, никто моего согласия не спрашивал и я просто, к моему великому удивлению, получил телеграмму о моем состоявшемся назначении. Несмотря на такое положение вещей, я, конечно, ни разу не явился к военному министру с докладом о всех «великокняжеских затеях», как он предлагал мне это делать.
Важнее было то, конечно, что недружелюбное отношение Ванновского к учреждению великого князя вредило самому делу. Несмотря на свое высокое положение, великий князь не мог устранить все эти неудобства, в чем он, по всей вероятности, не отдавал себе отчета. Когда я впервые явился к нему и доложил, что едва ли у меня хватит сил преодолеть все затруднения и справиться с предстоящими трудами, его высочество успокоил меня: «Ничего, будем работать вместе, и дело у нас пойдет».
Русская конница обязана великому князю за «Наставление для выездки ремонтной кавалерийской лошади». Ванновский, в силу своего пристрастия к комиссионному способу, поручил разработать это наставление комитету при штабе генерал-инспектора кавалерии. Под председательством генерала графа Крейца эта комиссия работала более двух лет, и когда составленный проект доложен был генерал-инспектору кавалерии, его императорское высочество пришел в ужас от его несуразности, потому что в войсках он никому никакой пользы не мог бы принести. Недолго думая, великий князь приказал мне в короткий срок составить проект наставления. В три или четыре месяца мне удалось его составить и прочитать великому князю, после чего, с некоторыми незначительными изменениями, он был представлен военному министру на утверждение.
К сожалению, скоро выяснилось, что эта задача великому князю не по силам: здоровье его сильно пошатнулось, навещать школу он стал все реже и реже, не был в силах с прежней энергией проводить свои идеи у государя и в конце концов уехал в Крым, где и скончался 13 (25) апреля 1891 года.
Я потерял крупного покровителя. Всех как громом поразило известие, что школа поступит в непосредственное ведение военного министра. Ванновский был тип так называемого тяжелого начальника. Во время турецкой кампании он состоял в должности начальника Рущукской армии, которой командовал Александр III, тогда еще наследник. Именно это личное знакомство и привело к назначению в военные министры этого совершенно неподготовленного человека. Начав свою службу в армейских частях, он старался пополнить пробелы своего образования чрезвычайной педантичностью и добросовестностью. Насколько в нем преобладала эта последняя черта характера, показывает его отношение к своему назначению: из-за границы он выписал себе гору учебников, чтобы пополнить свои познания.
С каким чувством я отправился представиться новому начальнику, понять легко. Принял меня военный министр в своем доме на Садовой улице, а не в канцелярии Военного министерства, как это бывало до сих пор, и встретил меня Петр Семенович радушной улыбкой и словами: «Ну что, попали под мое командование? Теперь держитесь!» Но затем добавил уже более серьезным тоном, что я буквально ушам своим не поверил: «Может быть, лучше было избрать место для школы не в столице? Но теперь дело уже сделано. Я знаю, что у вас много всяких нужд. Теперь, надеюсь, вы мне будете докладывать обо всем, и в чем можно будет, я вам помогу».
И Ванновский слово свое сдержал! За время своего командования нами он дал возможность обстроить и обставить школу так, как никому из нас не могло и присниться.
* * *
Только в 1893 году, после долгих испытаний и сравнений проекта с подобными же учреждениями иностранных армий, положение об Офицерской кавалерийской школе было утверждено.
Задача школы заключалась в том, чтобы офицеров кавалерии и казачьих войск образцово подготавливать к командованию эскадроном и установить известное однообразие служебных требований в кавалерии вообще. Кроме того, унтер-офицеры кавалерии и конной артиллерии командировались в школу для обучения способам выездки лошадей, равно как и кузнецы для усовершенствования их в этом специальном деле.
Школа состояла из пяти отделов: драгунского, казачьего, инструкторского, образцового эскадрона и учебной кузницы. В дальнейшем в состав школы вошли хор трубачей и школа солдатских детей, учрежденная в честь многолетнего пребывания в должности инспектора кавалерии великого князя Николая Николаевича (старшего).
Офицерский курс продолжался два года и начинался обычно 1 октября. Ежегодно поступало около пятидесяти офицеров. Предметами обучения были: верховая езда и дрессировка лошадей, тактика, история конницы, телеграфное, подрывное и ветеринарное дело, ковка. Зимою занятия проходили по большей части в манеже, в классах и учебной кузнице, но предпринимались и дальние осведомительные пробеги; летом производились тактические упражнения, всякого рода спорт, съемки и т. п.
После успешного окончания двухгодичного курса офицеры возвращались в свои полки и принимали освобождающиеся эскадроны, независимо от того, были ли в полку старшие кандидаты на должность командира эскадрона или нет, чтобы немедленно закрепить приобретенные знания практикой и передать их частям.
Кроме того, по одному от каждого кавалерийского и казачьего полка ежегодно командировались новобранцы в учебную кузницу для обучения их кузнечному ремеслу.
Словом, это был большой аппарат, во главе которого мне пришлось стоять. Прекрасная задача выпала на мою долю, и более десятка лет этим путем я влиял на развитие и усовершенствование техники кавалерийского дела в русской армии.
Такова была служебная обстановка, в которой почти 12 лет протекала моя жизнь.
* * *
Все эти годы в лице ротмистра Брусилова я имел прекраснейшего сотрудника, которому передал после ухода Клейгельса инструкторскую часть (до этого он у меня был адъютантом). Своими выдающимися способностями и знанием техники кавалерийского дела, при знании к тому же иностранных языков, он принес неоценимую пользу делу создания в русской армии рассадника кавалерийской культуры.
В моих литературных трудах по этой части он принимал деятельное участие, и когда впоследствии стал сам во главе Офицерской кавалерийской школы, то повел ее, конечно, опытной и твердой рукой. В том, что Брусилов был выдающимся военачальником, не приходится прибегать к доказательствам, для этого налицо более чем достаточно фактических данных. Не берусь осуждать этого моего бывшего сослуживца за его переход на службу к большевикам, так как для этого у меня слишком мало данных, и с деятельностью его у них я не знаком.
* * *
Моя личная жизнь в те годы сложилась очень благоприятно. Хотя квартира, состоявшая из большого числа маленьких и низких комнат, для крупных увеселений не была приспособлена, но зато на вид была уютна и создавала настроение, благоприятное для литературной работы. Поэтому именно эти годы и были для меня самыми плодотворными на литературном поприще.
Со всех сторон я получал книги для отзывов, но специальные военные и исторические органы я не имел возможности удовлетворить полностью своим сотрудничеством. Обширная корреспонденция, богатая внутренним своим содержанием, о которой я сейчас, при составлении моих воспоминаний, с сожалением вспоминаю, соединяла меня с выдающимися мыслителями военного мира. От бурной жизни Петербурга я был почти независим. Пески находились слишком далеко от центра города, что затрудняло поддержание знакомств, но у меня была хорошая запряжка, которая давала мне возможность посещать Петербург по мере надобности. Поэтому я мог поддерживать мои старые отношения с Николаевской академией Генерального штаба.
За время моего выздоровления после тяжелого крупозного воспаления легких я составил монографию кавалерийского генерала наполеоновских времен – Мюрата.
Затем меня интересовал перевод на русский язык «Истории кавалерии» Денисона, с тем чтобы издать эту книгу в память великого князя Николая Николаевича (старшего). В материальном отношении на помощь мне пришел в этом деле прикомандированный к школе л. – гв. Гродненского гусарского полка поручик фон Дервиз.
С этим изданием произошел случай, о котором стоит сказать несколько слов.
По инициативе покойного инспектора кавалерии объявлен был конкурс на составление «Истории конницы», по известной программе.
Комиссия, в которую входили профессора Николаевской академии Генерального штаба, не признала вполне отвечающими задачам конкурса представленные работы, но первой премии, в несколько тысяч рублей, удостоила все-таки сочинение, оказавшееся американским, – Денисона. Оно было доставлено на английском языке и перевода на русский не удостоилось. Автор напечатал свой труд по-английски, а в Германии сочинение это было оценено по достоинству, и Брике не только издал сочинение Денисона в переводе на немецкий язык, но и составил в дополнение к нему вторую часть, значительно дополняющую материал о русской коннице, роскошно иллюстрировав свое издание художественно исполненными политипажами.
Таким образом, мысль русского генерал-инспектора кавалерии осуществил американец, а немец дал возможность ознакомиться своим соотечественникам с этим, премированным русскими деньгами сочинением, причем значительно еще улучшил его, а русский человек оказался ни при чем.
Этот чистейший «скандал в русском благородном семействе» надо было обязательно загладить, и я взялся за перевод двух томов Брикса на русский язык. Под моей редакцией перевод очень удачно был исполнен бароном Раушем фон Траубенбергом, а издание, дополненное рисунками Н.Н. Каразина, удалось роскошно выполнить на средства, предоставленные фон Дервизом.
Отпечатана была всего одна тысяча экземпляров, и сумма, вырученная от их продажи, то есть 10 000 рублей, составила фонд капитала имени великого князя Николая Николаевича (старшего). Учебному комитету школы предоставлено было право на проценты с этого капитала выдавать премии за литературные работы по кавалерии.
* * *
В 1894 году я был на юге Франции, где из телеграмм узнал о кончине императора Александра III. Государь скончался от болезни почек, чему причиною было крушение императорского поезда у станции Борки.
Крушение поезда приписывалось неисправности железнодорожного пути, и министру путей сообщения пришлось покинуть пост; впоследствии же, значительно позднее, выяснилось, что это было делом революционных организаций.
Политическим отделением Министерства внутренних дел заведовал генерал Сильвестров. Выйдя в отставку и живя в Париже, уже из любви к искусству он занимался наблюдением за нашими эмигрантами-революционерами, которые его, в конце концов, убили на его же квартире, за письменным столом.
Полиция опечатала все имущество одинокого русского генерала и отправила в Петербург. Там, при разборе переписки и документов, нашли фотографии с пометками на обратной стороне тех сведений, которые собирал об этих лицах покойный. Между ними признали и одного, который поступил на придворную кухню поваренком и исчез на станции, предшествовавшей катастрофе у Борок.
Поставив адскую машину над осью вагона рядом со столовой, он покинул поезд, что и выяснилось после крушения, когда стали проверять, все ли на месте и нет ли кого-нибудь под вагонами.
Когда рухнул вагон-столовая, в котором его величество сидел за трапезой, он при падении отшиб себе почки, вследствие чего и развился нефрит. Не любивший лечиться, Александр III надеялся на свою мощную натуру и благодетельный южный климат Крыма, где он провел последние дни своей жизни.
* * *
Со вступлением на престол Николая Александровича начались перемены в личном составе. Великий князь Николай Николаевич (младший) был назначен генерал-инспектором кавалерии. Канцелярия генерал-инспектора, после смерти его отца, была расформирована, и теперь вновь составлен был штаб генерал-инспектора кавалерии с начальником штаба генералом Палицыным во главе.
Как только я узнал об этом, я собрался укладывать свои чемоданы. Но при представлении новому начальству это намерение я отложил, потому что, несмотря на сдержанный, но вполне корректный прием, я не мог ни к чему придраться; у меня не было ни малейшего повода заявить, что я предпочитаю под новым начальством не состоять.
С Федором Федоровичем Палицыным мы были всегда в хороших отношениях. Я думаю, что именно ему я обязан тем благополучным, без всяких осложнений, командованием школой и получением 10-й кавалерийской дивизии в 1898 году, по дошедшей до меня очереди в кандидатском списке.
Через два года после вступления на престол императора Николая II мне со всей моей Офицерской кавалерийской школой пришлось принимать участие в торжествах по случаю коронации его величества в Москве.
Прибыли мы туда в апреле и расположились в Петровском парке, против Ходынского поля. Апрельские холода сменились сильной жарой, и вся Москва высыпала любоваться совершенно исключительным зрелищем. В ожидании дня раздачи царских подарков масса народа стала стекаться не только из окрестностей, но и из дальних уездов Москвы.
На Ходынке были построены для этого особые бараки и довольно примитивные барьеры, предназначенные сдерживать толпу и направлять хвосты к местам раздачи подарков. Под напором миллионной толпы все рухнуло, люди стали топтать падавших в суматохе, и раз попавший в человеческий водоворот не имел уже возможности выбраться из него. Отдельных людей выжимало наверх, а у неосторожно поднявших руки трещали ребра. К этому присоединилось обстоятельство, сильно увеличившее число жертв. На окраине поля находился целый овраг, образовавшийся от выемки земли и песка. Когда толпа хлынула с поля по направлению в город, то передние начали падать в ямы, а на них летели другие, и весь овраг заполнился грудою тел.
Когда во двор нашей дачи принесли несколько человек, растоптанных в толпе, я верхом отправился узнать, что случилось. В панике народ бросился с Ходынки, оставляя за собой трупы раздавленных, раненых, обморочных. Что же касается главного пункта гибели людей, то картина, которую пришлось видеть, трудно поддается описанию.
Со всей Москвы потребованы были немедленно платформы, фургоны для перевозки мебели и другие перевозочные средства, были вызваны войска, и началась уборка трупов. Стояла сильная жара, и они поразительно быстро стали разлагаться.
Число погибших и пострадавших точно не выяснилось, в особенности вторых, так как все, у кого сохранились ноги, ушли, конечно, домой.
Что же касается собранных трупов, то, во всяком случае, их было не менее шести тысяч.
Нечего и говорить о толках по этому поводу, многие упорно настаивали на том, что это дурное, зловещее предзнаменование.
Глава XI. Начальник 10-й кавалерийской дивизии (1898–1900)
10-я кавалерийская дивизия, штаб которой находился в Харькове, состояла из Новгородского драгунского полка, расположенного в Сумах, Одесского уланского – в Ахтырке, Ингерманландского гусарского – в Чугуеве, Оренбургского казачьего – в Харькове и двух конных батарей в Чугуеве.
Когда я принимал дивизию, великий князь Николай Николаевич сказал мне, что нашел ее в ужасном состоянии и прогнал с поля. Драгомиров не разделял этой столь решительной меры.
В поведении великого князя он видел только выставление напоказ неуместного высокомерия. То же самое рассказывал мне и командир корпуса, когда я к нему явился, о недовольстве и резкости великого князя, которых он так же, как и Драгомиров, не разделял. По рассказу Винберга, дело до смотра не дошло: после двух-трех движений великий князь пришел в такое раздражительное состояние, что прогнал с поля дивизию вместе с ее начальником.
* * *
Русская конница в то время находилась в переходном состоянии: вводились новые приемы подготовки и воспитания всадника и его коня, и великий князь, со свойственной ему энергией, взял это дело в свои руки. Должен отдать ему полную справедливость: в деле образования нашей конницы он сделал очень много. Великий князь своей сильной личной инициативой разбудил русскую конницу: из казарменной спячки он ее вывел в поле для выработки боеспособных конных частей. Кавалерийские уставы согласованы с современным развитием тактики, и «Наставление для ведения занятий в кавалерии» выработано было именно в духе этих требований.
Если бы он питал больше уважения и любви к русскому кавалеристу, он бы достиг большего. Но он относился жестоко и к коню, и к всаднику и настолько не умел сдерживаться, что даже на смотрах бил по голове тяжелой рукояткой хлыста дивно выезженного кровного коня.
Резкий переход к новым требованиям, естественно, не мог пройти без ущерба конскому материалу, но винить в этом исключительно нового генерал-инспектора кавалерии было несправедливо – он энергично взялся за дело, которое отлагательств не терпело.
Раз нашей кавалерии могла быть поставлена задача вторжения масс конницы на западном фронте в Пруссию, то к русскому конскому материалу необходимо было предъявить совершенно исключительные требования.
Правда, с немного большим толком и пониманием по отношению к коню и всаднику можно было бы с меньшими жертвами достичь гораздо большего.
* * *
Как только я устроился в Харькове, я отправился для осмотра частей дивизии прежде всего в Сумы, где стоял подчиненный мне драгунский полк. Там находился и штаб бригадного командира, генерала Баумгартена, ставившего уездный город Сумы выше многих губернских.
Город Сумы произвел на меня впечатление, не имеющее ничего общего с нашими уездными захолустьями. Прекрасные мостовые, тротуары, скверы, сады, исключительная чистота везде убедительно свидетельствовали о том, что и в России маленькие города в культурном отношении могут не уступать таковым же за границей. Много прекрасных домов, роскошных магазинов и чудный собор стильной архитектуры, украшенный бронзовыми изваяниями, выполненными лучшими скульпторами в Италии.
Несколько таких миллионеров-сахарозаводчиков, как Харитоненко, Суханов и другие, выстроили себе настоящие дворцы, а городу кто – собор, кто – больницу, приют, богадельню и т. п. из соревнования.
Рекорд в этом благотворительно-культурном состязании побил Харитоненко. Когда я был у него с визитом и благодарил за всякое содействие по удовлетворению полковых потребностей, он мне сообщил, что очень сожалеет о своем неудавшемся проекте образования кадетского корпуса в Сумах.
Дело заключалось в том, что он предлагал военному ведомству принести в дар большой участок земли на живописном берегу Псела, на окраине города, и выстроить на нем здание, отвечающее последнему слову требований для учебного заведения. Жертвовал он, кроме того, и полмиллиона рублей на это дело, со своей стороны прося лишь, чтобы известный процент учащихся предоставлен был детьми не дворянского происхождения.
Генерал Куропаткин на это последнее условие не согласился, и вопрос этот остался нерешенным. Зимой мне предстояла поездка в Петербург в одну из бесконечных комиссий, и я взялся уговорить Куропаткина не упрямиться.
Для семейных офицеров 10-го армейского корпуса такое военно-учебное заведение, почти в центре его квартирования, было истинным благодеянием, и мне не стоило особенного труда уговорить Алексея Николаевича Куропаткина.
Город Сумы, таким образом, обогатился крупным учебным заведением и украсился еще одним грандиозным зданием, по внутреннему своему устройству являющимся последним словом в учебно-гигиеническом отношении.
Заштатный городок Чугуев, в котором стояли гусарский полк и обе конные батареи, входившие в состав дивизии, не заслуживал даже названия уездного города.
Бывший штаб поселения аракчеевских времен в город превратиться не смог. От него сохранилось лишь большое здание в несколько этажей, предоставленное юнкерскому училищу, и затем каменная церковь, манеж, несколько домов и ряд каменных же домиков однообразной постройки для поселенческих семейств.
Если к этому прибавить гостиный двор, каменной постройки в несколько арок, с двумя-тремя магазинами, то это и составит весь город Чугуев, находящийся в четырех верстах от железнодорожной станции.
Рядом с юнкерским училищем сохранился небольшой каменный домик в четыре комнаты, под названием «дворец». В нем, по преданию, останавливались царствующие особы, приезжавшие на смотры.
На крыше училища была башня с часами и звоном. В 12 часов пополудни в них открывалась дверь с одной стороны, и выходили фигуры, изображавшие кирасира, гусара, улана, драгуна и других родов войск солдат, маршировавших и уходивших в другую дверь.
С замиранием жизни поселения заглохли и часы. Но затем, к приезду императора Александра II на смотр войск в Чугуев, решено было пустить в ход и эти часы. Приехавший из Харькова часовой мастер, осмотрев их, нашел, что все до такой степени заржавело и попортилось, что надо все делать заново, на что требуется много времени и денег.
Маленький же чугуевский часовщик-еврей взялся пустить в ход часы за небольшую плату, но лишь на время пребывания государя в Чугуеве.
Часы действительно ходили исправно, звонили, фигуры маршировали как следует. Починка же заключалась в том, что все это время часовщик просидел сам в часах, заменив вполне удачно никуда не годный часовой механизм.
В мою дивизию входил Оренбургский казачий полк, находившийся в харьковском гарнизоне.
В царствование Александра II кавалерийские дивизии состояли из трех бригад: драгунской, уланской и гусарской. Они составляли всего шесть полков. Казачьи части входили в состав самостоятельных казачьих организаций. При Александре III русскую регулярную конницу решено было объединить с казачьим элементом.
С давних времен выселявшаяся на окраину Московского царства русская вольница, в том числе немало отчаянных голов, которым спокойно не жилось или приходилось уходить поневоле из-за провинностей, в конце концов организовалась в отряды вооруженных всадников. Возникли затем вольные казачьи станицы, объединившиеся в области, большею частью вдоль рек Дона, Урала, Кубани, Терека и других.
Создалось своеобразное войско с круговым казацким управлением и атаманами, боровшееся с враждебными кочевыми племенами вблизи русской границы. Для Русского государства это было выгодно в том отношении, что таким образом получились казачьи заслоны, ограждавшие русские земли от нападений диких орд.
Борьба же с последними выработала в казачестве все те свойства конного воина, которые действительно нельзя было не оценить. Поэтому дружественное к казакам отношение Российского государства в результате превратилось в союз и даже в подчинение на условиях, выгодных для обеих сторон.
На службу казак выходил в собственном обмундировании и на своем коне. Так как каждый из них имел свой земельный надел, а оружие современных образцов стал получать от русской казны, то настроение казачьих полков установилось, отвечающее понятию о консерватизме. Поэтому и русские власти при беспорядках предпочитали командировку казачьих частей, а входившая в снаряжение станичников нагайка часто заменяла действие оружием.
Казаки были естественной конницей, носившей название «иррегулярной кавалерии». От регулярной она отличалась степным сортом лошадей, своеобразной седловкой без мундштука, особым покроем обмундирования и прочим. В их строевой устав входил и оригинальный строй – «лава», основанный на ловкости и наезднических способностях отдельных всадников. Врассыпную, развернувшись широким фронтом, казаки, как пчелиный рой, окружали неприятельские сомкнутые части и изводили, изматывали регулярную кавалерию.
Поэтому за казаками признавалась способность к самостоятельному действию одиночных всадников и ценился их навык к разведке, распознаванию следов не только неприятельского отряда, но и отдельных людей, проследовавших в известном направлении. В то же время считали, что казачьи сотни не имеют той ударной силы, которая свойственна сомкнутым, стройным эскадронам регулярной кавалерии.
На этом основании признано было за благо кавалерийские дивизии составить из четырех полков шестиэскадронного состава: драгунского, уланского, гусарского и казачьего. Такая организация должна была привести к тому, что от близкого единения с казаками регулярные полки усовершенствуются в сторожевой, разведывательной службе, партизанских действиях и вообще предприятиях так называемой малой войны.
С другой стороны, ожидалось, что казаки приобретут навык к сомкнутым атакам, развивая для этого надлежащую силу удара, необходимую при встрече стройных неприятельских атак.
* * *
В 1900 году я был уже назначен начальником штаба округа генерала Драгомирова в Киеве. Мой преемник барон Штакельберг по каким-то причинам не мог прибыть к дивизии раньше. Когда по окончании летних занятий, после прощальной трапезы под открытым небом близ Чугуева, поезд с моим салон-вагоном тронулся, то почти все офицеры дивизии на полевом галопе сопровождали меня до первого полустанка, находившегося на расстоянии около пяти верст.
Это не была уже «пешая конница», которую Николай Николаевич в 1898 году прогнал с плаца. Я имел право гордиться результатами моей работы в 10-й кавалерийской дивизии.
Часть четвертая. Начальник штаба, помощник командующего и командующий войсками (1900–1909)
Глава XII. Драгомиров и его штаб
Киевский военный округ полностью находился под влиянием своеобразной личности командующего войсками, и многое, из военного обихода там происходившее, может быть понято лишь при знакомстве с характером и свойствами генерала Драгомирова. Точно так же и то многое, что касалось генерал-губернатора, то есть главного политического представителя и заместителя царя, может быть объяснимо особенностями человека, занимавшего этот пост одновременно с должностью командующего войсками.
Сам по себе один тот факт, что с 1889 по 1904 год, то есть 15 лет беспрерывно, Драгомиров командовал округом, поясняет в значительной степени то личное громадное влияние, которое он имел в крае.
Драгомиров был большим оригиналом, «жемчужным зерном», не всеми в должной мере ценимым. То был человек с непреклонной волей, суровый и бесцеремонный, не без некоторого педантизма в своих принципиальных требованиях, человек, до поры до времени мягкий, сердечный и для людей ему не близких кажущийся даже чуть ли не надежным. Притом верный друг и человек устойчивый в своем доверии, если его у него заслужили. В общем, настоящий хохол, малоросс со всеми его преимуществами и слабостями, но не украинец, а великоросс. Я говорил уже о первой моей встрече с ним и его склонности к юмору. С какой бесцеремонностью любил он решать личные вопросы, я должен был испытать на своей собственной шкуре.
В 1900 году Михаил Иванович возвращался из Петербурга в Киев, а я выехал к нему навстречу на станцию Ворожбу.
Вместе с Михаилом Ивановичем по пути выяснилось, что военный министр, генерал Куропаткин, предлагает мне место наказного атамана на Урале. О лучшем назначении я и не мечтал – оно во всех отношениях было для меня самым подходящим: самостоятельное положение, прекрасный атаманский дом, дача на самой реке, рыбная ловля и хорошее содержание. Перечислив все это, Драгомиров добавил: «А я тебя прошу принять должность начальника штаба в Киеве. Вместо самостоятельности ты будешь докладывать мне. Все остальное тоже не так хорошо, как на Урале, но я тебя прошу об этом!»
Мне ничего не оставалось, как отдать себя в распоряжение моего старого покровителя.
Дело в том, что начальник штаба, генерал Шимановский, мой ученик по академии, давно болел и был при смерти.
Драгомиров выбрал меня потому, что ему, как он выразился, на старости (ему было 70 лет) не придется привыкать к новому человеку.
* * *
Драгомиров был одновременно в должности командующего войсками и генерал-губернатора. В Киевский военный округ входили губернии: Киевская, Подольская, Волынская, Черниговская, Курская, Харьковская и Полтавская. Первые три из них составляли генерал-губернаторство, с генералом графом Игнатьевым во главе.
Имевшие место постоянные недоразумения привели к тому, что эти должности были объединены в одном лице.
Гражданские и военные доклады чередовались через день. Командующий войсками принимал начальников окружных управлений всех вместе, а так как в последнюю очередь докладывал начальник штаба, то при мне происходили все остальные доклады. В обширном кабинете вдоль стен сидели начальники управлений в ожидании очереди, а затем перед генералом Драгомировым излагали свой доклад стоя. Особенно тяжело это было мне, с картами, планами, чертежами, расписаниями и выстаиванием на ногах, при этом иногда более часа.
– Однако сколько сегодня этой начинки, ваше превосходительство, вы мне приготовили, – говорил в таких случаях Михаил Иванович, но сесть все-таки не предлагал.
Когда же кончался доклад, он говорил:
– Ну, теперь садись, потолкуем.
Это были интересные, интимные минуты, в которых, после сухого официального доклада, брало верх влияние души и сердца.
Для меня они были особенно ценны, так как обогащали скудный запас моих философских познаний и давали возможность проникнуть глубже в сущность идейных взглядов моего начальника.
Драгомиров читал газеты неохотно, предпочитая философскую литературу, в особенности французских классиков. Они были у него в большом почете. Газеты же через несколько минут исчезали со стола в корзину для бумаги. Однако Драгомиров всегда знал, когда появлялось что-либо интересующее его, и отвечал иногда сам или поручал мне ответить.
Часто он брал меня с собою во время поездок по округу, причем я должен был играть с ним в винт, к которому у меня не было особого дарования, как, например, у постоянного партнера Драгомирова, полковника Ронжина, который после двух-трех первых ходов почти безошибочно определял, какие у кого на руках карты.
Драгомиров и как генерал-губернатор был прежде всего солдатом, не всегда при этом с пользою для вверенного ему края.
При поездках смотры войсковых частей Михаил Иванович производил своеобразно. В их основе гнездились суворовские принципы воспитания, что совершенно исключало парадную сторону, взамен которой начальникам частей приходилось быть начеку, чтобы разрешить неожиданные задачи, даваемые командующим войсками.
Драгомиров обращал внимание на разумные ответы, знание устава гарнизонной службы, на находчивость вообще и выходил из себя, натыкаясь на рутину и тупость.
Вызвал как-то однажды Михаил Иванович роту и дал командиру ее такую задачу:
– Вас атакуют со всех сторон, снаряды падают сверху. Что вы будете командовать?
Нерастерявшийся ротный командир скомандовал:
– На молитву – шапки долой! – и привел Драгомирова в восторг своею находчивостью.
Но бывали и неприятные случаи, когда он натыкался на растерянность, на незнание своих обязанностей часовыми, по его требованию отдававшими оружие, и т. п. Тут уже на комплименты высшего порядка Михаил Иванович не скупился.
* * *
Довольно крутой на расправу, Драгомиров после разноса в большинстве случаев смягчался.
Он всецело отрицал такие опыты над армией, которые не создавались сами собой; если же они, сверх того, еще стоили денег, которые части должны были экономить в другом направлении, то старый служака не скупился ни на сарказмы, ни на чернила, чтобы отбить охоту у экспериментаторов.
Одной из самых дорогих фантазий, бродившей уже десятилетиями, если не с самой турецкой кампании 1827 года, было покушение на Дарданеллы со стороны Одессы или Крыма. В мою бытность начальником штаба в Киеве вновь нашелся командующий войсками, поклонявшийся этой фантазии. В Одессе в то время начальником штаба был генерал Протопопов, один из тех так называемых «панславистов», которые видели благо русской политики в оккупации русскими войсками Дарданелл. Командующим войсками, графом Мусиным-Пушкиным, которого мы уже знаем по Петербургу, он пользовался для получения средств из окружной казны и для их бесцельной траты. В 1903 году я получил командировку на «десантный маневр» в Одессу. На буквально сбереженные гроши Протопопов соорудил несколько штук транспортов, были собраны какие-то орудия, погрузочный материал, материал для сооружения батареи и т. п. Десант направился из Одессы в Крым, где предполагали устроить импровизированную высадку. Из самого по себе интересного маневра, конечно, ничего путного не получилось, если не считать отрицательного результата опыта в виде поучения, что для проведения в жизнь задуманной экспедиции не достаточны полки и бригады, а нужно несколько корпусов, снятых с других мест, совершенно не говоря уже об остальных постоянных приспособлениях, необходимых для высадки десантной команды и для ее снабжения продовольствием, которые должны были, наряду с остальной мобилизацией, существовать совершенно самостоятельно.
* * *
Особенное удовольствие доставил Драгомирову необыденный случай.
Недалеко от границы, в Злочове, расположен был штаб кавалерийской бригады, превращавшейся в военное время в дивизию. Бригада ушла в лагерный сбор из Злочова, оставив для охраны штабного имущества лишь караульную команду, в которой находилось много славян. Караул перепился замертво, а в это время несгораемый шкаф, в котором хранились секретные документы, был взломан, и все дело по мобилизации похищено.
Через некоторое время в Киев был доставлен чемодан со всей мобилизационной начинкой для дивизии и массою общих наставлений и циркулярных распоряжений по всем родам оружия. Особенно ценны были, между прочим, маршруты следования австрийских подрывных частей для разрушения наших железных дорог. Конечные пункты оказались избранными очень удачно, несомненно, по рекогносцировкам опытных австрийских разведчиков.
Материал этот давал возможность значительно пополнить и частично исправить сборники сведений о неприятельской армии.
Когда я об этом подробно докладывал, Драгомиров мне сказал: «Ну, вот видишь, разве это не лучше того осетра, которого ты собирался ловить на Урале? Ну, вот что, братик, забирай это все и вези в Петербург Сахарову, утри им там нос, и пусть увидят, как в Киеве умеют работать».
На этот раз и во время доклада даже «ваше превосходительство» было заменено «братиком». Эти тонкости тоже были характерны для моего начальника.
Конечно, во всей русской армии распространялись бесконечные анекдоты про Драгомирова. Но вот один из фактов относительно его резкости.
В Киевской цитадели, на Печерске, была квартира коменданта. Ежедневно в полдень там стреляли из пушки. Престарелый артиллерийский генерал, находившийся в этой должности, очень плохо справлялся с лежащими на нем обязанностями, за что и был однажды вызван для объяснений.
После ответов на заданные ему вопросы, ответов, которые рассердили Михаила Ивановича еще больше, он ему сказал: «Вы, ваше превосходительство, только и способны на то, чтобы раз в сутки выпалить из пушки».
Сказав это, командующий повернулся и ушел в кабинет.
* * *
Противоречивые стороны характера Драгомирова имел случай испытать на своей особе Ренненкампф, впоследствии командующий войсками Виленского военного округа. Много всяких неудобных, залихватских коленец откалывал он, командуя в округе Ахтырским гусарским полком, и все они сходили благополучно.
Однажды Михаил Иванович передал мне прошение полкового поставщика фуража, в котором тот просил понудить Ренненкампфа возвратить тысячу рублей, взятые им у него под расписку в долг. Я должен был вызвать командира Ахтырского полка и передать ему, что командующему войсками надоели все его проделки, и если он действительно взял деньги, то чтобы немедленно их отдал.
Через несколько дней на прием явился сам еврей-подрядчик и рассказал командующему войсками следующее: Ренненкампф его вызвал, потребовал расписку, что деньги он получил и не имеет никаких претензий. Передавая одной рукой эту расписку, другой рукой, одновременно, еврей получил деньги, которые спрятал в боковой карман и застегнулся на все пуговицы. Это, однако, не помогло, потому что когда он спустился с лестницы, то во дворе два гусара пуговицы расстегнули и деньги у него отняли.
Это окончательно взбесило Драгомирова, и он приказал вызвать Ренненкампфа, которого, конечно, разделал под орех и приказал ему подать в отставку. Когда же сердце отошло, то Михаил Иванович согласился на то, чтобы он убрался из округа.
В Сибири была вакантная должность начальника штаба Забайкальского казачьего войска. Ренненкампф и был назначен туда, что только способствовало затем дальнейшей его карьере.
* * *
В самом штабе Киевского округа не все было в том виде, как это было бы желательно. Продолжительная болезнь моего предшественника, генерала Шимановского, в конце концов привела к тому, что не было согласованной работы различных отделов штаба. Дельность и усердие начальников отделов не могли этот недочет восполнить.
В составе чинов штаба округа я нашел много моих учеников и знакомых, в том числе генерала Рузского в должности генерал-квартирмейстера, Маврина – дежурного генерала, Благовещенского – начальника управления сообщений. Эти генералы были те три кита, которые составляли фундамент штаба. Назначению своему они удовлетворяли, но в отношении пограничного округа их крупным недочетом было незнание иностранных языков.
Генерал Рузский, не обладавший крепким здоровьем, был, вместе с тем, человек разумный и по письменной части очень работоспособный, несмотря на скверный почерк.
В бытность мою затем военным министром, когда Рузский командовал корпусом в Киеве, я поручил ему уставную работу – вместо образования затяжных и дорогостоящих комиссий в Петербурге. Помощником в этих работах он избрал полковника Бонч-Бруевича, вместе с которым я его нашел в Варшаве, когда он командовал фронтом, отстаивая наши позиции по р. Висле, в 1915 году. В Рузском я ценил человека, прекрасно знакомого с военным делом и способного к целесообразной, продуктивной работе. Деятельность его на войне ценилась высоко, хотя телесно крепок он не был, и ему временно приходилось, по нездоровью, покидать ряды воюющих.
Поэтому для меня непонятно его поведение в критическую минуту для верховного вождя русской армии, когда к последнему явилась депутация, вместе с Гучковым, с требованием отречения от престола.
Это произошло в районе, где Рузский был старшим военным начальником, а потому по долгу присяги и службы в его обязанности входила охрана особы государя всеми вооруженными силами, находившимися в его руках.
Но в этом смысле не только попытки не было сделано, но он присоединился к мнению революционеров.
Все три генерала были на своих местах. На мне лежала обязанность согласовать их работу. Общими, дружными усилиями успешность работы в штабе сильно повысилась, на что генерал Драгомиров обратил внимание. Он никогда зря благодарностей не раздавал.
* * *
В один прекрасный день из Петербурга получено было уведомление, что Германского Генерального штаба подполковнику барону фон Теттау разрешено присутствовать на маневрах Киевского округа. Михаилу Ивановичу это не понравилось, и когда Теттау приехал, мой «командующий» его не хотел принять.
«Поручаю моему помощнику принять его, и узнай ты от него, что ему, собственно, от нас надо?» – с неудовольствием передавал мне это известие Драгомиров.
По-немецки Михаил Иванович не говорил, был другом Франции и нежных чувств к Германии не питал.
Барон фон Теттау, несомненный русофил, говорил по-русски и такого афронта не заслуживал. Хотя и с трудом, но удалось уговорить «командующего» принять этого известного германского военного писателя, не скрывавшего своих симпатий к русской армии.
Прием вышел довольно сухой, слишком официальный: в течение нескольких минут они обменялись двумя-тремя фразами на французском языке, и Драгомиров закончил эту аудиенцию заявлением, что он поручает своему помощнику присутствовать на маневрах 12-го корпуса под Острогом, на австрийской границе, и разрешает барону мне сопутствовать.
Очень чуткий и знавший себе цену, Теттау, когда мы вышли из кабинета Михаила Ивановича, сказал мне с нескрываемой досадой: «Мне так интересно было познакомиться с таким талантом, с таким выдающимся русским военным писателем, а вместо этого всего лишь «bonjour» и даже не «au revoir», а просто «adieu». Я знал, что Драгомиров философ и чудак, но убедился сейчас, что второе у него господствует над первым».
* * *
Из воспоминаний о моей солдатской жизни под начальством Драгомирова особенно памятны мне многознаменательные курские маневры. Для Киевского округа они имели особенное значение, ибо его заслуженный командующий войсками должен был уступить командование одной стороны военному министру Куропаткину. Подчиненным Драгомирову войскам предстояла встреча с войсками Московского и Одесского военных округов. Кроме того, Алексей Николаевич Куропаткин просил меня быть его начальником штаба.
Для получения указаний моего будущего командующего армией надо было ехать опять в Петербург. Куропаткин был очень занят в самой столице и для разговоров со мной уделил день своего отдыха, совмещаемый с поездкой в Териоки, по Финляндской железной дороге, где мы на собственной его даче могли без помехи заниматься.
В прекрасной усадьбе, находившейся на берегу Финского залива, действительно можно было отдохнуть от столичной суеты и духоты. Любитель рыбной ловли, Куропаткин прежде всего на шлюпке закинул сети и записал улов в специальный журнал ловли, который аккуратно вел. Затем он взял револьвер, выпустил в своем парке определенное число пуль в мишень и только после обильного завтрака засел со мной в удобном, обширном кабинете для совещания о предстоящих маневрах.
* * *
При высокой работоспособности Киевского штаба работа оказалась чрезвычайно успешной. Полевой штаб организован был образцово. Походная типография оборудована генералом Мавриным до такой степени целесообразно и практично, что на любой выставке заслужила бы, без сомнения, высшую награду. Формирование всех отделений штаба и обоза являлось своего рода пробной мобилизацией, весьма полезной для будущего полевого штаба на случай войны.
Погода все это время стояла превосходная, и маневры на редкость удались. Государь видел очень много интересных эпизодов в течение нескольких дней: переправу через р. Сейм и конечную атаку Южной армией позиции московцев под Курском.
Действия Южной армии заслужили общее одобрение как посредников, так и многочисленной свиты государя; киевские же войска выделялись действительно своей боевой подготовкой.
После состоявшегося затем парада рядом со мной слезал с коня министр двора (тогда еще «барон» Фредерикс) и обратился ко мне со следующими словами: «Ну, теперь можно быть спокойным на тот случай, если бы пришлось воевать: у нас появился подходящий главнокомандующий».
Через год Куропаткин был назначен главнокомандующим в Маньчжурии. Когда я сообщил Михаилу Ивановичу полученное об этом известие из Петербурга, он спросил только: «А кто же у него будет Скобелевым?»
Дело в том, что боевая карьера Куропаткина связана с совместной его деятельностью со Скобелевым, преимущественно в роли начальника штаба последнего.
Вскоре после этого назначения я получил от Куропаткина телеграмму с приглашением принять должность начальника штаба Маньчжурской армии. Но так как это уже не были маневры под Курском, то я счел своим долгом ответить, что, не имея понятия о предстоящем театре войны и не будучи знаком с войсками Сибири и их начальниками, я признаю себя вообще неподготовленным именно к этой должности. При таких условиях я не считал бы себя вправе отказаться лишь от чисто строевого назначения.
С телеграммой Куропаткина и проектом моего ответа на нее я пошел к Драгомирову. «Ответ твой одобряю, правильно ты это соображаешь, – признал Михаил Иванович. – Как он только не понимает, что ему нужен Скобелев, у которого он сам был только хорошим начальником штаба».
Еще до начала японской войны Драгомиров стал прихварывать и подумывал о том, не пора ли уйти на покой.
И вскоре после начала японской войны он покинул службу, огорченный тем, что государь хотя бы лишь для проформы не попросил его еще остаться. Он поселился в своем имении близ Конотопа, в Черниговской губернии.
Впоследствии, как командующий войсками, при моих поездках по Киевскому округу я ни разу не проезжал мимо Конотопа, чтобы со своими спутниками, бывшими партнерами Михаила Ивановича, не заехать навестить своего бывшего начальника. Он, видимо, угасал, здоровье его ухудшалось, но с «винтом» расстаться он не мог и, лежа в постели, даже когда дышал кислородом из резиновой подушки, при нашем приезде требовал «стол и карты».
– На том свете играть не придется, нельзя терять времени здесь, на земле, – говорил он, принимаясь за игру.
Застали мы его однажды играющим с местными партнерами: конотопским уездным казначеем, исправником и доктором. Увидя нас, Михаил Иванович с радостью объявил:
– Ну, слава Богу, приехали настоящие партнеры, а вы уходите, – и добродушные жители Конотопа уходили, не обижаясь.
В тот последний раз, что я был у Драгомирова, сознавая приближающийся конец своего земного пребывания, он сказал мне:
– Ухожу, брат, в лучший мир и тебе не завидую, что остаешься еще влачить свое существование на земле. Прохвост пошел в ход, компания незавидная.
Глава XIII. Командующий войсками Киевского военного округа (1904–1908)
Военный мир, в центре которого довелось быть мне, вплоть до описанных событий апреля 1905 года, жил настолько замкнуто, что вне этого круга мало кто знал, какое особенно тяжелое время в 1904 году переживал Киевский военный округ. Как командующему войсками пограничного округа, которому при международных осложнениях на западной границе для защиты страны пришлось бы стать в первые ряды государственной обороны, мне тяжело было сознавать, что все созданное Драгомировым при моем участии в несколько месяцев растаяло, как снег на солнце.
Японскую кампанию Куропаткин вел наподобие колониальной войны, а не похода на приграничном сухопутном фронте. Народ не призывался для защиты своей родины; предпринятый «поход в Маньчжурию» считали чисто военно-технической операцией, не такой важности, чтобы она требовала мобилизации всей русской армии. Шапками, мол, закидаем! Ограничились, собственно, мобилизацией сибирских корпусов и затем пополняли действующую армию командированием отдельных частей из внутренних корпусов России и добровольцами. Следствием этих полумер было то, что в руках у Куропаткина не оказалось крепкого и хорошо настроенного инструмента, а получился следующий дефект: западная граница государства была обнажена в действительности, ибо полки без офицеров, унтер-офицеров и нижних чинов оказались какими-то теоретическими единицами, а не боевыми частями.
Самое же скверное было то, что все штабы, начиная со штаба корпуса, потеряли голову и словно забыли самые элементарные предписания. Ведь могла же случиться такая вещь, что в октябре 1905 года какой-то «офицер для особых поручений», состоявший якобы при мне, шпионил в течение долгого времени без того, чтобы мне о нем донести. В «Киевлянине» N 193 от 15–28 июля 1906 года помещен изданный мной тогда приказ, показывающий, насколько преуспевал тогда уже развал армии. Начальнику дивизии, бывшему временно генерал-губернатором, старшим по гарнизонам и их помощникам я вынужден был сделать выговор. Приказ этот имел следующее содержание:
Приказ командующего войсками Киевского военного округа
В начале октября 1905 года, в г. Харькове, в комендантское управление явился неизвестный офицер в адъютантской форме, назвавшийся адъютантом командующего войсками Киевского военного округа, поручиком Погосским, и представивший подложное предписание штаба Киевского военного округа о командировании его в г. Харьков для надзора за гражданскими властями по подавлению беспорядков. Означенный офицер после этого оставался в Харькове около 10 дней, представлялся временному харьковскому генерал-губернатору, коменданту и начальнику гарнизона, жил в помещении полицейского управления, где временно было помещение управления коменданта, присутствовал при войсках во время происходивших в городе беспорядков и, наконец, в конце октября уехал, по его словам, в Кременчуг.
В настоящее время выяснено, что означенное лицо не только не было командировано в Харьков, но даже представляется сомнительным его офицерское звание. Имеющиеся в штабе округа сведения о поведении мнимого адъютанта командующего войсками подтверждают полную его корректность в словах и поступках.
Тем не менее не могу не признать, что начальствующие лица отнеслись к совершенно неизвестному им офицеру со слишком большим доверием, не обратив даже внимания на то, что в списке адъютантов командующего войсками его фамилии не значилось и что его исключительные полномочия легко могли быть проверены путем связи со штабом округа по телеграфу. Допускать же неизвестное лицо жить в комендантском управлении и наблюдать за действиями войск во время беспорядков было крайне неосторожно, а если бы человек, называвший себя Погосским, оказался человеком неблагонамеренным, было бы даже преступно.
Ввиду изложенного, обращая на данный факт внимание всех начальников отдельных частей вверенного мне округа, ставлю это недостаточно внимательное отношение к служебным обязанностям на вид бывшему временному харьковскому генерал-губернатору, ныне начальнику 32-й пехотной дивизии, генерал-лейтенанту Сенницкому, бывшему начальнику гарнизона г. Харькова, ныне уволенному в отставку, генералу от инфантерии May, и т. д. коменданта г. Харькова, подполковнику Горбаневу.
Мобилизация на юго-западном фронте свелась на нет, и страна была открыта любому вторжению, которое пожелали бы учинить Германия и Австро-Венгрия. Тогда-то именно и начал я интересоваться внешней политикой – Тройственным союзом, о котором часто и дельно писал «Киевлянин».
То время, полное забот, заставлявших меня непрерывно и глубоко вникать во все тонкости такой машины, как армия, было практикой для подготовки к разрешению задач, которые по воле государя в 1909 году неожиданно были заданы мне, когда я был назначен военным министром. Но лишь после окончания кампании и ликвидации известных последствий войны, обострявшихся к тому же политическим движением в 1904–1905 годах, я смог все приобретенное личным опытом представить к услугам царя и нашего государства.
* * *
Разумная, гуманная дисциплина поддерживает порядок в войсковых частях, тогда как жестокость, грубость и бессердечие ведут к озлоблению и беспорядкам. В Курске командовал Козловским пехотным полком некто полковник Меликов, именно с приемами этого последнего фасона. Не только с нижними чинами, но и с офицерами обращение его было до того жестокое и грубое, что и без пропаганды возможен был бунт.
На произведенном мною смотре полк заслужил похвалу: офицеров я благодарил за прекрасные результаты их трудов, а с командиром полка отъехал на такое расстояние от строя, чтобы нас не могли слышать, и, не стесняясь, энергично высказал все, что мне о нем известно и чего я впредь не допущу.
* * *
В то время как уже к Пасхе 1905 года в частях войск вверенного мне округа дисциплина была восстановлена и полки находились в руках их командиров, в Киевской саперной бригаде вспыхнул прискорбный бунт, убедивший меня в том, что мы сидели на порохе.
18 ноября 1905 года, как обыкновенно, около 6–7 часов утра, я работал у себя в кабинете. Без всякого предупреждения дверь отворилась, и передо мной предстали два запыхавшихся молодых понтонных офицера, доложивших, что, когда они пришли на занятия, понтонеры самовольно стали разбирать ружья и выходить из казарм. Поблагодарив их за усердие, я объяснил, что прежде всего им следовало доложить об этом своим непосредственным командирам, раз нижние чины вышли у них из повиновения. По телефону же дал знать командиру 21-го армейского корпуса генералу Драке, приказав принять меры к водворению порядка на Печерске.
Командиры саперных батальонов приняли меры, чтобы своими силами на Печерске ликвидировать эту вспышку, но пока готовились, к бунтующим стала приливать толпа из города, начали переходить саперные солдаты, в том числе и хор музыки саперной бригады, в котором было много евреев.
Бунтующая толпа лавиной двигалась по направлению к городу. По общепринятому революционному обычаю, полагается выпустить на свободу всех заключенных, поджечь тюрьму и начать грабежи.
Чтобы преградить путь в город, сохранившие порядок саперные части были поставлены развернутым строем, и, когда толпа подошла бы, решено было открыть огонь залпами. Жертв было бы, конечно, немало, но бунт был бы прекращен. Против дул нескольких сотен винтовок вся толпа приостановилась, но, как затем оказалось, только чтобы использовать в своих интересах одно из правил устава. Из толпы потребовали национальный гимн. Когда хор музыки, сопровождавший бунтарей, заиграл «Боже, царя храни», то на стороне войсковой части скомандовали «на караул!», как оно и полагается, когда исполняется гимн. Войска были загипнотизированы. Остроумно воспользовавшись этим, бунтари бросились вперед и смешались со строем.
По тревоге подняты были пехотные части и Уральский казачий полк, чтобы предотвратить вторичный разгром Киева, в обстановке еще более опасной. Толпа же бунтующих, увеличивавшаяся любопытными и праздными людьми, спустившись через южные выходы Печерска, двигалась к Бибиковскому бульвару.
Не допустить их к тюрьме было чрезвычайно важно. Командиру Бендерского полка такая задача и дана была: учебная команда этого полка залегла на бульваре против широкой Бибиковской улицы, идущей в гору, что способствовало хорошему обстрелу с позиции, занятой бендерцами. Предводимые двумя офицерами и революционерами, переодетыми саперами, бунтари открыли огонь и неудержимо двигались вперед. Поэтому пришлось открыть огонь и бендерской учебной команде, первый же залп хорошего прямого выстрела которой дал такие результаты, что толпа моментально хлынула назад и в панике, давя друг друга, рассеялась.
Один из офицеров был ранен, но арестовать его не удалось: он быстро был увезен, и долгое время все розыски были безрезультатны. Через несколько месяцев лишь обратила на себя внимание одна сестра милосердия. По возникшему подозрению ее выследили, и при обыске в одной из пригородных дач был найден тяжело раненный в грудь офицер понтонного батальона.
Затем он был помещен в военный госпиталь, где я его и видел. Производил он впечатление ребенка, лежащего на большой постели. На вопрос мой, сознает ли он, какое преступление совершил, и раскаивается ли в этом, этот ребенок-офицер с блестящими глазами, преисполненный энтузиазма, ответил мне, что он «убежденный революционер».
После выздоровления его судили и приговорили к смерти. Я смягчил наказание, и он отправлен был в ссылку. По дороге поезд был остановлен, и офицера похитили. Но сил у него не хватило уйти далеко, и в ближайшей деревне он был вновь арестован. Что было с ним после того, я не имел возможности проследить.
Что касается второго офицера-бунтаря, то ему удалось бежать за границу.
В Киеве как все ведомства, так и я были озадачены бунтом, в особенности, разумеется, жандармы и охранное отделение. Пропаганда и подготовка велись осторожно, с большим искусством, поэтому никаких признаков готовившегося бунта не обнаруживалось. Правда, до этого еще я обратил внимание инспектора инженерного ведомства, великого князя Петра Николаевича, на то, что в корпусе саперных офицеров обнаруживается вредное направление, которое объясняется влиянием одного штаб-офицера Военно-инженерной академии и училища на молодой и юный состав обучающихся. Но что это зашло уже так далеко, никто верить не хотел. Однако, как и всегда в чрезвычайно важных случаях, жандармы и охранка прозевали. Предпринятое и чрезвычайно заботливо веденное расследование в дальнейшем затронуло известные круги в Петербурге.
Арестов произведено было много. Отдано было приказание, чтобы у нижних чинов, возвращавшихся с винтовками в казармы, проверялись стволы, и арестовывали только тех, у кого оказывался в дуле пороховой нагар, как признак того, что этот солдат стрелял.
Следствие велось энергично. Состоялся суд, и к смертной казни приговорено было одиннадцать человек. Приведением приговора в исполнение, этим апофеозом саперной трагедии, завершился первый опыт вооруженного восстания.
Чем ближе подходил конец маньчжурской кампании, и масса раненых и больных, равно как и дезертиров, возвращалась домой, тем труднее становилась задача поддержания надлежащей дисциплины в гарнизонах с ослабленным донельзя командным составом.
Благодаря системе пополнения рядов Маньчжурской армии, возвращавшиеся к своим частям нижние чины играли роль своего рода инфекции. С побывавшими на войне солдатами, и в особенности с вернувшимися со знаками отличия, вообще справиться было труднее, нежели с нижними чинами мирного положения. Первые серьезные выступления в моем округе стали проявляться в течение 1906 года, когда частью деморализованные полевые войска начали прибывать оборванными, голодными и из-за неудач павшими духом и утомленными. Они являлись благоприятной почвой для революционной пропаганды, в разных местах возникшей и стремившейся непосредственно к ниспровержению монархической власти. Армия заражалась политикой. Судить об этом отчасти можно было по 10-му армейскому корпусу в Харькове. Развал не во всех полках был одинаков. Прежде всего нарушен был порядок в Тамбовском пехотном полку. Поэтому я лично посетил именно этот полк, и, как ни тяжело мне было, привет полку по поводу его возвращения домой вышел не очень для него радостный.
24 марта 1906 года я отправился в Харьков. Объехав батальоны по фронту и в обычной форме пожелав им благополучного возвращения на родину, я перешел затем к острой филиппике: указал им на то, что радоваться возвращению домой имеют право только те, которые до последней минуты останутся вне подозрения в нарушении ими присяги, принесенной под сенью полкового знамени. С начальствующим персоналом мне пришлось говорить еще определеннее и строже, в силу того, как метко выражался Драгомиров, что в таких случаях «рыба воняет прежде всего с головы».
Глава XIV. Клейгельс в роли генерал-губернатора
С уходом Драгомирова состоялось опять разделение ведомств – военного и гражданского. Я вступил в исполнение обязанностей командующего войсками, а через некоторое время генерал Клейгельс, петербургский градоначальник, назначен был киевским, подольским и волынским генерал-губернатором. Меня же не утверждали даже в должности, как позднее выяснилось, потому, что это место предназначалось для генерала Куропаткина, по окончании войны с Японией. После благоприятного исхода этой кампании он объединил бы обе должности. Меня предполагали назначить в Варшаву, а Клейгельса – лишь временно генерал-губернатором, в каковой должности он принес массу вреда. Но судьба решила иначе.
Дом командующего войсками, в котором я поселился с новым назначением, выстроили по плану такой замечательной хозяйки, как Софья Абрамовна Драгомирова. Семья у Михаила Ивановича была большая, и для всех имелся на втором этаже свой угол. Для удобного сообщения существовала подъемная машина, необходимость которой вызывалась раной в колено, полученной Михаилом Ивановичем на Шипке во время турецкой кампании. В нижнем этаже находились большая зала, гостиные, столовая, приемная, кабинет и гардеробная комната, ванна.
Вся усадьба занимала семь десятин, большей частью фруктового сада; в последнем было огромное дерево грецкого ореха, дававшее несколько пудов крупных плодов. Две кухни, зимняя и летняя, последняя в отдельном здании, прачечная, конюшня, сараи, парники, оранжерея и вся совокупность хозяйственных построек в Липках, среди зелени, превращали дом «командующего» в настоящую загородную усадьбу.
На окраине ее находился овраг, в котором было несколько ключей. Это дало мне мысль запрудить его. Возведена была прочная плотина, и получился глубокий пруд, в целую десятину, с двумя островками. Купальня, пристань для двух лодок, домик с двумя черными лебедями на пруде, в который пущено было много рыбы, павильон для трапез в саду и фонтан перед ним дополняли воображение о жизни вне города.
Действительно, никакой дачи не требовалось, так как в обычные летом жаркие дни в Киеве в усадьбе дышалось хорошо. Рыбное население пруда так расплодилось, что завелись даже хищные желтые крысы, охотившиеся на карпов. Жили они в норках по берегу и свободно плавали, имея перепонки на лапках, как у плавающих птиц.
Для меня получалась двойная охота: из монтекристо на крыс и на удочку – на карпов, отдельные экземпляры которых доходили уже до 10 фунтов веса.
Генерал Клейгельс жил недалеко от моей усадьбы, в генерал-губернаторском доме, на Институтской улице. В нем была домашняя церковь и громадная зала для больших балов. Старинной постройки дом этот был значительно больше моего, но с садом небольших размеров, состоящим из многолетних лип.
* * *
С Николаем Васильевичем Клейгельсом мы были однокашники по Николаевскому кавалерийскому училищу и сослуживцы по Офицерской кавалерийской школе. Камнем на сердце было у меня сознание, что я мог считать себя виновником его блестящей карьеры. Не посоветуй я ему принять предложенную Гурко должность варшавского полицмейстера, – не был бы он никогда петербургским градоначальником, а затем генерал-губернатором в Киеве.
Последнее назначение вызвало массу толков и волнений, ибо вообще было известно, что точка зрения Клейгельса по части обогащения была небезупречна. О его большой опытности в деле торговли лошадьми уже было упомянуто. При утверждении постройки Троицкого моста за фирмой Батиньоль много миллионов пришлось на его долю. По-видимому, императрица Мария Феодоровна ему особенно покровительствовала. Крупная, импозантная фигура Клейгельса не соответствовала его внутренним качествам – мелкого, тщеславного человека.
В силу нашего с ним продолжительного знакомства свойства и характер его мне были хорошо известны, что часто давало возможность, когда я бывал в Киеве, избегать и предупреждать недоразумения. Мое знакомство с чинами канцелярии генерал-губернатора еще при Драгомирове облегчало эту задачу.
На торжественных богослужениях он подходил первым к кресту, хотя на парадах войск я был первым лицом, а Клейгельс – почетным у меня гостем. Однако во всех китайских церемониях, вообще, мы были корректны и публику нашими раздорами в соблазн не вводили.
Когда же я узнавал о каком-нибудь готовившемся со стороны генерал-губернатора «faux pas», то шел к нему по-товарищески и не стесняясь объяснял Николаю Васильевичу, что из этого может получиться.
С немалым генерал-губернаторским авторитетом он выслушивал меня, но, в конце концов, с большим апломбом соглашался, что я прав, в данном случае, лишь «в частности», – так как с общей «государственной» точки зрения, «так сказать принципиально», логика на его стороне.
* * *
В апреле 1905 года Клейгельс был уволен с поста генерал-губернатора.
Когда тайная полиция дала ему знать о том, что подготовляются по определенной программе беспорядки, Клейгельс не задумываясь передал свои обширные права и ответственные обязанности генерал-губернаторской власти моему помощнику, временно командующему войсками.
По закону при возникновении волнений гражданская власть принимает прежде всего свои полицейские меры для водворения порядка, и только в том случае, когда всеми предпринятыми мерами подавить эти беспорядки не удается, гражданская власть имеет право обратиться за содействием к начальникам войсковых частей. До какой степени это законоположение игнорировалось в данном случае, видно из того, что не только в день передачи Клейгельсом своих широких полномочий моему помощнику, но и в течение нескольких дней после того никаких беспорядков не было. Но этого мало: генерал-губернатор свое решение передал полицмейстеру в такой редакции, что тот признал за благо снять все охранно-полицейские органы в городе. Поэтому в тот день, когда предстояло возникновение беспорядков и во всем городе царило необычное возбуждение, ни одного полицейского чина на улице не было видно. Лишь на следующий день были выставлены войсковые посты со знаками на груди, указывающими на их полицейские полномочия.
Так как положение, в котором очутился мой помощник, генерал Карас, создалось совершенно незакономерно, то он телеграфировал в Петербург, прося указаний, как ему быть. На этот вопрос он получил ответ, что киевским генерал-губернатором назначен я. Без некоторого сопротивления Клейгельс, однако, Киева не покинул.
Нашлись люди, чувствовавшие себя прекрасно под начальством Клейгельса. Эти господа решили устроить демонстрацию для сохранения его в должности генерал-губернатора. «Отцы города» должны были просить Клейгельса не покидать их в такое тревожное время и одновременно с этим от имени всего населения телеграфировать в Петербург с ходатайством об оставлении его у власти.
Между тем растерянность самой власти способствовала только возникновению беспорядков, и около думы собиралась публика. Клейгельсу было доложено, что к нему явится депутация с просьбой не покидать Киев.
Через некоторое время действительно показалась по направлению к генерал-губернаторскому дому толпа. Клейгельс появился на балконе, чтобы оттуда сказать речь к народу. Но так как полиция им самим была изъята, то некому было доложить ему, что эта депутация не имеет ничего общего с грандиозной овацией по адресу генерал-губернатора, а скорее всего цель шествия – разгром домов богатых евреев в Липках. Когда Клейгельс появился на балконе, послышались выстрелы и рев погромщиков. Клейгельс, конечно, покинул балкон и стал готовиться к отъезду.
Благодаря мерам, принятым генералом Карасом, погромы были скоро прекращены, но город пострадал сильно.
Когда несколько месяцев спустя я говорил со Столыпиным о слишком продолжительных гастролях Клейгельса, Петр Аркадьевич осенние события 1905 года в Киеве приписал безусловно ему и между прочим высказался, «что недостаточно только быть хорошим кавалеристом, чтобы оказаться способным деятелем на посту генерал-губернатора».
Заметив мое смущенное лицо, Столыпин, улыбаясь, добавил: «Разумеется, я убежден, что до этого погрома дело бы не дошло, если бы тогда уже обе должности были объединены в ваших руках!»
Часть пятая. Генерал-губернатор (1905–1908)
Глава XV. Мои местные задачи в Киеве
Первые известия о беспорядках в Киеве застали меня во Франции, где я находился во время обычного моего увольнения в отпуск. Вскоре получена была от моего начальника штаба, генерала Маврина, шифрованная телеграмма. Она была так перепутана, что трудно было ее расшифровать. День спустя прибыла нешифрованная, от председателя Совета министров Булыгина, с уведомлением о моем назначении киевским генерал-губернатором. Через Париж – Вену я выехал сейчас же в Волочиск, пограничную станцию между Россией и Австро-Венгрией, где и получил я первые известия о событиях в Киеве.
Никто не ожидал такого скорого моего приезда. На станции Подволочиск жандармы попрятались, и только под угрозою мне удалось получить локомотив и вагон. В штатском костюме я отправился в свою резиденцию.
Мой въезд в Киев в роли генерал-губернатора происходил соответственно состоянию Юго-Западного края – вне обычных рамок.
Решительно нигде не происходило торжественных встреч местными властями, не было поднесений хлеба и соли от народонаселения. То, что на вокзале оказался выехавший за мной кучер, казалось каким-то чудом. Очевидно, ему пришлось ждать много часов.
Чтобы сейчас же ознакомиться с размерами причиненных погромом убытков и опустошений, я в открытой коляске медленной рысью проехал по Бибиковскому бульвару и Крещатику.
То, что я увидел, было ужасно: разбитые окна магазинов, заколоченные двери и ворота, на мостовой – остатки товаров, там и сям – лужи крови. Я понял всю серьезность выпавшей на мою долю задачи и то личное одиночество, в котором находился.
* * *
У Клейгельса, должность которого перешла ко мне, я застал непорядок, соответствовавший его образу и характеру управления.
Беспрепятственно вошел я в обширный кабинет, в котором «все вверх дном» свидетельствовало о приготовлениях к быстрому отъезду. Клейгельс никаких объяснений дать мне не мог, встретил не особенно любезно, с явно задетым самолюбием, поэтому разговор с ним был короткий, и я ушел домой, где уже несколько месяцев у меня не было супруги и хозяйки, переоделся и сел на коня. Я обречен был на одиночество целиком, оно было мне особенно чувствительно в этом холодном пустом доме.
От первых моих шагов зависело, стану ли я хозяином положения или нет. Помочь мне никто не мог, дать совет – очень немногие. В одиночестве, без единого спутника, спустился я вниз на Подол.
Мерами, принятыми генералом Карасом, остававшимся моим заместителем по должности командующего войсками, разнузданность прекратилась, но погромное настроение еще сохранилось. Подол, главное гнездо грабителей, еврейская часть Киева, представлял печальное зрелище. На улицах было много народа. «Босяк», бывший солдат, узнал меня.
– Смотрите, Сухомлинов! – закричал охрипшим голосом пьяный человек. – Не боится… Ну, что же, и я никого не боюсь! А жидов бить будем!
Направив коня в его сторону, я ему ответил: «Нет, не будешь!» Толпа расступилась.
Прижавшись к стене дома и сняв вдруг шапку, он заговорил другим тоном:
– Виноват, ваше превосходительство, действительно не буду, ежели начальство не дозволяет.
– А ты где служил?
– В 24-й артиллерийской бригаде, ваше превосходительство.
– Так не срами же своей бригады!
– Постараюсь, ваше превосходительство!
Я поехал дальше. Поведение этого человека было весьма показательно: он жил, воображая, что погромы одобряются правительством, так как истинно русские люди, объединенные в «Союз русского народа» и поставлявшие в первую очередь царских чиновников, натравливали одну часть населения на другую.
Когда, например, высокочтимый Платон, ректор духовной академии, живший в братском монастыре на Подоле, с крестом в руках вышел на улицу и умолял буйствующую чернь прекратить разгром, эти люди поняли, что их так благословляют. Пьяные грабители устилали целыми кусками материй путь, по которому шел высокопреосвященный! И погром продолжался. А враждебная правительству пресса распространяла во всей стране, будто бы высокопреосвященный раздувал религиозный фанатизм масс.
* * *
Я считал, что прежде всего моею обязанностью было восстановить нормальную жизнь города, снять с него тот гипноз, который явился следствием пережитых страхов и волнений. Я был уверен, что водворение порядка и спокойствия в Киеве отразится успокоением и во всем крае. Так оно и оказалось на самом деле.
На всех улицах расклеены были мои короткие заявления: «Вступил в управление краем и никаких беспорядков не допущу». Эти несколько слов своею категоричностью произвели сильное впечатление. После этого «ультиматума» всем стало ясно, что объявилась власть, уверенная в своей силе и без всяких многословий откровенно заявляющая, что не станет церемониться с теми, кто будет пытаться нарушить порядок.
В результате один за другим стали открываться магазины, на улицах показались люди. Трамвай стал ходить исправно, начали функционировать водопровод и электрическое освещение.
Чтобы дать национальному чувству серьезное, объединенное направление и вместе с тем восстановить течение нормальной общественной жизни, я вызвал к себе антрепренера оперного городского театра Брыкина и предложил ему открыть спектакли, поставив для начала в ближайшее воскресенье «Жизнь за царя». Он начал мне объяснять, что ставить эту оперу по политическим соображениям совершенно невозможно. Я ему посоветовал сделать так, как рекомендую, ибо мои основания серьезнее его панических опасений. Спектакль состоялся при полном сборе, театр был переполнен, публика требовала исполнения гимна неоднократно. Явившись ко мне в ложу, Брыкин сиял и четыре раза после того в течение зимы 1905–1906 годов ставил ту же оперу и с таким же успехом. Жизнь стала налаживаться.
Что миролюбиво настроенная публика отнеслась ко мне с доверием, одним из доказательств, среди многих других, было то, что в течение 1904 года число жителей в Киеве увеличилось всего на две тысячи человек, тогда как в 1905 году это увеличение превысило двенадцать тысяч и притом лишь приливом извне.
Следующие за сим три года в Киеве были для меня тяжелыми учебными годами, преисполненными задач, о повседневности которых я до того не давал себе отчета.
Для меня, воспитанного в духе солдатского призвания и подготовленного исключительно к вопросам, касающимся военного дела, несравненно большим и тяжелым бременем явились последствия японской войны, поскольку они касались армии, нежели дела политические и социальные. Каждая войсковая часть, возвращающаяся с войны, каждый человек, каждая вдова офицерская давали мне возможность видеть и убедиться, что русская армия поражена в своем основании.
Волнения, погромы, грабеж в городах и деревнях, точно так же, как и покушения на высший и низший чиновный люд, который служил верно царю, – в той степени их опасного развития, какого они достигли в последнее время, – все это было для меня непостижимо, вследствие того, что хозяйственные, социальные и политические взаимоотношения не были мною изучены в отдельности.
Мне казалось, что следует более заняться крамолой, испытывающей свои силы в борьбе с царизмом, что ее необходимо побороть, чтобы сохранить самодержавие в его старом, блестящем положении.
Чем глубже я вникал в суть политического управления, тем сильнее чувствовалось мною недомогание нашей государственной и общественной жизни и, в связи с этим, и сознание громадной опасности положения, в котором находился царь. Крупные ошибки и слабость нашей системы административной организации очень скоро стали мне выясняться.
В течение моего трехлетнего управления краем в должности киевского губернатора перебывало четыре человека. Застал я на этом посту П.С. Савича, стремившегося не выходить из колеи своего пути по службе в военном ведомстве. Драгомиров взял его из Харькова, где он был у меня начальником штаба 10-й кавалерийской дивизии.
В сентябре 1906 года нашелся ему заместитель, а Савич назначен был начальником штаба Иркутского военного округа. Этот заместитель, генерал инженерных войск Веретенников, петербургский домовладелец и гласный городской думы, пробыл в должности не более двух месяцев.
Тот, кто посоветовал Столыпину посадить в Киев Веретенникова, совершил непростительную ошибку. Я хотел, чтобы киевский вице-губернатор Лихачев принял должность губернатора. Все, чего я в Киеве добился в отношении доверия к правительственной власти, честных забот ее о защите всех лояльных верноподданных царя без различия убеждений и вероисповедания, – все это назначением Веретенникова было поставлено на карту.
Погромное настроение стало вновь пробуждаться.
Вскоре после приезда Веретенникова в Киев, в сентябре 1906 года, целый ряд его некорректностей привел киевлян в изумление. Он не только симпатизировал «Союзу русского народа», но и носил на груди знак этого союза. В своей вступительной речи он требовал от чиновников, чтобы они вступали в партии, признающие лишь самодержавие. Несомненно, тщетное и сильно запоздалое пожелание. С Подола толпой приходили к нему бунтарские элементы, которым он раздавал деньги, выданные мной ему для помощи нуждающимся вдовам и сиротам. Однажды, когда полиция обнаружила запрещенное собрание, он посадил в тюрьму всех собравшихся участников его, не сообразив того, что для подобных массовых арестов не было надлежащих помещений. Ему пришлось весьма спешно всех их освободить и тем доподлинно подтвердить всю слабость такой власти. Результаты всего этого не заставили себя долго ждать: полиция распустилась, потеряла охоту к своей службе, и всюду гидра революции стала выставлять свои головы. С этим господином я не поцеремонился. В личном докладе Столыпину я ходатайствовал об удалении его из-под моей власти. Его назначили костромским губернатором. Там ему свернули шею его же сотрудники, зная привычку его подписывать не читая все, что ему представляют; правитель канцелярии губернатора использовал это его свойство: в один прекрасный день Веретенников не читая подписал прошение о своей собственной отставке!
Заместителем Веретенникова я избрал бывшего в то время председателем киевской губернской земской управы графа Павла Николаевича Игнатьева.
Так как склонить графа Игнатьева к принятию должности губернатора было довольно трудно, то П.А. Столыпин командировал в Киев генерала Курлова для временного исполнения этой должности.
П. Г. Курлова я знал еще по Николаевскому кавалерийскому училищу как моего ученика. Впоследствии из него выработался человек с твердым характером и вполне определенным направлением. Курлов с большим успехом принялся за восстановление дисциплины среди чинов полиции, несмотря на то, что в Киеве он пробыл всего три или четыре месяца; после этого состоялось его назначение в Департамент полиции Министерства внутренних дел.
Этого добросовестного и верного человека постигла трагическая известность вследствие убийства Столыпина, председателя Совета министров, одним из агентов тайной полиции.
От него принял должность граф Игнатьев, который и оставался на посту киевского губернатора до тех пор, пока я был генерал-губернатором.
* * *
Недостатки наших высших органов управления в провинции и мой собственный опыт с отдельными представителями власти заставили меня отнестись к вопросу о замещении должностей соответствующими лицами с исключительным вниманием и заботой. Ни одно из частых моих посещений Петербурга не обходилось без того, чтобы не возбудить вопроса об этой серьезной задаче в пределах вверенного мне края. В Столыпине я нашел полное сочувствие по вопросу о личном составе. Но, как и другие представители высшей власти, он был связан тем, что среди молодого поколения был большой недостаток соответствующих лиц для известных назначений.
Государство жило со своим чиновничеством изо дня в день, а замещение высших должностей, после вступления на престол Николая II, стало принимать все более случайный характер. Правительство своевременно не позаботилось об установлении среди молодого поколения однообразных отправных точек зрения. В особенности политическое управление предоставлено было целиком случайности и господствовавшему в Министерстве внутренних дел настроению, в свою очередь находившемуся под влиянием крупных землевладельцев и почти идентичного с ними чиновного дворянства.
Но именно в этих-то кругах произошел во время освобождения крестьян, по случаю земского движения, глубокий раскол. Многие пригодные к работе люди стали в виде «либералов» и земских деятелей в резкую оппозицию ко всему, что было связано с центральным аппаратом Министерства внутренних дел. Глубокое уныние охватывало те общественные круги, которые, по существу, должны были бы руководить общественною жизнью, при виде всех государственных начинаний. Очень немногие в Петербурге в этом стечении обстоятельств усматривали кроющуюся опасность. В общем, цеплялись за установившиеся старые и частью устарелые формы, брали на должности людей не там, где их можно было найти, а исключительно тех, которые, казалось, удовлетворяли следующим условиям: преданность царю, безусловное повиновение и отсутствие какого-либо собственного политического убеждения. Это приводило к тому, что гвардейские офицеры по своему соответствию для назначения на должности по управлению оказывались в первых рядах. Этим объясняется и то явление, что гвардейская кавалерия очутилась в роли академии по поставке чинов управления: губернаторов, полицмейстеров и генерал-губернаторов, – задача для нее непосильная и вовсе ей не соответствующая.
* * *
Так и я случайно попал на пост киевского генерал-губернатора, без всякой к тому подготовки, наподобие того, как и граф Шувалов, без специального образования, мог занять должность начальника штаба Петербургского военного округа. Если бы Клейгельс не наделал глупостей, я бы едва ли стал генерал-губернатором.
Должность генерал-губернатора Юго-Западного края – трех губерний: Киевской, Подольской и Волынской, – в отношении личного состава представляла большие трудности, потому что в вопросе должностных назначений основной для этого элемент настоящих великороссов был очень незначителен. Малороссы – хорошие солдаты, но они едва ли могли дать основательных чинов управлений; землевладение находилось преимущественно в руках поляков и немногих немцев и евреев, городское же население составляли евреи, в размере от 20 до 95 %, в руках которых находились все торговые обороты не только края, но и вне его пределов. Смешение племен великороссов, малороссов, поляков, чехов, кавказцев, турок дополняло в городах пеструю картину населения.
Среди этих тяжелых национально-культурных отношений оказался налицо такой паломнический город, как Киев, со своим Печерским монастырем в центре края. Это, несомненно, еще более затрудняло положение в отношении политического управления. Для сотен тысяч благочестивых и фанатически настроенных православных со всей России Киев был целью ежегодного паломничества. Из Архангельска, с Урала, Москвы, Терско-казачьей области и с Байкальского моря паломничал народ. Этому фанатическому настроению поддалось и духовенство, загипнотизированное религиозным рвением многих сотен тысяч, и чувствовало себя достаточно сильным и судьбою предопределенным истреблять инославные исповедания, в особенности евреев, последователей Моисея.
Быть может, эта мощная национальная сила, которую я имел возможность наблюдать во время некоторых праздничных процессий, могла быть использована на благо русского государства, если бы в руководящих кругах Петербурга было налицо больше действительно преданных царю лиц и меньше разного рода лицемерных клик. Петербургские клики, вражда великих князей между собой, их ревнивые выходки против высших должностных лиц, междуведомственные трения, хозяйничанье временщиков – все это вело к тому, что накануне государственной катастрофы в провинции не только не было никакой согласованности в деле управления страной, но отдельные ведомства явно шли друг против друга.
В слепом эгоизме никто не обращал внимания на обилие тревожных сигналов, которые со времени московской катастрофы на Ходынке, как ракеты, взвивались в воздух. Так и некоторые мои наблюдения относительно настроения в инженерных войсках принимались с пожатием плеч и пускались по ветру. Я не хочу сказать, что тогда уже, в 1905 году, для меня все было ясно точно так же, как сейчас. Напротив, я определенно подчеркиваю, что о многих политических вещах и их взаимной связи, которые касались меня как генерал-губернатора, я не знал, имея лишь некоторое о них представление. И я был, конечно, дитя своего времени, продукт его воспитания. Когда в 1905 году я стал во главе политического управления Юго-Западным краем, я был исключительно чистокровным солдатом: кавалерист, офицер Генерального штаба, преподаватель тактики, начальник войсковых частей, военный писатель. Внутренней политикой я интересовался несравненно меньше внешней. Либеральное движение, с которым я мог бы ознакомиться при посредстве племянника моей первой жены, Набокова, было мне чуждо до такой степени, что во время его развития зимой 1904–1905 годов оно меня совершенно не коснулось.
Междуведомственная отчужденность, обострившаяся при Николае II, пожалуй, еще более прежнего только содействовала моей односторонности. Этот мой недостаток стал мне ясен, когда тяжкая работа поверхностного успокоения в моем округе, казалось, завершилась успехом, и бившая ключом жизнь богатого края, с населением свыше 15 миллионов жителей, подошла ко мне вплотную.
Глава XVI. Политика и управление
В должности генерал-губернатора и командующего войсками в Киеве я часто вспоминал о спокойном и завидном моем существовании в роли помощника Драгомирова: какая это была тишина и безопасность в сравнении с тем, во что превратился Киев с 1905 года! Драгомиров, конечно, изрядно гонял нас, синекурой моя должность под его начальством ни в каком случае быть не могла – работы было хоть отбавляй. Киев был всегда кипящим котлом как с военной точки зрения по отношению к мобилизации, так и с национальной.
Однако до 1904 года у меня была твердая почва под ногами: права, от самодержавной власти царя полученные и им поддерживаемые. После 1904 года с каждым днем все более и более я предоставлялся самому себе: в Петербурге не было твердой воли, никакой определенной цели, а социальные и национальные, а также партийно-политические лозунги сбивали людей с толку и накаляли их настроение. Ко всему этому армия находилась в развале, а определение на должности, в управления, школы, университеты осуществляли из числа носителей монархического принципа – людей нерешительных, трусливых или фанатиков, которые благодаря своей бездеятельности являлись опаснее всех остальных. В Киеве было какое-то столпотворение, в котором никто не мог разобраться. Скачка с препятствиями охватила все отрасли общественной, частной и хозяйственной жизни, атмосфера была полна недоверия. Ни в чем не видно было порядка. Всё должны были делать присутственные места или, вернее, ответственные представители государственной власти.
Среди политической суматохи я принялся за выполнение предстоявших мне задач по своему усмотрению и поступил правильно. Конечно, методы Драгомирова не всегда были применимы. В роли генерал-губернатора мне приходилось быть в крупном масштабе солдатом и дипломатом одновременно. Ограничиваться исключительно одними приказаниями было недостаточно. Личное воздействие и личный пример должны были предшествовать приказу.
* * *
В один прекрасный день ко мне приехал директор Политехнического института Тимофеев.
По его словам, около 7 тысяч слушателей вооружены поголовно, готовится что-то серьезное. Я ему посоветовал быть хозяином в своем деле, а когда оно станет ускользать из его рук, то только в таком случае на моей обязанности будет за него приниматься.
На другой день я поехал в главное здание института. Когда я вошел в рабочий кабинет директора, он стоял у своего письменного стола, а перед ним – четыре студента, один из которых энергично размахивал руками, предъявляя Тимофееву какие-то требования товарищей.
Я прекратил эту неприличную сцену, предложив студентам удалиться. То, что я увидел, дало мне повод высказать свое мнение, как я понимаю, о создавшемся у него положении в учебном заведении.
Пока в народных массах происходило брожение, учебно-административное начальство университета должно было считаться с тем, что студентам не устоять против пропаганды, направляемой в их среду, только если они не найдут поддержки с другой стороны. Вмешиваться в это генерал-губернатор не имел права без особой просьбы. Тем не менее такое положение в университете беспокоило меня уже потому, что громадное здание его находилось в центре города и было опасно даже в тактическом отношении как революционная цитадель.
Во время поездки в Петербург я говорил по этому поводу с министром народного просвещения Кауфманом.
Мои доводы сводились к тому, что такая экстерриториальность, при усиливающейся пропаганде и попустительстве учебного персонала, способствует только разрастанию революционных бацилл, которые способны загубить и здоровый организм, а не только такой расшатанный, как Киевский университет.
Наши дебаты с ним на эту тему убедили меня в том, что эти бациллы уже проникли в самые верхи народного просвещения. Мне оставалось только выяснить, что интересы всего края, и в частности Киева, для меня выше таковых университета, поэтому я надеюсь, что он примет меры к тому, чтобы находящееся в его подчинении заведение никаких активных действий, угрожающих спокойствию города, не предпринимало. Я же буду очень рад, если ему это удастся и не появится необходимости в принятии каких-либо мер с моей стороны.
Вскоре после того мои опасения оправдались. Вместо лекций были сплошные митинги с участием совершенно постороннего университету элемента, которые довели до попыток к выступлениям уже за стены университета. Губернатор послал полицмейстера Цихоцкого с предложением прекратить безобразия. Студенты ушли в свое здание, но когда Цихоцкий подошел к подъезду, то из брандспойта в него была пущена сильная струя воды, сбившая с головы фуражку и промочившая его до костей.
При появлении городовых студенты заперлись в университете и предприняли ряд враждебных действий, подражая обороняющимся в осажденной крепости.
Посмотреть на это зрелище стала собираться толпа любопытных. Комический эпизод и вид мокрого полицмейстера веселили толпу, смех которой только подзадоривал осажденных.
Тогда вызвана была рота пехоты, и двери были выбиты. Во все остальные выходы очертя голову бросилась масса студентов, врассыпную разбежавшихся по городу. Но на верхнем этаже, в одной из аудиторий, человек 60 устроили «цитадель», в которой заперлись и не соглашались выйти.
Через несколько минут под напором солдат двери поддались, и вся компания форта под конвоем препровождена была на Печерск, в цитадель. Больше половины арестованных оказались совершенно посторонние университету люди, в том числе несколько женщин. Все они отделались высылкой из Киева, а в университете наступило относительное спокойствие.
* * *
На одном из крупных сахарных заводов начались забастовки, принимавшие характер инфекционного источника, возбуждавшего хронические волнения в окрестных районах.
Из всех донесений и докладов нельзя было составить вполне определенного заключения о том, в какой мере положение рабочих действительно так тягостно. Может быть, именно этим и объясняется причина протестов в форме забастовок. Я решил ознакомиться с этим на месте лично.
На правом берегу Днепра, почти у самой реки, были расположены все заводские постройки. Вокруг завода виднелись поселки и деревни, в которых жили преимущественно работавшие на сахарном заводе люди.
О моем приезде было известно. Распространился слух, что со мной прибудет сотня казаков и воз розг, поэтому по моему вызову рабочие собирались неохотно. Но когда убедились, что я спокойно разговариваю с пришедшими, а казаков не видать, то собрание стало возрастать и дошло затем до нескольких тысяч человек.
* * *
Однажды ко мне явился представитель бельгийского акционерного трамвайного общества в Киеве и сообщил, что готовится забастовка. Выяснилось, что она готовится на подкладке чисто политической, ради возбуждения неудовольствия населения и одновременной пропаганды против властей.
Надо было принять энергичные меры, чтобы парализовать всякие попытки в этом отношении. Я предложил предоставить в правлении общества место одному из командиров саперных батальонов, с правом голоса в заседаниях. Предложение мое было принято, и командир 14-го саперного батальона таким путем подробно ознакомился со всеми делами и обстановкой предприятия. Саперы посылались в мастерские трамвая для ознакомления с техническими деталями дела.
Как только стало известно, что забастовка решена уже окончательно, в определенный день послан был соответствующий наряд саперов во все парки. Команды в стройном порядке прибыли по назначению за час до начала обычного движения вагонов. Собравшиеся забастовщики пытались было помешать открытию движения, даже успели испортить несколько вагонов; но после нескольких арестов движение открылось беспрепятственно.
Публика удивлена была лишь тем, что вагон сопровождали три сапера, вожатый, кондуктор и часовой, вместо двух гражданских трамвайных. Одновременно с этим забастовщикам было объявлено, что все, кто не желает работать, могут получить расчет.
* * *
В Киеве было очень много работы по таким вопросам, в которых я не был достаточно компетентен. К таковым принадлежало водоснабжение города из артезианских колодцев, тесно связанное с холерной эпидемией и мерами по борьбе с нею. В двух случаях я удостоился даже особой благодарности населения за успешно принятые мною меры.
Один из притоков Днепра, Росс, ежегодно затоплявший громадную площадь пахотной земли и садов, был, по моему ходатайству в Петербурге, углублен и с тех пор не беспокоил наводнениями. Обнаженная почва оказалась занесенной таким илом, что плодоносность ее превзошла всякие ожидания. Когда я покидал Киев, депутация от населения поднесла мне трогательный благодарственный адрес. Наибольшую же благодарность заслужил мой чиновник Григоренко, обративший мое внимание на это обстоятельство и взявшийся с большой энергией за проведение улучшений.
* * *
В другом случае мне пришлось стать на сторону крестьян против крупного землевладения, поддерживаемого бюрократией.
В течение многих десятков лет громаднейшее имение Балашова по Днепру округлялось, в результате чего масса крестьянских усадеб превратилась в так называемые «садки», оказавшиеся в условиях, сходных с осажденными.
У них не было свободного выхода ни к воде, ни на большую дорогу; скот беспрестанно попадал на помещичью землю, в чужой лес, посевы и прочее. В течение 40 лет крестьяне ходатайствовали, чтобы их переселили куда-нибудь на окраину балашовских владений, но безрезультатно. Дело это было в руках исключительно недобросовестных управляющих, которые на такой обмен не соглашались, а Балашову объясняли его в виде каких-то каверзных и назойливых требований обнаглевших крестьян, которые ни под каким предлогом удовлетворению не подлежат.
Этой тактики господ управляющих я никак понять не мог. Закулисная сторона этого дела заключалась, быть может, в личных их каких-нибудь интересах, или наверняка они рассчитывали, что крестьяне и без обмена уйдут, не выдержав осады. Когда же я поинтересовался узнать мотивы отказов, то выяснилось следующее: по закону споры между владельцами имений и крестьянами разбирались губернскими по крестьянским делам присутствиями. Решения только единогласные считались состоявшимися.
Достаточно было одного голоса, чтобы такое ходатайство отклонялось. Благодаря этому сорок лет и могла иметь место подобная невероятная волокита.
На высочайшее имя, в Сенат, подавали жалобы, но все это возвращалось в то же присутствие, и тот же один голос проваливал дело.
У меня явилось непреодолимое желание с одним этим голосом справиться и побороть канцелярщину, способствующую торжеству вопиющей несправедливости. Мне это удалось.
Так как губернское присутствие хронически дело отклоняло, то я признал целесообразным разобрать его в генерал-губернаторском присутствии по крестьянским делам Юго-Западного края. На самом деле такого присутствия не существовало, но фактически не признать его было трудно, ибо оно составлено было в точности в духе Положения о губернском присутствии.
Разница заключалась лишь в том, что состав его был повышен в ранге.
К заседанию явились 10 человек депутатов от крестьян, со своим защитником Тальбергом, а защищать интересы Балашова прибыл управляющий имением. Дело было подробно доложено начальником канцелярии генерал-губернатора. Каждая из тяжущихся сторон высказала свои доводы и ходатайства, причем манера и мотивы защиты управляющего балашовским имением произвели весьма неблагоприятное впечатление.
Единогласное решение состоялось в пользу крестьян и произвело на них такое сильное впечатление, что самый старый от радости и волнения скончался…
* * *
По существу вопрос о хуторном хозяйстве, так называемых «отрубах», решен был высшей инстанцией – П.А. Столыпиным, а мне как генерал-губернатору оставалось лишь осуществить его.
Реформа Столыпина в высокой степени отвечала нуждам крестьян. Их наделы в общинном владении со временем стали столь малы, что их трудно было высчитать. Новое положение дало им собственность. И все же некоторые из крестьян относились к системе хуторного хозяйства настолько враждебно, что не останавливались перед поджогами хуторов своих же односельчан. Насколько в этих случаях мужицкое упрямство и недоброжелательность предопределяли их поведение, мне не удалось установить. Несомненно, что и то и другое играло известную роль, так как наш революционный элемент прекрасно сознавал, что столыпинская аграрная реформа ведет к тому виду землевладения, который создает неблагоприятную для восприятия их идей и лозунгов почву, в то время как мужики, не доверявшие правительству и его органам, видели в ней какое-то тайное, мужицкой массе вредное намерение. На самом деле крестьянам угрожала лишь опасность, что ведомства, наделивши их и населивши, бросят их на произвол судьбы.
Я посетил один очень оригинальный хутор, принадлежавший двум братьям, решившим не обзаводиться семьей. Необыкновенная чистота и уютная обстановка не могли не броситься в глаза. На столе была хорошая лампа с зеленым абажуром, на белой полке стояли хорошие книги, а в шкафу за стеклом – прекрасная посуда. Все как полагается у маленького буржуа, даже венская мебель украшала этот дом. Оказалось, что они уже два года хозяйничают и на своем поле выращивают только свеклу.
В предыдущем году они так хорошо заработали, что выплатили полностью за свой отруб и, сверх того, триста рублей внесли в сберегательную кассу. Вблизи находящийся сахарный завод заключил с этими братьями благоприятный для них контракт и на будущий год.
Существенный недостаток системы хуторного хозяйства заключался в том, что хутора, удаленные от крупных поселков, были лишены не только некоторых удобств, но должны были отказаться от удовлетворения повседневных потребностей жизни.
Чтобы помочь этому обстоятельству, я предполагал в своем округе располагать хуторные постройки так, чтобы они более или менее группировались, тогда появилась бы возможность образовать центральные пункты, в которых находились бы церкви, школы, больницы, общественные управления, полиция, почта – и все это, по возможности, на одинаковом расстоянии от всех хуторов.
Крестьяне, с которыми я по этому поводу говорил, находили даже возможным найти средства, чтобы на зиму вблизи школы помещать детей под наблюдением воспитателя.
Среди участников упомянутого уже мною съезда сведущих людей находились многие горячие сторонники этого благотворного дела, работавшие и на литературной почве в его пользу. Вообще я особенно обязан этому собранию потому, что при недостатке личного опыта в новом для меня деле не только были выяснены определенные вопросы, но я знал затем, к кому мне непосредственно обратиться за советом по известным специальностям на случай необходимости.
Столыпин скончался. Проведение в жизнь его реформ, способствовавших мирной внутренней политике, прекратилось.
В стране началось брожение. Многие помещики покинули свои земельные угодья и перекочевали в города. Что касается моего округа, то, чтобы удержать это бегство, в течение круглого года войска производили занятия на местности и упражнялись в полевой службе. Учебные команды кавалерийских полков появлялись всюду и встречали радушный прием со стороны помещиков и в усадьбах вообще. Постоянная близость войск почти совершенно устранила волнения.
Глава XVII. Политика и общество в Киеве
Осень принесла большое, тяжелое испытание для моей политики: в Петербурге решено было ввести в девяти губерниях Западного края земскую организацию, установленную во внутренних губерниях России.
В январе 1907 года должны были состояться для этого выборы. Результатом решения послужило чрезвычайное оживление махинаций политических партий со всеми проистекающими последствиями. Предстояли новые выборы в Государственную думу. При таких условиях крупной ошибкой было в Петербурге постановление о назначении киевским губернатором генерала Веретенникова.
Он чувствовал себя на этом посту не как крупный политический чин губернии, а как влиятельный член партии «Союз русского народа». Он не только носил нагрудный знак союза, но поддерживал его в финансовом отношении и морально.
Личное мое недовольство новый губернатор вызвал в первый же день нашего знакомства: генерал действительной службы, он попросту, в сюртуке, без оружия, но в сопровождении пса явился к своему начальству!
Веретенников полностью погряз в партийных делах, держа совершенно ненужные речи. Его положение в обществе казалось влиятельнее моего вследствие того, что с 1904 года я был вдов, а супруга Веретенникова не была свободна от честолюбия.
Началась опасная травля, не только не способствовавшая сплоченности сторонников правительства на почве их хозяйственных интересов, но и вносившая раскол в этот элемент, так как господа «черносотенцы» объявляли войну принципиально всем и каждому, кто, по их мнению, был не русским: они поэтому отталкивали не только лояльных евреев, поляков и немцев, но даже русских! С такими господами мне нелегко было бороться. Из среды этих кругов распространялись некоторые злые, клеветнические сплетни в мой адрес.
* * *
Под начальством Веретенникова полиция быстро распалась. Вообще осень принесла мне и киевлянам сюрприз – новое явление уличной жизни города: разнузданную молодежь в установленной гимназической форме одежды. После продолжительных летних каникул, в течение которых молодежь целыми месяцами находилась вне дисциплины, она вернулась в город в виде какой-то дикой орды. Они не только дрались между собой на улицах и площадях, но задевали взрослых, беспокоили самыми невероятными выходками городскую полицию, которая с этим новым явлением не знала, как быть, тем более что от своего начальства она не получала никаких инструкций и никакой поддержки. Я много ходил пешком по улицам города без всяких охранников, часто сидел у громадного окна кондитерской Семадени на Крещатике, наблюдал многое из уличной жизни и узнавал, что происходило.
* * *
В октябре прибыли ко мне из Петербурга начальник штаба армии генерал Палицын и начальник штаба Одесского военного округа Безрадецкий и пробыли несколько дней. Мы совместно обсудили военные вопросы всего юго-западного фронта, сопоставили все недостатки, проистекающие из одобрения великокняжеской программы, а также ездили верхом с офицерами, ходили на охоту. В Киеве можно было, если бы не политика, жить чудесно.
В декабре нас посетила королева эллинов, следовавшая из Петербурга, через Одессу и Константинополь, обратно в Грецию. Я сопровождал высокую гостью во Владимирский собор, где Веретенников взял на себя роль сведущего чичероне.
Затем в зимний сезон открылись театры, концерты, художественные и другие выставки, которые я по мере возможности посещал.
Лично мне это давало известный отдых, которого я в своих пустых четырех стенах не находил; вместе с тем это позволяло мне заглянуть в течение общественной жизни и свидетельствовало наглядно, что спокойная жизнь в Киеве обеспечена настолько, насколько только этого можно было желать.
Тайная полиция, которая чувствует всюду опасность, где таковой нет, но не видит ее там, где беда собирается, была вне себя… Большим политическим и общественным событием был отъезд Веретенникова и прибытие Курлова на должность временного губернатора в конце 1906 года. Все, что входило в ряды моей оппозиции из среды духовенства, чиновного мира и общества вообще, наполнило квартиру уволенного губернатора цветами, образами, адресами и речами.
Конечно, не было недостатка в водке и закуске! Самый отъезд, сопровождаемый разного рода депутациями от национальных союзов, являлся демонстрацией против правительственной политики и доказывал полнейшее отсутствие сознания ответственности в этих кругах. Если бы в последние минуты Курлов не взялся за дело, могло бы дойти до уличных демонстраций.
Таково было то наследство, которое осталось после Веретенникова. Первый приказ по полиции нового начальника свидетельствует об этом.
В «Киевлянине» он появился в следующей редакции:
Приказ управляющего Киевской губернией от 30 декабря 1906 года
Вступив 18 декабря с высочайшего соизволения во временное управление Киевской губернией, я при первых же объездах города не мог не обратить внимания на неудовлетворительное исполнение чинами городской полиции наружной службы, на что неоднократно обращал внимание киевского полицмейстера. Городовые или совсем отсутствовали на местах, или занимались прогулками по тротуарам. Околоточных надзирателей, а тем более старших чинов полиции я, в особенности в ночное время, совсем не встречал. Несмотря на существующие обязательные постановления, улицы города Киева в совершенном беспорядке, движение извозчиков прямо безобразно. Эти явления объясняются, с одной стороны, плохим знакомством нижних чинов полиции со своими обязанностями, а с другой – отсутствием надлежащего надзора старших. Характерным примером служит полный беспорядок, найденный мною в Старокиевском участке. Отсутствие дисциплины и воинского порядка замечено мною и при осмотре конно-полицейской команды. При представлении мне чинов киевской городской полиции я высказал им, что смотрю на службу полицейскую как на службу военную. Это особенно важно, так как низшие полицейские служители – бывшие солдаты; поддерживать в них воинский порядок – священная обязанность их непосредственного начальства, что очень трудно, раз порядок этот мало известен высшим полицейским чинам, в чем я убедился при ближайшем с ними знакомстве.
Нельзя требовать с нижних чинов строгого исполнения своих обязанностей, раз такими требованиями не проникнуты их начальники.
Сего числа, за болезнью киевского полицмейстера, ко мне явился с рапортом его помощник, коллежский советник Гуминский в сюртуке. Такая форма, во-первых, совсем не установлена для полиции, а во-вторых – недопустима при явке к начальству, так как свидетельствует о сильной халатности. Пустяков в службе нет. Начальники должны подавать собою пример подчиненным. Я уже высказал киевскому полицмейстеру свой взгляд на службу. Предъявляя подчиненным мне лицам известные требования, я настаиваю на их безусловном исполнении; нижние чины будут только тогда относиться к своим обязанностям добросовестно, когда увидят пример старших. Предлагаю киевскому полицмейстеру коллежского советника Гуминского за допущенное им нарушение в форме одежды арестовать на двое суток. Последний раз приказываю передать всем чинам киевской городской полиции мои требования относительно наружной службы. Всякое нарушение наружной службы со стороны нижних чинов вызовет взыскание с их начальников.
Приказ мой прочесть во всех полицейских командах. Управляющий губернией камергер Курлов. «Киевлянин», № 2, от 2 января 1907 года.
Имя Курлова будет связано навсегда с одним из ужаснейших и для России самых тяжелых по последствиям случаев, свидетелем которого мне привелось быть как военному министру, а именно с убийством председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина в киевском театре в 1911 году. Удавшееся покушение на Столыпина приписывали тому, что было слишком много охраны. Кроме местной киевской, под начальством подполковника Кулябко, прибыла дворцовая и сам генерал Курлов, начальник корпуса жандармов, с мерами для охраны государя, и прибывших в Киев министров.
Богров, убивший Столыпина, вошел с пропуском охранного отделения под предлогом указать на лиц, якобы приехавших для покушения на председателя Совета министров. Таким образом дворцовая охрана надеялась на киевскую, обе они на личного адъютанта и на Богрова, а Курлов на всех них.
* * *
И на меня террористы постоянно охотились, но безуспешно. Деятельность охранного отделения для моей защиты принимала иногда странные формы.
Весной я назначал обыкновенно парад войскам на Сырце, в лагерном расположении на окраине города.
Накануне одного из таких парадов получено было уведомление Одесского охранного отделения, что двое анархистов выехали в Киев с бомбами, которые предназначены для меня на следующий день.
Начальник Киевского охранного отделения, полковник Еремин, явился ко мне и просил парад отменить. Согласиться на это я, конечно, не мог и просил его только принять со своей стороны меры, которые он считает нужными. Я же поеду в автомобиле на Сырец, где сяду на коня и во время прохождения войск попрошу свиту стать от меня на приличном расстоянии, чтобы не подвергать ее опасности.
С вечерним поездом из Одессы эти два господина приехали, но в сопровождении охранного сыщика, проследившего их до небольшой гостиницы «Киев» на Бибиковском бульваре.
Еремин с чинами своего отделения отправился в гостиницу, где одессит с бомбами и был арестован. Другого его спутника не оказалось, и куда он исчез – было неизвестно.
Поэтому полковник Еремин, приехав доложить мне обо всем случившемся, еще раз пытался уговорить меня отменить завтрашнюю церемонию.
Парад состоялся при чудной погоде, громаднейшем съезде киевского общества, массе собравшегося народа. Все обошлось благополучно.
Тот же полковник Еремин раскрыл революционную организацию, готовившую целый ряд покушений. В Киеве жил мой брат, командовавший бригадой в 9-й кавалерийской дивизии. В тот дом, где была его квартира, из этой организации ухитрились поместить в должности швейцара техника, изготовлявшего бомбы.
Как потом оказалось, шесть бомб он успел приготовить, а с седьмой попался с поличным, и вся партия была ликвидирована. В кармане у этого мнимого швейцара оказался мой портрет, вырезанный из «Нивы». Когда его спросили, зачем понадобилось ему мое изображение, он нагло ответил: «Помилуйте, ведь это такая уважаемая личность в городе, почему же мне не иметь его портрета».
Другое покушение на меня готовилось вблизи моего места жительства. Дом мой расположен был на некотором расстоянии от Александровской улицы, по которой проходил трамвай. Когда я выезжал в экипаже, кучеру приказано было проделывать это медленно, шагом, чтобы не попасть под вагон, мчавшийся близ самого тротуара. Это было подмечено, а также и то, что часто я выезжал между тремя и четырьмя часами пополудни, что и предполагалось использовать для покушения.
Это неожиданно выяснилось на суде, о чем приехал доложить мне прокурор Клингенберг. Судили убийцу несколько человек, и, когда был вынесен приговор, он почему-то пожелал рассказать, по его выражению, «покаяться» в покушении еще на одно убийство.
В избранный им для этого день в запряжке моего экипажа оказалась неисправность, и я пешком отправился к губернатору, графу Игнатьеву, жившему недалеко от меня.
Проходя по безлюдному Крепостному переулку, я встретил незнакомого мне человека, как мне показалось, пришедшего в недоумение и приостановившегося. Это и был тот убийца, который объяснил на суде, что, обдумывая, как он станет на подножку коляски и в упор выстрелит в меня из револьвера, вдруг, совершенно неожиданно, увидел меня перед собой. Это до такой степени поразило его, что он растерялся и ничего не сделал. «Идет один, совершенно спокойно. У меня рука не поднялась, а будь он в коляске, выстрелил бы», – откровенно пояснил подсудимый.
Затем самым необыкновенным и печальным по последствиям был случай в Харькове. Я спасся только чудом.
Мне нужно было проехать в Чугуев через Полтаву и Харьков. В последнем я мог переговорить с войсковыми начальниками, так как обычно, до отхода балашовского поезда на Чугуев, оставалось около часа времени. Но на этот раз полтавский поезд пришел с таким большим опозданием, что я не мог выйти из вагона, который сейчас же был переведен на другой путь.
В тот же день вечером я должен был вернуться обратно, поэтому просил господ генералов приехать к тому времени обедать со мною в парадных комнатах вокзала.
В Чугуеве, после осмотра военного училища и посещения Ингерманландского гусарского полка, я уехал на железнодорожную станцию, расположенную в трех верстах от города.
Славящаяся своей исправностью, Балашовская дорога на этот раз побила в этом отношении всякий рекорд: поезд опаздывал всего лишь на 12 часов. А так как на следующий день мое присутствие в Киеве было необходимо, то я потребовал вызова локомотива из Харькова, чтобы вагон мой доставили к полтавскому вечернему поезду.
Но так как в это время подходил товарный поезд, то начальник станции по телефону просил разрешения отцепить паровоз и доставить меня в Харьков. Вся эта процедура заняла столько времени, что когда мой вагон дотащили до Харькова, то его остановили за семафором, не пустив к вокзалу. Татары принесли обед в вагон, и, не видав никого, я уехал в Киев.
Войдя к себе в кабинет, я нашел на столе срочную телеграмму из Харькова, в которой комендант доносил, что вслед за отходом поезда на вокзале разорвалась бомба, от которой пострадало около 20 человек.
Как выяснилось после, бомба эта предназначалась начальнику дороги, но так как он надолго уехал, а в газетах сообщалось, что с таким-то поездом прибывает из Полтавы киевский генерал-губернатор, то решено было использовать эту бомбу для террористического акта над ним.
С этой целью к приходу моего поезда террористы и явились. Но так как я из вагона по чистой случайности не вышел, а они слышали мое приглашение на обед, то явились к вечернему поезду из Чугуева. Между тем бомба поставлена была на боевой взвод, а несший ее при помощи ремней на груди ограждался от толчков в толпе: с правой стороны мужчиной, с левой – женщиной.
В вестибюле, выложенном скользкими плитами, носильщики с багажом нанесли еще снегу, поэтому когда бомбометчик, поскользнувшись, стукнулся о соседа справа, то бомба взорвалась и от него самого осталось очень мало: голова покатилась в зал, а кишки вместе с ремнями от бомбы повисли на люстре у потолка. Правый сопровождающий разорван был на три части, а фельдшерица получила более четырехсот ран и к вечеру скончалась.
При обыске у нее на квартире был найден номер «Южного Края», в котором красным карандашом отчеркнуто было сообщение о моем приезде в Харьков.
Серия случайностей спасала меня неоднократно. На этот раз она была связана с неисправностью железной дороги.
До полковника Еремина начальником Киевского охранного отделения был полковник Спиридович, очень энергичный и способный человек. Он правильно рассуждал, что для успешной борьбы с противником надо изучить его основательно и не считать дураком; если он окажется умным, то может произойти неприятная перемена ролей.
После перевода в Петербург Спиридович издал целый том обстоятельного исследования о революционных организациях, которые, в свою очередь, видели в нем сильного противника, поэтому решили его ликвидировать.
Сотрудникам Спиридовича не удалось уберечь своего начальника. При выходе из квартиры он был очень тяжело ранен в грудь навылет, но не смертельно. На время выбыв из строя, он лечился за границей. Промежуток до полного выздоровления, очевидно, и дал ему возможность заняться литературой по своей специальности.
* * *
До организации охранных отделений их работа входила в круг деятельности губернских жандармских управлений.
С таким губернским жандармским управлением я впервые столкнулся в Сувалках, будучи командиром полка. О жестоком обращении с солдатами со стороны некоторых офицеров мне было передано не в служебном порядке, а посредством органа Министерства внутренних дел. Но более опасная сторона выяснилась при другом случае. После верховой езды в Сувалках я обычно шел вместе с офицерами полка пешком через город в собрание на завтрак. Полковник губернского жандармского управления донес об этом генерал-губернатору в Варшаву, создав впечатление, будто офицеры во главе с командиром полка ходят со стеками в руках по городу и раздражают население. Дело это сошло без последствий. Генерал Гурко передал этот донос в Вильно моему главнокомандующему, который, в свою очередь, потребовал от меня рапорт. На этот раз наказан был жандармский полковник, которого полк бойкотировал, и он вскоре был переведен.
В Киеве образчиком такого отрицательного назначения был генерал Новицкий, к которому Драгомиров относился совершенно справедливо с презрением. Это был патентованный «жандарм-доносчик», из любви к искусству собиравший сплетни, которые служили ему материалом для доносов, когда по существу не о чем было доносить и проявлять усердие. Ремесло это вошло до того в плоть и кровь его, что Новицкий даже в отставке не мог обходиться без доносов, но преимущественно, конечно, анонимных, даже правильнее – полуанонимных, так как характерный почерк выдавал автора. Именно подобного свойства люди, как Новицкий, составили незавидную репутацию корпусу жандармов, несмотря на то что в его рядах было много людей, заслуживающих уважения и правильно понимавших назначение этого учреждения, снабженного исключительными полномочиями.
Мне передавали, что на каком-то большом обеде, во время закуски, генерал Новицкий подошел к Драгомирову с рюмкой в руках, чтобы выпить за его здоровье.
Михаил Иванович с улыбкой добродушно на это ответил: «Пьете за мое здоровье, а потом донесете кому следует, что командующий пьянствует».
Новицкий об этом действительно доносил.
Опасная сторона полномочий, предоставленных корпусу жандармов, заключалась в том, что для осуществления идеальной мысли пришлось иметь дело не только с не идеально чистым личным составом, но и зачастую с людьми с сомнительной репутацией. Людей с таким благородным характером, как генерал Джунковский, который некоторое время стоял во главе корпуса жандармов, было немного.
Первоначально, при разделении Третьего отделения, при императоре Александре II образован был корпус жандармов в виде органа для надзора за деятельностью чиновников и офицеров, состоящих в роли начальников. Чины этого корпуса должны были ограждать подчиненных от злоупотреблений и превышений власть имущих. Для этого они должны были составлять мнения о характере и жизни чиновников, а так как большинство самих жандармов было далеко не высокой нравственной марки, то они и развивались преимущественно в сторону сыска, совали свой нос в жизнь частных лиц, сколько-нибудь заметных в обществе. Как начальник громаднейшего корпуса офицеров, я находил деятельность жандармов особенно вредной и унизительной.
При большом недостатке офицерского состава мысль о сохранении надежных офицеров в строю вполне понятна. При поступлении и увольнении офицеров приходилось обращать внимание на их политическую благонадежность. Но данные на этот предмет находились не в руках командиров полков, а в жандармских управлениях. Редко когда начальнику части удавалось совершенно доверительно ознакомиться с подлежащим материалом. Мне известны были случаи ухода из полков прекраснейших офицеров, вследствие совершенно недостоверных сообщений Министерства внутренних дел войсковому начальнику о подозрении в принадлежности их к враждебным правительству партиям. Хотя подобные сведения сообщались секретно, но тем не менее они делались известными в офицерском кругу. В результате, при полнейшей неосновательности подозрений, ни в чем не повинные офицеры покидали полки.
Попечение о личной охране высокопоставленных лиц было одним из моментов, более всего способствовавших деморализации корпуса жандармов.
Если это касалось генерала, губернатора или министра по натуре робкого, трусливого, то такой жандарм очень скоро прибирал в свои руки службу и отношения с опекаемым им лицом.
В отношении публики у жандармов не существовало никаких преград. Не было больше оснований, которые препятствовали бы бессовестному полицейскому господину проникать в самые интимные стороны частной жизни людей.
Тем не менее я не имел возможности парализовать вредное влияние жандармов. Требовалась большая реформа всего государственного аппарата, чтобы появилась возможность вовсе отказаться от корпуса жандармов. При этом затрагивалось так много интересов правительственного надзора, что я не видел выхода проведения реформы хотя бы частично и вынужден был работать совместно с этим несовершенным инструментом.
Часть шестая. После японской войны (1905–1909)
Глава XVIII. Состояние армии в 1905–1908 годах
Вместо Куропаткина военным министром назначен был генерал Сахаров, у которого я видел план предстоявшей кампании на Востоке. Вернее было бы назвать это конспектом хода военных действий, в котором Алексей Николаевич детально разработал все периоды кампании, до отдельных эпизодов включительно.
Последовательно, шаг за шагом, он двигался вперед, переносил операции на Японские острова и заканчивал лаконической, эффектной фразой: «Пленение микадо!»
В состав штаба Маньчжурской армии вошел и старший адъютант инспекторского отделения киевского окружного штаба. Вернувшись в Киев по окончании войны, полковник Медер мне передавал, что при отступлении от Мукдена ему пришлось ехать верхом рядом с Куропаткиным. Вспомнив курские маневры, он ему сказал: «Нет со мной Сухомлинова!»
Едва ли я мог быть ему полезен. Драгомиров был прав, находя, что ему нужен не начальник штаба, а именно Скобелев.
По этому составленному на берегах Невы расписанию воевать не пришлось. Об этом я мог судить исходя из того, что мне приходилось сверх всякого расписания отправлять солдат из Киева в Маньчжурию.
После того как ушли 10-й корпус и 3-я стрелковая бригада, я отправлял, как в бездонную бочку, одну сотню за другой, штабы, офицеров и даже целиком весь контингент солдат 1905 года. Это привело к тому, что личный состав у меня совсем расстроился: я вынужден был 16-ротные пехотные полки превратить в 8-ротные.
В полках оказывалось всего по 10–12 офицеров вместо 60.
Что касается обмундирования и снаряжения, то все отправлялось на Восток, все цейхгаузы и склады очистились.
При непрерывно увеличивающемся недостатке личного персонала и нарушении нормальной дислокации могло получиться, например, такое положение войсковой части.
33-я пехотная дивизия была командирована из Киева на Кавказ. Для пополнения киевского гарнизона пришлось перевести полки из других корпусов – Ровно, Дубно и Луцка. Семьи и все имущество 33-й пехотной дивизии оставались в Киеве. В таком же точно положении оказались и полки, переведенные в Киев, весь инвентарь которых остался в местах их постоянного квартирования. Можно себе представить, какая вследствие этого получилась бы путаница в случае мобилизации, если к тому же запрещено было изменять мобилизационное расписание.
В подобном положении находились и многие войсковые части и других округов.
Внутреннее состояние полков было довольно плачевно: ни сапог, ни обмундирования, ни запасов, ни обоза в наличии не имелось. По окончании войны войска принесли с восточно-азиатского фронта значительные экономические суммы, образовавшиеся от довольствия так называемыми «дикими продуктами». Но по настоянию министра финансов последовало распоряжение: в интересах государственного хозяйства суммы эти отнять. Вследствие этого войска не могли уже собственными средствами помочь делу восстановления недочетов. Тяжелые материальные потери требовали пополнения после заключения мира. Из-за политического движения, взбудоражившего страну, исполнение этой задачи крайне затруднялось. Упавший воинский престиж надо было восстановить, если Россия дорожила своим положением сильной державы среди остальных европейских государств.
В таком положении мы должны были лицезреть, как вооружение наших соседей ежедневно росло, количество боевого материала увеличивалось. Опасность возникновения европейской войны казалась для нашего государства особенно чреватой последствиями. Настоятельным долгом нашим было принять все меры к восстановлению боеспособности наших вооруженных сил. Командующие войсками без всяких прикрас доносили о состоянии вверенных им войск точно так, как и я заявлял об опасности упадка дисциплины в рядах, возвращающихся из похода. Сильно колебалось доверие к войскам и среди населения.
Осенью 1904 года я имел случай докладывать государю в Царском Селе о последствиях маньчжурской кампании в западных округах. Он был глубоко потрясен, потому что я ему подтверждал то, о чем он знал из других округов, в особенности из Вильно и Варшавы.
* * *
После того как оправдалось драгомировское мнение о необходимости Скобелева для полководческих экспериментов Куропаткина, 28 февраля 1905 года у государя в Царском Селе состоялось совещание. В нем участвовали: великие князья Алексей Александрович и Николай Николаевич, Драгомиров, граф Воронцов-Дашков, Фредерикс, Гессе, Рооп, Комаров (Кушкинский) и я.
Для всех нас было ясно, что оставлять Куропаткина в должности главнокомандующего Маньчжурской армией, потерпевшей решительное поражение, совершенно невозможно. Никаких продолжительных дебатов по этому поводу и не было. Беспощаднее других высказался в этом смысле великий князь Алексей Александрович, задетый, по-видимому, тем, что заменили адмирала Алексеева сухопутным генералом, провалившим наше дело на Востоке.
Это был тот единственный случай, когда мне пришлось участвовать в деловом заседании вместе с генерал-адмиралом. Своей величественной фигурой он напоминал коронованного брата, императора Александра III. Известный художник Маковский в таком именно роде рисовал своих русских бояр. По характеру это и был настоящий великорусский боярин, отдававший должную дань кулинарному искусству и к черной работе влечения не имевший. Что касается боярского самолюбия, то у него его было достаточно. Оно и было задето предпочтением Куропаткина его подчиненному адмиралу.
Что касается Драгомирова, то его ироническое слово являлось следствием не удостоившегося внимания его предсказания относительно сомнительности полководческих дарований Куропаткина.
Со свойственным ему юмором Михаил Иванович высказался в том смысле, что раз дело было проиграно бесповоротно, требовалась лишь ликвидация, которая в окончательной форме, в конце концов, и поручена была графу Витте.
В начале 1905 года государь передал мне проект реорганизации армии, родившийся по инициативе великого князя Николая Николаевича.
Государю угодно было знать личное мое мнение об этой реформе.
* * *
Было это на Масленицу, и, передавая проект, государь назначил мне доложить о нем в понедельник, в первый день Великого поста. Когда я в назначенный день приехал в Царское Село, то экипажа придворного за мной не выслали, как это обыкновенно делалось. Пришлось взять извозчика, которому я сказал: «Во дворец».
Он привез меня в Большой дворец, где швейцар спросил, к кому я приехал. Когда же я ему ответил, к кому, то он очень удивленно на меня посмотрел: я, по приказанию государя, приехал просто в сюртуке, а не в парадной форме.
Услышав то, что я сказал швейцару, извозчик ударил по коню, и мы помчались в Александровский дворец, в котором жил государь. Швейцар же, заподозрив что-то неладное, дал знать об этом по телефону. Когда я подъезжал к воротам Александровского дворца, то извозчика моего остановили, а я был окружен дворцовыми городовыми, околоточными и часовыми.
Начался допрос, и мне было заявлено, что государь говеет, никого не принимает: меня просят в комендантское управление.
Со всей своей провинциальной храбростью я заявил тогда, что ни в какое комендантское управление не поеду, а повеление быть в три часа я получил лично от государя, теперь уже без пяти минут три, и я прошу сейчас же доложить его величеству, что генерал Сухомлинов прибыл, но его не пропускают во дворец. После этого ворота были раскрыты, два здоровых городовых взяли лошадь под уздцы, и весь кортеж, вместе с дворцовой охраной, направился к подъезду. Инцидент этот обратил на себя внимание во дворце, и вскоре вышел в красной ливрее швейцар, а затем дежурный генерал свиты Орлов, командир л. – гв. Уланского ее величества полка и мой ученик по Николаевскому кавалерийскому училищу.
Я ему рассказал, в чем дело. Он пошел доложить государю, а меня пригласили в приемную. Через несколько минут ко мне вышел государь, от души хохотал и извинялся, что, ожидая меня в этот день, он забыл предупредить дежурного.
* * *
Проект великого князя предусматривал образование Совета государственной обороны с особыми полномочиями. Военное министерство, соответственно германскому образцу, подлежало разделению, и военному министру отводилась роль управляющего частью военного ведомства, но не исполнительного органа государя как верховного вождя армии. Соответственно этому, право личного доклада у государя было значительно расширено и предоставлено начальнику Генерального штаба и всем инспекторам отдельных родов оружия. У военного же министра осталось ведение хозяйственными вопросами и личным составом.
Проект великого князя способствовал не устранению господствовавшего непорядка в армии, а прямым путем вел к анархии сверху, к неизбежному результату столь многоголового управления и отсутствия у государя одного ответственного лица, каким был военный министр. Проект в основании своем был в духе разложения, а не собирания. Он был последовательным продолжением мании неспособных вождей при помощи военных советов и комиссий слагать с себя ответственность на большее или меньшее число подчиненных лиц. Это было новое вторжение демократии в дело аристократического строения войсковой жизни, а потому – покушением на армию.
Все это я совершенно откровенно высказал государю, не утаивая ни одной моей мысли по этому поводу, предостерегая его следовать по пути, указываемому великим князем. При изобилии предстоящих личных докладов ему придется или посвятить все время исключительно армии, а все остальные свои обязанности оставить в стороне, или же он сам скоро потеряет способность разбираться в общей массе докладываемых ему дел и в критические минуты не будет знать, к кому обратиться, на кого положиться.
После этого доклада государь согласился с моими соображениями.
Я полагал, что дело приняло правильное направление, вернулся в Киев и затем уехал в отпуск на юг Франции. Однако как киевскому генерал-губернатору мне пришлось вернуться оттуда домой преждевременно. По поводу проекта реформы, о которой шла речь в Царском Селе, до меня не доходило никаких слухов до тех пор, пока в середине июня 1905 года в «Инвалиде» не появился высочайший указ, свидетельствовавший о том, что мнение великого князя восторжествовало над моим. Указом 8 (21) июня создавался Совет государственной обороны «для объединения управлений армии и флота, равно как и согласования всех ведомств, соприкасающихся с работами по государственной обороне». Кроме того, несмотря на мое предостережение, начальник Генерального штаба стал самостоятельным докладчиком, наравне с военным министром. Состоялось, таким образом, разделение Военного министерства, и приступили к закладке фундамента для постройки «Вавилонской башни» по истечении четырех лет, то есть раньше, чем я предполагал, приведшей к полнейшему «смешению языков»: никто друг друга уже больше не понимал.
Именно тогда, 8 (21) июня 1905 года, царь подписал свой смертный приговор. Именно теперь, после цареубийства в Екатеринбурге в доме Ипатьева, я могу утверждать это без риска быть обвиненным в преувеличении. В эти часы он приносил в жертву свою царскую власть, которую отстаивал в стране и защиты которой он требовал в Государственной думе против демократии, а сотни лучших людей страны пали от рук убийц из-за угла в угоду властолюбию и достижению исключительно личных целей великокняжеской безответственностью Николая Николаевича. Таким образом, с 1905 года армия имела две головы, долженствовавшие вскоре превратиться в полюсы, между которыми неминуемо должны были возникать на петербургской почве интриги политического и личного характера.
В Совете государственной обороны, с великим князем во главе, собирались не одни только инспекторы многочисленных родов оружия. Это было именитое общество безработных великих князей, внедолжностных сенаторов, новых государственных деятелей и других лиц, туда попадавших. За печатью великого князя исходили оттуда требования, приказы и наставления войскам.
Рядом с Советом государственной обороны военный министр оказался лишь кажущимся высшим органом изъявления царской воли, причем получивший право непосредственного личного доклада у государя начальник Генерального штаба, с благожелательным для него великим князем за спиной, приобрел такую силу, что бывшая зависимость повернулась в обратную сторону сравнительно с тем, как это было установлено известным положением раньше. За время с 1905 по 1908 год влияние Генерального штаба усилилось еще тем, что Николай Николаевич во главе его поставил своего бывшего начальника штаба, генерал-инспектора кавалерии, генерала Палицына…
* * *
Осенью 1908 года для всех, кто только желал это видеть, было ясно, к чему дело клонилось.
Для восстановления армии не только ничего не было сделано, но скорее всего стало хуже, нежели в 1905 году, так как командной власти грозила опасность полнейшего расстройства. Поэтому было полнейшей неожиданностью обнародование высочайшего рескрипта великому князю Николаю Николаевичу с высочайшей благодарностью за его плодотворную деятельность в должности председателя Совета государственной обороны. Вместе с тем объявлялось, что ввиду предстоящего пересмотра положения о Совете государственной обороны и реорганизации военного ведомства великий князь от настоящей должности освобождается. Крыса покинула тонущий корабль!
* * *
В ненастную погоду ноябрьского дня, проезжая вдоль болот, окружающих столицу, стоя у окна вагона с моим начальником канцелярии Неверовым, мы говорили о том, какой контраст в природе и климате с нашим милым Киевом. Оба мы мечтали о том, что управимся поскорее с делами и, возвращаясь, на мосту через Днепр будем любоваться живописным видом Киева на высотах в зелени с высящимися золотыми куполами Киево-Печерской лавры, монастырей и соборов. И в голову мне не приходило, какой удар готовился мне в Петербурге.
На вокзале меня встретил адъютант военного министра, генерала Редигера, с просьбой последнего сейчас же отправиться к нему.
Редигер передал, что государь ждет меня на другой же день. Я был поражен, узнав, что мне предложено будет принять должность начальника Генерального штаба. Положение дел было, очевидно, скверное. В моем прекраснейшем служебном положении в Киеве, можно сказать, лучшем в России, это было такое неожиданное и неприятное обстоятельство, что я пришел в полное отчаяние и решил отказаться.
На следующий день я был в Царском Селе. Государь встретил меня исключительно ласково и, глядя в упор своими добрыми глазами, сказал: «Как я рад, что вы приехали. Сколько раз я вспоминал о вас и о том, как вы были правы, Владимир Александрович. Действительно, вышло так, что все перепуталось. Я прошу вас принять должность начальника Генерального штаба, нам надо распутаться».
Я пытался избегнуть этой служебной перемены, во всех отношениях мне лично не улыбавшейся, не говоря уже о громаднейшей разнице в условиях материальных. Из хозяина самостоятельного приходилось переходить в работника, зависимого от военного министра. Критикуя проект великого князя Николая Николаевича, я указывал именно на те последствия, которые оправдались относительно розни в работе и водворения сумбура в военном ведомстве. Дело, налаженное и для меня симпатичное, в прекрасных климатических условиях Юго-Западного края, предстояло променять на работу среди придворных интриг человеку, за 10 лет отсутствия в Петербурге утратившему всякую связь с жизнью столицы.
«Я знаю, – говорил мне государь, – что это для вас из попов в дьяконы, но я прошу все-таки вас на это согласиться, а во мне вы найдете во всем поддержку. Ваше трудное положение я вполне понимаю, но здесь, в столице, можно добиться того, чего не сделаешь в провинции».
Я ответил на это его величеству, что перемену, мне предстоящую, считаю переходом даже из попов в дьячки, а не в дьяконы, но не могу допустить, чтобы государь меня просил, а повеление высочайшее не исполнить считал бы для себя преступлением.
Соглашаясь, таким образом, я поставил лишь со своей стороны одно условие, что хотя, в свое время, генерал Редигер проходил курс академии, а я был уже в составе ее администрации, и он, следовательно, был моим подчиненным, тем не менее с принятием должности начальника Генерального штаба я прошу меня подчинить военному министру.
Государь так был рад исходу этого дела, что имел вид человека, у которого с плеч гора свалилась. Он согласился, но поставил со своей стороны условие, чтобы раз в неделю, по вторникам, я делал ему доклады в присутствии военного министра. Пришлось с этим, в свою очередь, согласиться, но я доложил тогда: «Слушаю, ваше величество! Я буду докладывать военному министру в вашем присутствии…»
Глава XIX. Начальник Генерального штаба
Реформой 1905 года, как я уже пояснял, Генеральный штаб был из Военного министерства выделен в отдельный орган, глава которого, начальник Генерального штаба, получил право самостоятельного, независимого от военного министра, доклада у государя. Пытались в этом отношении подражать прусской организации, упуская самый смысл таковой, так как вопрос личного состава остался в руках военного министра, тогда как в Пруссии для этого имелся специальный военный кабинет. У нас же такового не существовало. Этим в основание всей этой организации заложено было начало разложения, с которым такой положительный человек, как Палицын, справиться не мог. В действительности вся его работа по существу оказалась в полной зависимости от инициативы и импульса Совета государственной обороны, который, однако, ничего не делал!
Прием и сдача этого столь крупного управления с деловой и формальной стороны происходили весьма просто: Палицын передал мне ключ от своего порожнего письменного стола, и когда я попросил его дать мне программу работ по обороне, он трагически указал пальцем на свой лоб!
Таким образом, говорить было не о чем. Никакого плана обороны, никаких проектов реорганизации… И это через четыре года после неудачной войны!
Мое назначение на его место Палицын принял довольно равнодушно. По его словам, он ожидал нечто в этом роде, но совершенно отказывается понимать, как я мог согласиться на подобную перемену. «Вы представить себе не можете, какой бардак был на последнем заседании Совета государственной обороны!» – обиженным тоном сообщал он.
Великий князь Сергей Михайлович после того подтвердил мне, что травля, которой подвергся начальник Генерального штаба, скандал, устроенный Палицыну, напоминал «кошачий концерт»!
И это в заседании под председательством великого князя Николая Николаевича!
* * *
После того как я ознакомился с ходом дел моего нового ведомства и просмотрел незначительное количество исполненных работ, мне стало ясно, что для создания мощного, работоспособного Генерального штаба потребуется не менее десяти лет. На одном из докладов я об этом и заявил военному министру, добавив, что буду счастлив, если в этот срок мне удастся выполнить такую задачу. Для успешного проведения опыта было, разумеется, необходимо, чтобы не только государь не изменял своего решения, противного великому князю, но чтобы и военный министр употребил всю свою энергию, какая требовалась для проведения и реорганизации столь расшатанного аппарата, каким в 1908 году было военное ведомство.
До самого возникновения войны царь был, по-видимому, на моей стороне, но, как оказалось, только по-видимому. Что же касается генерала Редигера, то в нем я, конечно, разочаровался.
Чтобы дать понятие о том, с какими внутренними трудностями приходилось иметь дело каждому начальнику Генерального штаба, а тем более каждому военному министру, в период времени до японской войны и после нее, мне приходится добавить здесь еще кое-что.
Чисто деловая работа по реформам затруднялась личными влияниями, устранять которые мог лишь сам государь. Вследствие этого зачастую самые важные решения рождались именно не с деловой точки зрения, а под влиянием личных воззрений. Пока Куропаткину, этому необычайно прилежному человеку, удавалось удерживать в государе известное направление, а самому остаться исключительно влияющим лицом, деловые интересы армии совмещались с такими же личными. Куропаткинское честолюбие или, вернее, тщеславие вызвало в нем желание ликвидировать недоразумение на Дальнем Востоке. Для этого он поставил на карту все, что только хорошего было им сделано для армии. Личные побуждения, таившиеся в государе и его дяде, великом князе Николае Николаевиче, взяли верх над деловыми потребностями армии.
Характер государя затруднял проведение деловых потребностей. В корне личного влияния являлся вопрос о назначении главнокомандующего на случай европейской войны. До начала японской кампании и вплоть до назначения Куропаткина главнокомандующим в Маньчжурии считалось решенным делом, что государь станет самолично во главе армии, с самостоятельным начальником штаба для ведения операций. Таким начальником штаба предполагался генерал Сахаров.
Уже в начале настоящего столетия европейская война означала занятие определенной позиции против Германии, Австро-Венгрии и одного или многих балканских государств. В 1902 году этот фронт в куропаткинской разработке делился на северо-западный (так называемый «немецкий фронт») и южный фронт (так называемый «австро-румынский фронт»).
Первым должен был командовать великий князь Николай Николаевич, вторым – Куропаткин. Великий князь выбрал на должность своего начальника штаба Палицына, а Куропаткин – меня…
Куропаткин сам создал условия, способствовавшие развалу армии.
Крупной ошибкой было еще в мирное время предрешать один какой-нибудь определенный случай военных действий и к нему лишь приноравливать всю подготовку и развитие вооруженных сил. Как только в действительности случай не вполне отвечал бы тому, что при теоретических потугах родили канцелярии, вся махинация подвергалась опасности. Кроме того, вследствие такой односторонности, уже в мирное время возникало соперничество среди генералитета, что обыкновенно имеет место во всех армиях лишь во время самой войны. В мирное же время государю необходимо было вместе с военным министром избрать соответствующий персонал для назначения на крупные командные должности и расписать их точно так же, как по мобилизационному плану это предусматривается в отношении полковых, батальонных и ротных командиров.
Будущие командующие армиями должны быть ознакомлены с предстоящей им деятельностью и с этой целью должны быть привлекаемы к практическим работам, длительным занятиям по дальнейшему развитию и выполнению предстоящей им задачи, с тем чтобы им по силам было действовать таким сложным инструментом, как современная армия, и целесообразно употреблять ее в дело.
Созидание этого инструмента должно быть, безусловно, делом военного министра. Эту задачу Куропаткин как себе, так и своим преемникам бесконечно затруднил, свернув на путь, им же самим созданный. Так часто жаловавшийся на безответственное влияние великого князя, Куропаткин сам этому влиянию открыл ворота, которые до этого были закрыты. Когда он несчастным, потерпевшим поражение полководцем вернулся с Дальнего Востока, путь для вредной деятельности великого князя Николая Николаевича был свободен, а я, против моего желания и воли, очутился его соперником!
* * *
По существу, задачу мою в должности начальника Генерального штаба я понимал с точки зрения необходимости воспользоваться уроками японской кампании и успехами в области современной техники для развития и усовершенствования нашей армии. В самом управлении пришлось считаться с переполнением офицерского состава, который без дела наполнял помещения Генерального штаба вместо того, чтобы с пользой для строя находиться при войсках.
Я принял Главное управление Генерального штаба с таким обильным персоналом и с такою ничтожною продуктивностью работы, что один из полковников обратился ко мне с просьбой вернуть его в войска, так как в течение полугода ему не пришлось составить ни одной бумажки! Он считал ненормальным получать содержание без какой бы то ни было работы. Это явление было достопримечательно потому, что ярко освещало весь царивший сумбур при образовании Совета государственной обороны и выделении Генерального штаба из Военного министерства. Необходимых для этого средств не имелось, поэтому пришлось прибегнуть к системе «Тришкина кафтана» из басни Крылова: попросту и в большом количестве офицеры Генерального штаба из войсковых штабов были выделены для осуществления ненужной сверхорганизации без новых расходов от казны. У войск отняли моральных вождей – офицеры Генерального штаба, как и двадцать лет до того, засели в петербургские канцелярии. В Генеральном штабе, где вся деятельность основана на индивидуальном труде, злейшим врагом надо признать избыток личного состава, рикошетом отражающийся на провинциальных войсковых штабах, в которых ощущался недостаток персонала. Поэтому все лишние офицеры должны были вернуться к войскам.
Самой важной задачей было не только скорейшее создание мобилизационного плана, но и полная возможность его беспрепятственного выполнения…
По приказанию государя я составил записку, в которой были изложены те главные основания, которые я считал необходимым провести для скорейшего восстановления армии, и обрисовано общее положение для сведения всех ведомств, имевших представителей в Совете государственной обороны.
В записке значилось: «Вот в кратком обзоре то положение, в котором находится сейчас дело обороны нашего государства. В таком виде оно, конечно, оставаться не может. Но Военное министерство одно его энергично вперед двинуть не имеет возможности. Дабы избежать в будущем того упрека, который нам делают теперь по поводу неудачной нашей войны с Японией, приписывая неподготовленность России к войне на Востоке существовавшей «междуведомственной розни», военный министр, с соизволения государя императора, в настоящей записке в общих чертах изложил те меры, которые могут улучшить нашу боевую готовность, но лишь при общем, дружном содействии представителей всех ведомств.
Как нельзя одними только словами остановить и побороть противника, так и без соответствующих средств никаких, даже самых благих, проектов осуществить немыслимо. Весь настоящий проект реорганизации составлен по необходимости, при условии обойтись без увеличения бюджета Военного министерства. С большим трудом это достигнуто в отношении улучшения наличных войсковых сил; что же касается того, что требуется вновь и что никоим образом не укладывается в счет сбережений при помощи различных сокращений, то на это нужен отпуск особых средств.
По поводу предложения сократить армию и ее боевые приготовления, дабы этим путем изыскать необходимые ресурсы на усовершенствование обороны, могу сказать, что противники наши несомненно поставили бы памятник тому министру, который на это согласился бы. Удостоиться такой чести я не имею никакого желания».
* * *
В начале 1909 года много работы было у меня по разработке вопроса о преимуществе полевых укреплений перед постоянными крепостями.
Я лично был того мнения, что наша обстановка на западной границе такова, что мощному развитию артиллерии надо отдать предпочтение и воздержаться в вопросе о постройке постоянных крепостей. Эта отправная точка была признана государем правильной и принята мною к руководству.
Соображения, которыми я руководился по этому вопросу, были простым следствием сочетания следующих данных: усовершенствований в артиллерийской технике, развития воздухоплавания и финансовой состоятельности. На узаконенный ежегодный контингент новобранцев и размер средств, которые ассигновались по государственной росписи Военному министерству, можно было предпринять организацию и подготовку наших вооруженных сил, с расчетом на мобилизацию всего лишь 4 200 000 человек, которые могли быть поставлены под ружье на случай военных действий.
Что же касается вопроса крепостного строительства, то с бесконечным шатанием и совершенной невозможностью примирить всякие признанные и непризнанные авторитеты этот гордиев узел пришлось разрубить, положив в основание те соображения, которые оправдались в текущую войну и для которых имелись убедительные данные не только в конечных выводах кампании 1871 года и в японской 1904 года, но даже в турецкой нашей кампании 1877–1878 годов и на тайном опыте на острове Березани под Одессой, те же выводы подтвердились, в конце концов, и во время всемирной войны.
Перемышль, Львов, Новогеоргиевск, Ивангород, Брест, Ковно, Антверпен – в настоящую войну, Порт-Артур – в японскую, Каре, Никополь, Рущук, Варна, Шумла, Адрианополь – в турецкую, – все эти крепости долговременного типа, выстроенные заранее и поглотившие громадные суммы денежных средств, назначения своего не выполнили. Возникшие же укрепленные позиции во время кампании в 1877 году под Плевной и под Верденом и Ковелем в текущую войну, там, где они, по ходу операций, могли принести пользу, оказали громадное влияние на ход военных действий. В 1871 году крепость Мец сыграла роль ловушки для армии Базена, который вошел под прикрытие фортов этого укрепленного пункта и вынужден был положить оружие с падением крепости…
* * *
Уже в 1908 году мне было ясно, насколько мы отстали в деле технических усовершенствований по сравнению с другими армиями, в которых они давно нашли применение.
Отчасти это объяснялось скаредными средствами, отпускаемыми на это Военному министерству, но недоставало главного – уверенности в несомненной необходимости и применимости новшеств в войсках. В армии, например, не было ни одного автомобиля. Когда я об этом доложил военному министру, заявив о необходимости введения их в войска, он разрешил мне приступить к выполнению этой задачи и прибавил с улыбкой: «Но вы должны сами, Владимир Александрович, доложить об этом Военному совету».
Его улыбку я понял, когда в действительности появился в Военном совете для защиты своего предложения. Перед решением вопроса по существу необходимо было предварительно устроить испытание, собрать опытные данные о применимости того или иного образца для наших дорог.
С этою целью необходимо было приобрести около 20 автомобилей различных фабрик исключительно для проведения опыта. Все это было изложено в докладе, но каково было мое изумление, когда некоторые члены совета высказались в том смысле, что этот «сложный и хрупкий инструмент» для нашей армии неприемлем: армия нуждается в простых повозках на крепких осях!
Что ж, история повторяется. Перед крымской кампанией тот же Военный совет обсуждал вопрос о перевооружении армии вместо кремневого – пистонным ружьем. Но и тогда члены совета, находившие, что для грубых солдатских рук такая микроскопическая вещь, как пистон, непригодна, протестовали против такого новшества.
К числу противников автомобилей принадлежал и генерал Генерального штаба Скугаревский, служивший со мной в штабе гвардейского корпуса. Он настойчиво советовал, чтобы мы сначала решили, какого именно образца будет введен автомобиль (что при тогдашнем состоянии техники было бы чистейшей азартной игрой), и требовал к тому же, чтобы во избежание излишнего пользования автомобилями их держали под замком.
В конце концов автомобили были куплены у различных фирм и под арестом их не держали. Они послужили основанием для развития автомобильного дела, плодотворным результатам и широким размерам которого, при ничтожных средствах для этого, Главное управление Генерального штаба обязано энергии и специальным познаниям молодого генерала Петра Ивановича Секретева.
* * *
Незадолго до моего назначения военным министром, в марте 1909 года, в Царском Селе под председательством государя состоялось совещание по поводу аннексии австрийцами Боснии и Герцеговины, причем генералу Редигеру поставлен был вопрос о готовности нашей армии к активным действиям.
Ответ был отрицательный, а на вопрос министра юстиции И.Г. Щегловитова, в какой мере вооруженные силы наши способны в оборонительном смысле для защиты от вторжения в наши пределы, генерал Редигер точно так же категорически заявил, что они совершенно небоеспособны! Испуг собравшихся не стоит и описывать. Из объяснений Редигера оказалось, что японская война истощила всю материальную часть, которую не смогли пополнить, а проведенное без предварительных предупреждений сокращение сроков службы и одновременная демобилизация совершенно расстроили кадры войсковых частей, которые, при этом в таком слабом по составу комплекте, были из пограничных округов в значительном числе командированы по требованию гражданских властей во внутренние округа.
Это положение дало Государственной думе если не право, то все-таки возможность резко критиковать состояние армии. Она, может быть, этим принесла бы даже некоторую пользу, если бы большинство ее ораторов серьезно отнеслось к делу, а не критиковало армию в партийных интересах или даже в целях свержения самодержавия.
Эти опасные совпадения имели место и в высших военных кругах Петербурга, у одних – вследствие чистейшей апатии, у других – из слепого честолюбия без надлежащего достоинства.
Как великий князь Николай Николаевич, так и генерал Поливанов заручились поддержать известных думских ораторов, рассчитывая таким путем проводить свои личные интересы, не считаясь с тем, будет ли таким экспериментом осквернено их собственное гнездо или нет.
Подобная совместная игра этих сил привела к падению Редигера и моему назначению на его место как раз в ту минуту, когда генерал Поливанов надеялся сам стать военным министром и когда Николай Николаевич прочил третьего кандидата – Н.И. Иванова.
Обвинения в Думе, вместе с признанием военного министра в Совете, обрисовали задачу, выпавшую на мою долю: я должен был восстановить бодрый дух русской армии, которая, казалось, находилась в глубоком наркозе, и разбудить ее для новой жизни!..
Четыре драгоценных года были потеряны зря, без всяких признаков к тому, чтобы хоть что-либо было предпринято для оздоровления армии. Нигде не было никаких следов даже намечаемого впредь известного направления к продуктивной работе. При катастрофически неблагоприятной для России обстановке на мою долю выпала тяжелая задача – и это была моя историческая миссия!
Вот те условия, при которых государь вручил мне пост русского военного министра.
Часть седьмая. Стратегия и политика
Глава XX. Петербургские настроения
В исторически важный для России момент я принял должность военного министра. Русская внешняя политика находилась на распутье, но государство из-за последствий японской кампании и внутренних потрясений находилось в состоянии паралича.
Зима 1908–1909 годов протекла целиком под впечатлением кризиса на Балканах, закончившегося присоединением к Австрии Боснии и Герцеговины. Этим раскрыта была активность нашего главного противника, которая в таком угрожающем виде нам еще не представлялась. Вместе с тем выяснилась и наша политическая слабость, вследствие столь ярко обрисовавшегося расстройства наших вооруженных сил, что у каждого патриота выступали на глазах слезы.
Соответственно этому было настроено и петербургское общество. Чтобы предупредить всякие выступления, правительство должно было в конце октября запретить профессору Погодину сделать сообщение в связи с аннексией Боснии и Герцеговины.
С кафедры Государственной думы демократ Маклаков назвал это запрещение оскорблением национального чувства. Германия в то время стала на сторону своей союзницы и этим умалила, за пределы ее растяжимости, ту дружбу, которая тогда еще существовала на берегах Невы. В конце декабря Извольский отстаивал свою политику, указывал на сближение России с Италией и намечал цель своих стремлений: образование на Балканах славянского союза Болгарии, Сербии и Черногории.
За русской дипломатией горячо ухаживала английская. В настоящее время знают и не дипломаты, какие уже в 1908 году тонкие нити плел Извольский, чтобы русскую политику окончательно отдалить от германской. В «Новом Времени», газете наиболее читаемой в образованных военных кругах, появились статьи Пиленко в дружественном Англии духе…
* * *
В марте 1909 года для нас, не дипломатов, казалось, что наша внешняя политика никакого определенного направления еще не имела, причем я не мог утверждать тогда, что был в курсе дела и ознакомлен со всеми связями и политическими комбинациями.
Казалось, что между Парижем и Берлином, несмотря на существовавший союз с Францией, происходило шатание туда и сюда. Но государь, Столыпин, дипломаты и мы, военные, настаивали на том, чтобы армия была обновлена и превращена в оружие, пригодное для большой политики, давая возможность России занять опять среди других народов ее место великой державы. Моя реформа армии при этом не была обусловлена специально внешним политическим положением, хотя, понятно, наш союз с Францией играл роль, в данном случае, лейтмотива. Ведь без боеспособной армии соответственно наличным военно-географическим условиям никакой политики и вести нельзя. Это и были те общие соображения, на основании которых я строил свои планы…
Политика Сазонова, преемника Извольского на посту министра иностранных дел, сводилась к тому, чтобы присоединить проливы к России и изжить с Балканского полуострова австро-германское влияние. Великое несчастье его политики состояло в возможности для него внушить государю, что именно выбранный им путь ведет к восстановлению русской гегемонии над балканскими славянами.
В 1909 году казалось, что сочувствие склонялось в пользу известных советов графа Витте по вопросу о соглашении континентальных держав и образовании русско-франко-германского союза. Роковая фраза, что «дорога в Константинополь ведет через Берлин», в 1909 году не была еще общим лозунгом политических и политиканствующих кругов.
Граф Витте, точно так же, как генерал Редигер и я, стоял на той точке зрения, что в продолжение многих лет еще мы никакой войны вести не можем и что необходимо во что бы то ни стало изыскать средства избегнуть нашего участия в европейской войне. Его дипломатические соображения направлены были прежде всего на то, чтобы улучшить наши отношения с Германией.
Среднеевропейский Тройственный союз он хотел заменить восточно-западным. Была ли эта идея продуктом его собственного ума – я не знаю.
Личное мое знакомство с графом Витте состоялось тогда, когда он уже не был активным государственным деятелем. Если же это была именно его мысль, что я вполне допускаю, то она, очевидно, совпала с тем, о чем думали и что собирались исполнить как император Вильгельм, так и наш государь. Именно, когда Витте возвращался из Портсмута в Европу, император Вильгельм, имевший в виду наградить его орденом за торговый договор, просил на это разрешения государя и телеграммой 11 сентября 1905 года спрашивал: «Осведомлен ли он о нашем договоре? Могу ли я сказать ему об этом, если он не осведомлен?»
Государь на это ответил: «До сих пор уведомлены относительно договора великий князь Николай, военный министр (Редигер), начальник Генерального штаба (Палицын) и Ламздорф. Ничего не имею против того, чтобы ты сказал о нем Витте»…
У Вильгельма был в этом отношении совершенно определенный план, о чем свидетельствует интимная переписка 1904–1907 годов между русским и германским государями, теперь опубликованная.
Эти секретные документы хранились в Собственной его величества канцелярии и, пока переписка велась, никому из русских министров не были известны. По-видимому, и германский император вел эту переписку без ведома своих министров.
В 1908 году, когда я принимал должность начальника Генерального штаба, ни от одного из этих лиц об этом договоре я не слыхал ни слова, а граф Витте о «комбинации» сообщил мне значительно позже, уже незадолго до войны. В Потсдаме германский император не обмолвился об этом ни единым словом, а я был у него года за два до вспыхнувшей войны.
Можно предполагать поэтому, что он дело это считал выдохшимся.
В 1912 году я был с женою в Эрмитаже на представлении пьесы великого князя Константина Константиновича «Царь Иудейский». В антракте, за чаем, мы встретились с супругами Витте. Граф, оставив наших жен разговаривать, отвел меня в сторону и спросил, не пришлось ли мне говорить с государем о том, что он, Витте, мне высказывал о союзе с Германией. Я ответил ему, что не говорил, потому что государь не любит, чтобы министры вмешивались в специальные вопросы других министерств, а это ведь чистая политика.
– Это я знаю, – возразил мне граф, – но считаю, что они вас касаются как военного министра. Мне хорошо известно, какое наследство вы приняли, какие вам палки в колеса ставят в вашей работе и как вам помогает Владимир Николаевич (Коковцов).
– Ведь мы же не можем воевать при таких условиях, но избежать войны сейчас должны во что бы то ни стало. Я вижу единственный выход – союз с Вильгельмом, который, повторяю вам, очень к этому склонен.
– Имейте в виду, что финансовый барометр, один из наиболее достоверных показателей политической погоды, настойчиво идет влево, перешел уже «переменно», подвигается к дождю и буре. Попробуйте доложить государю мой разговор с вами в форме неофициального доклада.
Я так и сделал. Когда Николаю Александровичу что-нибудь не нравилось при докладе или он желал прекратить разговор, то начинал, обыкновенно, приводить в порядок и без того находившийся в идеальной аккуратности письменный стол – выравнивал карандаши и перья, футляры с мундштуками, портреты в рамочках и прочее.
Так было и в этот раз. Государь, выслушав меня, только спросил: «А вы не знаете, говорил Витте об этом с министром иностранных дел?»
Смысл этого вопроса был мне ясен, и разговор был окончен.
Как в России, так и в Германии эта личная миролюбивая попытка монархов могущественных держав до настоящей войны была тайной не только для широкой публики, но и для высших представителей правительства.
В 1917 году, в журнале «Былое», из неизданной до того переписки между императорами Вильгельмом II и Николаем II обнародованы 60 документов, проливающих свет на это высокого исторического интереса дело.
Профессор Е. Тарле в своем предисловии к документам дает такой отзыв об императоре Вильгельме: «Перед нами человек, зорко и умело соблюдающий интересы своей родины, ставящий себе точную дипломатическую задачу и неуклонно стремящийся к ее разрешению. Ему нужно во что бы то ни стало образовать против Англии союз трех великих континентальных держав; достижение этой цели в момент, с которого начинается попавшая в мои руки переписка, значительно облегчено тем, что Россия находится в войне с Японией и в резкой дипломатической вражде с Англией. Значит, речь идет только о том, чтобы заставить Францию порвать заключенное с Англией 8 апреля 1904 года соглашение и примкнуть к русско-германской комбинации».
Вильгельм отлично сознавал, что этого не так легко достигнуть. С 1894 по 1903 год он усиленно старался задобрить Францию, ликвидировать ее вражду, заживить раны 1870–1871 годов. Все дипломатические тонкости политического флирта с его стороны были пущены в ход и во время фашодского инцидента 1898–1899 годов, бурской войны 1899–1902 годов и вообще во всем тоне сношений министерств иностранных дел. Одно время можно было даже думать, что не за горами и полное согласие, а там и союз… Но как только дело доходило до фактического осуществления, все шло прахом. Когда же на английский престол вступил Эдуард VII, в особенности со времени образования в 1904 году «entente cordiale», император Вильгельм понял, что надо менять курс – заключить сперва тайно формальный договор с Россией, а после того заставить Францию считаться со свершившимся фактом.
Если бы это удалось, то игра была бы выиграна: открытые карты выяснили бы, что Франции надо присоединиться к континентальному союзу, иначе ей предстоит борьба с Германией в одиночку и в ближайшем будущем. Такой план, понятно, должен был храниться в строжайшей тайне, в этом Вильгельм видел залог успеха, а Николаю II, ввиду неупраздненного договора с Францией, иначе было нельзя.
До 1906 года переписка императоров свидетельствует о дружеских личных отношениях, но затем она становится более сдержанной, подчас даже сухой, что объясняется влиянием короля Эдуарда на русское правительство.
Это охлаждение прогрессировало до такой степени, что, сокращаясь постепенно, корреспонденция стала неискренней. Тайное соглашение выдыхалось, и проектируемый союз не осуществился. Это было во вред России и Германии и на благо Англии и Японии.
* * *
В 1912 году снова наступило для России положение, которое делало наше военное бессилие болезненно чувствительным. При этом Россия готовилась к празднованию столетия изгнания «корсиканца». Чем выше вздымалась национальная волна в Москве, тем возбужденнее относились руководящие круги к бездеятельности русской политики по случаю Балканской войны. Мнимое братание, происходившее между Германией и Россией при заложении памятника «битвы народов» в Лейпциге, обставленное военной помпой, в русском обществе не вызвало никакого сочувственного эха, а переговоры в Потсдаме, в которых принимали участие Сазонов и Кидерлен-Вехтер, были приняты сочувственно лишь в ограниченных кругах. Между Германией и Россией стоял тогда стеной русско-германский торговый договор… Казалось, точно Германия совершенно забыла, что ее освобождение от ига корсиканца сто лет тому назад стало возможным лишь при помощи, которую император Александр I оказал королю прусскому.
* * *
Большое удовольствие доставили мне в 1912 году те несколько часов, которые я провел в гостях у императора Вильгельма II. Видеть его и лично разговаривать с ним мне пришлось несколько раз в разнообразной обстановке. Например, в 1899 году, когда он приехал на Красносельские маневры, то находился даже под моей командой, как это признал наш государь.
В последний день этих маневров в той колонне, которая находилась под моей командой, была сводная бригада из батальонов военных училищ и Выборгского пехотного полка, шефом которого был Вильгельм. Колонна моя по диспозиции направлена была в обхват левого фланга позиции противника под Нарвой.
Когда голова колонны стала выходить из болотистого леса, то разъезды эскадрона Офицерской кавалерийской школы, начальником которой я тогда был, донесли мне, что по направлению к нам движется шагом какая-то группа генералов, а вслед за тем ко мне прискакал адъютант германского императора с извещением, что шеф полка желает стать перед своим полком, чтобы лично вести его в атаку.
Сделав все распоряжения для развертывания колонны в боевой порядок и выдвинув вперед Выборгский полк, я поскакал навстречу Вильгельму и, представившись его величеству, доложил, что выборжцы готовы и ждут его приказаний.
После моего доклада император пустил лошадь галопом и направился к полку.
Тут я впервые увидел особого устройства мундштучные поводья, которые были ему необходимы ввиду некоторой ненормальности левой руки, бывшей у него значительно короче правой.
Лошадь у него была своя, привезенная из Берлина.
Вильгельм подскакал, объехал и по-русски, отчетливо, громко поздоровался со своим полком – безукоризненно величественно. Приняв затем рапорт командира полка, Вильгельм, во все время наступления своих выборжцев, с большим интересом следил за движением батальонов, а когда подан был сигнал к наступлению – обнажил шпагу и, став перед двигавшимися на штурм ротами, повел их в атаку.
Николай II наблюдал эту интересную картину издали, а по окончании маневра сказал мне: «Вы имеете право теперь говорить, что германский император находился у вас под командованием».
Когда я вернулся в Красное Село, то получил орден от моего бывшего державного подчиненного.
В 1910 году я видел германского императора во время свидания его с нашим государем в Балтийском порту, куда на смотр шефа прибыл тот же Выборгский полк.
Царские яхты «Штандарт» и «Гогенцоллерн» стояли на рейде, куда к высочайшему столу обоих императоров в числе других лиц свиты приглашался и я. На яхте «Штандарт», по окончании обеда, Вильгельм сам подошел ко мне, в форме Нарвского гусарского полка, шефом которого являлся, со словами: «Мы с вами здесь одни только гусары». Я был в форме Офицерской кавалерийской школы (тоже гусарского образца). Темой дальнейшего разговора был предстоящий смотр Выборгского полка.
После того подошел ко мне наш государь и сказал: «А я только что собирался вас представить шефу Выборгского полка и вижу, что он уже с вами разговаривает».
Тогда я доложил государю о том, что это же бывший мой подчиненный на Нарвских маневрах.
«Ах, да, конечно, я и забыл», – ответил мне, смеясь, государь. За обедом император Вильгельм был очень оживлен, громко и много говорил, смеялся, был вообще в отличном настроении. Александру Федоровну это как будто немного даже шокировало.
На смотр Выборгского полка шеф прибыл на паровом катере и обходил полк пешком. Ему были представлены офицеры, фельдфебели, причем не обошлось без инцидента. Фельдфебелю своей шефской роты Вильгельм подал руку, которую тот ни за что не осмеливался пожать. Шеф улыбнулся и сказал: «Ну, ничего, давай руку».
Такого приказания не исполнить он уже не смел и подал свою фельдфебельскую десницу, но затем совсем растерялся…
В 1912 году я являлся императору Вильгельму, когда ездил во главе депутации от русской армии на закладку памятника в Лейпциге.
Так как о моей командировке было сообщено в Берлин, то государь император повелел, чтобы я передал привет его величества, если Вильгельм выразит желание меня принять.
В Дрездене, за обедом у короля саксонского, мне сообщили, что германский император примет меня в Потсдаме на следующий день. Пришлось сейчас же отправиться в Берлин. К назначенному времени в автомобиле, вместе с нашим послом Свербеевым и моим личным адъютантом, полковником Николаевым, я выехал из Берлина в Потсдам.
В форме русского гусарского полка Вильгельм вышел к нам, очень любезно поздоровался, выслушал внимательно мой доклад о том, что государь повелел ему передать. Видимо, был доволен, сказал, что будет писать сам и поблагодарит. Затем говорил о том, что его очень заботит инфлюэнца среди конского состава армии; упомянул о том средстве, которое у них с успехом применяется, рекомендовал мне с ним познакомиться.
Я доложил, что впрыскивание «Сальварсана» у нас уже практикуется и что принц Ольденбургский особенно интересуется и следит за всеми новшествами в этой области, поэтому мы получаем всякие новые средства очень скоро. Затем я представил полковника Николаева, и все мы были приглашены к завтраку, который был сервирован в круглой зале, насколько помню, на 24 человека, исключительно генерал-адъютантов.
Император заявил, что, к сожалению, императрица нездорова и поэтому не может присутствовать за столом. Его величество познакомил меня со всеми присутствующими, в том числе с военным министром, начальником Генерального штаба и другими должностными лицами.
Я сидел рядом с Вильгельмом. Все это время он вел такой оживленный, громкий разговор, что мы оба почти ничего не ели. Наша же аудитория кушала и слушала нас. Император затрагивал вопросы из разных областей, говорил на немецком языке, а потом спросил меня, не из остзейской ли я провинции, так как он находит, что я хорошо владею немецким языком.
Я ответил, что нет, но что у нас в доме всегда была бонна немка.
– А когда вы были первый раз в Берлине?
– Берлин я знаю с 1858 года.
– С 1858 года? Что такое? – удивился Вильгельм и потребовал подробностей.
Я рассказал, что моя матушка была больна и ее послали в клинику, где пришлось пробыть довольно долго, а чтобы ей не так было скучно, она взяла меня с собой. Мне тогда было лет десять.
– А вы помните, где вы тогда жили?
– Помню – Доротеенштрассе, № 27.
– Что же, вы не заходили теперь посмотреть на этот дом?
– Зашел, там теперь большой, многоэтажный, а тогда, насколько помню, был всего двухэтажный, с кофейным магазином внизу, в котором я помогал хозяину продавать кофе и цикорий.
Император Вильгельм заразительно расхохотался, стукнул даже вилкой по столу:
– Нет, это великолепно, это прямо анекдотично.
Нашей аудитории эпизод этот, видимо, тоже понравился.
После завтрака все были приглашены курить в кабинет. Когда я вошел, то обратил внимание на громадных размеров карту Балканского полуострова, которая закрывала часть шкафов с книгами. Вильгельм заметил это и сказал, что по ней он следит за военными действиями в Турции.
– Вы ведь участвовали в турецкой кампании 1877 года?
Когда я сказал, что участвовал, то Вильгельм просил показать по карте, где я именно был, в каких делах принимал участие и в какой роли.
– Господа, пожалуйста, сюда, – пригласил император, – нам русский военный министр расскажет, где он был в Турции.
И я очутился в роли лектора, изложив кратко то, о чем меня спрашивали.
По этому поводу император Вильгельм писал нашему государю 3 января 1913 года:
«Любезный Ники!
…твой военный министр, генерал Сухомлинов, навещал меня по возвращению из Лейпцига. Он очень любезно и крайне интересно рассказывал о своих действиях во время военного похода в 1877 (году)… Вилли»1.
Глава XXI. Наш союз с Францией
Командируя меня с депутацией на закладку лейпцигского памятника, государь разрешил мне после того на две недели проехать на южный берег Франции, где находилась тогда моя жена. Как только я прибыл в Кап д’Эйль, из Петербурга пришла телеграмма о том, что мне высочайше повелевается сделать визит президенту французской республики. После из Парижа ко мне приехал наш военный агент, полковник граф Игнатьев, который, по поручению посла Извольского, передал подробности выполнения предстоящего визита.
Оказалось, что командировка нашей депутации в Лейпциг и мое посещение Потсдама вызвали в Париже известную сенсацию, для парирования которой признано было, в интересах политики, чтобы я официально представился главе нашей союзницы.
Вместе с Игнатьевым в тот же вечер мы выехали в Париж. Надо было спешить, так как со дня на день Фальер должен был покинуть пост президента. После приема в Потсдаме я отправил свою военную одежду парадной формы из Берлина в Петербург, поэтому повеление проделать в Париже ритуал, вполне тождественный выполненному в Потсдаме, было трудно. Пришлось предстать в штатском костюме. Что же касается завтрака, который соответствовал бы потсдамскому, то этот вопрос при отъезде Игнатьева из Парижа не был еще окончательно решен в связи с правительственным кризисом.
Когда мы прибыли в Париж, то Извольский выяснил, что Фальер остается президентом еще всего лишь несколько часов. Наш посол был нездоров и принял меня лежа. У его постели мне был сообщен следующий церемониал: в черном длиннополом сюртуке, палевых (или желтоватых) замшевых перчатках, не снимая цилиндра с головы, я должен был проследовать по всем коридорам и залам дворца до приемной кабинета президента республики. Когда меня пригласили к президенту, последний был тоже в черном сюртуке, стоял, опираясь левой рукой на стол. В таком положении, обменявшись несколькими обычными фразами приветствия, на что потребовалось едва ли более пяти минут, я откланялся и удалился, а через несколько минут после этого Фальер покинул пост президента – на лестнице дворца я встретил депутацию, которая шла ему это объявить.
После того в нашем посольстве выяснилось, что завтрак состоится у Пуанкаре, в его собственном доме, на окраине Парижа. Об этом завтраке осталось у меня самое хорошее воспоминание.
Присутствовал почти весь состав кабинета министров. Супруга Пуанкаре своим любезным приемом затушевала всякую официальность, а что касается меню и его выполнения, то с тем, чем нас угостили хозяева дома, я думаю, никто в Париже не смог бы выдержать конкуренции.
Не более часа или полутора продолжалась трапеза при оживленной общей беседе, в которой никто ни единым словом не коснулся политики и моего посещения Потсдама и Лейпцига. На французском языке так удобно и остроумно можно говорить обо всем и не сказать, собственно говоря, ничего.
Но завтрак продолжался недолго: момент внутренней французской политики был очень острый, а я для них был, несомненно, обузой, да и сам спешил обратно на Ривьеру; поэтому, после ликеров и сигар, я дружески попрощался со всеми, поблагодарил милую хозяйку дома, уехал в наше посольство и в тот же вечер укатил в Кап д’Эйль, близ Монако.
* * *
Доказывать, что для Франции союз с нами имел громаднейшее значение, значило бы ломиться в открытую дверь.
В военном отношении условия нашего союза с Францией, вследствие того, что нас разъединяли территории среднеевропейских держав, имели крупный недостаток. Мы не могли установить ту взаимную связь, которая была у Германии с Австро-Венгрией. Армии этих наших противников стояли плечом к плечу и на смежной базе.
Для России союз с Францией имел существенное значение лишь в мирное время.
То, что французы могли для нас сделать в военном отношении, было чрезвычайно ничтожно.
Была другая помощь, которую Франция могла нам действительно оказать. Она могла иметь место в области приготовлений к походу еще до войны: финансовая помощь для постройки железных дорог, поставка артиллерийского материала и в тесной связи с этим развитие наших железных и машиностроительных заводов. Эта помощь оплачена русским государством кровью, миллионами людей и, в конце концов, его существованием. Вместе с тем эта помощь оказывалась при соблюдении строго коммерческих расчетов, поэтому никакого крупного политического основания в этом деле для Франции даже не существовало…
Несмотря на маловажное военное значение, которое имел наш военный договор с Францией в случае войны, он все же играл чрезвычайно важную роль во всей нашей политике по отношению к армии. Когда я вступил в должность военного министра, политическое положение было таково, что об изменении этой роли нечего было и думать, даже если бы я попытался ее устранить. Договор с Францией был исторически-политической необходимостью, с которой мне как военному министру оставалось лишь считаться. Противодействовать я не мог, так как это было делом дипломатов.
Я уже указывал на то, в каком разочаровании вернулась армия из балканской кампании 1877–1878 годов. Результат последовавшего за ней Берлинского конгресса усугубил это разочарование и отвлек большую часть направленного на Англию негодования на Германию. Еще при правительстве Александра II и во время управления военного министра Милютина было начато расширение системы укреплений на Висле. Положение на Балканах и развивавшиеся там действия Австрии снова направляли наши помыслы на Запад как на будущий театр военных действий. Французская дипломатия умно воспользовалась этим настроением: Франция практически выразила свой интерес по отношению к России выдачей значительных средств как в виде займов, так и помещением капиталов в индустрию, которою можно было бы усилить нашу военную промышленность. Это было основанием русского двойственного союза. Французским дополнением к нему была идея реванша. В настоящее же время ясно, что симпатии к России и к русскому народу при этом не играли роли – это была исключительно спекуляция на русском пушечном мясе…
Когда я вступил в должность военного министра, господствовала, как я уже говорил, некоторая неуверенность в отношении ориентации русской внешней политики. Каким путем это дело разрешилось, осталось мне неизвестным. Для меня достаточно было знать, что русская дипломатия искала в связи с французско-английской комбинацией, созданной Эдуардом VII, большую безопасность, чем сулил союз с Германией и с задевавшей наши интересы на Балканах Австро-Венгрией. Во время моих неоднократных поездок во Францию я мог видеть, что нас там ценили не особенно высоко: радикально-социалистическое правительство, стоявшее в то время у власти, относилось к нам недоверчиво из-за нашей внутренней политики, на которую жаловалась так называемая русская интеллигенция во всем мире. В конце концов, во Франции победил холодный рассудок, когда Столыпин восстановил внутренний порядок и когда промышленность начала опять работать и платить французским акционерам дивиденды и, в конце концов, когда Совет государственной обороны исчез с горизонта, чтобы уступить место производительному ведению дел в военном ведомстве.
Военной конвенцией 4 (17) августа 1892 года было установлено, чтобы русский и французский начальники Генеральных штабов встречались, по возможности, раз в год или же, по мере надобности, для личных переговоров. За время Палицына, то есть когда начальник Генерального штаба, в качестве доверенного лица великого князя Николая Николаевича, вел «стратегию» помимо военного министра, эти свидания сводились к весьма интимным беседам, в течение которых французам удалось чрезвычайно подробно знакомиться со всеми нашими обстоятельствами. Поэтому они вскоре знали лучше, чем наши государственные люди, чего нам недостает, и пользовались своим превосходством с холодным расчетом. Я лично не принимал участия в этих свиданиях, а передал защиту наших интересов начальнику Генерального штаба, который мне и докладывал. Протоколы этих заседаний я подавал государю.
При всех моих личных беседах с французскими офицерами проглядывала их боязнь относительно нападения Германии. Начальники французского Генерального штаба Дюбайль и Жоффр также высказывали эти опасения. В 1912 году, во время моего пребывания в Париже, Жоффр подчеркивал свои опасения, указывая на работу немцев по улучшению их железнодорожной сети и на устройство и укрепление военного лагеря в Эйфеле. Мы были одного мнения: немецкий план направлен к тому, чтобы сначала сразить Францию несколькими решительными ударами, а затем обрушиться на Россию. Из этого мы вывели заключение, что нашей задачей является одновременное наступление на Германию с Востока и с Запада. Франция предполагала подготовить для этой цели 1 300 000 человек, а Россия 800 000. Жоффр полагал тогда, что Италии можно будет угрожать несколькими запасными частями, которым предоставилась бы защита проходов через Альпы. В случае нападения со стороны Германии Жоффр рассчитывал на помощь Англии. Наше положение было не слишком благоприятным. Австрия улучшила в значительной степени как свою военную мощь, так и свои железные дороги. Причиненная же нам австрийцами неудача могла иметь неизмеримые моральные последствия как в отношении настроения в России, так и в отношении наших военных операций. Постройка железной дороги в Малой Азии не могла остаться без влияния на Кавказский фронт. В Румынии и Швеции мы не были уверены, и при царивших, особенно в Швеции, симпатиях к Германии мы были вынуждены удерживать (на всякий случай) в Финляндии и в окрестностях Петербурга нужные главному фронту против Германии воинские части. Жоффр возразил на мои заявления замечанием, что в случае, если Германия будет побеждена, все колеблющиеся станут на нашу сторону. Соответственно между нами было условлено вести наступательную войну с неизменной целью – победить Германию. Русской армии ввиду этого ставилась задача: энергичным наступлением по кратчайшему направлению на Берлин ослабить противника, притянув на себя побольше германских сил.
Большое внимание мы посвятили в наших переговорах сокращению мобилизационного и концентрационного времени и коснулись этим самого больного места России – железных дорог.
Обширная площадь русского государства, 180-миллионное население которого распределено было неравномерно в Европе и Азии, прежде всего затрудняла дислокацию, а затем быструю мобилизацию армии и скорое сосредоточение ее на предстоявших театрах военных действий. Поэтому развитие нашей железнодорожной сети имело громадное значение для успешного разрешения всех вопросов по передвижениям как запасных людей и мобилизованных частей, так и пополнения в военное время снабжения, снаряжения и довольствия русской армии.
Французы охотно шли навстречу нам в деле помощи по постройке железных дорог, в особенности тех из них, которые имели стратегическое значение.
Таковыми были, конечно, линии, преимущественно направлявшиеся от центра к западной границе, а затем рокировочные, параллельные фронтам сосредоточения армий. Эти дороги, имевшие большое значение для военных целей, не могли быть всегда интересными в торговом отношении – их эксплуатация обещала убытки, а не доходы.
Так как государственный бюджет наш и без того хронически страдал недоборами, то за счет казны избегали их строить, а на постройки стратегических дорог солидные частные капиталисты не шли.
Генерал Жоффр составил для нашей железнодорожной сети большую и дорогостоящую программу, целью которой было провести с наибольшей скоростью концентрацию назначенных против Германии войсковых частей на Висле и дать им возможность наступления на Восточную Пруссию в направлении на Алленштейн или Торн – Позен с такими силами, которые могли бы удержать пять или шесть германских корпусов. Согласно этим договорам, которые возобновлялись ежегодно на конференции обоих начальников Генерального штаба и признавались обоими правительствами, велись работы в русском Военном министерстве и его отделении Генерального штаба. Победить Германию – это был лозунг, господствовавший над всей деятельностью армии. Время исполнения этой военной задачи обусловливалось, однако, не военными, а дипломатами.
В какой степени строительство железных дорог в России было использовано в интересах парижских банкиров, показывает корреспонденция, имевшая место между министром финансов и премьером Коковцовым, с одной стороны, и русским Министерством иностранных дел – с другой. Для характеристики государственных дел России интересны следующие документы:
«Письмо мин. финансов В.Н. Коковцова министру иностр. дел С.Д. Сазонову.
Министр финансов. В. срочно.
Получено 17 июня 1913 года 639. В. доверительно.
Милостивый Государь, Сергей Дмитриевич!
Приехавший в С.-Петербург председатель синдикальной палаты парижских биржевых маклеров г-н де Вернейль сообщил мне, что он уполномочен передать взгляд французского правительства на выпуск в Париже русских государственных и гарантированных правительством займов. Взгляд этот он передал мне в нижеследующем изложении:
“Я уполномочен вам сообщить, что французское правительство расположено разрешить русскому правительству брать ежегодно на парижском рынке от 400 до 500 миллионов франков в форме государственного займа или ценностей, обеспечиваемых государством для реализации программы железнодорожного строительства во всей империи на двояком условии:
1. Чтобы постройка стратегических линий, предусматриваемых в согласии с французским Генеральным штабом, была предпринята немедленно.
2. Чтобы наличные силы русской армии в мирное время были значительно увеличены”.
С своей стороны, я считаю необходимым передать вашему превосходительству приведенное заявление г-на де Вернейля. Вместе с тем по существу затронутого вопроса не могу не заметить, что готовность французского правительства обеспечить России возможность ежегодной реализации крупной суммы представляла бы для нас несомненное значение, особенно если принять во внимание то решающее влияние, которым названное правительство пользуется по отношению к финансовым сферам Парижа… Едва ли могут вызвать какое-либо затруднение те условия, с которыми сопряжено согласие французского правительства на реализацию наших займов.
Как известно вашему превосходительству, уже в течение ближайшего времени предстоит рассмотрение в законодательных установлениях предложений Военного министерства, последствием коих явится увеличение армии в мирное время на 360 тысяч человек сверх нынешнего ее состава.
Равным образом едва ли предвидится замедление и в усилении сети стратегических линий на нашей западной границе. Хотя я не имею в настоящее время в моем распоряжении перечня дорог, постройка которых представлялась бы желательной с точки зрения французского Генерального штаба, но полагаю, что линии, рассмотрение коих предстоит в комиссии о новых железных дорогах, а также проведение вторых путей на казенных железных дорогах, согласно предположения Министерства путей сообщения, вполне удовлетворят пожелания французского правительства.
Ввиду сего, полагая, что соглашение на приведенных основаниях представлялось бы вполне приемлемым, имею честь обратиться к вашему превосходительству с покорнейшей просьбой: не признаете ли вы возможным обсудить этот вопрос с французским правительством для официального подтверждения переданных г-ном Вернейль предложений…
(подпись) В. Коковцов».
Далее Коковцов жалуется, что железнодорожный заем будет стоить железнодорожным обществам и русскому государству 7-11 % ежегодно, но все же предложение необходимо принять и что он попытается, пользуясь случаем своего пребывания осенью в Париже, вырвать более выгодные условия.
15 (28) августа 1913 года Сазонов получает подтверждение предложения де Вернейля со стороны французского правительства. Условиями допущения русского займа на французском рынке в размере 400–500 миллионов франков ставится:
1. Постройка стратегических линий, предусматриваемых в согласии с французским Генеральным штабом на западной границе, будет немедленно предпринята.
2. Наличный состав русской армии в мирное время будет значительно увеличен.
Коковцов просит Сазонова сообщить французскому правительству, «что сделанное ими предложение соответствует нашим взглядам и принято нами к сведению» (письмо от 24 августа (6 сентября) 1913 года, № 885). Самому же министру он объявляет, что сопряженные с предложением условия явились бы для нас до некоторой степени обременительными.
«…если бы, например, желание французского правительства, предусматривающее усиление мирного состава нашей армии, не было заранее положено в основание переустройства наших вооруженных сил и не было бы поставлено вне какой бы то ни было связи с теми или иными финансовыми операциями на французском рынке… Что же касается отдельных железнодорожных линий и, в частности, линий значительного протяжения, в особенности в западной полосе России, то в этом отношении мне не было заявлено ни военным министром, ни начальником Главного штаба каких-либо конкретных предложений; в беседе же моей с недавно пребывавшим здесь начальником французского Генерального штаба генералом Жоффр я подробно ему выяснил, что интересы нашей обороны в значительной степени обеспечиваются теми мероприятиями в области железных дорог, которые осуществлены в последнее время и намечены к исполнению на ближайшее будущее. Я не встретил в этом отношении каких-либо принципиальных возражений со стороны генерала, и Жоффр вынес личное впечатление, что французское правительство не располагает какими-либо конкретными настояниями, которые оно имело бы в виду нам предъявить…»
Барон Шиллинг, вскрывший это письмо за отсутствием Сазонова, отсылает его министру в Киев 2 (15) сентября 1913 года со следующими примечаниями:
«Как вы увидите из текста французского сообщения, французы, соглашаясь открыть нам на парижском рынке довольно крупный кредит, ставят для этого два весьма определенных условия: немедленную постройку известных стратегических путей и увеличение мирного состава нашей армии. В своем отзыве В.Н. Коковцов предлагает кредит принять, но заменить обязательство с нашей стороны строить указанные линии ссылкой на общие мероприятия, направленные к улучшению пропускной способности нашей железнодорожной сети.
Если вспомнить прошлогоднее обращение к вам Пуанкаре, его письмо государю и последующие настояния Делькассе, то едва ли можно ожидать, что французы удовлетворятся предлагаемым В.Н. Коковцовым ответом.
Нам до сих пор еще не доставлен протокол совещаний Жилинского с генералом Жоффр, а поэтому мы, как это ни странно, до сих пор еще не знаем, на чем согласились в отношении железных дорог оба начальника штабов в нынешнем году. Из линий, о которых шла речь, в прошлом году, как вы помните, наш Генеральный штаб признавал две предложенные французами линии желательными и отвергал лишь третью (балтийскую). До возвращения Жилинского (в середине сентября) нам трудно обсуждать этот вопрос. Между тем, играть на словах в переговорах с союзниками, заявляя о нашем согласии на условия, в которые мы вкладываем совсем иной смысл, чем они, представляется мне вредным для наших взаимных отношений, вселяя только недоверие к нам…»
18 сентября (1 октября) 1913 года М.Ф. Шиллинг вновь сообщает своему, пребывающему в Виши во Франции, министру:
«…Из личных объяснений с В.Н. Коковцовым и с генералом Жилинским выяснилось, что по существу вопрос представляется следующим образом.
Относительно второго из поставленных французами условий (усиление состава нашей армии) Жилинским сообщены Жоффру подробные данные, по-видимому, вполне удовлетворившие последнего.
Что же касается железных дорог, то, как вы помните, французы в прошлом году просили об удвоении колеи на линиях: Брянск – Гомель, Пинск – Жабинка и Петербург – Тапс – Рига – Муравьево – Ковно, а также учетверении путей между Жабинкой и Брестом, Седлецом и Варшавой.
Из этих желаний некоторые уже нами удовлетворены нынешним летом, не дожидаясь заключения предлагаемого ныне соглашения, а именно: уложена вторая колея на участках Брянск – Гомель и Пинск – Жабинка, остается лишь закончить работы по расширению станций на этих линиях.
Вследствие возражений нашего Генерального штаба против удвоения упомянутой прибалтийской линии (Санкт-Петербург – Рига – Ковно) и учетверения линии Седлец – Варшава, французы теперь на этом не настаивали, но высказали ряд новых пожеланий: во-первых, они согласились с мнением нашего Генерального штаба о предпочтительности постройки новой железной дороги Рязань – Тула – Сухиничи – Бобруйск – Черемха (или Вельск) – Варшава, взамен вышеуказанного усиления линий Санкт-Петербург – Рига – Ковно и Седлец – Варшава; во-вторых, они просили об удвоении линий: Лозовая – Полтава – Киев – Сарны – Ковель и Батраки – Пенза – Ряжск – Смоленск (либо через Тулу и Калугу, либо через Богоявленск – Сухиничи), а также Вильно – Ровно…»
Переговоры Коковцова в Париже заканчиваются протоколом, в котором, между прочим, устанавливается, что русскому правительству предоставляется право реализовать на парижском рынке ежегодно, в течение пяти лет, до 500 миллионов франков для проведения своей железнодорожной программы и что работы по постройке железных дорог должны быть начаты с таким расчетом, чтобы через четыре года быть законченными. Первая эмиссия выпускается в январе 1914 года.
В. Коковцов, по своем возвращении, подробно докладывал государю об успехах своей поездки во Францию и Германию. В этом докладе, между прочим, он характеризует всю опасность нашего союза с Францией, например в следующем месте:
«…Во всяком случае, одно не подлежит никакому сомнению – это то, что Франция в настоящее время гораздо более миролюбива, нежели два года тому назад. Настроение это не может не отразиться на более спокойном отношении к разнообразным вопросам современной политической жизни.
В этом отношении есть одна невыгодная для нас черта. О ней я не смею умолчать перед вашим императорским величеством. Франция никогда не отойдет от нас в крупных вопросах крупной политики, особенно глубоко затрагивающих ее жизненные интересы, но там, где эти интересы не затронуты, где преобладают интересы другие – русские и общеевропейские, там Франция будет бесспорно весьма сдержана и, вероятно, станет влиять и на нас в смысле более мягкого разрешения возникающих вопросов…»
Уже несколько недель спустя, после выпуска займа в Париже, я получил 2 (21) февраля 1914 года приглашение на чрезвычайное заседание у Сазонова, на котором должен был обсуждаться один из вопросов, принадлежащий, по моему мнению, к тем утопиям, за которыми гонятся лишь чудаки: нападение на Дарданеллы.
На основании моих наблюдений на десантном маневре в 1903 году я не мог отказаться от заключения, что наш десант на Босфоре – дорогая игрушка и, сверх того, может стать опасной забавой еще в течение долгого времени. Но после того, как нападение японцев на Порт-Артур удалось с таким блестящим успехом, – последний вскружил головы многих публицистов, фантазеров, спекулянтов и, к сожалению, и головы наших ответственных дипломатов.
В 1913 году я докладывал государю мою личную точку зрения относительно рискованности самой операции по занятию проливов с технической стороны.
Выслушав мой доклад, император Николай II, видимо, настроенный оптимистично, не отрицая трудности операции с военной стороны, дал мне понять, что в этом деле идея и цель всего вопроса имеют такое доминирующее значение, что технические детали отходят на задний план.
При подобном взгляде на это дело в особом совещании, имевшем место 8 (21) февраля 1914 года, под председательством министра иностранных дел Сазонова я личного участия не принимал.
Мой взгляд на дело был хорошо известен начальнику Генерального штаба, который и мог поэтому быть моим заместителем в совещании. В последнем была выяснена трудность выполнения этого предприятия. Экспедиция вызывала необходимость выделения не менее четырех армейских корпусов. Части эти необходимо было содержать в мирное время в усиленном составе. Затем надо было иметь в виду, что осуществление десантной операции будет находиться в полной зависимости от положения дел на главном австро-германском фронте.
По мнению членов совещания от Министерства иностранных дел, войска, предназначенные специально для десанта, нельзя предназначать для какой-либо еще другой цели. Кроме того, следовало бы, по их мнению, усилить экспедицию к Босфору выделением войск из состава округа.
Техническую невыполнимость этого предложения в такой короткий срок пришлось выяснять дипломатическим представителям, явно не считавшимся с общей обстановкой возможной войны. Они требовали еще в мирное время ни более ни менее, как образования и сосредоточения мобилизованных сил около 200 000 человек, с соответствующим флотом, для обеспечения переброски их через Черное море!.. Точно так же представителю морского ведомства пришлось объяснить им, что через три-четыре дня после объявления войны появиться перед Босфором – немыслимо. Что вся эта фантастическая затея на словах и на бумаге не могла иметь никакого практического результата, для меня было ясно. Убедить в этом государя мне не довелось – это был, очевидно, тот случай, когда его величество считал военного министра некомпетентным в делах не его ведомства.
Царь таким образом оказался на стороне дипломатии. Но военному ведомству в действительности не пришлось затем палец о палец ударить для приведения в исполнение проекта Министерства иностранных дел.
Я тогда и не подозревал, какое серьезное основание имело совещание у Сазонова. Теперь мне понятна та спешка, с которой он проводил дело. Письмо русского посла в Париже А.П. Извольского С.Д. Сазонову от 19 декабря 1913 (1 января 1914) года поясняет многое. В нем затронут спор между Германией и Россией по поводу немецкой военной миссии в Константинополе. В связи с этим посол сообщает:
«…Как я телеграфировал Вам, г-н Думерг настойчиво запрашивал меня о том, какие именно меры принуждения мы намерены предложить, если переговоры в Берлине и Константинополе не приведут к желаемому результату. По этому поводу не могу не передать Вам довольно курьезного разговора, который я имел с г-ном Палеологом. По его словам, находящийся в настоящую минуту в Париже г-н Бомпар высказал ему, в виде личного мнения, что, если мы не добьемся мирным путем нашей цели, нам следует испросить у султана фирман на проход через проливы одного из наших черноморских броненосцев, ввести его в Босфор и объявить, что он уйдет лишь после изменения контракта генерала Лимана и его офицеров. На мой вопрос, могу ли я передать этот отзыв, Палеолог сообщил, что не видит к этому препятствий, но что, разумеется, речь идет о чисто личном взгляде г-на Бомпара и что ни в каком случае инициатива подобной меры не должна быть приписана Франции. Когда же я заметил, что вряд ли султан выдаст нам вышесказанный фирман, г-н Палеолог сказал мне, что русский броненосец может войти в Босфор и без фирмана и что турецкие батареи, конечно, не решатся открыть по нему огонь. Я не берусь судить, насколько продуманы суждения французского посла в Константинополе, но весьма характерно, что в здешнем министерстве иностранных дел допускают возможность подобного крутого оборота дела. Также прибавлю, что если бы мы решились на подобное энергичное действие, то общественное мнение Франции несомненно высказалось бы в нашу пользу, так как оно весьма чутко ко всему, что касается национального достоинства и живо ощущает невозможность германского влияния в Турции.
Извольский».
Сазонов уже занимался, независимо от только что приведенных французских указаний по поводу пребывания немецких офицеров в турецкой армии, серьезными мероприятиями против Турции.
Как видно из «секретного» письма Извольского от 2 (15) января 1914 года, министр иностранных дел С.Д. Сазонов передал 23 декабря (5 января) государю записку, в которой приводятся разные предложения во что бы то ни стало устранить немецких инструкторов из Константинополя. Согласно этой записке, Сазонов предложил государю три мероприятия: финансовый бойкот Турции, отозвание послов России, Франции и Англии из Константинополя и, наконец, занятие разных побережных пунктов Турции. Извольский вел по этим вопросам секретные переговоры с Думергом и Пуанкаре. Оба объявили о полном согласии и неоднократно повторяли русскому послу: «Само собою разумеется, что мы вас поддержим». В своем письме от 2 (15) января 1914 года Извольский критикует предложения Сазонова и приходит к заключению:
«…Наконец, судя по прошлым моим разговорам с французскими министрами, третья предложенная Вами мера – занятие нами Трапезонда или Баязида, а французами и англичанами – Смирны и Бейрута, вызовет здесь особенные опасения и возражения. Французское правительство убеждено в том, что всякое активное выступление в пределах именно Малой Азии неминуемо вызовет активное вмешательство Германии и приведет к немедленному разделу Азиатской Турции, со всеми сопряженными с этим опасностями. Кроме того, необходимо иметь в виду, что если бы Франция и решилась на подобное выступление, то она ни в коем случае не согласилась бы добровольно предоставить Англии занятие ни Бейрута, ни даже Смирны, где, по ее понятию, должны преобладать французские интересы. По этому поводу считаю долгом напомнить Вам о мнении, высказанном мне Палеологом, от лица Бомпара, что мы могли бы послать броненосец из Черного моря в Босфор. Это, мне кажется, лишний раз доказывает, что здесь считают более целесообразными действия, которые имели бы объектом не азиатские, а европейские владения Турции…»
Весной и летом 1914 года я дважды вынужден был вмешаться в политические вопросы. Печатная полемика приняла чрезвычайные размеры. Все газетные редакции мира казались в высокой степени нервными, в особенности в Петербурге и в Берлине. Миссия Лиман-Зандерса в Турции вызывала у нас впечатление, будто в Константинополе хотят организовать воинские части, долженствующие помочь туркам в любое время, а по надобности – закрыть проливы. А это означало – война. В этом у государя не было никакого сомнения. В «Кёльнише Цейтунг» появилась статья с выпадами против Военного министерства, которая не могла оставаться без ответа ввиду того, что пестрела неверными показаниями о развитии русской армии и обвиняла нас в приготовлении нападения на Германию. Против этой статьи я резко восстал. Немецкие пилоты, спускавшиеся даже на Урале, давали общественному мнению повод опасаться, что Германия со своей стороны подготовляет нападение на Россию. Эти трения не оказали бы, быть может, такого глубокого влияния, если бы одновременно не появилась на горизонте в момент критического положения на Балканском полуострове опасность, заключавшаяся в возможной практической ценности русско-французского союза. Во Франции кабинет Думерг – Кайо, опиравшийся на леворадикальное большинство, которое вовсе не относилось к России с большой симпатией, получил возможность руководить новыми выборами, что в свою очередь дало Думергу возможность предоставить государственный выборный аппарат целиком в распоряжение этих пацифистских и по отношению к нам враждебно настроенных партий. В связи с этим и результат выборов в пользу левых радикалов совпал как раз с тем важным моментом, когда вопрос о введении трехлетнего срока службы, которое нам обещали Жоффр и Пуанкаре, был принят парламентом. Чтобы заставить французов вспомнить свой долг, одновременно сгладить паническое настроение у нас и поднять нашу самоуверенность, я распорядился напечатать ту статью в «Биржевых Ведомостях», которую немцы приняли за угрозу по их адресу: «Россия готова, Франция также должна быть готова». Это было в начале июня. Статья эта не сумела успокоить Петербург, так же как и ставшие вскоре гласными сведения об отношении нового французского правительства к России не сумели успокоить нервного настроения. После заключения морского соглашения с Англией русская дипломатия почувствовала себя достаточно сильной, чтобы проводить свои планы, не считаясь с немцами. Общественное мнение же придерживалось взгляда, что Россия не должна снова упускать случая и что русские интересы не должны стоять в зависимости от внутренних политических течений Франции.
1 Перевод с немецкого.
Часть восьмая. Мои преобразования в военном ведомстве
Глава XXII. Бюрократия, финансовые заботы, парламент
Для выполнения моих задач необходимо было полнейшее ко мне доверие государя. С той поры, как государь убедился, в какую пропасть своим военным дилетантством вел дело его дядя Николай Николаевич, доверие его величества ко мне было настолько велико, что во всех военных вопросах – до самого начала войны – мое мнение оказывалось решающим.
Николай Николаевич до войны утратил настолько свое влияние на государя, что неспособен был создавать мне серьезные, непосредственные затруднения.
А это уж было очень знаменательно, при известных семейных наклонностях государя.
* * *
Поддержку более прочную, чем у царя, имел я в лице председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина, но, к сожалению, слишком рано ее лишился. Я сходился с ним в основных воззрениях на дело, как и во мнениях относительно внутренней политики. Во время моих неоднократных посещений по должности киевского генерал-губернатора, когда затрагивались самые серьезные вопросы, мы с ним имели возможность ближе ознакомиться друг с другом. И как военному министру мне приходилось довольно часто обращаться к нему лично, чтобы то или другое дело направить на верный путь. Делал я это охотно, так как обмен наших мыслей происходил при полнейшем взаимном доверии. К сожалению, этот человек преждевременно скончался от руки убийцы.
В Киевском военном округе назначены были в 1911 году большие маневры, на которых государь пожелал присутствовать, а вместе с тем быть и на открытии памятника императору Александру II.
Для меня лично поездка эта представляла громадный интерес как по существу дела, так и по прекрасным воспоминаниям о лучших днях моей государственной службы.
Государь с семьей разместился во дворце, П.А. Столыпин в доме генерал-губернатора, а я в доме командующего войсками генерала Иванова, в моем бывшем жилище.
Маневры происходили вблизи Киева, мы ежедневно выезжали туда на автомобилях. Государь пребывал в отличном расположении духа. Погода была прекрасная, ход маневров успешный, и царь, неутомимый ездок, закатывал концы верст по 12 без передышки. Половина свиты при таких условиях зачастую сильно отставала. На остановках же, пока она подтягивалась, государь обсуждал происходившие у него на глазах эпизоды боевых столкновений и маневрирований.
На этих маневрах масса артиллерии принимала участие в боях. Чтобы дать государю живую картину современного образа действий этого рода оружия, разрешено было экономии в холостых патронах не соблюдать. Многие батареи при оживленной пальбе преждевременно израсходовали свои патроны, и критики указывали на подобный чрезмерный расход зарядов, возможный лишь на парадном маневре. В Маньчжурии в среднем расходовалось всего по 500 выстрелов на орудие. Но на этих маневрах должно было создаться впечатление, что нужны будут тысячи. Именно об этом недостатке у нас артиллерийского снабжения мы и говорили со Столыпиным у рампы, перед самой его смертью. Вопрос о боевом снабжении был, таким образом, до некоторой степени одним из последних его помыслов. Мы с ним уговорились, что на следующий день я ему сообщу все основания по делу современной потребности боевого снабжения, а тогда он доложит государю о предъявляемых мною требованиях… Таково было его намерение, осуществление которого, быть может, дало бы решительные последствия, – но провести его он уже не смог…
Когда мы разговаривали, государя уже не было в генерал-губернаторской ложе, хорошо мне знакомой, – он ушел курить. В то время как я повернулся к кулисам, мне послышалось, точно кто-то ударил в ладоши, и сейчас же раздался в оркестре крик раненого музыканта. В проходе партера Богрова схватили. Петр Аркадьевич сделал несколько шагов от меня и стал снимать китель. «Я ранен», – сказал он.
На правой стороне белого жилета появилось кровавое пятно, он стал бледнеть и опустился в кресло.
Спектакль, конечно, прекратился, и Столыпина отвезли в хирургическую больницу. Случайно я выходил в тот же подъезд, в котором ждал экипажа Петр Аркадьевич, и по той луже крови, которую я видел, можно было судить, как много он ее потерял. Оказалось, что печень была пробита и порвана, по всей вероятности, от деформированной пули, попавшей поначалу во владимирский крест; той же пулею был ранен в ногу музыкант.
Операция была бесполезна; находясь почти все время в бредовом состоянии, Петр Аркадьевич скончался. Это был ужасный удар для монархии. Киевской охране не только не удалось предотвратить покушение на Петра Аркадьевича, но убийца Богров даже вошел в театр по пропуску охранного отделения.
* * *
Преемником Столыпина в должности председателя Совета министров был назначен Владимир Николаевич Коковцов, при сохранении вместе с тем портфеля министра финансов.
Для меня это был самый неблагоприятный выбор. Из-за нашей борьбы в Совете министров по отпуску кредитов на нужды армии у меня с ним сложились самые неприязненные личные отношения.
Когда в Совете министров Коковцов позволял себе бестактности, издевательства над другими ведомствами, то сдерживающим началом был председатель Столыпин, которому о моих острых столкновениях с министром финансов приходилось даже докладывать государю. Теперь этого регулятора не стало, и Владимир Николаевич еще менее стал стесняться в деле сокращения кредитов, что продолжалось вплоть до смены его в 1914 году Горемыкиным, когда в Совете министров прекратились бесконечные речи Коковцова и как председателя, и как министра финансов.
На обязанности министра финансов лежало проводить в Совете министров вопросы: какие требования различных ведомств подлежат представлению в Государственную думу и какие – нет. Поэтому при решении большинством голосов имело большое значение то, что министр финансов до этого вычеркнет. Я не имел возможности отстоять многое из того, что было вычеркнуто, выступлением в защиту моих требований открыто с министерской трибуны, потому что эти вопросы обсуждались в многочисленных, не подлежащих оглашению заседаниях Совета министров.
С 1906 года со дня на день выяснялось враждебное отношение Коковцова к бюджету военного ведомства. Когда после японской войны было заявлено, что на восстановление армии требуется два миллиарда рублей, он ответил, что можно требовать и 20 миллиардов, но страна дать их не может: «из Невы и невского воздуха денег сделать нельзя». Действительных же шагов для восстановления финансов он, однако, предпринять не смог.
В 1908 году испрашивалось на армию 293 миллиона. Господин Коковцов двинул это представление на разрешение Государственной думы, а сам одновременно препятствовал ассигнованию кредитов военному ведомству. В 1910 году Морское министерство требовало отпуска 650 миллионов, Военное – 715, забронированных на 10-летний период. После объяснений Коковцова в Совете министров эта программа не была представлена в Государственную думу, Военному министерству приходилось довольствоваться ежегодными ассигнованиями.
Коковцов, вскоре после моего вступления в должность, стал моим личным противником. Между нами пробежала черная кошка после того, как я, соблюдая интересы Военного министерства, ополчился против отчета, представленного государю Коковцовым по поводу его поездки на Дальний Восток.
Всюду открыто утверждая, что в Военном министерстве царят хаос и развал, указывал он и в упомянутом отчете, что, начиная с 1905 года, в интересах государственной обороны у нас ничего не сделано, но приводил такие доводы, которые лишь свидетельствовали о том, что в действительности сам он не имел понятия, где и какие у нас недочеты.
Как только ему стали известны мои опровержения по некоторым ложным показаниям его отчета, так я сейчас же в глазах Коковцова стал человеком «не осведомленным в делах его собственного министерства».
После 1911 года наш разлад с ним дошел до скандала, заинтересовавшего общественные круги.
Когда однажды в заседании Совета министров Коковцов заявил, что испрашиваемые военным ведомством кредиты могут быть отпущены лишь при возникновении войны, я вынужден был ему заявить, что стрелять деньгами в противника будет нельзя и что весь его золотой запас и остальные накопленные средства при национальном позоре перейдут в карманы победителей…
Положение военного ведомства было невероятно тяжелое. Денежные ассигнования мы получали не в начале бюджетного года, а часто лишь к концу последнего. Поэтому Военное министерство оказывалось в положении человека, которому месяц не дают обеда, а затем предлагают сразу все тридцать обедов. Утверждение государственной росписи запаздывало обыкновенно на полгода, а на мытарства по исходатайствованию кредитов уходила масса времени. Вследствие этого со средствами, действительно нам ассигнованными, приходилось обращаться очень осторожно. Случалось иногда и так, что отпущенные деньги мы не могли израсходовать вследствие наступления зимы, а затем закрытия кредита за истечением бюджетного года. Коковцов в таких случаях не стеснялся дерзко заявлять, что я не умею целесообразно распорядиться отпускаемыми средствами и расходованием их.
Если при таких условиях я прибегал иногда к статье 96 Основных законов, то есть отпуску средств на нужды военного ведомства по высочайшему повелению, то эта мера являлась неизбежною необходимостью в интересах государственной обороны при порядках волокитного характера процедуры ассигнований, и ни в каком случае нельзя было признавать, что это реакционное выступление и нарушение прав Государственной думы.
По этому поводу я вспоминаю письмо военного министра, Дмитрия Алексеевича Милютина, Сабурову в 1903 году. Он писал:
«Собственный опыт научил меня, к чему ведет пересмотр смет в Департаменте экономии, такой, по крайней мере, какой существовал в былое время. В продолжение первых 15 лет моего управления Военным министерством, когда велась в нем напряженная работа полного переустройства наших вооруженных сил, чтобы довести их до уровня тогдашних вооружений других государств Европы, все старания министерства тормозились ежегодным мелочным урезыванием сметы. Приходилось откладывать или рассрочивать на многие годы мероприятия, существенно необходимые. И какие же оказались последствия? Когда понадобилось вдруг выдвинуть часть армии против турок, на Военное министерство посыпались укоры, что не все войска снабжены новыми ружьями, что артиллерия не получила еще лучших орудий, что в интендантстве, во врачебных учреждениях разные недостатки, и т. д.
Чего же можно ожидать в будущем, если Россия будет вовлечена в большую европейскую войну и не будет вполне подготовлена к тому, чтобы твердо стать уже не против одних турок, а против миллионных армий, отлично устроенных и снабженных всеми усовершенствованиями современной техники?»
Значит, не только в мое управление, но гораздо ранее – после турецкой войны – было ясно, что есть какая-то серьезная брешь в нашем государственном организме, в силу которой мы, всегда отставая, не могли без иностранной помощи обойтись в своих заготовках на военную оборону страны.
Точно так же и у Куропаткина с министром финансов межведомственные отношения не были блестящи. Но то был министр финансов Сергей Юльевич Витте – большой государственный деятель.
После неудачной войны 1904 года на его долю выпала тяжкая задача: вывести страну из критического финансового положения и восстановить международный кредит. Он с этим справился, удачно преодолев целый ряд препятствий как внешних, так и внутренних. Что касается последних, то графу Витте приходилось считаться со слабостью воли государя, который, не выдавая наушников, иногда сам тормозил дело.
Прежде всего необходим был крупный заем. От начала до конца все дело займа проведено было исключительно самим графом Витте, и он его устроил. В заключение всей этой финансовой кампании граф Витте командировал в Париж Коковцова для подписания контракта.
Когда из Парижа вернулся Коковцов с подписанным контрактом, то прежде всего попросил выхлопотать ему крупную денежную награду. Его наградили орденом св. Александра Невского, хотя он играл лишь роль мухи на рогах пашущего быка и потом говорил: «И мы пахали!» Коковцов, этот мелкий человек, был моим противником как в роли министра финансов, так и впоследствии – председателя Совета министров.
* * *
17 октября 1905 года, с переходом к конституционно-монархическому строю, права царской власти были ограничены довольно чувствительно. В Государственную думу должны были поступать все вопросы, не исключая бюджетных ассигнований на армию. Последствием этого явилась и критика мероприятий военного ведомства с кафедры Государственной думы.
В Государственной думе третьего созыва господствовало так называемое национальное большинство, лидером которого по всем военным вопросам был Гучков. Как я уже упоминал, мой предшественник Редигер из-за речи Гучкова в Государственной думе должен был покинуть свой пост. Вскоре после смерти Столыпина, который вынужден был работать вместе с лидером октябристской партии, потому что ни с демократами, ни с социалистами, а также с партиями правее октябристов дела иметь не мог, Гучков пустил в ход все парламентские и непарламентские рычаги, чтобы устранить и меня.
Враждебно настроенное думское большинство считалось с военным министром не как с таковым, а исключительно как с бывшим киевским генерал-губернатором, позволившим себе лично отнестись недружелюбно к национальным организациям, когда их политика оказывалась опасной для государства. С этой оппозицией можно было бы мириться – она меня и не беспокоила, если бы не то, что Гучков с бесцеремонным пошибом какой-то власти вторгался не только в круг деятельности военного министра, но существенно затрагивал даже права монарха. Тот самый Гучков, который в 1908 году в открытом заседании бушевал против неответственного докладчика правительства, не постеснялся, против всех законов и прав, вторгаться во внутренний круг деятельности Военного министерства и рядом с этим создать свое соправительство.
Против этого я уже восстал всеми своими силами.
Как военный министр против думского большинства я ничего не имел, насколько это касалось его деятельности по предоставленным Государственной думе разрешительным правам. Все мои требования, поступившие в Думу, разрешались без всякой задержки.
В ноябре 1909 года в Государственную думу внесен был законопроект об отпуске денежных средств, необходимых для преобразования армии. Комиссия по государственной обороне, рассмотрев представление Военного министерства и выслушав объяснения представителей ведомства, пришла к заключению, что «скорейшее осуществление всех предложенных мероприятий является насущно необходимым, так как оно увеличит в значительной мере боевую готовность армии и тем самым усилит мощь государства. Что касается испрашиваемых ведомством кредитов, то комиссия, рассмотрев представленные подробные расчеты и выслушав объяснения представителей ведомства, признает, что они исчислены согласно действительной в них надобности, а потому полагает, что испрашиваемые суммы должны быть отпущены, тем более что ни одно из мероприятий военного и морского министерства, бывших предметом рассмотрения за время ее деятельности, не имело столь крупного значения в деле развития и усиления нашей военной мощи».
Государственная дума, таким образом, отнеслась в полной мере сочувственно к дальнейшему усовершенствованию наших боевых сил, что зависело от тех средств, которые могли быть нам на это ассигнованы.
Гучков ополчился против меня еще в 1910 году, после того как убедился в расхождении наших с ним взглядов на назначение военной силы в стране.
Я находил, что солдат, от рядового до генерала, должен быть чужд всякой политике, так как назначение вооруженных сил государства – отстаивать и охранять внутреннее и внешнее благополучие страны, оберегая честь и достоинство родины и поддерживая мирное взаимоотношение государств между собой, а одновременно с этим и мирную жизнь и труд населения. Войска являются силой, на которой зиждется данный строй государства.
Будучи членом Государственной думы, А.И. Гучков как лидер определенной политической группы стремился быть в курсе дел военного ведомства. Для привлечения армии на свою сторону с целью захвата власти и влияния на судьбу России, приложил все усилия к тому, чтобы, пользуясь своей ролью в Государственной думе, расширить, в целях наибольшей осведомленности, круг знакомства в среде Генерального штаба из числа лиц, служащих в управлениях Военного министерства. Всему этому, из понятных каждому побуждений охраны военных секретов, я сочувствовать не мог, но мне трудно было бороться с этим при существовавших более чем дружеских отношениях его с генералом Поливановым.
Так как я не скрывал от своих сослуживцев отрицательного моего отношения к Гучкову и даже некоторых из них, попавших в цепкие его объятия, предупреждал от увлечения идейностью Гучкова, то естественным был тот поход, который предпринял Гучков против меня и в Думе, и в прессе.
О том, к каким приемам прибегал Гучков в своей патриотической работе против русского военного министра, иллюстрацией может служить следующее его письмо в Киев такому господину, как А.И. Савенко, бывшему второму редактору «Киевлянина».
СПб. Фурштадтская, 36, от 1 июня 1912 года.
Дальнейшее пребывание Сухомлинова у власти представляет прямую опасность для армии и для России. Нужно употребить все усилия, чтобы доказать это тем, от кого зависит. Не пришлете ли вы мне ваше показание? Может быть, найдете еще что-нибудь? А. Гучков.
Хотя Коковцов и винит Государственную думу в том, что она не утверждала целиком программ морского и сухопутного ведомств, но по справедливости надо сказать, что к нуждам обороны Государственная дума относилась более отзывчиво, чем сам Коковцов, и если иногда с кафедры Таврического дворца и раздавались энергичные протесты против развивающегося у нас милитаризма, как, например, в мае 1914 года, то застрельщиками их являлись Гучков, Шингарев и Милюков, которые, настойчиво ведя лично против меня интригу, в конце концов создали в Государственной думе против меня оппозиционное течение. Тем не менее мне удалось лишь в 1914 году провести так называемую большую программу, результаты которой могли бы начать проявляться только с 1916 года, если бы всемирная война не вспыхнула раньше. Предшествовавшие обстоятельства этого дела были следующие.
Почти весь наш флот погиб в японскую кампанию, и чтобы создать его вновь, требовались громадные суммы и много времени. Тем не менее государь решил приступить к этой задаче в ущерб сухопутной армии. Вследствие этого неизбежно возникал известный антагонизм между мною и моим товарищем, морским министром.
Дело в том, что приблизительная сумма, на которую можно было рассчитывать на расходы по обороне, растягивалась на 10 лет и больше. А для того чтобы работы можно было распределить более или менее целесообразно, приходилось кредиты распределить так, чтобы то ведомство, которое должно скорее приготовиться, в ближайшие годы получало бы большую часть ассигнований, а в то же время другое – меньшую. Для этого пришлось и в морском и в сухопутном министерстве составить большую и малую программы.
Государь, оставивший за собой регулирование хода развития вооруженных сил на суше и на море, не допускал, как он это мне высказал при моем вступлении в должность, никакого соперничества, ревности между двумя этими ведомствами; он требовал от нас, чтобы мы спокойно, объективно и дружески шли рука об руку. Мы должны были повиноваться и его волю исполнить! Государь поэтому и повелел устроить оригинальное совещание, без председателя военного и морского министров, с их начальниками Генеральных штабов.
Таковое и состоялось у меня на квартире, при участии адмиралов Воеводского и Эбергардта, однако вышло оно не совсем полюбовным.
Серьезный вопрос о том, кому следует первому проводить большую программу, все же глубоко затрагивал расчеты уже начатого дела по проведению реформы, и, несмотря на наше миролюбивое настроение, мы не выдержали. По этому поводу у меня с адмиралом получилось несогласие и недоразумение.
Таким образом, предстояло решать вопрос немалой важности: кому раньше будет предоставлено приступить к большой программе. На указанном выше совещании в этом и надо было разобраться. Незадолго до того, на мою беду, во время плавания государя на яхте «Штандарт» в Финском заливе посадили на риф этот корабль со всей царской семьей на нем.
Государь признал поэтому за благо прежде всего предоставить возможность именно морякам стать на ноги.
Как я в то время понимал политическую обстановку, мне необходимо было настаивать на ассигновании денег по большой программе прежде всего сухопутному ведомству.
Отстаивая предоставление кредитов на большую программу прежде всего Военному министерству, я приводил мотивы и доказательства целесообразности такого моего настояния.
На создание большого количества судов для активных действий нужны громадные средства, которых нам не дадут. Затем эти суда нужно спустить на воду. Каждый дредноут обойдется в 30–40 миллионов рублей, а угнаться за флотом наших противников мы все равно будем не в силах, сооружая хоть сколько-нибудь приличное их количество. Поэтому, с моей точки зрения, морскому ведомству надо начать с малой программы. По правде говоря, флота у нас нет, поэтому, как при Петре Великом, надо начинать с начала, а оно сводится к тому, что, отказавшись от крупных судов, проектировать чисто оборонительный флот из легких крейсеров, миноносок, подводных лодок, минных заградителей. Это в том отношении будет иметь серьезное основание, что даст возможность большему числу личного состава нашего флота практиковаться в кораблевождении и изучении наших собственных водных пространств.
При моем докладе об этом его величеству я ничего не утаил и рассказал все подробно. С решением таких крупных вопросов государь никогда не спешил и на этот раз, через несколько месяцев, утвердил ассигнование кредитов по большой программе в первую очередь морскому ведомству.
Государь, объявляя мне это, добавил: «Войны я не хочу. Можете быть спокойны, ее и не будет».
На это я ответил, что, насколько мне известно, Россия и с Японией воевать не собиралась, но так как политика – это уже не моя область, то я смолкаю.
Уже намного позже по газетным сведениям я мог сообразить, почему отдавалось предпочтение Морскому министерству: французская дипломатия пыталась, в союзе с Сазоновым и Извольским, развить русско-английское сближение в отношении флота, для чего от России требовались гарантии в Балтийском море…
Глава XXIII. Сотрудники и противники по работе
Среди всех описанных течений, новообразований, деловых и личных интересов вне армии я вынужден был заполнить аппарат Военного министерства и Генерального штаба прежде всего лицами, хорошо осведомленными с петербургской обстановкой, не считаясь с тем, кто из них лично более или менее близко был мне знакомым человеком. Сверх того, я был связан указанием государя при моем вступлении в должность: «Не разгоняйте сейчас же весь личный состав штаба». Вдобавок к этому мне пришлось считаться с тем, что в России был большой недостаток лиц высшей интеллигенции с соответствующей подготовкой для практической военной деятельности.
Таким образом, мои реформы должны были начаться с того, что, несмотря на перестройку аппарата, пришлось оставить на местах прежних сотрудников, то есть из старого состава таким путем создать оппозицию для вновь вводимого режима. Особенно важно было поддержать добрые отношения с министром финансов, думским большинством, а равно и с Государственным советом. Для этого и остался в своей должности генерал Поливанов. Помощником военного министра он был уже с 1905 года, то есть еще при Сахарове и Редигере, и работал со всеми тремя Государственными думами, Советом государственной обороны и Государственным советом. Гибкий по натуре, знаток хозяйственной части, хорошо осведомленный в области законоположений, этот человек, при обширном своем знакомстве с личным составом, казался мне не лишним. Совершенно исключительное преимущество его заключалось в том, что он находился в прекрасных отношениях с Коковцовым и Гучковым, к тому же ухитрился не восстановить против себя великого князя Николая Николаевича. Я надеялся, что его посредническая деятельность, при моем управлении ведомством, принесет армии пользу, поэтому не только оставил его в занимаемой им должности, но с высочайшего соизволения назначил его моим ближайшим сотрудником по делу снабжения армии всеми видами довольствия и вооружения, предоставив ему при этом широкие права. Я подчинил ему все те управления, которые ведали хозяйственными и боевыми припасами. По этой части он принимал доклады непосредственно сам и разрешал самостоятельно многие вопросы, не выходящие из пределов общих законов; во всем остальном он держал меня в курсе дела и присутствовал на докладах у государя, когда по каким-либо особенно сложным вопросам его ведения являлась в том необходимость.
* * *
Генерала Поливанова я давно знал и не допускал мысли о том, что он может быть предателем и способен на интригу.
Однажды представил мне Поливанов обстоятельную схему организации хозяйственной войсковой системы – от самой высшей инстанции до периферии. Наглядность и целесообразность распределения всех функций органов управлений и войсковых частей бросались в глаза.
Выразив ему благодарность за такую с успехом исполненную работу, над которой он немало потрудился, я взял схему в ближайший доклад государю.
Имея это в виду, Поливанов не пожалел красок, чтобы иллюстрировать, сколько потрачено им было при этом труда.
Случайно, когда в приемной (около кабинета государя) я ожидал очереди для доклада, вошел Воейков, причем я ему сообщил, что буду докладывать о войсковом хозяйстве. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что эта схема – чужой труд, присвоенный Поливановым. Воейков узнал свою работу, как только я развернул схему, и как автор ее, понятно, мог дать к ней такие объяснения, каких Поливанов доложить мне не мог.
Над этим вопросом очень долго работали две комиссии: одна под председательством генерала Водара, а другая, войсковая, под председательством командира л. – гв. Гусарского его величества полка генерала Воейкова.
Первую из них прозвали «допотопной», по давности времени, с которого она существовала; что касается второй, то название комиссии по-настоящему не соответствовало характеру занятий в ней. Командир полка, опытный человек по ведению хозяйства, руководил работой лично, и схема, которую представил мне Поливанов, была выработана самим Воейковым.
Никакой охоты брать на себя вообще ответственность у Поливанова не было.
С 1905 года, по собственному его заявлению, он соприкасался с вопросами государственной обороны, отсюда возникло его близкое отношение к руководству восстановлением снабжения армии после японской войны, а участие его в Совете государственной обороны дало ему возможность быть в курсе главнейших мероприятий по обороне, возникших, по его словам, по Главному управлению Генерального штаба якобы еще до моего назначения.
Но чтобы не отвечать за это «близкое отношение к руководству», он отговаривался, что в законе обязанности помощника военного министра определены так, что по указаниям военного министра он только «облегчает его труды».
А как Поливанов «облегчал» мои труды, можно судить по письменному моему указанию помощнику военного министра 16 октября 1910 года по поводу непорядков в подведомственном ему управлении:
«Моя резолюция, таким образом, не приведена в исполнение Главным артиллерийским управлением, и об этом я узнаю только потому, что запросил сам.
Если мы будем так вести дела, не терпящие отлагательства, будем составлять журналы заседаний по две недели, когда на это достаточно несколько часов, станем заводить бесконечную канцелярскую переписку, то только подтвердим создающуюся уже репутацию о неработоспособности нашего артиллерийского ведомства.
Если моряки так долго не отвечали, то, надеюсь, не мое дело было давно об этом напомнить. Так вести дело дальше нельзя, и допустить этого я не могу.
Прошу Главное артиллерийское управление энергично двинуть не только это, но и остальные дела порядком, военному ведомству приличествующим».
На одном из утренних докладов генерал Поливанов заявил мне, что я давно не был в Государственной думе и он советует приехать в тот же день на вечернее заседание. Хотя на повестке значилось несколько незначительных, так называемых «вермишельных» дел Военного министерства, я все равно решил поехать, отменив очередные свои занятия… Но перед самым уже обедом неожиданно явился состоявший при мне родственник Гучкова, подполковник Боткин, с целью предупредить меня, чтобы я не ездил этим вечером в Государственную думу, так как там мне приготовлен грандиозный скандал.
Догадываясь, из какого источника он мог это знать, я по телефону сообщил генералу Поливанову, что на заседании в Таврическом дворце не буду.
Мой помощник, судя по его репликам, не мог скрыть при этом известии своего смущения и растерянности, особенно когда я попросил его мне сказать, почему именно так неотложно необходимо в Государственной думе мое присутствие. Ответы Поливанова сводились единственно к тому, что я давно не был на заседаниях Думы. Когда я незадолго перед этим неожиданно приехал в Думу, ко мне вышли председатель Родзянко и его товарищ, князь Волконский, упросив не показываться в зале заседания, так как я, по их выражению, «сыграю роль красного сукна перед быком».
Когда Гучков в 1909 году в Думе разразился громовой речью с огульным заявлением о негодности состава высшего персонала нашей армии, то Поливанов, поддерживавший и тогда уже тесные отношения с Гучковым, посоветовал генералу Редигеру согласиться с этим заключением, что тот и сделал. Иезуитски подводя последнего, Поливанов рассчитывал, что это вызовет неизбежный протест со стороны армии, в составе которой имелись люди с заслуженным боевым опытом, служебным прошлым. Это повлечет за собой увольнение генерала Редигера и назначение на эту должность, в силу создавшегося положения, заместителя не из армии, а его, как единственно оставшегося приемлемым для Государственной думы кандидата.
Во время моей поездки в Туркестан в 1912 году Поливанов, при содействии редактора газеты «Вечернее время» Б. Суворина и Гучкова, пытался меня дискредитировать в специальном памфлете, который должен был появиться от имени Мясоедова, неизвестного мне жандармского полковника.
Когда я возвращался домой, в газетах уже появились сообщения о моем увольнении и о предстоящем назначении вместо меня Поливанова, портрет которого был даже помещен для созерцания публики. Коковцов сам об этом разболтал во время своей поездки в Ялту с докладом обо мне. Он был так уверен в успехе своего дела, что на вокзале в Москве совершенно открыто говорил о моем увольнении.
Точно так же и в Ялте он был так несдержан на язык, что всем рассказывал о моей несостоятельности на посту военного министра.
В семье министра двора графа Фредерикса я узнал обо всем этом.
Через некоторое время после этого я явился к государю. О выступлении Коковцова я, конечно, знал, но что и как он докладывал государю, не знал – мне его величество не сказал об этом ни единого слова.
Но вне всякого сомнения, что В.Н. Коковцов докладывал о моем увольнении, не жалея красноречия. И ведь докладывал председатель Совета министров, сам премьер-министр, некоторым образом глава кабинета.
Как принял это государь, отвечал ли что-нибудь Коковцову – мне тоже неизвестно, но, судя по дальнейшему поведению Владимира Николаевича Коковцова, его величество все это выслушал терпеливо. Председатель Совета министров, приняв молчание за знак согласия, должно быть, ожидал, что я привезу в Петербург свою отставку. Так он и говорил, вернувшись в столицу.
Но государь совершенно самостоятельно решил этот вопрос иначе.
В Ливадии, после моего доклада, который, по мнению Коковцова, должен был оказаться последним, государь спросил меня совершенно неожиданно:
– А вы, Владимир Александрович, очень дорожите Поливановым?
Я ответил, что это герой не моего романа, но я себе другого помощника не выбирал, ввиду высказанной воли его величества, чтобы я личного состава не разгонял.
– Тогда выберите себе другого помощника, а Поливанов ведь член Государственного совета? – спросил государь.
Я ответил утвердительно, но добавил, что не по моему представлению.
– А разве председатель Совета министров не спрашивал вашего согласия?
Пришлось доложить его величеству, что не спрашивал.
Государь нервно передернул плечами и приказал мне в тот же день прислать ему на подпись указ об увольнении Поливанова. На мое заявление, что я затрудняюсь сейчас в выборе заместителя, Николай Александрович протянул руку через стол и взял «книжку генералов», прибавив:
– А мы с вами сейчас его выберем. На первой же странице он прочитал:
– Генерал Вернандер. Знаете что, берите его, он не будет интриговать и подкапываться.
Указ был подписан государем в тот же вечер. В Петербурге же ожидали, что на этом бланке я привезу другую фамилию. Генерал Поливанов выехал даже меня встретить, со всеми начальниками главных управлений Военного министерства: должно быть, собирались устроить тут же и проводы, – на основании сведений из такого достоверного источника, как Коковцов – председатель Совета министров.
* * *
В должности моего помощника генерал Вернандер пробыл до 1915 года. Этот достойный, твердого характера человек не был способен на интриги и предательство. За время своей трехлетней деятельности он сделал несравненно больше, чем Поливанов за семь лет. Когда он высказывал свой взгляд на дело, он не считался с тем, нравится мне это или нет, не прибегал никогда к неоткровенности, а всегда высказывался открыто, по существу самого дела.
* * *
Преследуя единственную цель ограничить область так называемых агентурных непроверенных секретных сообщений и тем оградить войсковые части от возбуждения, я находил нужным, как выше отметил, только тщательное обследование и объективную проверку этих секретных сведений, прежде чем давать им дальнейший ход, используя в этом направлении опыт и знание состоящего при мне жандармского офицера.
Установившееся при этом направление дел никакой перепиской не было оформлено, так как мы со Столыпиным переговорили по этому поводу лишь устно. Из письма полковника Мясоедова моему секретарю Зотимову было видно, что Департамент полиции о сути наших переговоров осведомлен не был, потому что Мясоедов писал: «Министр внутренних дел указал на неудобства, которые представлялись бы при осуществлении желания военного министра о сообщении ему жандармскими офицерами сведений о революционной пропаганде в войсках. Он опасается, что военному министру будут сообщены сведения, которые потом придется опровергать. Видя, что министр внутренних дел, очевидно, введен в заблуждение докладчиком, я обратил его внимание на то, что военный министр желал бы быть осведомленным о возбуждении дознания о военнослужащих, дабы иметь возможность судить о ходе пропаганды в армии. На это министр внутренних дел мне сказал, что это, конечно, другое дело».
Вооружившись этим обстоятельством, Гучков сообщал в Думе, будто бы я, чтобы следить за корпусом офицеров, создал в Военном министерстве целую организацию. Дело велось с такой страстностью, которую можно лишь понять, если вспомнить эпизод, который имел место в 1912 году.
Кто-то, очевидно из сотрудников генерала Поливанова по прежней службе, составил, на основании журналов заседаний по вопросам обороны, донос с выписками из несомненно подлинных документов и с утверждением того факта, что генерал Поливанов сообщил эти государственные тайны австрийскому послу. Тщательно составленный, литографированный аноним этот разослан был многим высокопоставленным лицам и членам Государственной думы и, конечно, не мог не обратить на себя общественного внимания.
Я тогда не допускал и мысли о том, что это донос не ложный, но необходимо было выяснить, кто же мог его составить и каким образом секретные документы оказались доступными какому-то постороннему лицу. Поэтому прикомандированному ко мне подполковнику Мясоедову я поручил навести справки, нельзя ли выяснить автора доноса, об этом сообщил, конечно, генералу Поливанову, спросив его, не имеет ли он подозрения на кого-нибудь.
Меня поразило тогда то, что моим сообщением он был, видимо, подавлен, а из его реплики я понял, что он заподозрил, не направит ли Мясоедов свои розыски против него, тем более что незадолго перед этим генерал Поливанов ездил в Австрию к одному из своих друзей, родственнику графини Карловой, с которой он был очень дружен, покинувшему Россию и поселившемуся за границей. Так как все это было известно Поливанову и не было поэтому тайной от Гучкова, близко принимавшего к сердцу интересы генерала Поливанова, то Гучков решил выступить с отводом всяких возможных в этом смысле слухов в отношении Поливанова. Последствием этого, тотчас же после моего разговора с Поливановым, явились в газетах якобы разоблачения о том, что австрийцы стали значительно осведомленнее с тех пор, как при военном министре появился Мясоедов. Последний, понятно, возмутился, потерял душевное равновесие, и я распорядился о производстве расследования через главного военного прокурора. Дело кончилось дуэлью Мясоедова с Гучковым, а после происшедшего скандала на бегах между Мясоедовым и Борисом Сувориным – увольнением первого со службы. Сам же Гучков не только при расследовании отказался указать главному военному прокурору источники его обвинения Мясоедова, но уклонился от этого и на суде, вопреки данной им присяге: «Не утаивать ничего для раскрытия истины».
* * *
Я принялся за работу по реформам в армии со дня моего вступления, начав с преобразования моей собственной должности начальника Генерального штаба. Чтобы устранить «двухголовие», введенное указом 8 (21) июня 1905 года, на первых же порах подчинился добровольно военному министру и являлся к государю с докладом в присутствии военного министра.
После моего назначения военным министром последовало высочайшее повеление, закрепившее этот служебный порядок, и единственным докладчиком по военному ведомству стал опять военный министр, который вместе с тем являлся вновь единственным ответственным лицом перед государем за весь в совокупности военный аппарат. Этим, по крайней мере, теоретически, а на несколько лет и практически, была устранена главная причина, препятствовавшая согласованному развитию наших вооруженных сил как до, так и после японской кампании.
Когда я принял министерство, мне и в голову не приходило, что вне этого ведомства родилась еще какая-то комиссия вне ведения военного министра, состоящая из военных чинов под председательством Гучкова, при Государственной думе. Совершенно случайно узнал я об этом. Список участников, 8 или 10 человек, был вскоре у меня в руках. В нем между прочими значился генерал Гурко, редактор истории японской кампании, полковник барон Корф и другие чины военного ведомства.
Я доложил об этом государю как о факте ненормальном и о том, что все эти чины давно уже стоят во главе списков кандидатов на различные должности, а потому просил разрешения, по мере открытия вакансий, всех их выпроводить из столицы. Государю этот выход очень понравился, он улыбнулся и сказал: «Вполне одобряю, так и сделайте».
Я так и сделал: открывшаяся вакансия первой кавалерийской дивизии в Москве была предоставлена генералу Гурко, первый открывшийся стрелковый полк – полковнику барону Корфу и т. д., вплоть до расформирования этого подпольного учреждения таким моим контрманевром, о котором в стратегии генерала Леера говорится: «Всякому маневру отвечает свой контрманевр, лишь бы только минута не была упущена».
Ближайшей заботой было устранение вредного влияния безответственных великих князей. Они были инспекторами отдельных родов оружия и как члены императорской фамилии имели доступ к высочайшим докладам. Вследствие этого на практике они имели возможность действовать через голову военного министра и местных командующих войсками, проводить высочайшие повеления, которые не отвечали известным условиям и видам соответствующих властей. Но великокняжеские инспекции сопровождались продолжительными, дорогими и часто уже устаревшими экспериментами в армии, которые только препятствовали спокойному развитию работ по усовершенствованию вооруженных сил государства.
Мне удалось, по крайней мере вплоть до 1914 года, поставить в новые рамки строптивого великого князя Николая Николаевича; не справился я только в этом отношении с Сергеем Михайловичем, генерал-инспектором артиллерии.
* * *
Как глубоко могли проникнуть подрывные работы великих князей, показал в 1911 году случай с великим князем Николаем Николаевичем, вынудивший меня заявить, что дальнейшую работу военного министра продолжать я не могу.
Имея в виду, что государь всегда говорил о том, что во главе действующей армии, если бы вспыхнула война, он станет обязательно сам, я предложил собрать в Петербурге на стратегические занятия всех предполагаемых командующих армиями и в виде военной игры решить ряд задач на западном фронте. Обстоятельные данные, имевшиеся у нас в Главном управлении Генерального штаба, давали возможность создать обстановку и образ вероятных действий наших противников с большой правдоподобностью…
Занятия эти лично для государя имели то значение, что таким способом он мог ознакомиться с теми генералами, которым предстоит стать во главе армий, а тех из них, которые окажутся не соответствующими предстоящим им ролям, заменить заблаговременно другими, более подходящими.
Мысль эта очень понравилась государю, а когда с его одобрения разработаны были детали этой игры, то его величество повелел предоставить запасную часть Зимнего дворца для этих занятий и в составлении директив Верховного главнокомандующего принимал участие сам.
Командующие войсками съехались, все было готово, но за час до начала игры государь прислал мне записку, что занятия отменяются. Затем выяснилось, что Николай Николаевич был против «этой затеи», в которой «военный министр хочет делать экзамен командующим войсками». Всех приехавших из провинции командующих он пригласил к себе на обед, не пригласив меня…
Через день я был с докладом у государя с просьбой уволить меня с этой должности.
Это был один из самых тяжелых дней моей службы. Благодаря слабой воле одного и злой другого, я переносил нравственные мучения, которые и сейчас, при воспоминании о них, мне тягостны, несмотря на то что с тех пор прошло много лет.
Передо мной был не государь, а простой смертный, сознающий свою вину и неловкое положение перед человеком, который был ему предан и взялся, по его же настоянию, за починку вконец испорченного дела.
Когда я вошел, Николай Александрович поспешил ко мне навстречу и, протягивая руку, смущенно заговорил о том, что он нашел нужным занятия с командующими войсками отменить. «Разрешите, ваше величество, доложить об этом после привезенных мною для подписи бумаг». Лицо мое, наверное, сказало государю, что этот доклад удовольствия ему не доставит. Он сел за письменный стол и предложил мне садиться.
После самой короткой первой части доклада и подписи бумаг его величеством, сдерживая, сколько было у меня сил, вполне естественное волнение и не нарушая этикета перед монархом, я начал с сожаления, что государь так поздно сообщил мне свое решение и что не было поэтому возможности обставить эту перемену без того скандала, который в данном случае получился.
Государь сидел молча и даже не курил, как это он имел привычку делать во время докладов. Тогда мне пришлось изложить то положение, в котором я оказался как глава военного ведомства.
Все знали, что инициатива съезда была моя, что государь предположение предстоявших занятий не только одобрил, но должен был сам принять в них участие.
Самые широкие приготовления делались несколько месяцев, и когда настолько все было готово, что в Зимнем дворце собраны были все чины Главного управления Генерального штаба со всеми материалами, не приехали лишь командующие войсками, очевидно, осведомленные раньше меня об отмене занятий, – военный министр узнаёт об этом позже всех!
Государь слушал меня, опустив голову, и не произносил ни слова. Несколько минут мы сидели молча.
Пришлось мне прервать это молчание. Казалось, что государь ждет продолжения моих объяснений, и я доложил, что всем случившимся мой авторитет главы ведомства подорван настолько, что оставаться в этой должности далее мне немыслимо. Каким я могу быть руководителем в таком громадном и сложном деле, если у моих сотрудников и подчиненных не будет доверия к целесообразности моих начинаний и распоряжений? Невольно создается впечатление, что я подвел своего государя какими-то несуразными фантазиями. Поэтому я прошу его величество об одном – отпустить меня и повелеть сдать должность другому лицу.
И после этого государь продолжал молчать, а на бледном лице его видно было такое страдание, что мне до слез стало жалко верховного вождя нашей армии.
Страдали мы оба, а тот, кто всему этому был виновником, наверное, от удовольствия потирал руки и ждал известий о назначении нового министра.
В третий раз пришлось мне прервать молчание: я был уверен, что другого исхода быть не может и я должен выйти из кабинета государя, оставив портфель военного министра.
– Ваше величество, сами видите, что во мне говорит не обиженное самолюбие или желание придраться к случаю, чтобы бросить работу, такую тяжелую и в такой неприятной обстановке. Я прошу об увольнении потому, что другого выхода у меня нет, его и придумать трудно.
После последних слов государь точно проснулся, оживился и, ласково взглянув на меня, сказал:
– А вы придумайте – отпустить я вас не хочу.
В действительно трудных условиях придумывания у меня явилась мысль об отмене столь неосторожного решения роспуска съехавшихся без всяких результатов генералов. Весьма вероятно было, что на это государь не согласится, и ходатайство мое об увольнении будет тогда уважено.
Когда я мысль эту высказал, государь сообщил мне, что он уже отпустил их домой. Как же это теперь сделать?
– Вернувшись в Петербург, я дам им знать, что ваше величество признали за благо устроить совещание по государственной обороне под моим председательством и что они уедут по окончании этих заседаний.
Надо было видеть нескрываемую радость государя, который быстро встал, протянул мне руку, крепко пожал и, улыбаясь, сказал:
– Ну, конечно, и вы их не отпускайте, покуда не получите от них все, что вам нужно.
Так я и остался военным министром.
Глава XXIV. Дальние и малые поездки
Старая кавалерийская поговорка «У дельного хозяина и конь в теле» в переносном смысле значит, что в основаниях жизненного благосостояния вообще всякое распоряжение только тогда может быть целесообразно выполнено, если оно при этом сопровождается наблюдением самого распорядителя. А так как на мне в роли военного министра лежала обязанность привести армию вновь в состояние инструмента, пригодного для военных действий, то нужно было как можно скорее направить дело восстановления на путь продуктивной работы.
Поэтому мы вынуждены были в подготовительных к мобилизации работах прибегать к средствам и путям совершенно иным, сравнительно с теми, какими руководились до этого. Совершенно так, как к стрелковому делу и полевой службе, все учреждения, управления и войска должны были отнестись и к мобилизационным упражнениям… У нас были установлены различные, постоянные и периодические, во всех округах повторяющиеся, мобилизационные упражнения, с отпуском на это необходимых специальных средств, и поверочные мобилизации, дававшие возможность контролировать как подготовительные к мобилизации работы, так и степень готовности для выступления в поход. В этом отношении особенно поучительны были пробные мобилизации различных стадий, причем войска получали пополнение из соседних частей или призывом запасных. Присутствию по возможности на большей части этих упражнений я придавал большое значение, так как лично мог проверить и убедиться в степени готовности войск к быстрой мобилизации. Чтобы устранить трения между штабами и управлениями или выяснить недоразумения и неясности между начальниками и подчиненными, лично во всем убедиться и на месте же наладить и распорядиться, – для этого мне приходилось много путешествовать.
Разделяя эту точку зрения, государь шел мне навстречу и даже заказал для военного министра салон-вагон, что давало возможность быть вне зависимости от железнодорожных управлений и ставить его к любому поезду. Это способствовало и внезапному появлению в местах отдаленнейших гарнизонов. Результатами моих поездок государь интересовался всегда в высокой степени. Иногда такие поездки происходили по его инициативе, но в этом случае они были сопряжены с неприятными поручениями. Большей частью в подобных ситуациях кому-нибудь из генералов или даже командующему войсками приходилось «намыливать голову» для водворения порядка, что обходными путями доводилось до сведения государя. Для примера приведу случай с генералом Сандецким, бывшим командующим войсками в Казани.
Притязательный в служебном отношении, генерал этот был так груб и жесток, что жалобы на него не прекращались: все, кто только мог, избегали служить под его начальством. Казанский военный округ получил прозвище «дисциплинарный округ» – по аналогии с дисциплинарным батальоном.
У государя в конце концов лопнуло терпение, и его величество приказал мне изложить письменно, что верховный вождь армии недоволен тем режимом, который установил в своем округе генерал Сандецкий. Я написал это в форме совершенно частного письма и представил на утверждение государя. Его величество в одном месте смягчил редакцию, и письмо было отправлено. Оно подействовало. Кто приезжал из Казани в Петербург, рассказывал, что никто не понимает, вследствие чего произошла такая перемена…
Переданная мною генералу Сандецкому высочайшая воля на некоторое время дала возможность его подчиненным вздохнуть свободнее.
Но через некоторое время началось все сначала, поэтому пришлось генерала Сандецкого убрать и назначить членом Военного совета. Во время войны он был назначен командующим войсками в Москву. Там он стал проявлять свой злостный характер на раненых, возвращавшихся с театра военных действий.
– Зайдите к государыне, она вам расскажет, как генерал Сандецкий обращается с офицерами, которые работали на поле брани, – сказал мне государь на докладе в Царском Селе.
Императрица Александра Федоровна передала мне целый пакет докторских свидетельств из московских лазаретов, находившихся под ее покровительством. До крайности возмущенная, она мне рассказала о таких непонятных глупостях, как, например, подозрения в симуляции. Из любви к искусству, принимая участие лично в докторском осмотре, он развертывал перевязки и совал свои пальцы в раны, чтобы убедиться в том, что это действительно ранения, а не театральный грим!..
* * *
В 1912 году я предпринял большую инспекторскую поездку. В центральных городах округов обыкновенно приходилось останавливаться и там уже решать вопрос той или другой дальнейшей поездки. Моя первая более продолжительная остановка была в Иркутске, богатом главном городе Сибири. Межведомственные отношения были там вполне благоприятные, в этом я убедился при первом же посещении генерал-губернатора Князева и командующего войсками Никитина.
Там же, в Иркутске, мне надо было разобраться в мудрых распоряжениях предшественника генерала Никитина, генерала Селиванова. Россия была действительно страной безграничных возможностей. В саперном батальоне возникли недоразумения, по мнению генерала, на политической подкладке. За это он приказал батальону проложить дорогу в тайгу! Только тот, кто сам был в тайге, может представить себе, что это было за наказание. Тайга – это болотистый лес, тянущийся через почти всю Сибирь. С мая по сентябрь это очаг всевозможных болезней; в апреле и октябре тайга совершенно непроходима вследствие таяния снегов и бесконечных проливных дождей, а в течение пяти месяцев покрыта глубоким снегом, при температуре 45° ниже нуля! Держать в тайге лошадей и коров вообще немыслимо, так как они грубую траву не переносят; что касается собак, то тут водится лишь известная порода полярного пса…
Это жестокое наказание не оправдывалось какими-либо соображениями касательно обучения или местными хозяйственными условиями, а было исключительно какой-то жаждой мести оскорбленного начальника.
Это был чистейший садизм, желание мучить людей.
По приказанию генерала на несколько верст в глубину приказано было вырубить площадку и разбить на ней лагерь для батальона.
Всю эту каторжную работу я осмотрел и был поражен тем, сколько труда и человеческих усилий ушло на то, чтобы преодолеть все препятствия, которые при этом встретили саперы. Между двумя хребтами пришлось, например, проложить дорогу по таежной топи. Одна рубка гигантских деревьев чего стоила, чтобы получить для лагеря площадку, на которой потом оводы и комары доводили людей до отчаяния.
Там же на месте я приказал закрыть этот инквизиционный лагерь и вывести саперов на место, возможное для существования.
Тот же человеколюбивый генерал согласился с постройкой казарм на отведенной городом бывшей свалке. Когда в них помещены были войска, то совсем новые здания стали разваливаться, не имея под собой прочной почвы. Какие были при этом санитарные условия, можно себе представить…
Со столицей Сибири, Иркутском, довольно богатым городом, стала конкурировать Чита. Эта сибирская Москва начала расти не по дням, а по часам, соперничая с Иркутском. Мне пришлось воспользоваться этим для того, чтобы двинуть дело постройки постоянного моста через красавицу Ангару, отделяющую город от железнодорожного вокзала. Чистые как слезы, воды этой быстротечной реки два раза в год, весной и осенью, нарушали беспрепятственное сообщение с такой жизненной артерией, как великий сибирский железнодорожный путь. Но отцы города упорствовали и тормозили проведение в жизнь проекта столь неотложно необходимого сооружения.
Когда, при моем отъезде, на вокзал явились представители города, я огорчил их заявлением, что переведу все части военно-окружного управления в Читу, если в ближайшее время не начнется строительство моста через Ангару. Несколько месяцев спустя у меня был уже в Петербурге инженер с утвержденным проектом моста.
* * *
Дальнейший путь мой лежал к чистенькому городу Харбину – центру нашего управления в иноземной стране. Там я познакомился с генералом Хорватом, энергичным и спокойным человеком, к сложному и своеобразному положению приспособившимся весьма практично.
Войск наших там не полагалось, и вместе с тем, под видом железнодорожной службы и пограничной стражи, там были наша пехота, артиллерия, конница, целый своеобразный корпус, размещенный в прекрасных казармах и помещениях в великолепно обставленных условиях довольствия.
По дороге из Харбина во Владивосток я выразил желание осмотреть какой-нибудь китайский город. Генерал Хорват избрал город, в котором, предполагалось, нет чумы. Со всеми китайскими церемониями я был встречен в нем; не припоминаю его названия – Фучен или что-то в этом роде. При осмотре одной кумирни на кладбище я открыл калитку и, увидев стоявшую прямо на земле массу гробов, спросил, что это такое.
Переводчик мне передал, что это умершие от чумы китайцы, ожидающие отправки на родину. Китаец должен быть похоронен там, где он родился.
Сопровождавший меня в поездке доктор был очень смущен этой картиной, но заявил, что чумной труп уже не может быть заразным. Тем не менее он просил меня покинуть этот город.
Сделать этого, конечно, было нельзя, так как я должен был отдать визит начальнику города.
В дальнейшем путешествии я испытал еще «удовольствие» тайфуна в пути, когда сильнейший ветер поднимает такую пыль, что солнце меркнет, все получает желтовато-красную окраску, а в воздухе летят песок и мелкие камешки.
На одной из станций мне доложили о том, что накануне была отбита пограничными стражниками партия хунхузов, пытавшаяся испортить путь. Преследование нашей конницей происходит в таких случаях на китайской территории, откуда они и появляются. Но дело это настолько уже обычное, что не вызывает никаких дипломатических недоразумений.
Какому-то китайскому генералу хотелось получить русский орден, и на одной из станций он выставил мне роту новых регулярных китайских войск. Отличное оружие новейшей системы, практичное обмундирование защитного цвета и ротное учение, проделанное безупречно, служили доказательством, что европейские инструкторы добросовестно отнеслись к порученному им в Китае делу.
* * *
Мое первое посещение Владивостока было связано с судьбой еще недостроенной крепости.
Когда же после первой поездки я доложил государю все мною виденное и точку зрения о необходимости доведения Владивостока до мощной первоклассной крепости, его величество с большим вниманием вникал во все подробности моих соображений и выводов. «Инстинктивно я всегда это чувствовал, – сказал он, – но ясно и определенно у меня это не укладывалось. Теперь у меня уже нет ни малейшего сомнения, что вы правы, и надо приняться за это дело решительно – потеряно немало времени».
Ввиду такого решения я просил командировать во Владивосток самого генерала Вернандера для наблюдения и руководства производством крепостных работ. Обширный крепостной район и сложность работ требовали большой энергии, технических знаний, опытности и зоркого глаза. Все это совмещалось в избранном руководителе работ, и грехи предыдущих строителей покрыты были плодотворною деятельностью Вернандера.
В первой же поездке я убедился, что казарменный вопрос в Приамурском округе обретается не в авантаже, как говорили в доброе старое время. Были еще части войск, помещавшиеся в землянках. Государь возмутился, когда узнал об этом от меня, и, по-видимому, министру финансов не удалось отвертеться на этот раз, так как его величество мне твердо и уверенно объявил, что деньги на казармы Приамурского округа будут ассигнованы.
К сожалению, должности командующего войсками и генерал-губернатора не были объединены на этот раз в Хабаровске в одном лице.
Едва ли административные способности начальника края генерал-губернатора Гондати заслуживали особого поощрения. По крайней мере, распоряжение, запрещающее наем китайцев на работы, отразилось так неблагоприятно на обширных постройках военного ведомства, что расстроило все сметы: вместо одного рубля в сутки пришлось платить три и оплачивать, сверх того, дальний путь русских рабочих из внутренних губерний.
Знаменитое же его «пломбирование» китайцев в наших пределах не обошлось без форменного скандала2.
Когда руки мокли, бечевки набухали, кровообращение задерживалось, терпеливые китайцы приходили в полицию, протягивая посинелые руки. Эти покорные люди не решались освободиться самовольно от наложенных русскими властями пломб, причиняющих им страдания.
Когда узнали об этом в Пекине, то там последовало контрраспоряжение: проделывать то же самое с русскими местными жителями в Китае, но только запломбировывать не руки, а шею. Первым дошедшим об этом слухам не поверили, приняв за анекдот, но, к сожалению, это затем подтвердилось фактически.
Глава XXV. Ликвидация старых порядков
Стоило только затронуть любой научный, технический, организационный, социальный, дисциплинарный вопрос, чтобы вызвать целый ряд столкновений, которые зачастую разгорались в настоящие сражения, – раз затрагивали чьи-либо личные права, хотя бы и сомнительным путем приобретенные.
Что это были за стычки, бои, одиночные схватки и сражения, происходившие в Военном министерстве с 1909 по 1914 год!..
Нападением на осиное гнездо было мое выступление против комиссионной системы, хотя я эту крепость тщательно окружил со всех сторон и подвел под нее мины. Необходимо было повести наступление, чтобы в высших командных должностях, а также главных войсковых штабах вновь была восстановлена надлежащая ответственность…
Комиссий было много, но небольшое число таких, которые принесли действительную пользу. С такой системой вообще надо было покончить. Я не имел права считаться с сотнями заинтересованных лиц, увольняемых членов комиссий, раз дело шло о развитии ответственной работы отдельных офицеров и о сохранении государству сотен тысяч рублей, затрачиваемых без пользы для дела.
Конечно, после этого возникли неудовольствия и тайные оппозиции с их всевозможными последствиями.
* * *
Затем озабочивало меня положение Главного интендантского управления.
Испокон веков во всех армиях область деятельности по снабжению интендантским довольствием войск была одной из самых уязвимых для нареканий и нападок. Здесь сталкиваются обширнейших размеров государственные потребности с хозяйственной жизнью нации и, вместе с тем, с ее примитивными торговыми инстинктами, с которыми (в интересах казны) приходится считаться чиновникам. Состояние интендантства армии, по моему мнению, – зеркало, в котором отражается государственное настроение народа или, другими словами, его политическая культура.
Как в мирное, так и в военное время в русском интендантстве крали относительно не больше, чем в иностранных армиях. Чтобы быть справедливым, не следует забывать, что русская армия во внутреннем своем устройстве была не в меньшей зависимости от развития всего народа, как и другие нации, и что Россия своим внутренним управлением отстала от Западной Европы на несколько сот лет…
На пост начальника Главного интендантского управления при таких условиях требовался человек сообразительный, благожелательный, деятельный, с большим кругозором.
Мне посчастливилось в лице генерала Шуваева найти именно такого сотрудника. Я знал его еще по Киеву. Там в свое время он был начальником военного училища и затем начальником 5-й пехотной дивизии.
Ко времени моего назначения военным министром он командовал армейским корпусом на Кавказе.
Со своей задачей Шуваев справился блестяще. Главное внимание обратил он на образование личного состава – эта задача очень трудная, особенно потому, что плохая репутация наших интендантских чиновников не благоприятствовала привлечению лучших элементов.
Рядом с доброй волей и работоспособностью нужна была также известная техническая подготовка. Непродолжительные интендантские курсы совершенно не отвечали своему назначению. Являлась необходимость создать особую Интендантскую академию для подготовки чиновников, соответствующих интендантским должностям, на которых они были бы в состоянии подчиненному им персоналу внушить необходимость знания нужд войсковых частей, а не заботу исключительно о личных своих интересах. Шуваев в короткий срок так много сделал, что я от командующих войсками всюду слышал благоприятные заявления.
Как и во всем остальном, связывали нам руки также в области интендантской деятельности отпускаемые ограниченные средства. Исправная доставка снабжений для войск на войне представляла большие затруднения. Тем не менее многое было сделано. В заботах о снабжении мясом большую роль должны были сыграть холодильники в Сибири, которые могли сохранять наготове громадное количество замороженного мяса хорошего и дешевого убойного скота. Для этого вдоль железной дороги должны были строиться холодильники и для перевозки сооружен подвижной состав в должном количестве вагонов-холодильников. Во Владивостоке я имел возможность осмотреть один из таких практичных холодильников для крепости. По этому образцу в Сибири был выстроен целый ряд таких холодильников, насколько это было возможно сделать на отпущенные средства.
Генерал Шуваев всей душой был в этом деле. Он хотел организовать этапы в тылу армии таким образом, чтобы полевые хлебопекарни могли доставлять хлеб во все действующие части. Таким образом, люди получали бы вместо черствого сухаря свежеиспеченный хлеб, вплоть до самых передовых линий. В конце концов, с походными кухнями мы, собственно, опередили все остальные армии. Специальные фабрики, одну из которых я сам осмотрел в Москве, доставляли с избытком простые и практичные походные кухни.
Для улучшения быта войсковых частей, в особенности тех из них, которым приходилось жить в глухих, удаленных от центров местах, заботой первостепенной важности было размещение их в удобных казармах.
Генерал Ванновский с этою целью учредил особую «казарменную комиссию», не подчиненную инженерному ведомству. Средств отпускалось так мало, что широкого развития дело это тогда получить не могло. Но тем не менее опыт показал, что этим путем можно достигнуть отличных результатов быстрее и сравнительно с меньшими расходами…
Совсем расхлябалось и дело военно-учебных заведений ко времени моего вступления в должность.
Начальником Главного управления военно-учебных заведений был великий князь Константин Константинович. Выдающийся по своему интеллигентному развитию человек, он был предан душою делу воспитания юношества, но с вопросом увеличения числа выпускаемых офицеров в войска справиться ему было трудно, так как это находилось в зависимости от материальных условий, которых ни он, ни я побороть в полной мере не могли…
Константину Константиновичу ставили в вину то, что он, посещая заведения, баловал воспитанников, слишком ласково с ними обращался. Действительно, когда он, приезжая в провинцию, останавливался иногда в здании учебного заведения и несколько дней все время находился среди кадет или юнкеров, то после того начальство приходило в отчаяние от невозможности с ними справиться…
Года за два до войны в Пажеском корпусе случилось недоразумение, которое было раздуто «доброжелателями» и в искаженном виде доведено до сведения царской семьи, находившейся тогда в Ливадии. До выступления еще в лагерь, утомленные после одного из занятий в поле в окрестностях города, пажи специального класса отказались от очередной классной репетиции. Проделали они это обычным в таких случаях коллективным приемом. Когда я прибыл в Крым с очередным докладом, то государь об этом уже знал, и мне пришлось докладывать подробности, интересовавшие всю царскую семью, так как пажи несли также службу при дворе и поименно были известны ее членам.
Обстоятельство это явилось усиливающим вину, и когда затем, за завтраком, я сидел рядом с императрицей, то государь обратился ко мне и сказал: «Расскажите императрице о Пажеском корпусе».
Несмотря на мой доклад, смягчавший дело, эпизод этот ей не нравился. Она находила, что именно для пажей это уже не пустой проступок, а скорее преступление. Государь разделял ее мнение. Мне было приказано при возвращении в Петербург объявить лично пажам специальных классов неудовольствие его величества и нежелание видеть их более на придворной службе.
Эту неприятную миссию мне пришлось выполнить, и она являлась для меня особенно тягостной потому, что я в течение восьми лет был преподавателем Пажеского корпуса, сохранив с ним ту духовную связь, которая делала меня членом пажеской семьи.
Государю это было хорошо известно, и он добавил: «Пожалуйста, только не смягчайте и передайте так, чтобы они почувствовали, что я очень недоволен». Поневоле пришлось так и сделать. Тяжелое впечатление оно произвело не только в самом корпусе, но и на всех бывших пажей, до престарелых генералов включительно.
Много моих бывших учеников просило помочь этому корпусному горю. Чтобы снять чрезмерно тяжелую опалу, ввиду предстоявшего корпусного праздника, я составил трогательный доклад-ходатайство с просьбой «сменить гнев на милость» и был вполне уверен, что отказа не последует. Каково же было мое удивление, когда я прочел синим карандашом начертанное «обождать» на возвращенном мне докладе.
Генерал-инспектор военно-учебных заведений, Константин Константинович, был тогда уже совсем больной. Автор «Царя Иудейского» жил продолжительное время в Египте, по соседству с местом действия его драматического произведения.
Искать его помощи при таких условиях не было возможности, а в данном случае я имел дело с тем упрямством императора Николая II, которое являлось иногда вместо твердой воли царя. Дальнейшие личные мои попытки поэтому были бы приняты за покушение на слабый характер моего начальника.
Но дело разрешилось благополучно само собой: в день праздника я получил телеграмму от государя с повелением объявить корпусу прощение и забвение прошлого. Я хотел бы сказать, что «сердце царево смягчилось», но это было бы не точно, так как мягкому смягчаться не надо, а если и смягчилось что, то сердце государыни, которое могло быть и не мягким…
* * *
С целью образования военных врачей для армии существовала Императорская военно-медицинская академия, при таком своем титуле далеко не монархического направления. Внутренний порядок в ней сложился под влиянием либеральных течений настолько, что не начальство и профессора чувствовали себя хозяевами, а «студенты» академии, то есть слушатели, считали господ учащих гостями.
В этом отношении ни дисциплины, ни надлежащего порядка в академии не было издавна. Возникали нередко беспорядки, много молодежи поплатилось из-за этого, а главное – страдало дело. Все это знали, об этом постоянно говорили, но дело не налаживалось. На лекции и практические занятия, подражая студентам университета, исправно являлись только любители науки. Вне академии студенты ухитрялись одеваться так, что, не соблюдая вполне установленной формы одежды, с некоторыми лишь признаками принадлежности к военному ведомству, бросались в глаза оригинальностью костюмов. Это вызывало протесты и заявления войскового начальства о непристойности подобного положения.
Когда же начальство Петербургского военного округа обратило внимание на правильное отдание чести не только нижних чинов офицерам, но и всех чинов вообще друг другу, то стали возникать недоразумения между офицерами гарнизона и студентами академии, этих распоряжений не признававшими.
Обострившееся положение завершилось тем, что один из офицеров вынужден был обнажить оружие и отсек студенту часть черепа. Командир же гвардейского корпуса заявил, что возбуждение офицеров до того сильно, что можно ожидать и впредь крупных недоразумений. В свою очередь студенты устроили сходку, вследствие чего возникли беспорядки, которые надо было немедленно прекратить.
Я доложил об этом государю, но это ему было известно и от петербургского начальства. Его величество был очень недоволен и повелел мне принять энергичные меры не только для прекращения беспорядков сейчас, но и для прочного установления порядка впредь.
Академию пришлось закрыть и уволить всех обучавшихся в ней. Затем в спешном порядке выработать положение, которое установило бы внутренний порядок, тождественный таковому в остальных военных академиях.
Вместе с тем в положении о Государственной думе и в основных законах о власти монарха ясно и определенно значится, что те изменения в известных положениях учреждений, которые не вызывают новых расходов от казны, могут быть проведены в жизнь непосредственным указом верховного вождя русской армии. Ввиду этого быстро все было изготовлено, тем более что и раньше вопрос уже разбирался как конференцией академии, так и Главным военно-санитарным управлением, поэтому необходимые данные имелись под рукой.
В моем присутствии главный военно-санитарный инспектор Евдокимов доложил проект нового положения государю. Требовалась лишь подпись указа его величеством.
Указ был подписан. На основании нового положения академия была подчинена главному военно-медицинскому инспектору и поступила под команду высшей инстанции, знающей санитарные требования войск, а в силу этого имеющей возможность направлять образование врачей в интересах войсковых частей и к предстоящей деятельности давать слушателям соответственную подготовку. На основании нового положения предложено было поступить всем уволенным, кто пожелает подчиниться установленным правилам, на что многие изъявили согласие и были приняты. Собрав затем господ профессоров, я предложил им быть хозяевами их аудиторий, а новым «слушателям» академии усвоить себе, что они теперь на действительной военной службе и «студентов» у нас нет, а кому это не подходит – никого неволить не будем.
* * *
История эта имела чрезвычайно неприятные последствия. Против моего проекта, утвержденного государем, были возражения в Сенате, согласие которого на опубликование придавало бы ему законную силу.
Когда стали собирать голоса, то оказалось, что за опубликование две трети сенаторов; от голоса председателя зависело решение вопроса. Я сидел рядом с председателем, и он мне заявил, что, к сожалению, должен подать голос против опубликования, что таков обычай, установившийся в Сенате. На это я ему объяснил, что мне велено после заседания доложить его величеству результат и я вынужден буду рассказать все, как было, то есть что два военных сенатора, генералы Рыдзевский и Чарторижский, высказались против и что все-таки голос председателя был бы решающим. После некоторого колебания он подписал направо, и сенатская оппозиция государю провалилась.
Все это пришлось доложить его величеству, который пожелал узнать подробности. В особенности его возмутило поведение генералов, не по заслугам попавших в сенаторы и высказавшихся против воли верховного вождя армии, который согласился на их определение в Сенат исключительно в силу ходатайства и настояния великих князей.
– Этого оставить так без последствий я не могу. Хороши генералы! – сказал государь, видимо, раздраженный.
На это я доложил, что они как сенаторы не считают, вероятно, себя уже военными и что, по-моему, сенаторский мундир был бы им более к лицу.
– Совершенно верно, – согласился государь, но затем спохватился и нашел, что это будет большой скандал.
Я на это доложил, что со своей стороны они не подумали о таком скандале, как публичное непризнание воли государя, но его величество мне сказал, что переговорит об этом с министром юстиции, которому Сенат подчиняется.
И. Г. Щегловитов после того мне передавал, что государь, говоря ему о моем докладе и находя мое мнение о снятии мундиров наказанием слишком жестоким, а вернее, предвидя жалобы и ходатайства великих князей, повелел объявить генералам выговор.
Таким образом, вместе с увеличением объема деятельности Главного военно-медицинского управления – в видах улучшения и развития военно-ветеринарного дела – надо было выделить его в особое, самостоятельное ведомство. В составе медицинского управления оно прозябало в виде небольшого отдела. Как неудовлетворительно поставлена была в войсках ветеринарная помощь, можно судить по штатам, определяющим на кавалерийский полк, то есть на тысячу лошадей, всего одного врача. Казачьим полкам, между прочим, совсем такового не полагалось.
Конский состав армии представлял из себя такое ценное имущество, что забота о сохранении этого богатства заслуживала большего внимания. Тогда я доложил государю, что прежде всего необходимо выделить в самостоятельное управление ветеринарную часть и затем во всех полках нашей конницы ввести в штат старшего и младшего ветеринарных врачей. Государь без малейшего колебания эти предложения мои утвердил и приказал приступить к проведению их в жизнь, что и было исполнено.
Когда я докладывал об этом государю, то его величество озадачил меня вопросом: «Странно, как на это до сих пор не обращено было внимания. Чем это объяснить? Ведь я сам знаю, какой переполох поднимался каждый раз, когда появлялся сап, инфлюэнца. Спасибо Александру Петровичу Ольденбургскому, хоть он в роли любителя занялся этим делом».
С принцем Александром Петровичем Ольденбургским тяжело было иметь дело, многие его совсем не понимали, но по существу все помыслы, все начинания принца зиждились на органической потребности «творить благо».
К прискорбию, желание творить не всегда совмещается с умением и способностью проведения в жизнь задуманного. Этот дефект был именно у Александра Петровича, вдобавок к бьющей у него всегда ключом энергии. То, что при подобной комбинации получалось на деле, было иногда комично и укрепило за ним название «Сумбур-паши». Оно характерно подходило к нему, потому что у себя во дворце он часто ходил в шапочке, напоминающей феску, а когда принимался лично водворять порядок в каком-нибудь деле, то набрасывался с таким азартом, что на первых порах возникал именно сумбур…
* * *
После несчастной японской войны наш корпус офицеров «в авантаже не обретался», как говорили в доброе старое время.
Много дельных (лучших) офицеров старой армии, отправившихся добровольно из всех гарнизонов на защиту отечества, или пали на полях сражений Маньчжурии, или вернулись больными и калеками. На родине они застали развал и гражданскую войну. Сохранившаяся после японской войны в армии система безответственности, в особенности захватным правом присвоенное великими князьями вмешательство в дела армии и флота, при личной безответственности в качестве членов царствующего дома, да к тому же присоединившиеся интриги в Государственной думе против военного ведомства, – все это не могло способствовать поднятию в обществе воинского престижа и звания.
Это упадочное состояние, дошедшее даже до того, что число кадетов в корпусах катастрофически понизилось вследствие усилившегося поступления молодежи в гражданские заведения, объяснялось известными хозяйственными переменами во всей стране. Министр финансов наделил своих чиновников, в особенности тех, которые имели дело с пошлинами и винной монополией, прекрасными окладами, что давало ему возможность набрать наилучших кандидатов. Железнодорожное ведомство точно так же блестяще обустроило своих служащих. Вследствие этого среди молодежи зародился сильный интерес к техническому призванию, что при начавшемся индустриальном развитии России обещало хорошие результаты в будущем.
Наряду с этим в высших учебных заведениях господствовал дух неподчинения, как я уже об этом говорил, и от этого не застрахованы были и военные школы.
К тому же находились ненаходчивые и нервные начальники, которые склонны были из мухи делать слона. Только одна энергичная, непреклонная и сознательная воля могла бы найти выход из такого положения…
Труднее всего было справиться с артиллерийским ведомством. Главное артиллерийское управление находилось в цепких руках великого князя Сергея Михайловича. Его именем прикрывались явные злоупотребления, от которых, в первую очередь, страдало изготовление вооружения. Согласен был и государь, что великому князю не следовало бы стоять так близко к столь ответственному делу. Но при сложившихся условиях это было легче решить, чем привести в исполнение…
Когда я принимал должность военного министра, со всех сторон только и приходилось мне слышать о том, что Главное артиллерийское управление – самое слабое место в военном ведомстве и что в нем глубокие корни пустило взяточничество. Знал об этом и государь, высказавший мне однажды, что такого же мнения об этом учреждении держался и покойный император Александр III.
Но, к сожалению, вследствие руководства этим управлением великого князя Сергея Михайловича, оно оказалось, по остроумному выражению генерала Поливанова, «настолько забронированным, что его нельзя было пробить никаким бронебойным снарядом».
При обозрении Пермского завода, который планировалось приспособить для отечественного производства пушек соответствующего типа, я натолкнулся на почти изготовленное 11-дюймовое орудие. Полтора года ожидало оно окончательного завершения единственно лишь вследствие задержки ответа из Петербурга по поводу явной ошибки в чертеже затвора. Когда же по возвращении я заехал в Главное артиллерийское управление и учинил разнос за такую канцелярскую волокиту и небрежность, вызвавшую увольнение с завода опытных мастеров, то его высочество не упустил случая сейчас же сочинить грязную инсинуацию по поводу моей поездки на этот завод, объясняя ее единственно стремлением к увеличению отпуска мне прогонных денег от казны.
Сам же великий князь проявлял к заводу Шнейдера-Крезо настолько необъяснимое, с точки зрения государственных интересов, пристрастие, что всякое внимание к предложениям других фирм вызывало у него какую-то ревность и даже намеки на материальную заинтересованность. Таким образом, получался какой-то заколдованный круг, в смысле проявления со стороны непосредственного руководителя артиллерийским ведомством Сергея Михайловича решительной оппозиции против возникновения у нас внутри страны нового, частного, мощного артиллерийского завода, по примеру крупных европейских государств.
На какие неприемлемые, с точки зрения служебной этики, приемы способен был Сергей Михайлович, можно судить по следующему эпизоду. Заказы Шнейдеру исполнялись и через Путиловский завод, которому вновь возникший завод в Царицыне являлся конкурентом. Когда зашла речь о реквизиции станков на частных заводах, то великий князь Сергей Михайлович, без моего ведома, возбудил вопрос об отобрании станков царицынского завода, который исполнял уже заказы морского ведомства.
Когда мне стало это известно, я потребовал объяснений, так как нельзя было допустить, чтобы чины сухопутного ведомства, по своим личным соображениям, затрагивали интересы морского ведомства. Возникшая по этому поводу переписка наглядно свидетельствует, к какой изворотливости пришлось прибегать великому князю, чтобы свести это дело на нет. При этом великий князь Сергей Михайлович пытался объяснить заступничество за царицынский завод якобы личной моей заинтересованностью в делах означенного общества.
Глава XXVI. Результаты моих работ по преобразованиям
Мои преобразования армии с 1909 по 1914 год в сущности были осуществлением идей, которые теоретическим изучением и практическим опытом созревали в течение более тридцати лет. Военная академия, балканская кампания, преподаватель военной истории и тактики в тесной, совместной работе с Драгомировым, командир полка на прусской границе, начальник дивизии у Драгомирова, начальник штаба и помощник Драгомирова в Киеве, командующий войсками на юго-западном фронте во время из ряда вон выходящего тяжелого положения в течение японской войны и после нее – вот те условия, среди которых я изучал нужды русской армии. Как кавалерист я в сердце своем таил убеждение, что атака – наилучшее средство обороны. За время двадцатилетнего духовного общения с таким крупным активным стратегом и войсковым воспитателем, как Драгомиров, во мне должно было неминуемо выработаться по отношению к русской армии стремление, выражаясь технически, чисто оборонительные вооруженные силы, какими они именно были еще в 1909 году, преобразовать в мощную наступательную боевую рать первого разряда. Турецкая кампания и война в Маньчжурии со своей стороны подтвердили, что суворовский взгляд: «победа находится на острие штыка» – непреложная истина не только для тактического воспитания войсковых частей, но и для стратегического применения армии в деле всего ее строительства. Она и должна была иметь это применение в отношении усовершенствования русской военной техники, если, с точки зрения всемирной политики, нельзя было советовать оставаться больше на арьергардной позиции. Россия вынуждена была во что бы то ни стало отказаться от татарского принципа – отступать в степи…
Особенность нашего обширного русского государства заключается в том, что, несмотря на громадное протяжение морского побережья, на двух континентах и на площади 1/6 части всего земного шара, Россия не подвержена нападению на нее с моря. В силу этого все внимание могло быть обращено на сухопутную границу. После японской войны у нас было три крупных фронта: западный, юго-восточный и южноазиатский, – с тремя главными политическими противниками: Габсбургом, Альбионом и Японией. В любое время кто-нибудь из этих недругов мог самостоятельно или рука об руку с каким-нибудь другим союзником (а то так и все они вместе) выступить против России. Теоретически это было вполне возможно. Считаться надо было с худшим случаем, а не с наиболее для нас благоприятным, чтобы в один прекрасный день не очутиться в положении того ротного командира на смотру у Драгомирова, которому пришлось скомандовать: «На молитву – шапки долой!»
* * *
В течение многих лет не совсем ясно, а с 1903 года совершенно определенно выяснилась для меня вероятность столкновения с Габсбургской монархией. В 1909, а тем более в 1912 году я убедился, что в случае этого столкновения Германия станет на сторону Габсбургов. Таким образом, при полнейшей моей аполитичности передо мною ясно обрисовалась вероятность, с которой надо было считаться поддержанием нашей боевой готовности. Следовательно, масштаб для оборудования наших вооруженных сил должен был отвечать боевой готовности не австро-венгерской армии, а германской. Поэтому исходным пунктом всех моих мероприятий была цель добиться создания русской армии, равносильной германской.
На практике достижение этой моей цели сводилось к следующим главным задачам:
1. Устранить преимущество германской армии в быстроте готовности к выступлению в поход, каковая в нашей армии отставала еще в 1905 году на три недели.
2. Использовать все успехи техники для армии.
3. Восстановить воинский дух армии, потерянный на маньчжурских полях сражения.
4. Установить прочные начала довольствия армии и снабжения ее затем в походе.
Вокруг этих основных исходных пунктов группировались побочные задачи, разрешение которых зависело от ближайшей или более отдаленной возможности.
К 1913 году, как я уже сказал, была построена большая рама, в которую отвечающая громадным размерам России русская армия в течение одного десятилетия могла бы уместиться. Аппарат для управления такой армией уже был готов. Если бы затем удалось постепенно молодые поколения воспрявшей армии, ее состав офицеров и чиновников поднять на должную высоту, отвечающую размерам задач армии, и покончить с элементарными понятиями минувшего времени устранением исключительного положения великих князей, – тогда бы государь и его дипломатия могли рассчитывать на то, что по истечении немногих лет у него в руках был бы инструмент, годный как для соперничества с лучшими армиями мира, так и для того, чтобы придать силу миролюбию царя, в которой он нуждался.
Выражалась эта годность аппарата в сокращении времени, нужного для приведения армии в походную готовность.
Более крупным реформам были подчинены также и подготовительные оперативные работы. Так, например, Главным управлением Генерального штаба, в связи с мобилизационным расписанием 1910 года, выработаны были новые операционные линии на случай войны на Западе. Наши оперативные планы на западной границе были, как уже указано, предусмотрены главными основаниями нашего союзного договора с Францией.
Весьма энергично велись работы по сокращению промежутка времени между приказом о мобилизации и выступлением в поход.
В 1912 году подготовительные к мобилизации работы были настолько подвинуты вперед, что можно было объявить следующее высочайшее распоряжение: «Приказ, переданный по телеграфу о мобилизации в европейских военных кругах, равносилен приказу об открытии враждебных действий по отношению к Германии и Австрии. Что же касается Румынии, то они открываются только по непосредственному приказу…»
В этом повелении отражается тесная связь наступления армии с политической обстановкой, а также и та последовательность, в которой работало Военное министерство или, вернее, Генеральный штаб. Если означенное повеление затем было отменено, то произошло это из опасения государя предоставить решающее слово военному начальнику в то время, когда в последние минуты дипломатии, быть может, удалось бы еще найти выход и избегнуть катастрофы. Технически мы сделали эту уступку дипломатии введением в марте 1913 года подготовительного к войне периода.
Он мог касаться таких мер, которые не нарушали бы нормального хода повседневной жизни. Главным образом это была основательная проверка всех приготовлений к мобилизации, приведение в должный порядок материальной части, боевого снаряжения и всего походного снабжения войск в самый кратчайший срок. Для выполнения всего этого отдельные части войск должны были покинуть лагери, маневры и возвратиться на постоянные квартиры. Увольнение в отпуск офицеров, кроме исключительных случаев, было ограничено. На время подготовительного к войне периода также принимались меры по охране железных дорог и границ, вводилась военная цензура.
С действующим мобилизационным расписанием и его планом перевозки войск все эти подготовительные работы никакой связи не имели.
Насколько подобная идея оправдалась, легко судить по результатам, которые наша армия могла учесть при начале всемирной войны на Галицийском фронте и при вторжении немцев из Восточной Пруссии в Сувалкскую и Ломжинскую губернии. Все прямые и косвенные меры для ускорения нашей мобилизации и наступления вполне оправдались. Наши противники не ожидали, что русская армия так быстро и в таком порядке будет мобилизована, сосредоточена и развернута.
Уничтожение австрийской армии на Люблинском фронте может служить неопровержимым доказательством, что наша армия уже 7 августа свое развертывание закончила и перешла в наступление. Австрийцы свой стратегический план построили на том, что наша армия лишь к 20 августа будет мобилизована и готова к наступлению.
Совершенно против моей воли пришлось ввести так называемую частичную мобилизацию. Это, во всяком случае, и полумера как таковая, поэтому заранее обречена на неудачу. Если бы мы частичную мобилизацию подготавливали против Персии, Афганистана или Тибета, то это еще имело бы хоть какой-нибудь смысл. Не совсем логичным представлялось мне применение частичной мобилизации против Турции или Румынии, потому что более чем за десять лет до моего вступления в должность вмешательство России в дела какого-либо балканского государства угрожало европейской войной. Полнейшим заблуждением и азартной игрой вместе с тем была предусмотренная против Австро-Венгрии частичная мобилизация, раз Германия далеко недвусмысленно и повторно высказалась в пользу своей союзницы, за которую и будет стоять.
Дипломатия должна была составить себе ясное представление о политическом положении, чтобы быть уверенной в том, что именно витающий в воздухе конфликт будет обязательно разрешен на твердо установленном театре военных действий. Только в таком случае частичная мобилизация могла найти свое оправдание, не являясь козырем в руках тайного врага. Но перед всемирной войной каждый такой незначительный конфликт где-нибудь на отдаленном побережье носил в себе зародыш мировой катастрофы. Поэтому всякая мысль о частичной мобилизации должна была быть во что бы то ни стало отброшена. Это для меня было совершенно ясно еще со времени японской войны. Надо представить себе картину частичной мобилизации в нашей стране.
Пока происходит перевозка войск частичной мобилизации, возможность перевозок эшелонов общей мобилизации исключается.
Достаточно остановиться на одном этом моменте, чтобы показать, в какой невероятно слабой стадии находилось бы наше политическое и военное положение в период частичной мобилизации.
От времени серьезного строительства, когда я жил всеми этими вопросами, счастливый и гордый достигнутым успехом, от тогдашней самоуверенности, появляющейся, когда посеянные семена начинают всходить, растут, бурями не тронутые, плоды цветут и созревают, и видишь, как они крепнут, меня отделяют девять лет. И если я сегодня поставлю себе вопрос, при моей настоящей осведомленности, – многое ли я из мною сделанного тогда изменил бы теперь и сделал иначе, – я отвечу категорически: нет!
Моя работа логически развивалась из сложившихся обстоятельств, была свободна от вредного честолюбия, каких-либо эгоистических побуждений. Вспоминаю, как тяжело мне было покинуть Киев, чтобы перебраться в Петербург, как трудно было мне освоиться с новой обстановкой в должности начальника Генерального штаба и, в первые годы, военного министра среди интриг столицы, до какой степени тянуло меня обратно в Киев, чтобы там, сидя на месте, отеческими заботами залечивать раны войны и революции. Вспоминаю, как благотворно влияла на меня Екатерина Викторовна, на которой я скоро должен был жениться, и как жизнь в Киеве, в роли генерал-губернатора, – в то время мне было за 60 лет, – предоставляла все блага жизни и все то, что только личному эгоизму было бы желательно. Разбираясь далее в этом вопросе, я сознаю, какой ущерб в духовном и материальном отношениях я причинил себе, отказавшись от крупного оклада командующего войсками и генерал-губернатора, а также от литературной деятельности, которую в Киеве я имел возможность продолжать. Все это служит мне подтверждением, до какой степени были серьезны все фактические доводы, с которыми государь побудил меня погрузиться в петербургский водоворот. То были побуждения солдата и чувства патриота, вновь возродившиеся, подбодряемые доверием царя и положением России в общем европейском концерте, которые привели мое решение к исполнению. Раз я решился взяться за эту задачу, само дело стало уже вопросом моего самолюбия: с тем прекрасным материалом, какой давал русский народ, я стремился создать первую, наилучшую армию на всем земном шаре. Этого честолюбия я не стыжусь, так как оно всецело шло на пользу нашей родины и всецело зиждилось на реальной почве.
В общем я поступал правильно: при сложившихся основных условиях избранный мной путь вел к намеченной цели.
Другой вопрос: должен ли я был желать иметь возможность поступать иначе, нежели я поступил? На это я могу смело ответить: да!
Главного условия для спасения России как военный министр я создать не мог: устранение влияния на управление государством членов царской фамилии… Это влияние мне удалось парализовать лишь отчасти, временно и в недостаточной степени – в моем собственном ведомстве и за свой личный счет. Этой борьбе против великих князей, с их дилетантизмом и безответственностью, при больших претензиях, я обязан прежде всего всем тем, что на меня свалилось после 1914 года. Могу ли я винить себя в том, что не мог создать этих главных условий для оздоровления государственного организма? Я ссылаюсь на Куропаткина, Витте, Государственную думу и революционное движение – все они не смогли побороть исторически сложившиеся факты, так как царь, у которого я был прежде всего слугою, лично отстаивал позицию великих князей. Даже бесцеремонное хозяйничанье в морском ведомстве дяди государя, великого князя Алексея Александровича, не могло открыть глаза царю на то, какой вред наносила безответственность великих князей. Почти ни один из них не был подготовлен и воспитан для какой-либо серьезной обязанности. Общее образование большинства из них, несмотря на хорошее знание иностранных языков, находилось ниже уровня средней школы.
В характере большинства из них были признаки дегенерации, у многих умственные способности настолько ограничены, что если бы им пришлось вести борьбу за существование как простым смертным, то они бы ее не выдержали. Эти непригодные для дела великие князья, подстрекаемые окружающими их людьми или женами, присваивали себе право вмешиваться в дела правительства и управлений, а в особенности – армии. В этом я ничего изменить не мог, хотя мне и удалось того или иного из великих князей удалить с занимаемых ими постов. Это были самые умные и благородные из них, которые на мое объяснение приносимого ими вреда там, где они думали быть полезными, просто уходили. С ними я остался в дружеских отношениях и вспоминаю о них с большим уважением. Но главных врагов армии, честолюбивого и грубого Николая Николаевича и Сергея Михайловича, я вытеснить не смог. Может быть, со временем мне и удалось бы это сделать, если бы мир продолжался еще несколько лет.
При моем вступлении в должность я не мог поставить условием государю удаление великого князя Николая Николаевича, которому еще в 1902 году обещано было главнокомандование армией на германском фронте. Совершенно так, как и в 1911 году, я не мог ставить условием сохранение мной должности военного министра, – если бы оно было направлено против великих князей. Это было бы объяснено и использовано как объявление войны всей царской фамилии.
В конце концов, немыслимо было добиться изменения регламента о членах императорской фамилии, которое привело бы к тому, чтобы великие князья были подчинены общим законам.
Тут были препятствия и опасность, под угрозой которых мне приходилось работать во время переустройства и восстановления армии.
За спину великих князей прятался каждый, критиковавший мои мероприятия, и таких было много, если только не все пострадавшие при моей очистительной работе. К великим князьям обращались не только чины подведомственных мне управлений, но и мои подчиненные. Великим князьям министр финансов Коковцов жертвовал миллионы, в то время как военный министр должен был буквально выпрашивать копейки. Пресса, ползавшая перед великими князьями, – в отношении высших государственных должностных лиц радушно предоставляла свои столбцы клевете на последних. Подводя итог вредной деятельности великих князей и в первую очередь великого князя Николая Николаевича, я могу сказать: они внесли политику в армию, причем Военное министерство, а затем Генеральный штаб, как перед этим армию, заразили тоже политикой. Армии угрожала, таким образом, политика с двух сторон: снизу – вследствие недовольства в народе и агитаций, с этим связанных, и сверху – великие князья, хотя и не объединившиеся в какую-либо партию, но тем не менее действовавшие партийно, когда подводили свои мины под министра, высшее военное начальство или высоких сановников.
Трудно себе представить, что предстояло царскому дому и вместе с ним всей России, какая готовилась участь, если бы вместо Горемыкина, дипломатов Извольского и Сазонова стоял бы у дела такой государственный человек, как Столыпин… Еще два года мира, и Россия со своими 180 миллионами душ имела бы такую мощную армию по количеству, образованию и снабжению, что была бы в состоянии в своих интересах давать направление решению всех политических вопросов европейского материка.
2 Чтобы местных китайских жителей отличать от китайцев, прибывавших из Китая в Приамурскую область, наша остроумная власть придумала своего рода бандероль: рука обвязывалась бечевкой, закрепляемой оловянной пломбой.
Часть девятая. Крушение (1915)
Глава XXVII. Возникновение мировой войны и ее последствия
В июле 1914 года с моей женой, только что вернувшейся из Египта, мы были приглашены графиней Клейнмихель на ее прелестную дачу. Австро-сербский конфликт как раз в это время достиг своего апогея, и потому вполне понятно, что говорили о политическом положении, тем более что вообще существовало мнение, будто графиня, когда дело касалось Германии, не ограничивалась одними салонными разговорами, а активно принимала участие в дипломатических делах.
В числе гостей графини находился дипломат, который, насколько помню, не был представителем одной из великих держав.
По его мнению, австро-сербский конфликт разрешится сам собой, для войны нет никакого серьезного повода. Великие державы имеют достаточно средств, чтобы потушить эту искру. Все мы тогда думали, что это действительно так и будет. Графиня же считала нужным высказать по этому поводу свое мнение, что не следует играть с огнем и нельзя натягивать струны дипломатического инструмента до такой степени, чтобы они лопнули.
Вскоре после обеда первый приехавший гость сообщил, что, по полученным из Вены известиям, Дунайская монархия ищет несомненно насильственного разрыва с Сербией. На этот раз графиня была права.
Разгар лагерного сезона начинался, когда государь первый раз приезжал в Красное Село, что сопровождалось объездом лагерного расположения, зорей с церемонией и спектаклем в Красносельском театре.
В этот день приезжала масса нарядной публики из Петербурга и дачных мест, лица дипломатического корпуса, военные агенты. Все это стекалось с разных сторон и различными способами передвижения; по железной дороге и по прекрасным, совершенно прямолинейным шоссе – из Петергофа, Ораниенбаума, Стрельны, Сергиевской Пустыни, Лигова, Царского Села, Гатчины неслись автомобили, тройки и более скромные запряжки.
В автомобиле прибывал из Петергофа государь. У Летнего дворца, в Коломенской слободе, встречал его почетный караул от какой-нибудь шефской части петербургского гарнизона или прибывшей из другого округа. Отпустив караул, его величество садился на коня и с блестящей свитой объезжал выстроенные, без оружия, шпалерами войска, сперва по Красному Селу, преимущественно конницу, а затем вдоль авангардного и Большого лагеря – пехоту и артиллерию.
По окончании объезда, на правом фланге большого лагеря, в районе расположения 1-й гвардейской пехотной дивизии, где находилась царская ставка, состоящая из парусиновых шатров, и собраны были хоры музыки всех полков, происходила парадная зоря с церемонией. Там, в царской ставке, собиралась блестящая публика. В оживленной беседе обменивались новостями, слухами, более или менее пикантными сплетнями частного и политического свойства. То был именно «весь Петербург», живший под влиянием чудовищного возбуждения нервов 1914 года и отлично себя при этом чувствовавший. Материала для разговора было достаточно. Очевидно, вызывающее поведение австрийцев, морское путешествие Пуанкаре в Петербург, поездка немецкого императора в Норвегию и волнения печати по поводу возможности возникновения войны – все это давало повод к различнейшим догадкам.
Оптимистов было мало. Но едва ли кто-нибудь из присутствующих предчувствовал, что это последняя «зоря с церемонией» в жизни русской армии и ее державного верховного вождя. Все присматривались к государю, пытаясь уловить его настроение, но его величество был спокоен и любезно разговаривал со всеми его окружающими. Ко мне подошел граф Апраксин и обратил мое внимание на принца Гогенлоэ, австрийского военного агента, расстроенный и удрученный вид которого действительно бросался в глаза.
Относясь совершенно безучастно к тому, что происходило, он стоял одиноко в стороне; согнутая правая рука его прикасалась к дереву, и к ней он прислонился головой. Ни к кому не подходя и ни с кем не разговаривая, он имел вид человека или больного, или озабоченного до потери самообладания.
Хоры в это время оканчивали музыкальные номера по программе, не обращая внимания на душевное состояние слушателей; дежурный по караулам явился к государю и испросил его разрешения подать повестку.
Вышли горнист и барабанщик, пробили повестку, хоры сыграли последнюю пьесу, и взвились, одна за другой, три ракеты – сигнал начала зори. Раздались залпы в парках расположения артиллерийских частей, и совместно со всеми барабанщиками и горнистами хоры музыки проиграли традиционную парадную зорю и «Коль славен».
После ее окончания скомандовали: «На молитву – шапки долой!», и штаб-горнист, выйдя на середину, став лицом к государю, внятно, отчетливо прочитал «Отче наш».
Во время этой молитвы, в тиши, окружавшей меня, я взглянул на государя: я был убежден, что «Бранный воевода» ему и в голову не приходил и что он никак не думал, что эта «зоря с церемонией» со своим кажущимся беззаботным великолепием заключит собою эпоху…
* * *
Над вопросом обоснования поводов к возникновению войны многие умные люди ломают свои головы. При моем искреннем стремлении как можно ближе подойти к правдивому выяснению этой ужасной катастрофы у меня опускаются руки.
Несмотря на высокое положение, которое я занимал в царской России, небольшая часть работы, приведшая к войне, происходила на моих глазах.
Эту именно деятельность я могу описать и хочу сделать это вне зависимости от прошлого и не щадя себя самого.
В начале 1914 года в русском Военном министерстве войны не ожидали. В Главном управлении Генерального штаба в конце зимы 1913–1914 годов расписания лагерных сборов составлялись, как обыкновенно: отдельные части отдаленных округов, в том числе и западного пограничного района, должны были прибыть в Красное Село. Как обыкновенно, в мае все войска покинули свои казармы, артиллерия приступила к практической стрельбе. В июле – готовились к проектированным еще зимой маневрам. Противоположно спокойствию в армии, в печати политический горизонт омрачался все более и более. Убийство наследника австрийского престола и австро-сербский конфликт являлись отдаленными сверканиями молний; путешествие французского президента в Петербург – сгущением грозовых туч над Невой; господствовала невыносимая, давящая духота!
После отъезда Пуанкаре 11 (24) июля, когда было получено известие об ультиматуме, предъявленном Австро-Венгрией Сербии, лагерные занятия в Красном Селе были в полном ходу. Под руководством великого князя Николая Николаевича находились войска гвардии и Петербургского военного округа, а равно и прибывшие некоторые шефские части других округов, не исключая пограничных.
Не совсем врасплох, но довольно неожиданно я получил предложение прибыть на заседание совета в Красное Село 25 июля, в разгар лагерного сбора.
Помню, что во время моей поездки на заседание я не испытывал никакого предчувствия относительно надвигающейся катастрофы. Я знал личное миролюбие царя и не получил никакого извещения о предмете предстоящего заседания. Поэтому я придавал поездке в Красное Село настолько малое значение, что поехал один, не взяв с собою ни начальника Генерального штаба, ни даже дежурного адъютанта: предметом совещания могло быть чисто военное дело Петербургского военного округа или что-либо касающееся лагерных сборов… В малом летнем дворце великого князя Николая Николаевича я встретил нескольких министров, включая министра иностранных дел, а также несколько высших чинов военного ведомства. Многие из них также ничего не знали о предмете предстоящего совещания, однако высказывали, ссылаясь на присутствие Сазонова, предположения, указывающие на политическое положение.
Государь вошел в зал заседания вместе с дядей. На нем была летняя форма одежды своего гусарского полка. Как всегда, приветливо улыбаясь и не показывая никакого душевного волнения, государь приветствовал присутствующих общим поклоном и без особых церемоний сел за стол. По его правую руку сел Горемыкин, по левую – великий князь.
Помещение, в котором мы собрались, было большой столовой, примитивно устроенной, с большими стеклянными дверьми, ведущими через балкон или веранду в парк. Посреди стоял большой, покрытый зеленой скатертью обеденный стол, за который мы, по знаку государя, сели. Против государя сидел Сазонов; я сидел рядом с министром финансов Барком. Морского министра я на заседании не видел.
Без всякого вступления государь предоставил слово министру иностранных дел, который нам в получасовой речи обрисовал положение, создавшееся вследствие австро-сербского конфликта для России. То, о чем Сазонов докладывал, было крупным обвинением австро-венгерской дипломатии. Все присутствовавшие получили впечатление, что дело идет о планомерном вызове, против которого государства Антанты, Франция и Англия, восстанут вместе с Россией, если последняя попытается не допустить насилия над славянским собратом. Сазонов сильно подействовал на наши воинские чувства. Он нам объявил, что непомерным требованиям можно противопоставить, после того как все дипломатические средства для достижения соглашения оказались бесплодными, только военную демонстрацию. Он заключил указанием на то, что наступил случай, когда русская дипломатия может посредством частичной мобилизации против Австрии поставить ее дипломатию на место. Технически это обозначало распоряжение о подготовительном к войне периоде. О вероятности или даже возможности войны не было речи.
Государь был совершенно спокоен. Впоследствии выяснилось, что накануне заседания у него было продолжительное собеседование с глазу на глаз с его дядей, великим князем Николаем Николаевичем, который молча сидел рядом с государем и, нервничая, курил. Для меня, в течение целого ряда лет имевшего случай наблюдать отношения этих двух высочайших особ, было совершенно ясно, что великий князь настроил государя уже заранее, без свидетелей, и говорить теперь в заседании ему не было никакой надобности.
Несмотря на то что Австрия явно закусила удила, у многих членов заседания была надежда на благополучный исход конфликта.
В заключительном слове государя была та же надежда, но он находил, что теперь уже требуется более или менее серьезная угроза. Австрия дошла до того, что не отвечает даже на наши дипломатические миролюбивые предложения. Поэтому царь признал целесообразным применить подготовленную именно на этот случай частичную мобилизацию, которая для Германии будет служить доказательством отсутствия с нашей стороны неприязненных действий по отношению к ней.
На этом основании и решено было предварительно объявить начало подготовительного к войне периода с 13 (26) июля. Если же и после этого не наступит улучшение в дальнейших дипломатических переговорах, то объявить частичную мобилизацию.
Моя роль при этом постановлении была, как уже сказано выше, весьма скромная. Как военный министр против такого решения – хода на шахматной доске большой политики – я не имел права протестовать, хотя бы он и угрожал войной, так как политика меня не касалась. Настолько же не моим делом военного министра было решительно удерживать государя от войны. Я был солдат и должен был повиноваться, если армия призывается для обороны отечества, а не вдаваться в рассуждения. Меня могли бы обвинить в трусости, если бы, пользуясь в роли военного министра в мирное время всеми преимуществами моего высокого военного положения, я предостерегал бы от войны в то время, когда вся вероятность и мое личное убеждение были за то, чтобы русская дипломатия не отступала перед притязаниями австро-венгерской, как это имело место еще в 1909 году. Ко всем таким соображениям, которые меня ни на минуту не смущали, в смысле трудности предстоящей задачи, присоединилось еще впечатление, которое у меня и представителей других ведомств сложилось после доклада представителя Министерства иностранных дел. Из этого следовало, что другого выхода, как объявление войны, не было, и каждое мое слово против войны было бы бесполезно.
Моим протестом 25 июля я бы только отрицал возможность применения вооруженного нейтралитета. В данном случае решение подлежало министру иностранных дел, а он требовал частичной мобилизации!.. В соответствии с этим намечены были отправные точки, несмотря на то что я был противником частичной мобилизации и такого своего мнения не скрывал. Моим делом было подготовить армию для шахматной игры Сазонова, следовательно, и в этом отдельном вопросе мне приходилось повиноваться.
Повторяю, было бы другое дело, если бы я в 1914 году оказался в положении Редигера в 1909 году. В 1914 году армия была настолько подготовлена, что, казалось, Россия имела право спокойно принять вызов. Никогда Россия не была так хорошо подготовлена к войне, как в 1914 году.
* * *
На основании решения, принятого на совещании, подготовительный период к войне начался на следующий день после заседания. Лагерные сборы были распущены, войска вернулись в свои гарнизоны или казармы.
После этого заседания 25–26 и 27 июля царя я больше не видел. То, что происходило в эти дни в Министерстве иностранных дел, до меня не доходило. От Сазонова я не получал никаких сведений.
Вследствие распространившихся в городе слухов о нашей мобилизации граф Пурталес прислал ко мне германского военного агента майора фон Эггелинга.
Я подробно ознакомил его с настоящим положением вещей, уверив, что повеления об общей мобилизации не было и что на германской границе никаких приготовлений для выступления в поход сделано не было. В войсках Петербургского гарнизона происходила поверка походного снаряжения, обоза, вооружения.
Так как л. – гв. Павловский полк с этой целью выкатил свои обозы на Марсово поле, то это дало повод для распространения слухов о выступлении в поход гвардии. Я поручил Янушкевичу переговорить со штабом Петербургского военного округа и распорядиться, чтобы избегали прибегать к таким демонстративным мерам, которые способствовали бы распространению ложных и тревожных слухов о якобы уже объявленной войне. На это Янушкевич доложил мне, что великий князь как главнокомандующий войсками округа таким вмешательством был бы обижен, тем более что подобные занятия не выходили из пределов мирных работ, при поверках мобилизационного имущества, на смотрах, испытаниях и т. д.
Тем не менее я просил исполнить мое приказание, но не знаю, в какой мере оно было исполнено, так как после того мне ничего доложено не было.
* * *
Порядок объявления мобилизации у нас был такой: государь подписывал указ, поступавший затем в Сенат. После того за подписью министров военного, морского и внутренних дел в округа рассылались телеграммы с обозначением первого дня начала мобилизации, когда на это получится высочайшее повеление. И только затем происходило то, что называется «нажатием кнопки».
Всей этой процедурой ведало специальное Главное управление Генерального штаба исключительно с технической стороны дела, лишь как продолжение политики, перехода от слов к делу. Политическая часть была целиком в руках министра иностранных дел, поэтому 15 (28) июля через него и передано было начальнику Генерального штаба высочайшее повеление об изготовлении двух указов: одного – о частичной мобилизации и другого – на случай общей мобилизации.
Все документы, касающиеся мобилизации, были, конечно, как и во всех современных армиях, уже заранее заготовлены. В зависимости от развития политического положения тот или другой подписанный государем, военным и морским министрами высочайший приказ лишь по личному повторному повелению приводился в исполнение. Этот предварительный приказ был таким образом особым положением застрахован от возможной пагубной предприимчивости военного министра.
Генералом Янушкевичем указы были представлены для подписи государю императору. Подписанные его величеством, они подлежали контрассигнированию Правительствующим сенатом, после чего поступали в портфель начальника Генерального штаба.
На основании этих указов в Главном управлении Генерального штаба были заготовлены соответствующие телеграммы, которые и были подписаны тремя министрами.
* * *
Во вторник 15 (28) июля я был с очередным докладом в Петергофе. По спокойствию, вернее, равнодушию, с каким государь выслушивал текущие дела, можно было бы думать, что нет ничего угрожающего мирной жизни России. Меня удивили сухость и сдержанность его величества во время моего доклада. Я не знал, чем это объяснить.
В тот же день, после того как я вернулся в Петербург, во второй половине дня генерал Янушкевич доложил мне о полученном им от Сазонова высочайшем повелении мобилизовать Киевский, Московский, Казанский и Одесский округа. Оказалось, что Шебеко, наш посол в Вене, телеграфировал о состоявшейся общей мобилизации австро-венгерских войск. Подобная частичная мобилизация для военного ведомства была нежелательна, так как по некоторым техническим условиям она могла вызвать затруднения и путаницу, если бы понадобилось после того объявить общую мобилизацию.
* * *
17 (30) июля состоялось заседание Совета министров в Мариинском дворце. Приподнятое настроение в столице отразилось и на нервах членов совета: едва не состоялась дуэль между Маклаковым и Кривошеиным! Главным предметом заседания было, конечно, обсуждение тех потребностей армии и флота, которые требовали немедленного удовлетворения, если бы нашей дипломатии не удалось избежать войны.
Из слов Сазонова было ясно, что поведение Австро-Венгрии вызывающе, и если наша угроза вооруженного нейтралитета, в виде частичной мобилизации южных наших округов, не подействует, то войны избежать будет трудно.
Я, конечно, обратил внимание совета на то опасное положение, в которое ставит нас частичная мобилизация.
Как у меня, так и у адмирала Григоровича были внесены на обсуждение Совета министров дела, не получившие движения и требовавшие крупных ассигнований для нужд по государственной обороне.
Приходилось считаться с закрытием границы. Между тем снаряды, патроны, ружья и прочие виды артиллерийского снабжения получались в большом количестве из-за границы. Необходимо было принять немедленные меры к изготовлению всего необходимого в своей стране. Частная же промышленность у нас для этого не была подготовлена; ограниченность кредитов военного ведомства не давала возможности прийти на помощь заводам в амортизации необходимых им для этого капиталов. Сидевший рядом со мной министр земледелия и государственных имуществ Кривошеин напомнил мне о препирательствах, которые у нас были с бывшим министром финансов в 1910 году. Коковцов заявил, что когда вспыхнет война, то для ее ведения потребуются деньги, деньги и еще раз деньги. На это я ему возражал, что деньгами стрелять в неприятеля будет нельзя и все скопленные денежные запасы заберет противник.
* * *
Что мы были накануне войны, о том не спорили даже самые ярые оптимисты. В Главном управлении Генерального штаба было особенно много самой спешной работы. Благодаря исключительному влиянию на государя великого князя Николая Николаевича, начальник Генерального штаба имел непосредственный доступ к царю. Точно так же и министр иностранных дел обсуждал вопросы с начальником Генерального штаба без моего ведома.
При таком образе действий нет ничего удивительного, что могли происходить крупные недоразумения. В тревожные дни, предшествовавшие разрыву с Германией, посол граф Пурталес старался предотвратить возможность мобилизации нашей армии. Он убеждал Сазонова, чтобы тот не допускал принятия каких-либо военных мер, которые могли только повредить дипломатической работе в деле мирного разрешения конфликта.
В решении дипломатических вопросов я участия не принимал. Николай Николаевич сумел оттеснить от государя всех неудобных для него советчиков, в том числе прежде всего меня. В те предвоенные дни царь находился полностью под влиянием своего дяди.
Если же теперь оказывается, что помимо меня начальник Генерального штаба собирался пустить в ход общую мобилизацию вместо частичной, то для меня эта новость – обстоятельство, искусно скрытое в свое время. Янушкевич был умный и осторожный человек – самостоятельно решиться на такое преступное дело он не мог.
Нет никакого сомнения, что им руководило лицо, имевшее такое исключительное влияние на государя, что Янушкевич ничем не рисковал.
В настоящее время выясняется, что 29 июля вместо решенной частичной мобилизации едва не объявили общую. За моей спиной пытались, очевидно, получить разрешение государя объявить общую мобилизацию.
По-видимому, Николай Николаевич вынудил у государя согласие на это. Но его величество затем вновь изменил свое повеление, получив телеграмму от императора Вильгельма. Передав в управление Генерального штаба это окончательное решение Николая II, генерал Янушкевич добавил, что государь принимает на себя всю ответственность за частичную мобилизацию.
* * *
Дальнейший ход событий принял характер большой скоротечности. Около полуночи с 16 (29) на 17 (30) июля государь император вызвал меня по телефону из Петергофа, вследствие полученной им телеграммы от императора Вильгельма. Государь передал мне содержание этой телеграммы. В ней Вильгельм просил его «прекратить» нашу частичную мобилизацию, но о прекращении таковой же в Австрии ничего не говорил и не обещал принять меры к тому, чтобы держава, первая приступившая к такому же образу действий, от этого отказалась.
Так как я несколько дней государя не видел, то этот разговор меня, понятно, поразил. За кулисами должен был находиться кто-нибудь, с кем государь советовался и в правильности советов которого Николай II, однако, усомнился. Если бы у него явилось самостоятельное решение исполнить желание Вильгельма, ему следовало отдать об этом прямое приказание – мобилизацию отменить.
Но государь, по-моему, на такой шаг не решался потому, что это не отвечало взглядам конфиденциального его советчика. Такое положение «между молотом и наковальнею» заставило его принять среднее решение: «Нельзя ли приостановить?»
По телефону мне пришлось доложить, что мобилизация не такой механизм, который можно было бы, как коляску, по желанию приостановить, а потом опять двинуть вперед. Что же касается отмены частичной мобилизации, то если бы последовало именно такое повеление, я со своей стороны считал долгом доложить, что после этого потребуется много времени, чтобы восстановить нормальное исходное положение для новой мобилизации четырех южных округов.
Я просил государя, ввиду важности вопроса, потребовать еще доклад начальника Генерального штаба по этому вопросу. На этом наш разговор прекратился.
Через некоторое время мне позвонил генерал Янушкевич и доложил о разговоре с государем, причем его ответ совпадал с тем, что и я докладывал государю.
А так как ни Янушкевич, ни я, таким образом, повеления о прекращении нашей частичной мобилизации не получили, то никаких распоряжений делать не имели права. Частичная мобилизации против Австро-Венгрии решена была не одним государем самостоятельно, для этого он созвал совещание в Красном Селе 12 (25) июля. При таких условиях, помимо министра иностранных дел, Николай II, очевидно, не мог решиться отменить свое повеление.
В данном случае решение вопроса находилось в руках руководителей политики и тех закулисных сил, контроль которых был для меня недоступен.
* * *
Утром 17 (30) июля я просил разрешения прибыть с докладом к его величеству, но ответа не получил. Был ли государь так занят, что в подобную критическую минуту не мог принять с докладом военного министра? А между часом и двумя пополудни генерал Янушкевич по телефону доложил мне о том, что Сазонов передал ему высочайшее повеление объявить общую мобилизацию армии и флота. Такое решение последовало вследствие полученных из Берлина последних сведений. Об этом докладывал мне Янушкевич не позже двух часов пополудни, а от нашего посла Свербеева могла быть получена телеграмма только вечером 17 (30) июля.
* * *
Войны избежать не удалось. Так как Николай II решил сам стать во главе действующей армии, то ввиду предстоящего отъезда на фронт состоялось заседание Совета министров под председательством самого государя в Петергофе, на так называемой «ферме». В сущности это был небольшой павильон в парке, всего одна зала с небольшими пристройками примитивного фасона и незатейливой меблировкой.
Посреди зала находился стол настолько большого размера, что вокруг него могло поместиться 20–25 человек. Вся мебель была чуть ли не екатерининских времен. На стенах висели старинные гравюры с изображением охоты, древних замков, портретами XVII века с изображением лиц в напудренных париках, жабо, с отложными широкими кружевными воротниками…
На эту ферму государь пришел пешком, совершенно один и без оружия.
В настоящее время, по истечении девяти лет с того дня, когда решался вопрос большого исторического значения, а именно: станет ли государь во главе действующей армии, есть уже данные, позволяющие в этом разобраться. Но интересно выяснить, насколько я виноват в том, что настойчиво, энергично не пошел против всех остальных членов совещания и категорически не заявил, что государь не должен менять своего решения выступить в поход вместе со своими войсками.
После заявления государя о том, что, предполагая стать во главе армии, выступающей в поход, он желал бы дать Совету министров некоторые полномочия для окончательного решения дел в его отсутствие, во избежание всяких проволочек и задержек с бюрократической точки зрения, его величество предложил председателю Совета министров Горемыкину высказать свое мнение.
Старик премьер-министр чуть ли не со слезами на глазах просил государя не покидать столицу ввиду политических условий, создавшихся в стране, и той опасности, которая угрожает государству, из-за отсутствия его главы в столице в критическое для России время. Речь эта была трогательна и, видимо, произвела на государя большое впечатление.
К ней горячо присоединился министр земледелия и государственных имуществ Кривошеин, энергично высказавшийся за то, чтобы государь оставался в центре всей административно-государственной машины. Он излагал свои доводы с таким пафосом, что его речь, казалось, производила на государя тоже сильное впечатление.
Затем министр юстиции Щегловитов, опытный профессор, в своих спокойных доводах, основанных на исторических данных, сославшись на Петра Великого и обстановку прутского похода того времени, увлек всех нас своим убежденным докладом о том, почему государю необходимо оставаться у руля правления.
После него решительно все остальные члены заседания высказались в том же смысле, и очередь дошла до меня.
Обращаясь в мою сторону, его величество сказал:
– Посмотрим, что на это скажет наш военный министр?
– Как военный министр, – доложил я на это, – скажу, конечно, что армия счастлива будет видеть верховного своего вождя в ее рядах, тем более что я давно знаю это непреклонное желание его величества; в этом смысле формируется штаб и составляется положение о полевом управлении. Но я как член совета сейчас остаюсь в одиночестве, и такое единодушное мнение моих товарищей не дает мне нравственного права идти одному против всех.
– Значит, и военный министр против меня, – заключил государь и на отъезде в армию больше не настаивал…
Вскоре я поехал в Петергоф с очередным докладом и, когда вошел в кабинет государя, то он встретил меня словами:
– И вы пошли против меня, – так я теперь назначаю вас Верховным главнокомандующим.
Я никак не ожидал ничего подобного, а потому и просил разрешения вопрос этот обдумать вслух при его величестве. Прежде всего какое это произведет впечатление на общественное мнение?
В решениях организационных вопросов я проводил принцип устойчивых назначений, чтобы с выступлением в поход не приходилось перемещать начальствующих, не расстраивать установившегося порядка и не прибегать к импровизациям, в которых люди, не зная друг друга, не работая совместно в мирное время, не могут работать успешно в походе. А когда дело коснулось меня, то военный министр изменил этому своему взгляду и, покинув свой пост, погнался за полководческими лаврами. Но самое главное не только лично для меня, но главным образом для успеха дела, – какое положение при этом будет великого князя Николая Николаевича?
Государь, промолчав на предыдущие вопросы, на это ответил:
– Он будет командовать шестой армией.
– То есть охранять резиденцию вашего величества, – добавил я и затем, не стесняясь, уже совершенно откровенно высказал все, что я предвижу в таком случае: нескончаемые интриги и палки в колеса. Он не выносил меня на посту военного министра, как это хорошо известно и самому государю, а в роли моего подчиненного и вместе с тем в непосредственном пребывании с государем, создастся положение, невозможное для меня, а главное, будет страдать дело такой исключительной важности.
Сознавая, что я прав, государь, не возражая на это по существу, сказал только, что Николай Николаевич не возьмет на себя Верховного главнокомандования. На каком основании полагал так государь, я не знаю, потому что мои сведения были таковы, что великий князь не сомневается в этом назначении и ждет предложения.
Подумав немного, его величество решил затем, что, так как великий князь живет рядом, в Знаменке, то он поедет к нему сам и выяснит, как быть. Я же со своей стороны доложил, что если Николай Николаевич откажется и государю угодно, чтобы я принял командование, – прошу распорядиться мною, как это угодно будет его величеству.
Как я предполагал, так и оказалось: государь затем сам убедился, что великий князь действительно встретил предложение совершенно к этому подготовленным и в мыслях не допускал, чтобы мог быть назначен кто-либо другой, а не он.
Глава XXVIII. Еще о возникновении войны
Я принадлежу к числу тех лиц, которым приписывают деятельное участие в возникновении всемирной войны. Недовольному общественному мнению Европы я казался особенно подходящим громоотводом. То, что произошло со мной, становится особенно сложным и даже пикантным благодаря тому, что в одно и то же время меня обвиняют в подстрекательстве к войне, в том, что я планомерно препятствовал благоприятному исходу дипломатических осложнений, а с другой стороны, что как военный министр я не только не исполнил свой долг, но действовал в пользу наших врагов. В этой главе я постараюсь изложить мое положение при самом возникновении войны, мою роль как «подстрекателя», и не для самообеления, а для того, чтобы дать историческому исследованию возможно правдивый материал при изучении исторических фактов, предшествовавших этой ужасной всемирной катастрофе.
В последние годы я имел поневоле достаточно свободного времени, чтобы выяснить всю обстановку, и сожалею, что полное отсутствие средств и потеря моей библиотеки не дали мне возможности собрать все то, что было написано о возникновении войны и о моей в этом роли. Чисто фактический материал возникновения войны изложен мною вполне объективно в предыдущей главе.
В одной статье, посвященной июльским дням 1914 года, генерал Добророльский говорит, что в злополучные, тяжелые дни эти ему казалось, что по личной своей инициативе я устранился от участия в решении вопроса о возможности возникновения войны. Ему казалось, что я был бы счастлив при этом, чтобы статью в «Биржевых Ведомостях» о том, что «мы готовы», никто бы не вспомнил, что я держался в стороне и всем делом конфликта дирижировал Янушкевич.
Генерал Добророльский рассуждает совершенно правильно: в эти дни я действительно проявил «сдержанность», которая моим подчиненным должна была показаться странной ввиду той настойчивости и интенсивности в работе, которую они привыкли видеть всегда с моей стороны. Янушкевич в эти роковые дни был тем лицом, через руки которого открыто проходили распоряжения, касающиеся армии. Его роль, однако, была фальшивой и незавидной. Он был словно на привязи у Николая Николаевича.
Каким путем можно было избежать этого унижения, я, не являясь дипломатом, имея возможность лишь поверхностно судить о политической обстановке, указать не мог.
Потому-то и был сдержан и не присоединялся к ликованию младших товарищей.
После того как я не только инстинктивно сознавал, но и ясно видел по действиям дипломатии, что никакая сила не в состоянии направить ход исторических событий на другой путь, у меня явилась лишь единственная забота: возможно быстрое пополнение технического снаряжения армии, о недостаточности которого в последний раз я заявил в Совете министров 28 июля.
Царь видел в военном министре лишь техника, который должен был изготовить орудие для войны, – выбор времени применения и употребления которого оставался за государем. Тогда же, между 24 и 30 июля, единственно за высшей политикой оставалось решающее слово.
Это было совершенно ясно из того решения, которое было принято на совещании 25 июля.
Сазонову – дипломату, а не военному министру дано было полномочие выбора вида мобилизации (частичной или общей) в зависимости от обстоятельств, хотя и с доклада государю.
Подобным хитро обдуманным распорядком, по всем вероятностям самим царем не измышленным, объясняется моя казавшаяся незаинтересованность в том, что происходило. Как не играющий никакой решающей роли, я был аннулирован.
Кто когда-нибудь займется выяснением закулисной истории возникновения войны, тот должен будет обратить особенное внимание на дни пребывания Пуанкаре в Петербурге, а также и последующее время, приблизительно 24–28 июля. Я твердо уверен, что за это время состоялось решение войны или мира, причем великий князь Николай Николаевич, Сазонов и Пуанкаре сговорились во что бы то ни стало парализовать всякую попытку мирного исхода.
Во время и после посещения президента Пуанкаре я был изолирован от царя до 2 августа, когда военный аппарат уже был пущен в ход дипломатией и остановить его можно было только нарушением данного союзникам слова. В течение всех этих дней, по-видимому, приняты были меры, чтобы я с глазу на глаз с государем не виделся, и систематически препятствовали моему ознакомлению с политической обстановкой данного времени. Сазонов и великий князь до отъезда французского президента действовали за кулисами, после же совещания 25 июля, опираясь на принятые тогда решения и данный министру иностранных дел мандат, они действовали без всякого контакта с военным министром. Великий князь прежде всего взялся воинственно настроить государя и поддерживать его в этом настроении. Сазонов действовал согласно директивам, которые он получал через Извольского, причем, как это видно из подтасовки берлинской телеграммы Свербеева, в обстановке, дававшей еще возможность миролюбивого исхода. Сазонов при этом далеко не был руководящим лицом. Занимаемому им положению министра иностранных дел он был обязан прежде всего родственным связям и единомыслию в восточной политике с Извольским и великим князем Николаем Николаевичем.
Великий князь, точно так же, как и Сазонов, знал, что у меня в наличии были основательные аргументы для отстаивания сохранения мира летом 1914 года. Поэтому они старались всеми способами сделать так, чтобы я в соответствующую минуту их не предъявил. Им это прекрасно удалось! Роль, которую Янушкевич играл в ночь с 29 на 30 июля, до сих пор мне была неясна. Теперь я убежден вполне, что в сверхсогласии с великим князем, – если не по прямому указанию последнего, – он не дал государю ни малейшей надежды на возможность сохранения мира.
Казалось, что при помощи западноевропейских держав Германия очутится под неминуемым смертельным ударом.
* * *
Добророльский ошибается, предполагая, что моя сдержанность в критические дни имела какую-либо связь с «кричащей» статьей в «Биржевых Ведомостях», – я полагаю, что в это время я ни единой секунды о ней не думал.
Сейчас, девять лет спустя, заявляю, что статью «Россия готова», – в условиях марта 1914 года, – я совершенно в таком же виде не одобрил бы для опубликования. В чем же дело?
Перед тем как наши отношения с Дунайской монархией начали обостряться, в иностранной печати стали появляться статьи, задевавшие русскую армию. В этом отношении особенно выделялась «Kolnische Zeitung». После одного из таких оскорбительных выступлений запротестовала наша пресса.
От редакции московской газеты «Русское Слово» ко мне явился Ржевский, сотрудник этого органа. Ему поручено было просить разрешения ответить на явный вызов, ничем не оправдываемый.
Без ведома государя дать разрешение я не считал возможным, но на ближайшем докладе его величество изъявил на это согласие и сказал:
– Я знаю об этих нападках по докладам министра иностранных дел. Меня это возмущает. Надо, конечно, ответить неофициально и без задора. Наши шовинисты, под предлогом патриотизма, только вредят своей государственной власти.
Затем государь высказался в том смысле, что за границей нашу армию считают, очевидно, еще совсем небоеспособною и поэтому не находят нужным вообще с Россией церемониться.
Я передал Ржевскому решение государя и потребовал предъявления мне проекта той статьи, которую предполагается напечатать. После исключения всех резких и неуместных выражений она была мною представлена государю и одобрена им.
Статью в сокращенном виде московская газета печатать не захотела, и Ржевский передал ее в редакцию «Биржевых Ведомостей». Там ее приняли, и мой знакомый, соредактор этой газеты В.А. Бонди, приехал ко мне и просил разрешения сократить и смягчить статью еще.
Так и сделали, и статья появилась под заглавием «Мы готовы». Германский посол в Петербурге граф Пурталес назвал ее «фанфаронадой». Я думаю, что она заслуживала более приличного наименования в силу того благого намерения, с которым была напечатана. По всей вероятности, под влиянием докладов министра иностранных дел государь находил, что вовремя показанный кулак может предотвратить драку. Все дело здесь заключалось в жесте, в легком «холодном душе», сказал бы князь Бисмарк, чтобы отрезвить алармистов по ту сторону границы.
* * *
Из числа находившихся в Петербурге дипломатов в критические дни германский посол граф Пурталес особенно заботился о том, чтобы предотвратить возникновение войны. Когда же все труды оказались тщетными, он присоединился к тем, которые лично меня делали ответственным в том, что вспыхнула война. В своей брошюре он сообщает удивительные вещи по поводу разговора, который у него был с графом Фредериксом. Он пишет, что, выслушав графа Пурталеса о готовящейся катастрофе, чуть не со слезами на глазах министр двора обещал все, что от него зависит, и будто бы при этом добавил, что «военный министр Сухомлинов, внутренних дел Маклаков настояли на мобилизации, – первый из опасения быть захваченным сюрпризами, а второй из-за внутреннего, угрожающего положения России».
Давнишнее мое знакомство и совместная служба с таким благородным человеком, как граф Фредерикс, мои не только личные отношения, но и служебные, – товарищеские, – были таковы, что я считаю себя вправе заявить, что не мог говорить ничего подобного граф Фредерикс германскому послу, будь это даже правдой. Кто не знает, каким тактом и выдержкой отличался наш министр двора! А для официального разговора в ту минуту, когда разрыв уже был вне сомнения, – тема совершенно неправдоподобная.
Да и само по себе выражение «опасение сюрпризов, которые можно предотвратить мобилизацией», – нелепость, которую министр двора не мог сказать.
Что касается министра внутренних дел, то я от него тоже о таком внутреннем угрожающем положении не слыхал и не допускаю, чтобы Маклаков «на ушко» кому-нибудь говорил о том, чего в действительности не было.
Граф Пурталес сам говорил неоднократно о спокойствии, не упоминая о волнениях в стране.
Об этих последних у меня с Маклаковым был разговор, совершенно не сходный с тем, что приводит граф Пурталес. По опыту японской войны 1905 года можно было ожидать повторения беспорядков и по окончании новой войны, если бы таковая вспыхнула, да еще окончилась для нас неблагоприятно.
* * *
Что касается французского посла, то в Петербурге Палеолог не был достойным представителем своей страны, так как предпочитал серьезному делу пустую болтовню, сплетни и не побрезговал даже знакомством с Григорием Распутиным.
В своих воспоминаниях о пребывании у нас Палеолог рассказывает разные небылицы.
Кто хотя мало-мальски имеет понятие о характере императора Николая II, его манере говорить, тот не поверит ни одному слову Палеолога после того, в каком виде он изобразил якобы интимную беседу с царем 21 ноября 1914 года.
«Вот как я приблизительно представляю себе, – говорит император Николай, – результаты, которые Россия вправе ожидать от войны и без которых мой народ не понял бы тех жертв, которые я заставил его принести. В Восточной Пруссии Германия должна будет согласиться на исправление границы. Мой Генеральный штаб (?) хотел бы, чтобы это исправление доходило до устьев Вислы. Мне это кажется чрезмерным; я выясню еще».
Такие выражения, как «мой народ не понял» и «мой Генеральный штаб хотел», – не свойственны были образу речи государя. Об «устьях Вислы» я могу сказать Палеологу, что это чистейшая его выдумка, так как император Николай II ему этого говорить не мог, если подобный вопрос «в моем Генеральном штабе» не возбуждался. Приписка к этой фантазии – «я выясню еще» – сорвалась с пера Палеолога, когда он почувствовал сам, что зарапортовался, заведя государя в чужой огород, так как это вопросы ведения Министерства иностранных дел, а не военного.
Далее у Палеолога еще лучше, нечто такое, чего ему Николай II, конечно, тоже говорить не мог:
«Познань и, может быть, часть Силезии будут необходимы для восстановления Польши. Галиция и северная часть Буковины позволяют России достигнуть ее естественной границы – Карпат… В Малой Азии мне, конечно, придется заняться армянами. Я, правда, не смогу вернуть их под турецкое иго. Должен ли я присоединить Армению? Я присоединю ее только в случае категорического желания армян. Иначе я предоставлю им автономный режим. Наконец, я должен буду обеспечить своей империи свободный проход в проливах».
По неискусной этой подделке ясно, что Палеолог совсем не знает Николая II и влагает в его уста всякий тенденциозный политический вздор столичных политиканов.
Это не материал для серьезного исторического исследования, а лишь записки для легкого чтения, которые могут понравиться наивным и легковерным людям, особенно на красивом, благозвучном французском языке.
В этом отношении уже последовало опровержение и графа Пурталеса, который заявил в печати, что разговор, будто бы имевший место между ним и французским послом в приемной г-на Сазонова 28 июля, целиком вымышлен, что никаких бесед он с Палеологом не вел.
Кроме этих двух неудачных представителей великих держав при петербургском дворе, был и третий – Бьюкенен, не признававший никаких других интересов, кроме английских.
Но и в этом, казалось бы, естественном побуждении британский сверхэгоизм сказался характерно, когда г. Бьюкенен явился ко мне в начале войны с требованием об отправке корпуса русских войск в Лондон. Экспедицию эту, для охраны английской столицы, предполагалось направить через Архангельск, куда прибудет необходимый для этого английский флот.
От военного министра удовлетворение подобного оригинального требования совершенно не зависело, а в Ставке великого князя Верховного главнокомандующего нашли, что Бьюкенен сошел с ума.
Николай Николаевич предложил собрать на Дону полк из стариков и этих бородачей казаков отправить в Лондон. От этого Бьюкенен, конечно, отказался – ему желателен был целый корпус, на случай появления на цеппелинах германцев, которых опасались в Англии.
С подобными дипломатическими представителями в Петербурге, для предотвращения возможности возникновения всемирной войны, проект графа Витте о тройственном союзе был, конечно, неосуществим.
Глава XXIX. Великий князь Николай Николаевич и Ставка
Назначение великого князя Верховным главнокомандующим произвело в Петербурге и Москве, а главным образом в самой армии то хорошее впечатление, которое я и ожидал.
В этом выборе был залог победы или так, по крайней мере, это казалось. Николая Николаевича считали человеком сильной воли, от которого ожидали, что он справится не только с генералами, но и с остальными великими князьями и что ему удастся устранить или по крайней мере парализовать придворные влияния на царя.
Война против Германии, – об Австро-Венгрии, к которой относились с пренебрежением, почти что не говорили, – была популярна в армии, среди чиновничества, интеллигенции, а также во влиятельных промышленных кругах. Тем не менее, когда разразилась гроза, в Петербурге сначала верить этому не хотели. Состояние скептической сдержанности сменилось сильным возбуждением. На улицах появились демонстрации с флагами и пением, и в результате воинственного настроения было разгромлено германское посольство.
Петербург был переименован в Петроград, немецкий язык запрещен. Кто занимался подобным вздором, определить тогда я не мог, да и не до того мне было. Но было ясно, что за всем этим стояли люди, подстрекавшие к войне в газетах и находившиеся в тесных отношениях с Сазоновым, редакцией «Нового Времени» и великим князем Николаем Николаевичем.
Лично ко мне недружелюбно стал относиться Николай Николаевич с тех пор, когда узнал о моей критике его проекта реформы армии, то есть приблизительно с осени 1905 года.
Назначение мое военным министром было для великого князя совершенно неожиданным. Он и его штаб были настолько уверены, что эту должность займет его кандидат Николай Иудович Иванов, что последнего поздравляли с назначением, и он эти поздравления принимал в то самое время, когда царь остановил свой выбор на мне.
Особенно невыносимым и ниже его достоинства казалось великому князю то, что в роли подчиненного военному министру ему как главнокомандующему приходилось докладывать мне. Он обходил этот вопрос военной субординации тем, что писал мне письма как великий князь. Такие некорректности я ему не спускал, что задевало его высокомерие, и он при первом удобном случае мстил мне какой-нибудь мелочной, но открытой бестактностью. Так, например, на царских смотрах Петербургского округа, когда я, как полагается, здоровался с войсками, великий князь мне не рапортовал, как это он был обязан делать, а наоборот – продолжал громко разговаривать со своей свитой, точно все, что происходило, его не касалось…
* * *
Чувствительнее всего такое отношение дало себя знать в самом Военном министерстве. После увольнения Поливанова, приблизительно в 1913–1914 году, временно мне удалось объединить всех моих сотрудников и создать мощный аппарат, работа которого была направлена к одной великой цели и тем придала Военному министерству ту силу, в которой нуждалась армия для соблюдения интересов страны. Успешный образ их действий привлек многих на мою сторону. Тем не менее было немало слабохарактерных и самолюбивых людей, которые не могли отрешиться от ориентировки на великого князя. В этом отношении самым злокозненным оказался мой ближайший помощник Поливанов. Доходило до того, что он считал наилучшим для использования сложившейся обстановки, вопреки моим предначертаниям, в ущерб армии, оказывать любезности великому князю.
После моего возвращения из Амурского края, где я застал войска в землянках и получил повеление на постройку казарм и соответствующие на то кредиты, приблизительно в то же время великий князь потребовал значительные средства на устройство водопровода и канализации в Красносельском лагере. Соответственно положению дела, генерал Поливанов доложил мне об этом требовании в смысле отказа. Но затем, доложив великому князю о решении военного министра, он тем не менее за моей спиной кредиты на это провел. Об этой его проделке я узнал лишь случайно – позже, на одном параде, когда после доклада великого князя государь благодарил Поливанова, стоявшего рядом со мной.
* * *
Особенное влияние на ход дела имело то обстоятельство, что великий князь обеспечил себе право личных докладов у царя по делам Петербургского военного округа, которым он в то время командовал. При слабом характере царя он имел возможность использовать свое влияние на него.
Вот один из примеров: кто-то (кажется, доктор Двукраев) надоумил великого князя перенести из Петрограда все военные лазареты в отдельный городок близ Пулкова. Не посоветовавшись со мной по этому поводу, не сказав ни единого слова, он сумел добиться согласия на осуществление этого проекта – личным докладом у государя.
Я получил соответствующее этому указание. При существовавших финансовых затруднениях эта затея великого князя, не отвечавшая к тому же интересам всего столичного гарнизона, на которую потребовалась бы затрата многих миллионов, была, по меньшей мере, излишней.
* * *
При господствующих в Петербургском округе непорядках не было недостатка в инцидентах и происшествиях, которые могли существенно отразиться на безопасности государства. При отсутствии сознания строгой ответственности развивалась безграничная беспечность, и заслуживающие самого строгого наказания не подвергались взысканиям.
Как-то один из членов Военного совета частным образом передал мне, что помощник великого князя, генерал Газенкампф, потерял журналы Главного крепостного комитета по вопросам обороны Финского залива. Я отправился к генералу Протопопову, в то время тяжело больному, который мне подтвердил факт пропажи протокола. Он сообщил мне, что генерал Газенкампф повез этот документ на доклад великому князю Николаю Николаевичу, главнокомандующему Петербургским округом, и не возвратил его. Оказалось, что сверток означенных журналов оставлен был генералом у извозчика, разыскать которого не удалось, несмотря на все принятые штабом округа и сыскной полицией меры.
И о таком чрезвычайной важности обстоятельстве я как военный министр не был даже поставлен в известность великим князем, хотя о подчиненности по службе командующих войсками в округах военному министру, с которым они должны были сноситься рапортами, имелось указание в законе. Когда же я доложил об этом государю, то его величество мне сказал, что великий князь Николай Николаевич принял уже все меры к розыску.
* * *
Когда в августе 1914 года я посетил великого князя во дворце в Знаменке, по случаю его назначения Верховным главнокомандующим, его императорское высочество, как я уже говорил, ни словом не обмолвился ни о своих планах и намерениях, ни о предстоящей совместной нашей работе; ни единого вопроса о мобилизации, лишь обещанием ордена он будто подтвердил, что получил от меня армию в полном порядке.
Поэтому и неудивительно, что после того, как установились отношения между Ставкой, Императорской Главной квартирой и Военным министерством, мое положение оказалось незавидным. Со всеми требованиями и желаниями Верховного главнокомандующего по мере возможности считались. Так, например, Ставка сообщила министру двора список лиц, которые могли сопровождать царя во время его поездок на фронт.
В этом списке не было именно военного министра! Потребовалось вмешательство графа Фредерикса, чтобы при поездках царя ему сопутствовал военный министр!
Таковы характерные черты человека, которому царь вручал русскую армию, считаясь с настроением петербургского общества, но, правда, не высказанным открыто желанием совещания 2 августа, который вместе с Францией, Бельгией, Англией, а затем и еще около дюжины «союзников» земного шара собирался разгромить немцев!
* * *
Русская армия была мобилизована в громадных, небывалых еще размерах и с неожиданной быстротой сосредоточена для наступления. Свою полную боеспособность она проявила именно в самом начале, когда могла действовать на базисе своей духовной подготовки мирного времени. Ее падение началось с того момента, когда Верховному главнокомандующему пришлось действовать самостоятельно.
Начало кампании сложилось для нас, после очень быстрого наступления, вполне благоприятно: энергичное вторжение нашей северной армии в Восточную Пруссию, успешный отпор германского нападения на левом берегу Вислы – нашей армией центра.
Оттеснение армии генерала Данкля, продвинувшейся почти до Люблина, и занятие Галиции с юга наводили на мысль, что наступлением центра на Берлин с Вислы, где сходятся главные железнодорожные линии из внутренних наших губерний, Ново-Георгиевск – Варшава – Люблин, при содействии армий Юго-Западного фронта, которые уже приближались к Кракову, успех был бы вероятен.
Австрийцы были отброшены за Карпаты. Занятие и укрепление проходов левым флангом нашего Юго-Западного фронта дало бы возможность угрожать правому флангу германской оборонительной линии наступлением на Силезию.
Армиям нашего Северного фронта, обеспечивавшим правый фланг центра, не следовало углубляться в опасный плацдарм Восточной Пруссии, подготовленной к упорной обороне. Противник вынужден был бы и без этого очистить Восточную Пруссию нашим наступлением центра и угрозой низовьям Вислы, – а тогда северная армия могла бы нажимать не спеша.
В комбинации этих трех задач логически и должен был развиваться дальнейший план наших операций.
Но тут сдал характер великого князя. Его нетерпение препятствовало ему дать созреть операциям. В необузданном стремлении ступить самому на вражескую почву и прослыть на родине героем он не только решил вторжение северной армии в Восточную Пруссию, до соединения обеих южных армий, но устремился туда сам с Главной квартирой, потеряв связь с остальными армиями, бесполезно перепутал транспорты и принес в жертву сотни тысяч, целые армейские корпуса, более подвижному и более систематично работающему противнику.
На Южном фронте вынуждены были мы отступить от Кракова и двинулись затем на Карпаты, понеся большие потери, вследствие чего наш центр был без всякой пользы парализован. Ново-Георгиевск, Варшава, Иван-город сравнительно небольшими силами были взяты немцами!
Эта стратегия завершилась общим поспешным отступлением вплоть до Западной Двины.
Великий князь вел войну за свой собственный страх и риск. Как специалист, военный министр не был ему нужен и в роли «чиновника постороннего ведомства», в его Главной квартире он человек лишний.
Уже после первых поездок государь не настаивал на том, чтобы я его сопровождал. Зато Верховный главнокомандующий предоставил мне право «по собственному усмотрению» ездить на фронт. Из этого мне стало ясно, что ему прежде всего нужно было оттереть меня от государя.
Эти поездки «по собственному усмотрению» ограничивались тем, что я ездил туда, куда меня посылал государь. Больше всего это касалось посещений заведений артиллерийского ведомства, то есть подчиненных великому князю Сергею Михайловичу, фабрик и заводов по изготовлению вооружения, снабжения, боевых припасов, устранению возникавших на них забастовок и т. п.
Собственно Главную квартиру мне однажды пришлось посетить по поводу письма Куропаткина.
Живший на покое у себя в имении Псковской губернии генерал Куропаткин писал мне о том, что солдатская душа его не дает ему спокойно сидеть без дела. Поэтому он просит доложить государю о его желании поступить в ряды войск в той роли, какую бы ему ни предложили.
«Пойми, мне нужна реабилитация хотя бы в роли батальонного командира», – писал он мне многократно. Но когда я докладывал об этом государю, то получал ответ: «Я ничего против этого не имею, но великий князь Николай Николаевич и слышать об этом не желает. Поезжайте в Ставку и попробуйте переговорить об этом с Верховным главнокомандующим».
Когда мне пришлось быть в Барановичах, то я предварительно сказал об этом Янушкевичу, но он посоветовал мне не упоминать имени Куропаткина, чтобы не приводить Николая Николаевича в свирепое настроение.
Генералу Куропаткину удалось получить назначение в действующую армию, когда великий князь был смещен и уехал на Кавказ.
Мания величия великого князя дошла до того, что он стал вмешиваться в дела Совета министров. После того как с одного из заседаний ушли секретари, Горемыкин прочитал нам письмо начальника штаба, в котором Янушкевич, начальник полевого штаба, в непозволительной форме выражал неудовольствие его императорского высочества по делам Совета министров, в основании своем никакого отношения к полномочиям Верховного главнокомандующего не имевшим. Несмотря на то что это письмо вызвало справедливое возмущение всех министров и содержание его было доложено государю, – из этого ничего не вышло. Вскоре началось паломничество в Ставку лиц, никакой связи с задачами и обязанностями верховного командования не имевших, но искавших лишь предлога для поездки туда.
Николай Николаевич был ведь всесильным человеком!
* * *
Легко поддававшийся влиянию Николая Николаевича, своего дяди, государь введен был многократно в заблуждение, но его чаша терпения наконец переполнилась.
Случилось то, чего и великий князь не ожидал: государь его сменил и стал сам во главе действующей армии, о чем он так мечтал и настаивал, на тот случай, если бы мы вынуждены были воевать.
Вот что говорил по этому поводу граф Фредерикс, когда это свершилось.
«– Когда мы подъезжали к Могилеву, я решился пойти к государю и высказать те опасения, которые меня смущали в том отношении, что его величество не справится с тем делом, которое берет на себя, и советовал оставить великого князя Николая Николаевича при особе его величества. Таким образом, у государя в трудных случаях было бы с кем посоветоваться. И я никогда не видел государя таким, каким он отвечал мне на это, – его решительный, не допускающий возражения тон и вид поразили меня.
– Граф, – сказал мне его величество, – мы сейчас будем в Ставке, я приглашу великого князя к обеду, а вы пригласите к столу его свиту, как обыкновенно; а завтра утром мы проводим Николая Николаевича на Кавказ.
И ни слова больше, а наклонением головы он дал мне понять, что аудиенция окончена».
* * *
Когда образовалось в 1917 году революционное Временное правительство, то великий князь Николай Николаевич подарил потомству документ, обрисовавший его особу во весь рост.
Являясь главнокомандующим на Кавказе, он отправил следующую телеграмму князю Львову, министру-председателю Временного правительства:
«Сего числа я принял присягу на верность отечеству и новому государственному строю. Свой долг до конца выполню, как мне повелевает совесть и принятое обязательство.
Великий князь Николай Николаевич».
Незадолго до этого он телеграфировал Николаю II, «коленнопреклонно» умоляя его отречься от престола.
После того как он «выполнил свой долг» по отношению к государю, – которому присягал вдвойне и как член императорской фамилии, и как русский воин, – какую цену могло иметь подобное обещание по телеграфному проводу?
Члены Временного правительства не могли не знать того, что получило огласку в то время в столице о Николае II, – и новая власть просто отрешила от должности «главковерха».
Николай Николаевич ретировался тогда в Крым; а когда и там ему стала угрожать участь, которая постигла большинство членов императорской фамилии, то он бежал за пределы России.
Из всей царской фамилии один только Николай Николаевич своему царственному племяннику и стране мог бы принести действительную пользу. Жизненного опыта у него было несравненно больше, нежели у царствующего государя. Своими ограниченными духовными качествами, злым и высокомерным характером он напоминал временами своего предка, кровожадного Ивана Грозного, и в припадках гнева был на него даже очень похож. Далеко не храбрый человек, он предпочитал работу за кулисами и становился, таким образом, безответственным перед общественным мнением.
Глава XXX. Между боями
С возникновением войны я очутился между боями, в полном смысле этого слова: в прямом смысле потому, что мировая война была все время в полном разгаре, и в переносном – ввиду личной борьбы и того крушения, которое меня ожидало. В первые дни мобилизации лично от самого военного министра не требовалось особой интенсивности работы, это было затишье перед бурей. Если кнопка нажата, то на довольно продолжительное время напряженная деятельность переходила в руки подведомственных штабов и подчиненных им лиц. Редкие запросы поступали непосредственно в мобилизационные отделения и там же разрешались; происходившие трения подлежали устранению местными инстанциями, за исключением, конечно, тех случаев, когда округа целиком проявляли свою несостоятельность. Наша мобилизация прошла как по маслу!
Это навсегда останется блестящей страницей в истории нашего Генерального штаба, как бы отрицательно об этом теперь ни отзывались.
С выступлением армии в поход все бросилось с нею и за нею. Штаб Верховного главнокомандующего забирал всех, не считаясь с тем, что некому будет работать на той базе в центре государства, где именно в наших условиях нужны были люди, а не людишки. Двух моих прекрасных сотрудников, особенно по мобилизации, бывших киевлян, я и не отпустил. Генералы Лукомский и Добророльский вместо передовых позиций остались у того невидимого механизма, без которого, однако, машина не действует. Работали они не за страх, а за совесть, поэтому не могу не помянуть их за это добром, так как это тоже ведь был подвиг с их стороны.
На громадном пространстве русского государства, только в двух местах – в Сибири и еще где-то – произошли такие недоразумения, что пришлось доносить об этом мне; но и с этим удалось справиться на местах, причем на ходе мобилизации это нисколько не отразилось. Со всех сторон меня поздравляли. В Петербурге, в широких кругах никак не ожидали такой блестящей подготовки, и вследствие этого настроение постепенно переходило в энтузиазм. Мне же, несмотря на приподнятое настроение, которое временами и мной овладевало, не было легко на душе: сквозь этот видимый порядок я видел безответственность великого князя и слабость нашей промышленности, не приспособленной для нужд военного времени. Учитывая это, я воспользовался первыми сравнительно спокойными днями, чтобы обеспечить пополнение запасами, как у нас в собственной стране, так и от союзников. Переговоры с представителями финансового ведомства, промышленниками, а также дипломатами привели к заказам, которые начали поступать с сентября 1914 года.
Рядом с моими собственными тяжкими заботами проявлялись заботы и других: многие из тех старших офицеров, которые вследствие японской войны и по другим причинам покинули ряды армии, одолевали меня письмами и лично просьбами о поступлении обратно на службу. Некоторые из этих ходатайств были трогательным выражением сердечной боли просителя. Временное занятие Каменец-Подольска вызвало первую, правда незначительную, местную панику, и многие из не особенно храбрых бежали из Киева в Москву и Петербург. Настроение народонаселения показало нам, какая паника ожидала нас, если бы нашему противнику удалось более широким фронтом где-нибудь проникнуть на русскую территорию. Надо было иметь в виду вопрос о возможной эвакуации многочисленного населения. Появление германского флота в водах Финского залива вызвало беспокойство и зарождало толки и сплетни. Когда наконец пришло известие о первой значительной удаче в Восточной Пруссии, то оно обратило все внимание в стране на Северо-Западный фронт, положило конец всем ложным слухам и отвлекало внимание общественности от всех остальных фронтов, превратившихся временно во второстепенные театры военных действий.
Уже 11 (24) августа были получены серьезные известия с Юго-Западного фронта: генералы Жилинский и Зальца были уволены. Янушкевич писал мне, что мы обязательно должны победить австрийцев. Их ведь побили сербы, а вдруг теперь мы будем разбиты первыми…
Во многих случаях стали проявляться свойства русского воина, в особенности среди старших офицеров, пассивных и склонных более к обороне, нежели наступлению. Мы с Янушкевичем должны были прибегать к допингу, чтобы поднять в них энергию и наступательный порыв. Беспокоил меня также инженерный генерал Величко, который после занятия противником Каменец-Подольска собирался защитить Киев укреплениями. Его оборонительные планы могли нарушить все расчеты наступления. Как саперу ему было все безразлично, пока он не накопается вдоволь в грунте. При всей храбрости офицеров и нижних чинов все же обратило на себя внимание донесение Брусилова, что, не имея возможности держаться против яростных атак немцев, он отдал приказ о переходе в наступление.
* * *
Как и следовало ожидать, в Петербурге все мероприятия, касавшиеся военных действий, подвергались критике, и мне то в Совете министров, то на заседаниях Красного Креста приходилось предостерегать от преждевременной критики, сплетен и всяких толков. Казалось, что междуведомственная рознь еще более обострилась сравнительно с тем, как это было до войны: министр внутренних дел высказывался против устройства станций беспроволочного телеграфа внутри страны и отказывался подготовить служебный состав для Восточной Пруссии и Галиции. Во всем давал себя чувствовать ужасно тонкий наш культурный слой, при недостатке образованного персонала. Всюду проявлялась поразительная медленность в решениях, точно ведомства только сейчас начали пробуждаться от сна, и лишь немногие лица, и притом одни и те же, проявляли интенсивную деятельность и побуждали к тому других.
Значительно деятельнее бюрократии были органы самоуправления дворянства, земства и городов, но все их добрые начинания привели к совершенно обратным результатам благодаря политическим тенденциям, внесенным в работу по оказанию помощи действующей армии антимонархическими партиями или такими честолюбивыми карьеристами, как Гучков и Родзянко.
Заявления моих приятелей из Государственной думы не заставили себя долго ждать. 21 сентября мне телеграфировал уполномоченный Щепкин о тучковских непорядках на фронте: он сообщил в Москву, что в тылу действующих армий все похоже на то, как оно было в Харбине во время японской войны. Повторявшиеся в комиссиях по военным делам Государственной думы опасения вполне оправдались. Гучковский ход, понятно, как тогда, так и раньше, со всем его честолюбием, направлен был к тому, чтобы военный аппарат – будь то сам военный министр или что-либо иное – прибрать к своим рукам. Те группы русского общества, которые на войну не смотрели с внешней политической точки зрения, а лишь исключительно со своей партийно-политической целью, старались по мере сил использовать сообщения Гучкова.
У нас был свой собственный внутренний враг. В первую очередь военному министру пришлось бороться с ним, и притом с негодными средствами. Именно этим объясняется многое из того, что потом случилось: самый совершенный цензурный аппарат не может помочь, если во время войны правительственная политика не будет основана на единодушной народной воле. Мне вскоре стало ясно, что на стороне царя не народная воля, а лишь тонкий слой чиновничества, офицерства и промышленников, в то время как политические партии готовили свою похлебку на костре военного времени.
* * *
Некоторым утешением при моей нервной и тяжелой работе была энергичная деятельность, которую проявляли многие дамы для оказания помощи раненым, беженцам и облегчения положения нижних чинов на фронте отправкой подарков всевозможными организациями. Во главе последних стояли императрицы – Александра Федоровна и вдовствующая.
Моя жена тоже взяла на себя устройство склада имени императрицы Александры Федоровны и со свойственной ей энергией вела это дело. Крупные промышленники принимали деятельное участие в этом деле, в том числе и нефтяной король Манташев и его друзья: князь Накашидзе, Габаев и многие другие, помогавшие не только деньгами и подарками, но также и личным участием в организации и ведении дела. Вскоре отделение Екатерины Викторовны стало одним из наилучше организованных и богатых.
Еще до Рождества Христова ей удалось составить поезда «прачечная-баня», которые доходили до последней этапной станции, где солдаты меняли белье, которое тут же стиралось, мылись в бане. В конце ноября 1914 года начался сбор средств на эти благотворительные учреждения, и к Рождеству ей удалось отправить несколько поездов с подарками на фронт.
Более чем в ста письмах ко мне Янушкевич благодарил «неутомимую благодетельницу армии». К сожалению, за это ей отплатили черной неблагодарностью: императрица завидовала успеху работы моей жены в особенности потому, что государь высказывал свое сочувствие деятельности Екатерины Викторовны, петербургское же общество отплатило за ее старания – клеветой, будто бы она обогащается и за мой счет берет взятки…
Чувствительные удары, нанесенные нашей армии сперва на Юго-Западном фронте, затем в Восточной Пруссии под Ортельсбургом и Танненбергом, поражения, которые стоили нам сотни орудий, сотни тысяч снарядов и ружей, не говоря уже о пленных, вынудили меня нажать на штаб армии в смысле распоряжений о сборе боевого материала на полях сражений, в особенности оружия и патронов, и на отправке в тыл всего того, что окажется непригодным для непосредственного употребления.
Я неоднократно писал Янушкевичу и просил его доложить великому князю о необходимости принятия мер к наибольшей бережливости в расходовании материалов боевого снабжения в войсках и на этапах.
* * *
Ко всем нашим заботам присоединилась еще самая тяжкая, дух захватывавшая, – все более и более выясняющееся сознание, что в стратегическом отношении вооруженные силы наши применяются неправильно. Стало ясно, что мы наделали целый ряд крупных ошибок!
Ошеломленному народу внутри страны все поражения объяснялись недостатком боевого снаряжения!.. Сухомлинов!.. Или предательством в своих собственных рядах… Мясоедов! Трудно все это в один прием описать… Неприятель в действительности был прекрасно осведомлен о том, что у нас происходило.
Вспоминая теперь, с какой наивностью доктор Лондон направлял в Петербург частные письма с приложением набросков обо всем и обо всех, где они бесконтрольно ходили из рук в руки, мне многое становится ясным.
Наше снабжение боевыми припасами было тоже не на высоте тех требований, которые предъявляла русской армии всемирная война.
Но наша армия в 1915 году со своим недостатком снабжения находилась в таком же положении, как и другие армии. В августе 1914 года ни одна армия, выступавшая на войну со своими запасами боевого снабжения, не была в силах покрыть неисчислимые обширные потребности войск. Русская армия была обеспечена едва лишь на 6 месяцев. Наступивший в действительности расход снарядов превзошел, однако, все самые широкие предположения.
Недостаток снарядов являлся часто просто следствием нераспорядительности полевого штаба и беспорядков в тыловой службе.
В отношении заявлений о недостатке снарядов весьма показательно и то, что Главная квартира генерала Рузского в Варшаве лишь от меня, сидевшего в Петербурге, должна была узнать, что определенное количество снарядов, которых им недоставало, изготовлялось в Варшаве.
Такое заключение подтверждается и полученным мною письмом из летучего передового хирургического отряда 3-й армии от 12 марта 1915 года из Старого Загоржа в Карпатах. Автор, близко ознакомившийся с тем, что происходило по части снабжения в Тарнове, Ярославле, Львове, Жолкиеве, Замостье и других местах ближайшего тыла действующей армии, пишет:
«На Дунайце, под Краковом, – свидетельствует он, – сдавались массы наших солдат, так как не было хлеба, тогда как им были завалены станции. Я знаю, как гибнут лошади, которым не дают сена и овса, как целые транспорты стоят днями без фуража, и выручают доктора, говоря: “Если бы у вас был фураж, у меня найдется коньяк”. Фураж появлялся.
Ссылаются на то, что здесь, в Карпатах, слабо работает железная дорога. Правда, и домкраты не помогают, так как, обладая способностью переделывать до 100 вагонов в день, переделывают по 3–5 в день. Нет вагонов для фуража и раненых, а корпусные интенданты переправляют в Россию хороших лошадей по 2 штуки в теплушке или просто крытом вагоне, этому я свидетель здесь, в начале Карпат, на линии Ясло, Кровно, Санок, Самбор, Львов. Ведь чем дальше мы пойдем здесь вперед, тем меньше будет у нас вагонов, тем дальше базы фуража, хлеба, снарядов…»
Всякое снабжение отправлялось к армии в громадных размерах, а как и почему оно не доходило до войск, достаточно этих двух свидетельств, чтобы видеть, что Генеральный штаб армии не сумел распорядиться и поставить у дела сведущих офицеров.
Как мало давала себе отчет в серьезности положения Ставка, несмотря на все тревожные телеграммы, которые посылались мне, видно из приводимых Янушкевичем справок по поводу обсуждения этого вопроса с генералом Жоффром, из которых явствует, что «все меры для доставки снабжения были приняты».
Несколько раз я сопровождал царя в его поездках на фронт.
Эти приятные перерывы в моей петербургской служебной работе сделались весьма редкими; они постоянно сопровождались личными обидами. Я мог признавать еще то, что Верховный главнокомандующий не желал считаться с соображениями военного министра об операциях и его докладами, чтобы не отвлекать военного министра от его специальных задач. Но чтобы я, как сопровождающий царя, прибывши в Главную квартиру, оставался в своем салон-вагоне, то есть пребывал вне Главной квартиры, это выходило уже за пределы не только необходимости, но приличия и здравого смысла. Великий князь боялся моей критики, потому что знал, что я перед лицом государя не задумаюсь ее навести, как делал это довольно часто в мирное время. Его же полководческие эксперименты подвержены были чем дальше, тем более уязвимой, жестокой критике. Государь, со своей стороны, избегал говорить со мной об операциях великого князя. Это отвечало его строго руководящему принципу не нарушать междуведомственных границ. Он признавал вмешательство военного министра в область действий Верховного главнокомандующего излишним. С этим свойством при высочайших докладах приходилось считаться всем министрам; великий князь же тем самым был застрахован от непостоянства со стороны государя и вследствие этого от критики третьего лица. При таком отношении царя для великого князя явилась возможность его изоляции. А изолированному государю сравнительно безопасно для великого князя Ставка могла «втирать очки».
Как в Ставке вводили в заблуждение государя, может служить примером подготовка карпатской операции. Так как я был устранен от присутствия при докладах его величеству во время его поездок в действующую армию, то узнал о ней не как военный министр, а как Владимир Александрович, – на обратном пути домой, после разговора царя с Верховным главнокомандующим.
Уговорили тогда его величество собственноручно утвердить намеченную операцию, изложенную в письменном докладе. Государь был в отличном настроении и полон надежды на успех.
Я пришел в ужас, когда узнал от государя о стратегии Ставки! По карте я объяснил царю большую вероятность предстоящей катастрофы.
Я видел, как трудно было государю скрыть свое смущение, но он ничего не сказал.
Катастрофа произошла, как я это и предсказывал его величеству. Впоследствии на суде Янушкевич уверял, что Иванов по своей собственной инициативе полез в Карпаты! Если это заявление Янушкевича отвечает действительности, то это доказывает весьма печальное состояние верховного командования, если на их глазах такие крупные силы могли предпринимать подобные операции по собственному усмотрению.
Навсегда памятна мне будет поездка совместно с государем в крепость Осовец, в связи с его посещением Ставки в сентябре 1914 года.
В одну из наших поездок, возвращаясь из Барановичей на Белосток, я предложил государю заехать в крепость Осовец, гарнизон которой только что геройски выдержал ожесточенную бомбардировку и отбил атаку немцев. Государь с восторгом согласился на это, но приказал это сделать так, чтобы в Ставке решительно никто об этом не знал.
Так и было сделано. Я и дворцовый комендант, генерал Воейков, участвовали в этой конспирации. В Белосток было дано знать, чтобы приготовили два автомобиля для военного министра, который поедет в Осовец. Распоряжение об этом было сделано уже по дороге, после отъезда из Барановичей.
В Белосток царский поезд прибыл еще до рассвета, и когда ко мне подошел адъютант командующего армией, полковник Олсуфьев, и доложил, что автомобили прибыли, то подошел в это время и вышедший из вагона государь, заявив, что он поедет со мной. Погода была дивная, точно по заказу для этой поездки в золотистый день русской осени.
В довольно плохонький двухместный автомобиль, должно быть из взятых по реквизиции, поместились мы с государем, а в другой – Воейков, князь Орлов и, кажется, Дрентельн. Без всякой охраны и предупреждений, довольно скоро проехали мы 54 версты и явились совершенно неожиданно в сильно пострадавшую от огня противника крепость. Верки выдержали бомбардировку хорошо, но все внутренние постройки были разрушены, церковь, казалось, хорошо укрытая, пробита снарядом. В ней сейчас же отслужен был молебен. Явился комендант крепости генерал Шульман, отсутствовавший на осмотре повреждений, а затем собран был на площади гарнизон, который удостоился горячей благодарности из уст самого державного вождя русской армии.
После государь взошел на верки и внимательно рассматривал как подступы к крепостному гласису, так и места расположения неприятельских батарей, которые можно было видеть в бинокль.
На память о посещении Осовца я поднял для государя кусок «чемодана», как прозвали солдаты снаряды, извергаемые крупнейшими калибрами осадных орудий.
При возвращении следовавший за нами второй автомобиль почему-то отстал. Когда мы выезжали со станции Белосток, то миновали город, а теперь, подъезжая к нему, наш шофер на одном из разветвлений замялся, не зная хорошо дороги. Государь утверждал, что налево, при этом сказав, что у него память относительно местности хорошая. Поехали налево и продолжали разговаривать, при этом его величество не упустил случая подтрунить над Генеральным штабом, хотя я был в форме Офицерской кавалерийской школы. Не обошлось и без намека на Сусанина, а между тем я ясно видел уже, что Белосток остался далеко позади и виднеется одна лишь фабричная труба. Государь же продолжал уверять, что у него хорошая память на местность, «и вот этот лесок налево» – он приметил его, когда ехали в крепость. Но в это время мы докатились до какого-то виадука, которого несомненно не проезжали, и государь спросил:
– А это что такое?
– Это то, – доложил я его величеству, – чего мы не видели, когда ехали в Осовец, а теперь мы скоро приедем на суконную фабрику, которая в нескольких верстах к востоку от Белостока.
– Как же теперь быть? – спросил государь.
– Позвольте, ваше величество, быть мне теперь Сусаниным.
Пришлось повернуть обратно. Другого автомобиля не было видно: вероятно, он правильно повернул направо. На первом разветвлении мы взяли налево и попали в город совершенно с противоположной стороны. Случайно, таким образом, государь инкогнито побывал в этом городишке и видел его так, как мы, простые смертные, причем радовался, что его не узнают, а честь отдают мне, генералу, а не ему, полковнику.
Когда мы прибыли на вокзал, там уже давно находились наши спутники, и беспокойство было немалое: никто не мог понять, что случилось, и не знали, что делать, – государь и военный министр исчезли.
Его величество же был в восторге и, шутя, сваливал вину на меня.
Из Осовца, конечно, немедленно донесли в Ставку о том, что крепость удостоил своим посещением государь, и около Двинска его величество зашел ко мне в купе и дал прочесть телеграмму, которую он получил по этому случаю от Николая Николаевича. По комбинации слов, совершенно особой конструкции, это – почтительное опасение за священную особу монарха, который не имеет права так рисковать, а в сущности – гром и молния негодования, скрытая злоба, и, конечно, в Барановичах мое имя в этот день подверглось немалому поношению.
* * *
Для того чтобы было ясно многое то, о чем я буду говорить дальше, как и в начале этой главы, я хочу и здесь коснуться некоторых фактов моей частной жизни, которые, собственно, не представляли бы особенного интереса, если бы о моей частной жизни не было столько разговоров с целью дискредитировать мою деятельность военного министра. В сущности то, что я собираюсь рассказать, впоследствии может интересовать лишь бытописателя; кроме того, писатель с богатой фантазией найдет тему для бульварного романа или сенсационного фильма, сюжет, который критика должна будет отвергнуть как нечто неправдоподобное. Уж одно то, что мне приходится об этом писать, меня глубоко возмущает! Именно мне, не любившему великосветской жизни и предпочитавшему существование, отвечающее личным склонностям, а не стремлению окунуться в поток пустого веселия. Манеж, спорт, к которому в зрелые годы относится и рыбная ловля, автомобильные экскурсии, путешествия заполняли часть моего свободного времени, которое я не проводил в моей библиотеке или за письменной служебной работой. Театр, хорошая музыка и, понятно, превосходный петербургский балет, равно как и беседы с разумными людьми, привлекали меня более всего того, что петербургское общество, придворное и городское, дать могло. Будучи вдовцом в Киеве, часто, насколько только позволяло мне свободное время, сидел я в своей генерал-губернаторской ложе, в антрактах навещал знакомых в креслах партера или ложах; посещал после обеда, когда можно было, прекрасную кондитерскую Семадени на Крещатике и наблюдал оттуда, в течение какого-нибудь получаса, течение жизни людей, спокойствие и благополучие которых доверено было мне в тяжелые дни. Охотно проводил я свободный час с моим старым знакомым по Карлсбаду, австрийцем Альтшиллером, разумным, толковым человеком, или «сахарным королем» Лазарем Бродским, выделявшимся своим человеколюбием, вне всякой религиозной нетерпимости, равно как навещал часто в Печерской лавре митрополита Флавиана и в Братском монастыре на Подоле ректора духовной академии высокопреосвященного Платона – наших высоких духовных лиц, к которым нельзя было относиться иначе как с глубоким уважением.
* * *
В Киеве, где я провел лучшее время моей жизни и где в зрелые годы еще на мою долю выпало счастье, какого только человек может желать и какого я раньше не знал, – таились и некоторые корни личного моего несчастья, наряду со всеми существенными неудачами, свалившимися на мою голову.
Наибольшее счастье и вместе с тем источник моего личного несчастья связаны с именем Екатерины Викторовны…
Эта моя третья супруга, когда я с нею познакомился, была уже на пути к разводу со своим мужем, который недостойно обращался с нею и обманывал ее. Ее первый муж, сначала давший согласие на развод, отказал ей в этом, когда узнал, что Екатерина Викторовна собирается выйти за меня замуж.
Потребовался продолжительный бракоразводный процесс, со всеми неприятными подробностями, и в конце концов – изобличение ее первого мужа в том, что он превратил брак в дикую жизнь, и ходатайство моей будущей жены перед государем о повелении прекратить ее мучения. Только после того, как Бутович потерял свою жену, он понял, что лишился в ней исключительной по нравственным качествам и красоте женщины. Екатерина Викторовна по происхождению не была из так называемого аристократического общественного круга, признаваемого в Петербурге, из которого, несмотря на кажущийся в России либерализм, гвардейские офицеры должны были выбирать себе невест, если желали быть принятыми затем благоприятно в обществе. Она происходила из малороссийского гражданского рода и получила прекрасное образование, которым могла затмить многих дам высокого и высочайшего рода. Главный порок ее заключался в удивительной красоте и грации, на что царь даже обратил внимание, когда мне однажды пришлось ему ее представить. Государь с некоторым оживлением обратил на эту красоту внимание своей супруги, чем вызвал в ней ревность. В театре со всех сторон направляли бинокли на нашу ложу, когда моя жена появлялась в ней, и она была везде центром внимания, когда бывала в обществе или присутствовала на деловых собраниях. К сожалению, это не бывало особенно часто, ибо она много болела и уезжала за границу. Когда же была здорова и находилась в Петербурге, особенно после возникновения войны, – уходила вся в работу по благотворительности и отдавала всю свою преданность и энергичную душу целиком этому делу.
* * *
Сам я в Петербурге был рабом моего ведомства. Прием докладов моих начальников отделов, заседания в Совете министров или Государственном совете, доклады у государя, приемы, смотры и поездки, в особенности в первые годы, отнимали у меня так много времени, что я вне круга того дела, которым был занят, почти что ничего не видел. Отношение государя ко мне до 1914 года служило в этом деле для меня надежной опорой.
Вполне естественно, что с тех пор, как я стал министром, масса людей направила свои стопы в мой дом, не только для поддержания общественных отношений, но по соображениям, основанным главным образом на целом ряде эгоистических побуждений: один искал знакомства с военным министром, чтобы быть лично замеченным и устроить себе что-либо выгодное в служебном или деловом отношении; другой являлся, чтобы, осуждая какого-либо политического или личного противника, послушать и поглядеть, как я на это реагирую. Для противодействия этим нападениям мой дом еще не дорос: несмотря на петербургскую обстановку, это был киевский провинциальный дом, с открытыми дверьми и столом. Мое продолжительное отсутствие из столицы с ее общественным водоворотом и вихрем при этом сочетании становилось столь же чувствительным, как и тот факт, что моя жена в петербургском обществе чувствовала себя чуждой. Нам обоим приходилось очень считаться с непосредственно окружающим нас личным составом секретарей, адъютантов, ординарцев, частью оставшихся после моего предшественника, частью прибывших со мною из Киева. У старых петербургских – был свой тесный кружок, которому они протежировали и слишком усердно выставляли на авансцену моего кругозора. Одного адъютанта, которого я взял с собой из Киева, полковника Булацеля, который очень быстро приспособился к петербургским соблазнам, мне пришлось выгнать.
* * *
Одна дальняя родственница моей жены, очень состоятельная, но не совсем нормальная дама, Наталия Илларионовна Червинская, была вторым человеком, причинявшим нам много огорчений. Моя жена пригласила ее в наш дом, когда она переселилась из Киева в Петербург и не нашла еще себе квартиры. Эта дама изучила весь строй нашей жизни и своим мизерным мозговым аппаратом сочиняла фантастичные бредни, с которыми и носилась по городу, распространяя сплетни по провинциальной своей привычке. К этой особе пристроился один из мерзейших плодов старой петербургской жизни, князь Андроников, – уже после того, как двери моего дома были для него закрыты.
В начале 1909 года, когда меня только назначили начальником Генерального штаба, Андроников пытался уже наладить со мной отношения. Ходатаем его был генерал Мышлаевский.
На вопрос мой, что это за человек, Мышлаевский пояснил с юмором, что это «общественный деятель»; сам себя он называет «адъютантом Господа Бога», профессия его будто бы ходатайствовать за всех угнетенных и обиженных, способствуя этим торжеству правды и справедливости; что ради этого он ищет знакомства с сильными мира сего, дабы иметь непосредственный доступ к источнику благ земных.
Я уклонился тогда от этого знакомства. Мышлаевский же отказа моего не одобрил, объяснив, что обширное знакомство со многими сановниками и придворными людьми, которые его охотно принимают, делает Андроникова опасным для тех, кто его отвергает, потому что в таких случаях он мстит и может сильно повредить. Словом, на ту тему, что «в наш злой, развратный век и добродетель просит у порока».
Воспитывался князь в Пажеском корпусе, который ему пришлось покинуть до полного окончания курса, – за некоторые наклонности, не допускаемые в закрытых учебных заведениях. Образованность князя была небольшая.
Но зато все умственные его способности пошли на развитие интриги, и в этом он действительно был не дурак: ему помогала его необыкновенная способность к иностранным языкам. На французском, немецком, английском, шведском, датском он говорил прекрасно, с отличным акцентом.
Юные годы свои он провел почему-то в семье графа Берга, которой многим обязан, а кавказское свое происхождение отрицал, считая, что титул кавказского князя ничего не стоит: в Тифлисе всякий водовоз – князь.
Тем не менее знакомство мое с ним тогда еще не состоялось – оно произошло позже способом, выработанным князем продолжительным опытом его спекулятивно-благотворительной деятельности. В один из официальных приемов он явился с образом и просьбой о разборе дела человека, действительно несправедливо пострадавшего. В этом его появлении помог ему и личный мой секретарь канцелярии военного министра, ведавший приемом у меня на квартире, с которым Андроников давно был, конечно, знаком и пользовался его расположением. Это, впрочем, входило в его систему – он заводил возможно близкие отношения с секретарями всех министров, поэтому знал, кто, когда и куда уезжает, и к отходу поезда неизменно являлся с коробками конфет, печений, фруктов, оделяя этими своими «даяниями» и лиц, сопровождавших министра.
По внешнему виду Андроников – это Чичиков: кругленький, пухленький, семенящий ножками, большей частью облекающийся в форменный вицмундир с черным бархатным воротником и золотыми пуговицами. Он зачислялся обыкновенно по тому министерству, патрон которого к нему благоволил, пользуясь за это взаимностью князя, и приходил в ярость, когда его вышибали из списков ведомства в связи с переменой министра, князя не признававшего. Числясь только по ведомству, не получая ни содержания, ни наград, он пользовался лишь вицмундиром. За это возненавидел Андроников министра внутренних дел Маклакова. Чего только ни сочинял про него, что называется «с черного хода» – с парадного было опасно, это было хорошо известно ему по конструкции этого ведомства, к которому он пристроился, оказывая услуги тайной политической полиции.
Способность втираться к власть имущим у этого человека была совершенно исключительная. Весьма немногим из тех, которые были намечены князем, удалось избежать чести не пожимать его нечистую руку, но были и такие, которые в нем как будто и души не чаяли.
Тайна его положения обусловливалась тем фактом, что отдельные министры пользовались его услугами, чтобы быть осведомленными относительно их коллег и о том, что делается в других министерствах.
Из сановников при царском режиме он эксплуатировал графа Витте, графа Фредерикса, Горемыкина, Григоровича, Макарова, Штюрмера, Саблера, высшее духовенство, Коковцова и многих других. Последний, в свою очередь, пользовался осведомленностью князя обо всем, что делается в закулисной жизни столицы и различных ее сферах.
Очень увивался он около дворцового коменданта генерала Воейкова, но у последнего были достоверные сведения о сомнительной деятельности князя, и Воейков держал его на расстоянии.
Завладел Андроников и великим князем Константином Константиновичем, его сестрой – королевой греческой, и этот двор был его излюбленным. Ее величество подарила ему образ не особенно малого размера, и князь приспособил его для ношения на особого рода шейной цепочке, поясняя всем, чей это подарок.
Чтобы пробраться к большому двору, что ему долго не удавалось, несмотря на постоянные забегания к министру двора, во время войны Андроников сошелся с Распутиным и добился аудиенции у императрицы, где повел интригу против Распутина же, но тот об этом узнал и выставил князя.
Был вхож князь Андроников и к князю Мещерскому, издателю «Гражданина»…
По части интеллекта у них общего было мало, но сходились они в том, что было причиной преждевременного ухода Андроникова из Пажеского корпуса.
После смерти же Мещерского Андроников затеял издание органа, подобного «Гражданину». С этой целью ему удалось выудить несколько десятков тысяч рублей у Горемыкина, председателя Совета министров. А когда вскоре Горемыкин ушел, то князь не постеснялся еще и лягнуть покинувшего пост председателя Совета министров, – чтобы угодить новому восходящему светилу, к которому он, конечно, явился с образом, номером журнальчика с подхалимской статейкой, неразлучным портфелем под мышкой и фарисейскими уверениями в глубоком почтении и преданности.
Прижимая пустой, по обыкновению, портфель к сердцу, он отдавал себя в полное распоряжение, просил любить и жаловать. Что им не будут брезговать, он был уверен, так как состав канцелярии председателя оставался тот же.
Личных средств к жизни у Андроникова не было, а жил он, не отказывая себе ни в чем. Так как жалованья он не получал от казны, то заменяли таковое те гонорары, которые он получал за всякие ходатайства во всех министерствах и учреждениях, где у него были свои люди. Кроме того, он пристраивался к разного рода аферам и эксплуатировал отдельные личности, попадавшие в его паутину.
Одной из таких была госпожа Червинская, которую он обработал так, что сам же называл баронессой Пильц из «Петербургских трущоб». Пустив ее деньги в оборот своих афер, он посадил ее на мель и сделал своим послушным орудием. Так же прекрасно владея иностранными языками, образованная и значительно его умнее, компаньонка была вместе с тем с каким-то мозговым завихрением, до паники боялась собак, и находившее на нее временами нервное возбуждение придавало ей вид умалишенной.
В интересах темных дел у Наталии Илларионовны Червинской создана была пародия на салон, где собирались недовольные мною такие господа, как, например, полоумный Коломнин с женой, обработанной «баронессой Пильц» как следует. Появлялся там и товарищ председателя Государственной думы Варун-Секрет, личность совсем не двусмысленная, использованная против меня в клеветнических заметках «Нового Времени».
К «салону» принадлежал и полковник Булацель, бывший адъютант военного министра, покинувший эту должность не по своему желанию, а за поступки, неприличные для порядочного человека. Словом, хороший был это уголок для «рандеву» порядочного сброда, пригодного в делах князя Андроникова, для его конторы шантажа и темных дел.
Что касается квартиры – конторы самого князя, то ее посещала масса молодежи, юнкеров, кадет, воспитанников разных заведений, приезжие провинциалы, прибывавшие в столицу для устройства различных дел и осведомленные о деятельности Андроникова и его связях в Петербурге.
Заискивая у митрополита и высшего духовенства, он притворялся глубоко верующим, а на самом деле кощунствовал и был, безусловно, порочным человеком.
На Пасху развозил сановникам фарфоровые яйца, а у себя отправлял даже какое-то своеобразное божественное служение. Перед киотом с образами и пасхальными яйцами зажигал восковые свечи, пускал граммофонные пластинки с церковным пением и самолично читал молитвы с кадилом в руках.
Доигрался Андроников и до высылки из столицы и, наконец, до ареста.
Князь пристроился к какому-то предприятию по доставке мороженой рыбы в Петербург, и когда она прибыла в количестве, превысившем спрос, то Андроников решил разослать ее в виде презентов всем своим знакомым, сильным мира. Получил и я мороженого осетра, которого вернул ему под тем предлогом, что жена была за границей и дома у меня не готовили.
Обиженный Андроников явился и сам рассказал мне с негодованием, что получилось: рыбу развезли из склада, а за небольшим лишь исключением почти всю ее свезли обратно к нему на квартиру. Все эти аршинные и полуторааршинные рыбины загромоздили его жилище, сложенные, как дрова, и начали оттаивать.
От всех знакомых ему сановников он выпрашивал портреты с подписью и ими украшал свое жилище, что должно было поднимать его акции в глазах людей, прибегавших к его протекции и содействию в проведении разных дел. С портретами же моим и моей жены он проделал следующее.
Доступ в семью Константиновичей дал ему, по всей вероятности, мысль задумать аферу в Туркестане, где находился безвыездно великий князь Николай Константинович, занимавшийся делом орошения. Эмир Бухарский предоставил Андроникову участок безводной местности для превращения ее в нечто плодоносное. Для этого требовались средства, которых у Андроникова не было. Он и стал собирать компанию на акциях, сделав прежде всего участником предприятия самого эмира, на несколько десятков тысяч рублей. Внесли ему свою лепту и некоторые из великих князей, но этого ему было мало.
Когда же я поехал в Туркестан, то князь Андроников, забрав с собой портреты, выехал в Ташкент раньше меня и, расставив изображения мое и жены у себя в номере гостиницы, вербовал акционеров, ссылаясь на то, что и жена военного министра – акционерша, а министр сам на днях приезжает. Когда я вернулся в Петербург из этой поездки, то бывший со мной адъютант, затруднявшийся доложить мне это лично, рассказал моей жене. Она пригласила Андроникова и адъютанта, который князю все это при ней подтвердил, и смущенный князь со своим портфелем исчез.
После этого, конечно, князь Андроников доступа к военному министру больше не имел.
С этой минуты началось то, о чем предупреждал меня генерал Мышлаевский в свое время: Андроников пошел на нас войной и причинил нам много горя.
Эту кампанию против моей жены и меня Андроников повел своей опытной рукой шантажных дел и провокаций. В большом порядке содержался у него архив всякой переписки, справок и документов, служивших ему материалом для анонимок, доносов и клеветнических записок.
Деятельной помощницей его была Червинская, которая одно время, когда была без приюта, приехав из Киева, довольно долго жила даже у нас в доме и знала все входы и выходы. Началось с подкупа прислуги, которая подслушивала, что говорили, кто бывал у нас и многое другое. Все это комбинировалось, подтасовывалось, фабриковались анонимки, клеветой отбивались от нас некоторые из неустойчивых наших знакомых, и все, и вся, что только можно было, восстанавливалось против нас.
* * *
В июне 1915 года, во время заседания Совета министров, фельдъегерский офицер привез мне из Ставки личное письмо государя следующего содержания:
«Ставка, 11 июня 1915 года.
Владимир Александрович!
После долгого раздумывания я пришел к заключению, что интересы России и армии требуют в настоящую минуту вашего ухода. Имев сейчас разговор с вел. кн. Николаем Николаевичем, я окончательно убедился в этом.
Пишу вам сам, чтобы вы от меня первого узнали. Тяжело мне высказывать это решение, когда еще вчера видел вас.
Столько лет поработали мы вместе, и никогда недоразумений у нас не было.
Благодарю вас сердечно за всю вашу работу и за те силы, которые вы положили на пользу и устройство родной армии.
Беспристрастная история вынесет свой приговор, более снисходительный, нежели осуждение современников.
Сдайте пока вашу должность Вернандеру.
Господь с вами. Уважающий вас Николай».
К этому удару я был совершенно не подготовлен, хотя, конечно, видел грозные тучи, надвигавшиеся против военного ведомства. О сообщениях Гучкова с фронта я уже говорил. В январе 1915 года я выдержал жестокий бой в Думе, в защиту управления армией от несправедливых нападений.
Против верховного командования и особенно против великого князя Николая Николаевича критическое настроение усиливалось все более и более. Почти непрерывное наступление немцев, уступка одной позиции за другой, разрастающееся неудовольствие внутри – все это формально вопило о какой-либо жертве. За несколько месяцев до того мне было ясно, что этой жертвой должен быть великий князь, но ясно было мне также и то, что она будет не единственной. В данном случае для государя играл роль вопрос престижа Дома Романовых. Вследствие этого нельзя было без дальнейших околичностей жертвовать судьбой великого князя как полководца. Для партий Государственной думы на первом плане стояли вопросы внутренней политики; для большинства октябристов под эгидой Гучкова и вплоть до крайних левых казалось, что наступила минута низвержения царской России. Они должны были напасть на тот пункт, где они думали найти доказательства того, что старый режим прогнил.
Союзники – Франция и Англия – должны были препятствовать тому, чтобы царь заключил мир. Англия видела созревающей свою большую победу: уничтожение русского могущества, которое стояло поперек дороги ее азиатским планам. Но Франция считала для себя гибельным, если русское пушечное мясо будет отнято у немецких пушек. Эти союзники царя шли неуверенно к революционерам и социалистам, убеждая их в общности интересов продолжения войны. В действительности заключение мира с Германией подготавливало конец самодержавия, но не монархии.
В то время сильную опору, на которую царь мог рассчитывать в Петербурге, – он мог найти лично во мне и моем министерстве, том благожеланном громоотводе, на котором мог произойти разряд раздражения.
Государь разделался с этой непогодой вышеприведенным документом, в виде любезного письма, и моим назначением в Государственный совет. Я не был уволен от государственной службы! Тем не менее этим фактом общественному мнению указывалось, что царь не считает виновным великого князя. Это удовлетворяло пока и великого князя и думские партии: и тот и другие выигрывали теперь время, чтобы смешать свои карты и принять меры, один – чтобы оградить свою полководческую славу, другие – чтобы подготовиться к генеральному сражению с царским режимом.
* * *
Получив письмо от государя, я пригласил к себе моего достойнейшего помощника, генерала Вернандера, и передал ему в тот же день свою должность.
Прежде всего нужно было очистить мою должностную квартиру. Мы с женой нашли в Коломне, на Большой Мастерской, меблированную квартиру, которая в качестве временной для нас годилась. Германский подданный, которому она принадлежала, при объявлении войны уехал в Берлин.
Жена моя просила тогда Ростовцова (камергера императрицы) принять от нее благотворительные учреждения, склады, денежную кассу, прачечные и прочее – и отошла в сторону от благотворительности.
Вскоре нашли мы хорошую квартиру на углу Офицерской улицы и Английского проспекта, в той же части города.
Из письма государя уже видно было, что это – интрига, инсценированная великим князем Николаем Николаевичем. Министр двора, граф Фредерикс, этого и не оспаривал, когда я к нему обратился, чтобы узнать, должен ли я явиться к государю по случаю моего назначения членом Государственного совета.
После возвращения государя из Ставки я получил приказание представиться его величеству в Царском Селе.
Почти час я пробыл у него. О том, что происходило в Ставке, не упоминалось ни словом. Я доложил государю то, что осталось еще неисполненным от последнего моего доклада его величеству до отъезда в Ставку, а также вопрос о демобилизации. Уроки событий после японской войны должны были послужить указанием для организации демобилизации после этой войны, – что будет несравненно труднее, так как коснется не части армии, а всех вооруженных сил, – даже двойных размеров. Для благоприятного течения демобилизации уже необходимо приступить к подготовительным работам. Так как Поливанова я не видел и, вероятно, не увижу, то все свои соображения я представляю на благоусмотрение его величества, на тот случай, если они ему понадобятся.
При прощании царь меня поцеловал и сказал:
– С вами, Владимир Александрович, я не прощаюсь, а говорю: до свидания!
Но никакого свидания больше не было…
Что росло и готовилось расцвести лично для меня, об этом тогда я не имел никакого представления. Прием царя меня совсем успокоил, и я шел в мой новый дом с таким чувством, что в скором времени где-нибудь на фронте получу корпус.
После моей напряженной и многосторонней работы во главе колоссальной деятельности Военного министерства, которую так внезапно должен был покинуть, я, что называется, очутился не в своей тарелке, не зная, что мне делать.
Наступила своего рода реакция, и мои годы предъявляли свои права. Поэтому я с большим удовольствием принял приглашение моего верного, многолетнего друга и издателя в его имение под Курском. Владимир Антонович Березовский был одним из тех немногих, кто после моего крушения мне не изменил.
Из этого его прекрасного имения на несколько недель я проехал в Финляндию, на Иматру, где большую часть времени провел на рыбной ловле.
* * *
Силоти изобиловала прекрасной рыбой: форель, щука, окунь, лосось. Однажды мне удалось поймать 13-фунтового лосося, с которым пришлось немало бороться, чтобы получить его.
В середине июля приехал на Иматру принц Александр Петрович Ольденбургский (тут вообще собиралось избранное общество), затем приехала и моя жена на несколько дней. Основанием для разговоров служило, конечно, положение дел на театре военных действий, – газет почти не читали, но критики и споров было достаточно. Как-то раз наше общество дружно объединилось в заключении М.О. Меньшикова: «Мы должны победить!» С этим были все согласны, без различия чинов, положения и направления.
В это время жена моя разобралась со всеми своими благотворительными делами и принялась за устройство нашей новой квартиры.
Через несколько дней после получения известия об очистке Варшавы я переехал в Петербург. Там узнал о крупном скандале в Государственной думе и нападках на меня и на верховное командование армией. Я усматривал в этом выступление нашего народного представительства в смысле провокации, благоприятной для наших противников.
В течение зимы 1915–1916 года мне доставляло большое удовольствие составление очерков петербургского общества, которые в тесном кругу получили особенное одобрение, в силу того, что я постарался известные всем лица обрисовать без шаржа, целиком с натуры, не называя имен.
Во многих случаях мне это вполне удалось. Некоторые брошюры, в ядовито-критичной форме, изданы были под старым моим псевдонимом «Остапа Бондаренко», на темы текущих, современных вопросов.
Затем я приступил к подготовке описания кампании 1877–1878 годов, работе, к которой давно стремился. В Государственном совете я был неприсутствующим членом, к работам непричастным.
Как отдаленные сверкания молнии, нарушали мой покой газетные статьи, в 1916 году одиночные, затем чаще и чаще с нападками на меня и клеветой.
Они предвещали бурю, которая собиралась над моей головой, но я не мог угадать, с какой стороны она разразится.
В это время мои враги не дремали. До тех пор пока великий князь Николай Николаевич был Верховным главнокомандующим, т. е. до августа 1915 года, – он собирал против меня материал таким путем, чтобы я об этом даже и не подозревал. Лишь в феврале 1916 года начали доходить до меня слухи, которые исходили от какой-то комиссии, учрежденной Поливановым.
30 июля (12 августа). «Чем больше узнаю я людей, тем больше люблю собак», – сказал умный человек. Я всецело присоединяюсь к нему. В Петрограде это особенно верно – убеждаюсь в этом ежедневно на лицах, служивших со мною, а теперь не знающих, как угодить и отличиться в моей травле. Как мало порядочных людей!
2 (15) августа г. Караулов заявил в Государственной думе о моем якобы близком знакомстве со Шпаном. Оно заключалось в том, что единственный раз он был у меня на приеме, и после этого разговора я сообщил о том, что его надо выслать, что и сделали.
7 (20) августа. Известия с театра войны до того неутешительные, что предстоит, по-видимому, отступление наших войск по всему фронту. На какие позиции отойдут – Ставка самостоятельно этим ведала и Военного министерства не посвящала в свои планы, – поэтому трудно что-либо сказать. Может быть, и в этом виноват военный министр?
14 (27) августа. Полковник Балтийский, командир 291-го пехотного Трубчевского полка, был у меня и говорил, что недостатка снарядов и патронов в том виде, как здесь рассказывают, на театре войны не было.
25 августа (7 сентября). Говорят, деятельность управлений военного ведомства замерла. Никто не решается что-нибудь делать, боясь подозрения в «мошенстве». Сам управляющий очень занят бумажным делом, дела не двигаются, залежей масса.
27 августа (9 сентября). Верховный главнокомандующий назначен наместником на Кавказ, государь вступил в командование действующей армией. В добрый час. Верховный вождь армии взял меч в свои руки. Какое счастье будет, если Господь поможет помазаннику его повернуть счастье в нашу сторону!
30 августа (12 сентября). По слухам, при аресте Н.М. Юшкевича нашли у него перечень мероприятий по военному ведомству за мое время работы. Очевидно, это может быть принято за документ, не подлежащий оглашению. Между тем это сводка того, что уже всем известно из приказов и циркуляров, а получил он перечень, по просьбе В.Д. Думбадзе, для моей биографии. Еще одним поводом больше для нападок и травли.
9 (22) сентября. Переезжаем на новую квартиру (Офицерская, 53).
15 (28) сентября. Весь состав Совета министров вышел в отставку. Ходят слухи о «регентстве» Александры Федоровны.
18 сентября (1 октября). На четвертый месяц военный министр приглашает порт-артурского еврея Гинсбурга и дает ему громадные заказы в Америке и в помощь ему отставного генерала Вогака. Покупает в Мексике 200 тыс. ружей Маузера по 120 руб. за штуку, которые нам предлагали 4 месяца тому назад по 40 руб.
20 сентября (3 октября). По городским слухам, очень винят Ставку великого князя Николая Николаевича за отсутствие плана действий, за авантюру в Карпатах. Не имею возможности судить, был ли хоть какой-нибудь план, так как меня ни разу не пригласили на доклады его величеству в штабе Верховного главнокомандующего, когда я был с государем. Может, в этом я сам виноват.
25 сентября (8 октября). Вчера в 12 ч. ночи получил приглашение сенатора Посникова (члена Верховной комиссии по расследованию причин недостатка снарядов) пожаловать в общество взаимного кредита для совместного осмотра моих денежных ящиков – нет ли там документов по делу комиссии. В 3 ½ ч. дня сегодня состоялся осмотр в присутствии товарища прокурора судебной палаты и следователя по особо важным делам. «Документов» не оказалось, а для просмотра взяты дела по бракоразводному делу Бутовича, которые там хранились. Результаты рыцарского поведения «К º Гучков и Поливанов». Обижаться на контроль порядочные люди не могут, но это ведь в сущности «обыск».
26 сентября (9 октября). Сегодня доложил командиру Императорской Главной квартиры о бывшем обыске, для доклада его величеству. Графа Фредерикса, этого рыцарски-порядочного человека, видимо, очень беспокоит положение вещей, которому так посодействовал великий князь Николай Николаевич. Ушли министр внутренних дел князь Щербатов и обер-прокурор Святейшего синода Самарин. Вместо первого назначен член Государственной думы Хвостов, очень правый.
27 сентября (10 октября). Кругом окружен сыщиками, следящими за каждым моим шагом. Ничего, конечно, против этого я не имею, но по форме это противно и обидно: вот в какое положение попадают самые верные и преданные государю люди. Клевета, ложь, доносы, Гучков, Поливанов и К º, можно стряпать какие угодно гадости, топить людей… Знамение времени…
28 сентября (11 октября). В здании Мариинского дворца с сенатором Посниковым просматривали бумаги, которые были взяты из ящиков общества взаимного кредита. После исследования всего составлен протокол, что ничего не найдено. Нельзя же найти то, чего нет и быть не может. Со всех сторон слышу, что г-жа Червинская и полковник Булацель мстят нам за изгнание из дома.
23 октября. Очень интересное письмо начальника Главного артиллерийского управления генерала Маниковского в «Новом Времени»: «До сего времени военно-промышленными комитетами не доставлено ни одного снаряда. Все те снаряды, которые прибывают на позиции и которые приходилось видеть корреспонденту, поставлены по исполнении заказов, данных Главным артиллерийским управлением в прежнее время, до открытия Военно-промышленных комитетов». А левые газеты находили, что благодаря Поливанову повысился объем выпуска снарядов и всякого снабжения. Выходит, что как будто это не так.
24 октября. В «Земщине» вычеркнули статью, в которой разоблачались злоупотребления в Военно-промышленном комитете. Вместе с письмом Маниковского это вышло бы очень занимательно. Интересно, по чьей инициативе вычеркнули? На театре войны дела наши неплохи.
26 октября. Все чаще и чаще приходится слышать, что Мясоедов повешен для «успокоения общественного мнения», родственники возбуждают ходатайство о предании гласности судебного о нем дела, – что, по всей вероятности, и придется сделать тоже для «успокоения общественного мнения». Что Мясоедов негодяй – это верно, но не все же негодяи непременно являются шпионами.
14 ноября. Получил от Верховной комиссии сводку по материалам о снабжении армии снарядами, с просьбой высказать свое мнение. За справками не имею возможности обращаться в управления, подчиненные врагу Поливанову, – вынужден отвечать исключительно почти по памяти.
4 декабря. А.И. Гучков и А.А. Поливанов работают дружно, признавая существующий строй и порядок не соответствующими требованиям времени… Если вовремя это не прекратить – быть большой беде…
11 декабря. Сформированные Военно-промышленные комитеты, в большом числе и повсеместно, получают много денег, но едва ли для настоящей войны окажут существенную пользу. Следовало бы направить их деятельность к тому, чтобы впредь обрабатывающая промышленность водворилась и развилась у нас так, чтобы бывшая до сих пор наша зависимость и заграничная кабала исчезли.
21 декабря. Заканчиваю XII выпуск «Остапа Бондаренки». В 1898 году вышел VIII и теперь IX – «Жизнь на хуторе», X – «По хозяйству», XI – «Гром грянул», XII – «По поводу дороговизны».
23 декабря. Великий князь Сергей Михайлович возмущен тем, что творится в Военно-промышленных комитетах, в особенности с заказами Обуховскому и Балтийскому заводам.
31 декабря. Без сожаления расстаюсь с 1915 годом, самым ужасным в моей жизни, в котором видел доказательство того, как мало вокруг порядочных людей, а лишь сплошной эгоизм, бессердечие, клевета, ложь и самые позорные средства для устройства собственной карьеры, собственного благополучия…
В апреле 1916 года последовал домашний обыск и арест меня на квартире. После того мне пришлось почти два года, с небольшими перерывами, скитаться по тюрьмам…
Только теперь мне стало ясно, что 1915 год, по сравнению с 1916, был (по отношению к моей жизни) относительно мягким и спокойным…
Парламент и партийная политика овладели русской армией!
Часть десятая. Мой процесс
Глава XXXI. Мой первый арест
С началом войны не оказалось ни одной страны, в которой не говорили бы о недостаточной подготовке к походу. Даже немцы стояли на том, что они к последней войне не были вполне готовы, несмотря на то что с 1871 года, то есть 43 года, на это у них было достаточно времени. После турецкой войны 1878 года прошло 26 лет; но после японской кампании – ко времени всемирной войны – всего девять лет, из коих в должности военного министра я пробыл всего четыре с половиной года. В одном из писем Сабурову граф Милютин описывает, какие укоры посыпались на Военное министерство, когда понадобилось выдвинуть часть армии против турок. Условия русской индустрии, финансов и культуры таковы, что нам очень трудно быть независимыми и не отставать от Запада. Граф Милютин тогда еще осознавал наше тяжелое положение, обратил на него внимание и писал: «Чего же можно ожидать в будущем, если Россия будет вовлечена в большую европейскую войну и не будет вполне подготовлена к тому, чтобы твердо стать уже не против одних турок, а против миллионных армий, отлично устроенных и снабженных всеми усовершенствованиями современной техники?»
После этого оказалось, что к ответственности будет привлечен тот военный министр, которому удалось за четыре с половиной года сделать то, что привело противников в изумление: русская армия в таких превосходных силах и такой боевой готовности появилась на полях сражений, что немцы, стоявшие уже под Парижем, отступили и спешили соответствующими мерами спасти свое положение на восточном театре военных действий.
Кроме того, никто не ожидал возможности такой продолжительной войны, которая длилась бы более 4–6 месяцев. Труднее всех оказалось положение России, которой могла помочь лишь обрабатывающая промышленность, которая у нас была сравнительно ничтожна и вследствие этого с большим трудом поддавалась мобилизации, тогда как германцы при всех их преимуществах в этой области завладели еще Бельгией, со всеми находящимися там заводами, а затем еще и всей нашей фабричной индустрией левого берега Вислы.
К этому естественному недочету России прибавилось еще и неискусное руководство армией великим князем Николаем Николаевичем.
В Восточной Пруссии наши операции велись так, что мы потеряли две армии. Затем, по совершенно непонятным соображениям, предприняли наступление на Карпаты, тогда как прямая дорога от Кракова на Берлин существенно короче, лучше и менее опасна, нежели через Карпаты. В горах потеряли еще одну армию и после того без оглядки побежали назад, оставив противнику без сопротивления крепости, массу запасов и всякого имущества. Хотя «меч кует кузнец», а «действует им молодец», но в данном случае одного кузнеца привлекли к ответственности.
* * *
Чтобы сдвинуть скалистую глыбу, которая должна была меня сокрушить, целая масса рычагов была приведена в движение. Находили недостаточным нападать на меня в печати и в Государственной думе, критиковать и дискредитировать мои мероприятия, недостаточно было тех обильных интриг между ведомствами и внутри их, которые в петербургском воздухе были обычным, понятным делом, – вторглись в мою частную жизнь, затронули даже благотворительную деятельность моей жены в пользу действующих войск, чтобы меня задеть и уничтожить в общественном мнении. Из писем несчастной императрицы Александры Федоровны к мужу я вижу, что и она, хоть и помимо своей воли, приняла в этом участие.
В воскресенье 26 ноября (10 декабря) 1914 года моя жена, потратив много времени, организовала сбор в пользу раненых.
Царица по этому поводу пишет (два дня после того) своему мужу, находящемуся вместе со мной на фронте: «Я не желаю Сухомлинову зла, наоборот, но его жена в самом деле очень mauvais genre и всех, в особенности военных, очень озлобила, так как она меня “подвела” своим 26-го. Она говорила, что этот день очень подходит и что певцы хотят даром петь в ресторанах, чтобы собрать деньги для ее склада. И я позволила. К моему ужасу, я увидела в газетах объявление, что во всех ресторанах и кабаре (с дурной репутацией) будут продавать напитки в отдел ее склада (мое имя помещено большими буквами) до трех часов утра (теперь все рестораны закрываются в 12), будут танцевать танго и другие танцы в ее пользу. Это произвело убийственное впечатление. Ты запрещаешь (слава Богу) вино, а я, выходит, способствую пьянству ради склада. Это ужасно, и все имели право быть в ярости, раненые также. А адъютанты министра должны были собирать деньги. Уже не было возможности остановить это, поэтому мы просили Оболенского приказать, чтобы рестораны были закрыты в 12, за исключением только приличных.
Эта… вредит своему мужу и ломает себе шею. Она принимает деньги и вещи на мое имя, а выдает их от своего имени. Она… ему очень вредит, так как он ее слепой раб. И все это видят… Были сильные статьи в газетах по этому поводу».
Незадолго до моего увольнения императрица еще раз возвращается к моей жене, которая находилась в то время во Львове, вскоре после его занятия, и раздавала подарки.
Царица пишет: «Вчера я видела м-м Гартвиг, она рассказала мне много интересных вещей о том, как они оставили Львов, и печальные впечатления о солдатах, приунывших и говоривших, что они больше не вернутся, чтобы драться с врагом голыми руками. Ярость офицеров против Сухомлинова безмерна. Бедняга – они ненавидят самое его имя и жаждут, чтобы его прогнали. Ну, в его собственных интересах, прежде чем поднимется скандал, было бы лучше так и сделать. Это авантюристка-жена совершенно разрушила его репутацию. Он страдает из-за ее взяточничества и т. д. Говорят, что это его вина, что нет снарядов, – а теперь это наша гибель (проклятие). Я тебе это говорю, чтобы показать тебе, какие впечатления она привезла».
Незадолго до того, как это второе письмо государю должно было прибыть в Главную квартиру, председатель Государственной думы Родзянко был у великого князя Николая Николаевича. Настроенный Гучковым, он изобразил внутреннее положение в таком виде, что будто бы в стране сложилось мнение, что можно одним взмахом разрешить вопрос снабжения моим увольнением и назначением вместо меня Поливанова. Николаю Николаевичу, которому Поливанов в свое время, за счет государственного казначейства, за моей спиной, делал угождения, это было бы безусловно приятно.
В тот самый день, когда великий князь сообщал государю требование председателя Государственной думы, прибыло второе письмо императрицы, которое являлось точно голосом из армии.
Обработанный таким образом с двух сторон, – из опасения быть вынужденным сложить оружие перед императором Вильгельмом, – государь пожертвовал мной, несмотря на то что внутренне был на моей стороне и доверял мне больше, нежели Поливанову. Может быть, он даже рассчитывал на возможность моего возвращения к нему.
Сама Ставка времени не теряла. Начальник полевого штаба взял лично на себя труд найти средство, чтобы неудобного военного министра принести в жертву «общественному настроению». Один из возвратившихся из плена офицеров доложил, что немцы его подкупили убить Верховного главнокомандующего, взорвать мост на Висле и посредством одного известного офицера сообщить им сведения о русской армии. В Главной квартире этому обрадовались и распорядились ликвидацией этого офицера, на которого пало подозрение. Офицером этим должен был оказаться Мясоедов. Без всякого наблюдения за ним, без попыток выяснить, каким именно путем через фронт быстро могли передаваться известия противнику, – Мясоедова арестовали. Затем был отдан приказ немедленно предать его полевому суду, дело «быстро и энергично» ликвидировать и приговор привести в исполнение, не представляя на конфирмацию. Так и поступили. Подробнее об этом скажу дальше.
Для объяснения карпатской катастрофы прибегли к содействию тоже военно-полевого суда, при оборудовании дела Кочубинским, который инсценировал с этою целью мое знакомство с Альтшиллером, как перед этим использовали с тою же целью Мясоедова.
* * *
В этих видах предстояло очернение военного министра и одновременное обеление великого князя, для чего потребовалась довольно сложная организация.
План Ставки заключался, очевидно, в следующем: преемником увольняемого военного министра назначить его личного врага; затем составить комиссию, которая, являясь его послушным орудием, установила бы, что вследствие бездействия бывшего военного министра, он по мере возможности действовал в интересах противника, – налицо не было никаких снарядов.
* * *
Поливанов в действительности занялся распоряжениями по делу бывшего военного министра. Таким образом, три органически связанные группы работали на этом же поприще моего личного уничтожения и достижения своих целей, хотя и совершенно разнородных: великий князь – чтобы спасти свою славу полководца и, если бы удалось провести свой честолюбивый план, стать самому царем, Гучков – чтобы подготавливать пути в Государственную думу для демократии, а Поливанов – личная жажда мести. Все три группы были единодушны в одном, а именно – что необходимо общественное мнение и всеобщее озлобление направить к одному пункту. Этим пунктом являлся я.
Ставка подготавливала против меня материал, как изложено выше.
Поливанов создавал инструмент, тот аппарат, который вел бы к моему уничтожению, «верховную комиссию» для «расследования причин недостатка боевого снабжения». Председателем избран был генерал Петров, который при своих восьмидесяти годах давно уже потерял не только всякую связь с военным делом, но и всякое понятие о нем. Для какого-либо самостоятельного ведения дела при своем преклонном возрасте он был совершенно неспособен.
Членом комиссии был и товарищ председателя Государственного совета, действительный тайный советник Голубев, точно такой же престарелый человек, который в своей жизни никогда не держал в руках никакого оружия. Точно в насмешку ему поручено было расследование причин недостаточного снабжения пехоты штыками и о норме запасных штыков к наличному количеству винтовок.
Затем по рекомендации генерала Поливанова в эту комиссию был назначен товарищ председателя Государственной думы Варун-Секрет, который клеветническими статьями в «Новом Времени» возбуждал против меня общественное мнение…
Вся эта бессовестная интрига против меня в комиссии не была раскрыта, потому что нападающая на меня сторона имела возможность орудовать совершенно беспрепятственно, тогда как я лично, вследствие лишения свободы, не мог ничего предпринять для своей защиты.
Уволенному Поливанову, с 1905 по 1912 год стоявшему именно во главе тех отделов военного ведомства, которые занимались образованием запасов для военного времени, особенно важно было следы своей деятельности или бездеятельности стереть.
В комиссии, например, меня обвиняли в том, что я «в течение войны приказал 400 000 старых ружей забраковать». В свое время это дело поступило в Государственную думу в таком виде, что я «незадолго перед войной» приказал 400 000 ружей уничтожить. В действительности не я, а мой в то время помощник генерал Поливанов – и не в 1914, а в 1910 году – решил этот вопрос об оружии и притом вследствие выраженного желания Государственной думы очистить склады от устаревшего оружия, чтобы поместить в них новое. Это, несомненно, показательная подробность; с трибуны Государственной думы я обвиняюсь чуть ли не в государственной измене, а тот, кто это обстоятельство вершил и которого поэтому оно ближе всего касалось, в роли моего преемника, совершенно спокойно выслушивал это – вместо того, чтобы отдать честь истине и сказать правду.
Всем тем, кто желал воспользоваться случаем, чтобы свести со мной вновь свои старые счеты, дана была возможность подавать доносы, наполненные клеветой и сплетнями. Для этого из верховной комиссии выделена была специальная комиссия, которая весь этот материал получала и разрабатывала. И, действительно, в эту вторую комиссию всё, буквально все, что только люди могли придумать против меня, стекалось в общей массе. Даже семейные обстоятельства развода моей жены с ее первым мужем были сюда предоставлены. Басня о моем мнимом состоянии из многих миллионов – о люстре из севрского фарфора, которую будто бы у меня купили за невероятно большую сумму, с целью подкупа, равно как и о бессмысленных тратах моей жены и всякие другие глупости поступали в общую кучу на рассмотрение этой комиссии.
В довершение всего к услугам комиссии находился и весь государственный аппарат. Новый министр начал свою деятельность с увольнения моих старых сотрудников. Военная цензура тоже не пропускала ни одной строки в мою защиту. В Государственной думе Поливанов, не стесняясь, высказался, что верховная комиссия – это начало предания суду военного министра. Он самолично вел газетную кампанию против меня и даже находил время заниматься корректурой в гранках статей, направляемых против меня. И все это в такое время, когда можно было думать, что собственно 24 часов в сутки было недостаточно, чтобы справиться с работой по обороне страны, которая лежала на плечах военного министра.
Этим описанным способом обрабатывалось общественное мнение, что казалось необходимым для достижения скрытых целей. К отделам ведомства, в которых я легко мог найти материал для личного моего оправдания, а также и всего военного ведомства, я не имел никакого доступа. Создали даже мнение, что я шпион! И все это совершалось в самой бестактной форме, бессердечно, из мести и к величайшему вреду для страны…
Это поведение нового министра в тяжелое время войны, после роковой победы великого князя надо мной, содействовало второму крупному шагу по пути крушения военного ведомства и должно было соответственно вредно отразиться на армии и привести в конечном результате к полному ее развалу.
После девяти– или десятимесячной работы последовал домашний обыск и мое заточение в Петропавловской крепости…
* * *
В то время как я, после письма государя совершенно успокоенный, не ожидал ничего дурного и петербургскими сплетнями вообще не интересовался, Варун-Секрет и Гучков, со своей стороны, обслуживавшие моего преемника Поливанова и князя Андроникова, систематично заражали атмосферу, из уст в уста нашептывая утверждение, будто бы я через мою жену получил громадные суммы денег и этим подкупом оплачен, и нахожусь в сговоре с противником, у которого состою главным шпионом. Лишь много месяцев спустя, в тюрьме, я мог составить себе понятие о размерах и бессовестности этой позорной работы. Когда закулисные деятели признали, что настроение против меня достаточно подготовлено, из «верховной комиссии» выделена была подкомиссия Посникова, в которую тогда и потекли всякие инсинуации и грязь, собиралось все, что только насплетничали на меня. Сама же «верховная комиссия», ни разу меня, главу затронутого военного ведомства, не спросившая, тихо и незаметно стушевалась.
* * *
20 апреля (3 мая) 1916 года я вышел погулять по Офицерской улице и обратил внимание, что под воротами соседнего дома собирается партия полиции и что, чего доброго, готовится обыск по какому-либо преступлению или для предупреждения недозволенного какого-либо собрания. Но оказалось, что дело касается меня лично. Как только я вошел в переднюю, сейчас же, через парадный и черный ход, появилась вооруженная полиция и заполнила все мои комнаты. Домашний обыск!
Это было уже показателем, что протоколы судебному следователю доставлены и настало время дело мое передать прокурору. Судебное следствие производили сенаторы Кузьмин и Носович.
Началась одна из оскорбительнейших процедур, якобы отправление правосудия, когда у ни в чем не повинного человека, – а в настоящем случае еще и заслуженного офицера, хорошо всем известного, – злоупотребляя законом, всюду суют свой нос, все раскрывают, роются, как в своем собственном кармане. Этот домашний обыск производили Носович и сенатор Богородский.
Хорош был Носович, ходивший у меня по кабинету, засунув руки в карманы и подслеповато рассматривавший фотографии, группы и портреты на стенах. «У нас уже все предрешено», – словно говорила его физиономия. А бедный старикашка Богородский, запряженный в это постыдное дело, среди развала, учиненного у меня, отпуская понятых, обратился к ним и городовым, сказав: «Прошу никому ничего не говорить о том, что здесь происходило».
Все уже, казалось, закончилось, как какой-то юнец, с золотыми пуговицами на вицмундире, набрел в прихожей на блюдо с визитными карточками, которые он из усердия принес к одному из старших чинов; но тому, вероятно, самому стало противно, и он в моем присутствии резко сказал ему: «Бросьте!»
Вся эта процедура длилась с раннего утра до 4 часов пополудни. В каком состоянии были нервы моей жены и мои, – я думаю, всякому понятно. Надо было много выдержки и характера, чтобы все это «оскорбление во имя закона» перенести спокойно. По заранее составленной программе должен был состояться арест, уже и генерал Григорьев прибыл, а между тем обыск не дал для этого решительно никакого материала и повода. Я ждал, чтобы все эти непрошеные мои гости покинули нас скорее, но они не уходили. После непродолжительного совещания мне было объявлено, что теперь приступят к допросу.
Я просил отложить допрос до следующего дня, тем более, что было уже поздно, нервы мои взвинчены, и никаких обстоятельных показаний при таких условиях быть не может. Носович, опасаясь, что Богородский, чего доброго, на это согласится, отрицательно мотал головой, и согласия не последовало. Богородский даже рассердился, заявив мне, что если я откажусь сейчас от показаний, то он вынужден меня лишить свободы, так как предъявляемые мне обвинения чрезвычайно серьезны.
Поэтому, после бестолкового опроса, который другим и не мог быть, Богородский прочел мне постановление, в котором значилось, что мои показания не разубедили его в тех обвинениях, которые на меня возводятся, а потому он прибегает к высшей мере «пресечения», а именно аресту, так как опасается, что я могу уклониться от суда.
Учинив все это, «юстиция» удалилась, оставив меня на руки полицмейстеру, который просил немедленно с ним ехать, – все готово. Расставание с семьей и так тягостно, а удлинять болезненные минуты бесцельно.
Я простился. Мы с женой перекрестили друг друга, и к 8 часам вечера я очутился в Петропавловской крепости, где заведующий арестованными в Трубецком бастионе, полковник Иванишин, сообщил, что помещение для меня уже дня три как приготовлено, а именно камера № 43.
В этот день никакой пищи у меня во рту не было, так как в крепости уже ничего не полагалось, а дома и стакана воды выпить не пришлось. В дополнение к этому у меня с собой никаких вещей не было. Мое душевное состояние, которое я испытывал, отвечало тому, как если бы меня заперли в настоящем каменном гробу.
* * *
Камера моя в Трубецком бастионе была сводчатой постройки и имела в длину одиннадцать и ширину – шесть шагов. Цементированные стены и пол. Под потолком продолговатое, неширокое окно, в котором виднелся кусочек неба; с противоположной стороны – дверь, совершенно гладкая, открывающаяся с особенным, действующим на нервы лязгом только с наружной стороны. В ней открывалась отдельно небольшая форточка для передачи кушанья и имелся так называемый «глазок» – застекленная щель, закрытая тоже снаружи, – в которую можно было наблюдать, что делает заключенный. Посредине камеры стояла вделанная в продольную стену головной стороной железная кровать. Для матраца были устроены железные полосы в переплете, скрепленные болтами в местах соединения, своими головками значительно выступавшими. На этот переплет клался грубый холщовый мешок, игравший роль матраца, слегка набитый соломой, перемоловшейся в труху, вследствие чего выступающие болты давали себя знать лежащему на нем узнику. В таком же приблизительно роде была и подушка. Полагалась всего одна простыня и байковое солдатское одеяло.
Мебели решительно никакой, а у постели, к стороне окна, на кронштейне в стену вделана была железная, довольно узкая доска, которая заменяла стол, над которым помещался корабельный фонарь с круглым, толстым стеклом и рефлектором с электрической лампочкой, дававшей неприятный отраженный свет. Кроме того, в углу у двери имелись раковина и водопроводный кран, а также ватерклозет. Между двумя камерами в стене имелась печь, с отоплением из коридора и лишь душниками в номера.
Вот и вся обстановка, основная мысль которой была, чтобы заключенный не имел возможности лишить себя жизни. При поступлении у арестованного решительно все отнималось: ни подтяжек, ни ремней, не говоря уже о перочинных ножах и т. п., ему не оставляли. Давали днем полотенце, но в 9 часов вечера и оно отбиралось. На нем можно повеситься, но к чему его привязать?
* * *
Первую ночь я провел, конечно, не раздеваясь. В апреле месяце, но было холодно, а я не имел ничего своего, что смягчило бы хоть сколько-нибудь суровую обстановку, в которую я так неожиданно попал. Походив довольно долго из угла в угол, изображая тигра в клетке зоологического сада, я лег на настоящее «прокрустово ложе», причем на первых порах болты из-под матраца дали себя сильно знать, и мне казалось, что я не засну. Каково же было мое изумление, когда я проснулся лишь утром и сразу не мог сообразить, где я. Тогда пришло мне в голову, что прав тот мудрец, который изрек, что «чистая совесть – самая лучшая подушка», – и утешал себя мыслью, что ни Кузьмин, ни Носович спокойно спать не должны на мягких своих одрах.
* * *
Летом, когда предстоял ремонт камер нашего коридора, меня перевели в № 55, в котором было несколько больше света и меньше сырости: вследствие того, что он был угловой, стена, окружающая каземат, отходила здесь дальше. Кроме того, у этого номера не было соседних камер, а помещались с одной стороны цейхгауз, а с другой – библиотека.
Последняя составилась из пожертвований, главным образом бывших заключенных, и при значительном количестве книг была довольно содержательна, не исключая и сочинений на иностранных языках. Обстоятельно составленный каталог давал возможность удобно пользоваться этой литературой. Более ста своих книг и я внес в него.
На продовольствие от казны полагалось всего 40 копеек в сутки, три раза в день подавали кипяток в чайнике. При отсутствии собственных средств у заключенного приходилось довольствоваться из котла команды крепости.
Но оставшаяся тогда на свободе моя жена на другой же день моего заключения энергично принялась хлопотать о том, что можно сделать, чтобы облегчить мое положение, и протестовать против небывалого произвола.
Как оказалось, многим была совершенно ясна подкладка всего затеянного против меня, и жене удалось поэтому кое-что выхлопотать. Мне разрешен был свой матрац и постельное белье, складной столик и кресло.
Во время этих хлопот обо мне шофер нашего автомобиля обратил внимание жены, что какой-то автомобиль настойчиво за ними следует.
Жена зайдет в магазин – автомобиль этот останавливается недалеко, а какой-то господин подходит и заглядывает в окно, что жена там делает. Во время одной такой остановки жена подозвала к себе этого господина и пригласила его сесть в наш автомобиль. Никак этого не ожидая, он растерялся и сел, а жена привезла его быстро в Департамент полиции, и надо же было случиться, чтобы в это время на подъезде был сам директор, которого она знала. Она сдала таким образом преследовавшего ее господина с рук на руки, – его арестовали и выяснилось, что это сыщик, так сказать «приватный», председателя Совета министров, господина Штюрмера. Даже Департамент полиции поразился таким усердием.
Большим утешением были свидания, хотя очень краткосрочные, в присутствии полковника Иванишина, причем не разрешалось говорить ни о деле, ни о политике, ни о газетах, вообще о том, что не касается семейных дел и дома.
Ежедневно на полчаса меня пускали на прогулку в небольшой садик, внутри пятиугольного бастиона, а когда заключенных было совсем мало, одно время чуть ли не я только один, то и по часу и даже два раза в день. Ко мне слетались голуби, и я кормил их хлебом и зерном, приручив до того, что когда только показывался из дверей, они окружали меня целой стаей, садились на плечи, вились над головой. Я приучил их ходить за мной по пятам. Посреди садика находилась баня, которая отапливалась один раз в две недели.
Наблюдательная команда состояла из 24 человек, половина – жандармов Петербургского губернского жандармского управления и другая половина – специально крепостных нижних чинов. Люди эти неуклонно исполняли все правила, установленные для наблюдения за арестованными, но делали это человечно, не позволяя себе ни в чем ухудшать и без того тяжелые условия узников, наоборот, что только было допустимо, толковалось в пользу заключенных.
Несколько раз навещал меня комендант крепости, мой старый знакомый, бывший командующий войсками Одесского военного округа, генерал Никитин.
В церковь не пускали, но священник для исповеди и причастия приходил в бастион. Для него отводилась пустая камера, куда приносились образа и аналой.
Довольно долго не являлся ко мне для допроса сенатор Кузьмин. Но наконец появился вместе с Носовичем и секретарем.
Являясь в Трубецкой бастион, Кузьмин напомнил мне «Акакия Акакиевича» аккуратным обращением своим с канцелярскими принадлежностями и формалистикой заурядного чиновника, – будучи слепым к существу дела до такой степени, что для краткости пропускал смысл. Протоколы писал всегда собственноручно, тщательно выводя любимые им буквы, а в один из них вставил, не стесняясь, целую фразу, которой я не говорил, но которая ему тоже нравилась.
В то время, что я сидел в крепости, жене моей пришлось еще раз удостоиться домашнего обыска. Всеми способами ограничивали меня в средствах для защиты. Арест, во всех отношениях, значительно ухудшил все мое положение; я не имел возможности ответить на все клеветнические нападки, раздававшиеся с трибуны Государственной думы и появлявшиеся на страницах печати.
При обыске, по распоряжению сенатора Кузьмина, у меня взята была и упомянутая выше записка 1909 года, которая была возвращена по окончании следствия. На ней имеется пометка следственной власти: «приобщить».
Очевидно, имелось в виду учесть содержащиеся в ней данные, но когда выяснилось, что записка может свидетельствовать лишь в мою пользу, то «приобщение» не состоялось.
Для характеристики, чем оканчивались мои попытки получать иногда справки, могу указать на такие курьезы.
Прошу официально сообщить мне копии журнальных постановлений Военного совета о предуказаниях 1904 года, которые, очевидно, относились к вопросу снабжения снарядами. Не скоро, конечно, однако получаю копию о снабжении, но не снарядами, а биноклями! Прошу справку о снарядах через следователя, сенатора Кузьмина, который мне пишет, что предоставляет обратиться непосредственно в ведомство. Пишу военному министру, ссылаясь на указания сенатора Кузьмина. Долго не имею ответа. Оказывается, что военный министр Шуваев спрашивал министра юстиции Добровольского, который ответил, со ссылкой на разные статьи закона, что мне, как частному лицу, выдавать справок не полагается, но что я могу обратиться через сенатора Кузьмина.
Просил через председателя верховной комиссии, генерала Петрова, справку о поставке автомобилей. Очень скоро получил ответ, что распоряжение сделано, но с 1915 года по настоящее время этой справки я не получил. А она представляла большой интерес, так как после моего ухода цена по поставке грузовиков с 8,5 тыс. руб. возросла сейчас же до 18,5 тыс.
Мне не удалось, конечно, узнать и о поставке более миллиона ружейных лож к винтовкам членом Военно-промышленного комитета В.М. Родзянко, для чего он покупал березовую рощу у помещицы Хитрово, близ села Кончанского, Новгородской губернии. А интересно было бы знать, сколько времени потребовалось на превращение рощи в ружья и во что это обошлось?
Так состоялось мое обвинение! Два сенатора, Кузьмин и Носович, с усердием, заслуживающим более достойного дела, записали свои фамилии на черную доску нашей юстиции, рядом с прапорщиком Кочубинским, несомненным провокатором, процесс этот орудовавшим и подготовлявшим.
Этот скандал в благородном семействе всероссийской юстиции осуществлял третий сенатор – Н.Н. Таганцев, который основных принципов истинного отправления правосудия не признавал.
Полгода, таким образом, продержали меня в заточении, и несмотря на то что приняты были меры, чтобы я лишен был средств для защиты от клеветы, правда стала пробиваться. Даже Кузьмин вынужден был составить постановление, очень для него тягостное, потому что, несмотря на консилиум врачей, меня освидетельствовавших и признавших вредным пребывание мое в каменном мешке, – в свое время он не освобождал из заключения, – а в конце концов приписал: «По ходу дела признаю возможным заключение заменить домашним арестом».
Незадолго до этого я получил по почте от какого-то доброго человека серебряный образок Корсунской Божьей Матери с запиской: «Верю в вашу невиновность». Если эти строки попадут ему на глаза, – пусть он примет мою горячую благодарность за тот целительный бальзам, которым его слова и образок были тогда для наболевшей души моей.
* * *
Получив от следователя постановление о моем освобождении, комендант Петропавловской крепости, добрейший генерал Никитин, пришел сам объявить эту действительно радостную весть. В октябре, через 6 месяцев, я возвратился к себе на квартиру.
По соглашению с Министерством внутренних дел, домашний арест обставлен был таким образом, что из губернского жандармского управления по очереди дежурили офицеры, сменяясь в 12 ч. пополудни: Верещагин, Лавренко, Козак, Игнатьев, Белопольский, Шершов, Тучемский и Собещанский. По-видимому, дежурства эти не были для них тягостны, а меня они не могли стеснять после того, что я испытал в одиночном заключении…
За полгода я так отстал от всех событий и одичал, что потребовалось время, чтобы освоиться с моим новым положением и обстановкой полусвободного человека. Из того, что я узнавал, – в какой массе людей пришлось разочароваться и убедиться, кто был истинным другом. В несчастье это познается весьма определенно.
Глава XXXII. Подготовка к моему процессу
Говорят, «дурная слава по большой дороге валит, а добрая – по тропинкам пробирается». Со слов тех, кого я видел после освобождения из крепости, для меня было ясно, что по тропинке кое-что уже пробирается. В печати начали выясняться по мясоедовскому делу некоторые подробности. Так, например, в «Новой Жизни» г. А. Гойхбарг сообщает следующее: «Верховное командование, желая снять с себя вину за отступление нашей армии, решает объяснить это отступление существованием обширной шпионской организации. Для этой цели инсценируется вопрос о шпионстве. Набираются с бору да с сосенки разные обвиняемые, в большинстве евреи, из которых многие никогда и не видели Мясоедова.
Собирается подходящий материал, и по поручению Верховного главнокомандующего следствие поручают следователю по особо важным делам в Варшаве Матвееву, который вместе с прокурором Жижиным начинает “готовить” дело».
Но Верховному главнокомандующему не терпится. Он приказывает «закончить дело быстро и решительно», незаконно приказывает передать дело особо образованному военно-полевому суду. Следователь, вопреки закону, не окончив следствия, отсылает дело в военно-полевой суд.
Военно-полевой суд, скоро-решительный, на основании оговора сумасшедшей, покончившей с собой до суда, приговаривает трех обвиняемых евреев – Бориса Фрейдберга и братьев Зальманов к смертной казни, трех обвиняемых: еврея Давида Фрейберга, купца Ригера и крестьянина Микулиса – к каторге, а остальных 8 человек оправдывает. Этот приговор на следующий день, 17 июня, был утвержден, а в отношении смертников – приведен в исполнение.
Но такое малое количество смертных приговоров, опровергавшее легенду об обширной шпионской организации, погубившей армию, по-видимому, вовсе не понравилось инициаторам этих организованных убийств. Хотя оправданных судом вторично судить нельзя, но не насытившийся тремя убийствами, тремя смертями, Николай Николаевич Романов отдает новый неслыханный приказ – считать приговор утвержденным только относительно казненных, а всех остальных, то есть и тех, кто уже вошедшим в законную силу приговором военно-полевого суда были признаны невиновными, вновь судить другим судом, военно-окружным, так как, по его мнению, они все-таки шпионы. В приказе сказано: «Безусловно не допуская гражданских защитников… и принять все меры к формированию надлежащего состава суда и назначению опытного обвинителя».
Этот приказ был равносилен приказу приговорить к смерти еще несколько человек, это был приказ подстрекателя убийцам. Двинский военно-окружной суд вновь судил 11 человек, из которых восемь были, по решению военно-полевого суда, заведомо невиновными, и приговорил к смертной казни, кроме трех стариков, прежним судом приговоренных только к каторге, также и трех оправданных: еврея Фалька 58 лет, барона Гротгуса и Мясоедова.
Всем обвиняемым, опять вопреки закону, было объявлено, что на это решение нельзя принести никакой жалобы. Приговор, явно незаконный, был утвержден, но барону Гротгусу и Мясоедову заменен каторгой.
Вполне возможное, при таких условиях, прекращение моего дела грозило завершиться крупным скандалом для многих, принимавших недобросовестное участие в этой грандиозной провокации.
Но закулисные мастера Поливанов и Гучков не зевали. Надо было спасать положение. Кузьмин и Носович поехали в Тифлис и допрашивали Янушкевича. Из этого ничего не вышло. Нельзя было решительно ничего придумать, что могло бы меня сокрушить окончательно; поэтому пришло в голову использовать явно ложное показание Бутовича, опровергаемое лицом, на которое тот ссылался, и предъявить мне новое обвинение в том, будто бы в германском банке в Берлине помещены мои миллионы, и, кроме того, впутать мою жену, предъявив и ей обвинение.
Начались опять допросы, и мы с женой уже ездили в Министерство юстиции, где была штаб-квартира нашего следователя. И после шестимесячного заключения началось наше ознакомление со следственным материалом. Можно было с ума сойти от всей той наглой лжи, клеветы, провокации и всего нагроможденного в нем. Бессовестно при этом понукали нас, чтобы мы скорее читали всю эту груду в тридцать или сорок томов!
Что выяснили эти акты?
Может быть, читателю трудно будет поверить следующему, но я утверждаю, что излагаемое мною взято из обвинительного акта.
Я убежден, что найдутся русские юристы и писатели, которые эти документы еще раз пересмотрят, чтобы восстановить добрую славу русского правосудия исследованием, свободным от возражения и ничем не связанным.
Как раз в то самое время, когда специалисты военного дела начали резко критиковать стратегические эксперименты великого князя, которые стоили нам трех армий, входящие в состав штабов господа взяли на себя труд все несчастие объяснить недостатком боевого снабжения. Этого обвинения было, пожалуй, достаточно для того, чтобы убедить государя в необходимости меня уволить, но боевую славу великого князя спасти этим не могли. Это в Ставке скоро поняли. Положение великого князя стало бы не очень завидным, если бы энергичное расследование было предпринято для выяснения вопроса о несправедливом увольнении военного министра и по каким именно побудительным причинам.
Если не сам великий князь, то Янушкевич должен был ожидать возможности возникновения подобного дела. Допустить это было опасно, поэтому решили использовать обычную психологическую особенность на войне при неудачах: охотное и болезненное доверие ко всяким слухам об измене.
Нужен был для этого кое-какой материал, а главное юристы, с этикой своей корпорации не считающиеся и от всего сердца холопствующие. Нашлось и то и другое; в результате же получились два приговора военно-полевых судов, которые послужили поводом создать чудовищное обвинение меня в измене. Это были приговоры полевого суда над Мясоедовым в Варшаве и Ивановым в Бердичеве. Варшавский приговор состоялся вследствие ложного доноса возвратившегося из плена подпоручика Колаковского. Он заявил, что немцы его отпустили с условием, чтобы он организовал убийство великого князя Николая Николаевича и уничтожение мостов на Висле; что же касается передачи сведений о наших войсках немцам, то это он может исполнить через Мясоедова, находящегося в связи с военным министром, у которого, между прочим, с 1912 года он уже не находился. Это заявление мне доложено было своевременно, и я сейчас же направил его в Главную квартиру. В Ставке не потрудились в достоверности этого сообщения убедиться и выяснить, каким путем с фронта могли доставляться сведения противнику; более того, полевым судом был отдан приказ немедленно ликвидировать полковника Мясоедова.
После неудачи в Восточной Пруссии генерал Янушкевич писал мне: «Дело Мясоедова будет, вероятно, ликвидировано окончательно в отношении его самого не сегодня завтра. Это необходимо ввиду полной измены и для успокоения общественного мнения до праздников».
Долго не могли получить подлинное дело полевого суда в Александровской цитадели в Варшаве и дали его для просмотра мне только в последние дни предварительного следствия, в 1917 году. Оказалось, что по двум главным обвинениям Мясоедов был оправдан, а именно в том, что будто сообщил о XX корпусе неприятелю и что полученные сведения о германских войсках в Мариамполе скрыл от штаба. Виновным же признан в том, что: 1) сообщал сведения иностранному государству в 1907, 1911 и 1912 годах, причем в деле нет никаких данных, чтобы судить, на чем это основано и как мог в 1915 году разобраться в этом полевой суд, которому повелено было покончить дело «быстро и решительно»; 2) собирал сведения для сообщения агентам германских властей о наших войсках и сообщал ли он действительно – не установлено; 3) за мародерство.
Собственно, за последнее осужден потому, что сам в этом сознался. Что же касается обвинения в преступлениях, совершенных будто бы Мясоедовым в мирное время, в 1907, 1911 и 1912 годах, то оно, сверх всего, не подлежало суждению полевым судом.
Мнимый немецкий шпион, освобожденный поручик Колаковский, между тем в последующих своих показаниях сознался, что о покушении на великого князя он сочинил, чтобы обратить на себя больше внимания. В отношении же Мясоедова сперва показывал, что никогда о нем не слыхал, а затем, что, будучи в военном училище, читал о дуэли Мясоедова с Гучковым.
Всенародно об этом, конечно, не было известно, и «до праздников» 1915 года общественное мнение могло успокоиться, что виновник неудач найден и осужден.
* * *
Другой приговор полевого суда, а именно против полковника Иванова и К º, – явился тоже необходимым, вследствие великокняжеских неудач в Карпатах.
В письме ко мне эти неудачи закарпатской операции вызвали со стороны генерала Янушкевича такой же вопль об измене: «Сейчас узел событий на Карпатах. Надо успеть предупредить. Очень опасаюсь, что и там есть свой Мясоедов. Это так чувствуется, что волосы дыбом становятся. Неужели Русь так опустилась? Впрочем, Бог даст, справимся и с изменниками, хотя роль даже заглазного палача не особенно приятна, но тут не до того». Так писал мне Янушкевич.
И действительно, усердием следователя, специалиста в таких делах, прапорщика Кочубинского, найден и здесь шпион – Альтшиллер, которого я знал еще в Киеве, и в составе уже целого сообщества: полковник Иванов, его жена, Н.М. Гошкевич, его бывшая жена, Веллер, Думбадзе и писарь Главного артиллерийского управления Милюков.
Если дело Мясоедова возмутительно, то дело полковника Иванова и Кº – верх безобразий и морального упадка. Приговор по этому процессу, который велся полевым судом в Бердичеве, состоялся лишь после моего увольнения.
Какой это был суд, можно представить, исходя из сообщения главнокомандующего Юго-Западным фронтом 23 февраля 1916 года начальнику штаба Верховного главнокомандующего по поводу приговора: «Я не мог не прийти к выводу, что между изложенным в приговоре и постановлением заключается непримиримое противоречие: суд, признавая подсудимых виновными в тягчайшем преступлении, в шпионстве в военное время, в текущую войну, в пользу неприятеля, – в то же время указывает, что деятельность названных лиц являлась полезной в период настоящей войны, а в отношении Иванова даже усиленно полезной. Такое исключительное противоречие в таких важных документах, как приговор суда и постановление того же суда, я могу объяснить только тем, что полевой суд не вынес твердого убеждения в виновности осужденных, а это в свою очередь могло произойти вследствие того, что полевой суд не мог разобраться во всех деталях дела и справиться с возложенной на него задачей, о чем неопровержимо и свидетельствует противоречие приговора и постановления».
К счастью, по этому суду никого не казнили, двух дам оправдали, остальных же приговорили в каторгу и на поселение на разные сроки.
Насколько все это было незакономерно, достаточно указать на то, что, на основании ст. 1321 устава военного суда, дело было подсудно военно-окружному суду. Затем, на основании ст. 1317 того же устава, так как в «сообщество» входил нижний чин, унтер-офицер Главного артиллерийского управления Милюков, – то и петроградскому суду. А это было уже совсем не в интересах преступного оборудования и подтасовки всего дела, так как, если по ст. 1345 устава военного суда как свидетеля меня могли не вызвать, – то в Петрограде избежать этого было трудно.
На суде все время упоминалось мое имя, а я допрошен не был. Письмо, которое я писал начальнику штаба фронта, Кочубинский предъявил лишь после энергичного настояния подсудимого Н. Гошкевича.
Что касается «сообщества», то только из неблагодарного усердия и желания угодить Ставке можно было сочинить подобный абсурд: будто бы военный министр «состоял деятельным членом преступного сообщества и, будучи по должности источником наиболее важных военных тайн, являлся центральной фигурой этого сообщества, связующим звеном между деятелями, с одной стороны германского, с другой – австрийского шпионажа».
Преступное же сообщество это образовалось якобы с целью «учинения против России государственной измены, а именно способствования правительствам Германии и Австро-Венгрии в их враждебных против России планах и действиях путем собрания и доставления этим правительствам, через их агентов, сведений о вооруженных силах России».
Обращаясь просто к здравому смыслу судей, спрашивается, зачем «источнику военных тайн» могло понадобиться целое сообщество в таком прямо до смешного составе, с Анной Гошкевич и писарем Милюковым? «Тайны» у меня в руках, а я собираю какую-то совершенно невероятную компанию для собирания этих же тайн, подвергаю такое страшное дело без всякой надобности риску!
* * *
В актах следственного производства было еще много чудовищного. Оба приговора полевых судов казались недостаточными, чтобы на основании моих отношений к Мясоедову и Альтшиллеру приговорить и меня к смертной казни. Поэтому в следственный материал притянуто было и десятилетней давности бракоразводное дело моей жены с первым ее мужем Бутовичем. Очевидно, здесь была и другая цель – придать моему процессу «пикантность» и доставить господину Бутовичу случай своей клеветой и сплетнями обдавать меня грязью перед обществом.
Среди следственного материала находился и анонимный донос, автором которого обнаружился князь Андроников.
Когда назначена была комиссия генерала Петрова для выяснения причин недостаточной нашей подготовки к войне, то князь Андроников сочинил донос, который в экземпляре, направленном в комиссию генерала Петрова, заканчивался заявлением, что пишет маленький человек, не рискующий подписаться, чтобы не пострадать от Сухомлинова, но может указать на князя Андроникова, который, он надеется, не откажется подтвердить все изложенное невидным маленьким человеком.
Пригласили Андроникова, и как автору этого клеветнического документа – ему ли было не знать, что там написано? Показания его сошлись с доносом как две капли воды и послужили программой для всего следствия. А все, что было измышлено князем, при содействии достойных его сотрудников, всякими благородными способами, о нашей с женой жизнью, – было, например, в таком роде.
Была у меня севрская люстра, которую я собирался продать. Об этом знала Червинская. Из этого создано было, что я продал люстру на завод Шнейдера-Крезо за громадные деньги. Маскированный подкуп! Но люстры я не продал и с Крезо никогда никаких дел не имел; сама же люстра продолжала висеть в моей квартире.
Затем: в склад ее величества, устроенный у меня на квартире, инженер Балинский привез пожертвование от завода и вручил деньги мне. Я передал их по принадлежности и квитанцию выслал Балинскому. Этот факт в доносе превратился во взятку, которую я якобы получил от Балинского за заказы на его фабрику.
Нетрудно представить себе, какой смысл мог быть в подобном подкупе в такое время, когда у нас не было достаточно заводов для наших заказов и вследствие этого правительство находилось в зависимости от доброй воли фабрикантов, а не обратно! Русская индустрия далеко не была так развита, чтобы правительство могло делать выбор, и военный министр должен был бы радоваться, что вообще может помещать свои заказы. Таково было совершенно ясное положение этого дела.
В довершение всего возник еще один курьез. Жена моя была в меховом магазине, где ей показывали дорогой мех, в несколько десятков тысяч рублей, как и другим дамам. Она купила всего муфту в несколько десятков рублей. Об этом чудном мехе был, конечно, разговор дома. Этот факт приводился в доказательство безумных, не по моим средствам, трат и, стало быть, тоже на доходы незаконные; о покупке одной муфты, конечно, умалчивалось.
На все эти и подобные же измышления свидетели готовились из салона госпожи Червинской. Но на суд никто из этих лжесвидетелей не явился – один только Андроников был приведен под стражей, но и тот сознался, что никаких конкретных данных у него не было во всем том, что он сочинял в своем доносе.
* * *
Верховная комиссия генерала Петрова имела полную возможность все эти махинации и измышления Андроникова разоблачить. Для этого ей нужно было только допросить меня. То, что она на это не решилась, было понятно, если представить себе цель ее существования. Она образована была не для того, чтобы раскрыть правду, а чтобы ее скрыть и меня уничтожить.
Оценке свидетелей сенатор Кузьмин не придавал никакого значения, но подбор их оказался удивительный, – начиная князем Андрониковым и заканчивая австрийским шпионом Мюллером.
Мои дополнительные письменные показания подшиты просто к делу, без занесения в постановление или протокол, поэтому не попали в копии. Вообще материал, который мог служить в мою пользу, игнорировался, а письменные показания, поданные моей женой дополнительно следователю Кузьмину, в Петропавловской крепости, через администрацию последней, из дела исчезли бесследно, о чем и было заявлено на суде.
В таком же смысле сделана и выборка из писем моих и Янушкевича, а целый ряд писем из действующей армии, взятых у меня при обыске, в которых добросовестный следователь мог найти материал, свидетельствующий о том, что нельзя приписывать мне какое-то якобы «бездействие», если армия выступила в поход в образцовом порядке, Кузьмин абсолютно игнорировал. Сенатор Кузьмин не обратил даже внимания на то, что я ни разу не был вызван в Верховную комиссию и что при расследовании причин недостаточной подготовленности нашей армии, – о деятельности Совета государственной обороны, специально для того созданного и существовавшего с 1905 по 1909 год, ничего не выяснено, равно как упорно умалчивается о том, что же я получил в наследство и что сделано.
* * *
В результате следственного производства обер-прокурор, сенатор Носович, получил такой обильный следственный материал, в котором из-за деревьев леса стало не видно. Он правильно сказал нам с женой после одного из допросов, что для того, чтобы разобраться во всей массе томов, надо два года. Защита же имела на это меньше месяца.
Не особенно способствовало, при столь одностороннем направлении, которое получило дело, собирание данных для фактического разоблачения всего неверно мне приписываемого, – в особенности при той позиции, которую занял сенатор Кузьмин.
Два года тянулось дело, возникшее в 1915 году в самый разгар войны, для выяснения причин недостаточности снабжения армии боевыми припасами. В этот столь продолжительный промежуток времени все, кто только хотел, могли делать какие угодно заявления. Началось нагромождение в одну кучу: ведомостей о пушках, ружьях, снарядах, подозрениях о шпионстве, покупке имения, продаже люстры, мехах, шляпках, нарядах, бракоразводном деле, супружеских подвигах Бутовича и тому подобных сплетен, клеветы, шантажа.
Господин обер-прокурор имел полную возможность рассеять туман, что не представляло никаких затруднений. Надо было поставить несколько вопросов по существу, для ответа на которые из кучи взять лишь материал, непосредственно относящийся к делу. А именно:
1. В каком состоянии была русская армия к 1909 году? На этот вопрос можно было ответить неопровержимо:
– К выступлению в поход неготовой и небоеспособной.
2. В каком состоянии застало ее объявление войны в 1914 году?
– Способной быстро мобилизоваться, сосредоточиться на театре войны и боеспособной.
3. Чем же объяснить недостаток снабжения боевыми припасами?
– Тем, что никто из воюющих сторон не ожидал такой продолжительной войны. То, что можно было сделать за 4,5 года в русской армии, – сделано, и для кампании в 4–6 месяцев, при правильном расходовании, припасов было достаточно.
4. Почему не приняты были меры обеспечения боевыми припасами на случай такой продолжительной войны?
– Потому что на это не было ни времени, ни средств, так как только широко развитая обрабатывающая промышленность в стране могла задачу эту разрешить успешно. Одному же военному ведомству такая задача была не по силам.
На этом, по вопросу о бездействии власти, можно было бы поставить точку, потому что в разных деталях специального артиллерийского дела явится возможность разобраться лишь по окончании войны, а делать сейчас одного человека ответственным решительно за все, относящееся даже ко времени задолго до его фактической ответственности, – может быть, с политической точки зрения и нужно было, но с этической было бессовестно, нечестно.
Что же касается обвинения, то тут и вопросов ставить не было надобности, так как чистейший вымысел, фантасмагория прапорщика Кочубинского со всей очевидностью вызвала необходимость применения к нему ст. 1210 устава военного суда, то есть за преступление по должности следователя, проявившего чисто провокаторскую деятельность.
Мое глубокое убеждение, что это для господина обер-прокурора был тот редкий случай, когда по чистой совести обвинитель от обвинения мог отказаться, что было бы встречено полнейшим одобрением.
* * *
В то время, когда я так отстаивал свою голову, вспыхивает Февральская революция 1917 года, и какая-то компания вооруженных людей арестовывает меня на квартире и везет в Таврический дворец, где уже организовалась новая власть.
Во время переезда в грузовом автомобиле субъект в очках держал против моего виска браунинг, дуло которого стукалось мне в голову на ухабах. Полнейшее мое равнодушие к этому боевому его приему привело к тому, что он вскоре спрятал оружие в кобуру.
Затем несколько вопросов относительно моего дела и совершенно спокойные мои ответы на них окончились тем, что первоначальное неприязненное ко мне отношение превратилось в благожелательное.
У Таврического дворца снаружи и в залах, по которым я проходил, была масса народу, и никаким оскорблениям я не подвергался, как об этом неверно сообщали газеты. Действительно, всего один долговязый, кавказского типа человек произнес из дальних рядов: «Изменник!» Я остановился и, глядя на него в упор, громко ему ответил: «Неправда!» Тип настолько уменьшился тогда в росте, что головы его больше не стало видно, и я спокойно продолжал дорогу, без малейших каких-либо инцидентов.
Сначала меня провели, очевидно, к коменданту города, каковым оказался бывший улан его величества, а затем офицер Генерального штаба, член Государственной думы, Энгельгардт.
Он, конечно, поспешил меня сплавить, я вполне понимаю его щекотливое положение при таком свидании, и по указанию господина коменданта меня повели к Керенскому. Разобраться в том сумбуре, который происходил в то время в этом бывшем потемкинском жилище, было очень затруднительно. Мы вошли в какую-то залу, в которой за громадным столом сидела масса генералов, чиновных лиц и, кроме того, у всех стен, где только можно было приткнуться. Я думал, что это какое-то заседание, так как заметил генералов Павла Сергеевича Савича и Петра Ивановича Секретёва. Оказалось, что они все арестованные. Меня провели дальше, а в небольшом коридоре просили подождать.
Я сел у колонны и наблюдал то столпотворение, которое происходило вокруг. Солдаты, матросы, штатские с повязками и шарфами, вооруженные, – все это снует, что-то ищет: «Товарищ, как пройти к такому-то?» – «Вы, товарищ, обратитесь в информационную комнату»… Кругом все «товарищи».
Подошел ко мне какой-то приличный господин, подал мне ножницы и попросил очень вежливо, чтобы я спорол погоны. Я их просто отвязал и отдал ему, тогда он попросил и мой Георгиевский крест, но я его не отдал, и, к моему удивлению, бывший тут часовой, молодой солдатик, вступился за меня и сказал: «Вы, господин (а не «товарищ»), этого не понимаете, это заслуженное и так отнимать, да еще такой крест, – не полагается».
Наконец пригласили меня, тут же рядом, в сени, где стоял взвод солдат с ружьями, и появился Керенский, небольшого роста, бритый, как актер.
Мне он ничего не говорил, а обратился к нижним чинам и в приподнятом тоне сказал, что вот, мол, бывший военный министр царский, который очень виноват и его будут судить, а пока он им повелевает, чтобы волос с головы моей не упал. Хорошо, что я был в фуражке, а то люди убедились бы, что им нечего оберегать на моей голове.
Так начал свои гастроли, в роли Бонапарта, Керенский, выступая против царизма.
Тем все и закончилось. Я вышел во внутренний подъезд дворца, где стоял тот самый автомобиль, в котором меня привезли; мой почетный караул, оберегавший мою голову, присутствовал, когда я в него садился, а мои, уже старые знакомые, конвоиры дружески встретили меня и самостоятельно распорядились, чтобы посторонней публики не было. От них же я узнал, что меня повезут в Петропавловскую крепость, куда приблизительно через полчаса меня и доставили.
После же моего ареста явилась на квартиру целая шайка грабителей во главе с прапорщиком Черкуновым и под предлогом поиска оружия попользовалась чужой собственностью. Этот предусмотрительный прапорщик, перед тем как удалиться с награбленным, потребовал удостоверения, что никаких претензий моя жена к ним не имеет: они исполнили свой революционный долг как порядочные люди.
В крепости уже хозяйничали революционеры – вместо коменданта появился какой-то офицер в казачьей форме. Грязь и беспорядок успели уже водвориться и в комендантском доме. Какой-то гимназист сидел в роли писаря, хотя кое-кто из старых писарей еще показывался. Тут же ели, пили, курили, спали, вообще всякий делал то, что хотел, – полная свобода.
В то время как я среди этой публики ожидал своей дальнейшей участи, явился хорунжий Донского войска и осиплым голосом рассказывал, как он с казаками водворил порядок при разгроме винного магазина на Васильевском острове. Видимо, это его очень забавляло.
Со мной все были вежливы, даже принесли котлету с картофелем и чай. Затем явился исполнявший роль коменданта и предложил следовать за ним. У подъезда выстроен был взвод пехоты, который меня конвоировал в Трубецкой бастион. По глубокому снегу мы пробирались медленно, в ясный, лунный вечер, под печальные звуки «Коль славен» на колоколах часов Петропавловского собора.
В бастионе меня встретил тот же полковник Иванишин со своей старой командой унтер-офицеров. Арестованных еще не было никого; камеры были не отоплены. Я занял опять свой № 55. Оказалось, что революционная толпа нахлынула в крепость разбивать «бастилию» и выпускать заключенных, но таковых не оказалось, повторить страничку из французской истории не пришлось. Собирались учинить насилие над командой бастиона, но ограничились украшением их шинелей красными тряпочками.
Опять лязгнули запоры, и я остался в моем каменном гробу только со своими мыслями.
Снова опустился занавес, отделивший меня от мира, и я понятия не имел о том, что творится на свете. Отняли у меня все, что было в карманах, и без часов я узнавал о времени от дежурных, так как бой крепостных часов не доходил до этой камеры.
По шуму и движению в коридорах можно было догадаться, что камеры наполняются арестованными. Помощником у полковника Иванишина был какой-то офицер из Михайловского артиллерийского училища, на погонах которого спорота была уже корона над вензелем.
А что происходило нечто совсем скверное, я мог догадываться по тому, что проделывали со мной. Режим при царском правительстве был строгий, но гуманный, а при новом порядке или, говоря правильнее, беспорядке – бесчеловечный, чисто инквизиторский. Существовавшую до революции инструкцию забраковали, стали вырабатывать новую, и недели три нашу жизнь заключенных отдали на произвол солдат гарнизона крепости.
Обнаглевшие, со зверскими физиономиями люди в серых шинелях под видом каких-то гарнизонных комиссий врывались периодически в камеру, шарили в убогой и без того обстановке. У меня решительно ничего не было своего, полагалось быть в казенном белье и халате. Утешались эти изверги тем, что выбрасывали в коридор подушку, одеяло, матрац. Свирепствовал особенно какой-то рябой, скотоподобный солдат Куликов. При неоднократных обысках, причем раздевали меня догола, на каменном полу, в холодной камере, этот изверг нашел, что надо снять с меня и крест. Сняли, но кто-то из верующих еще в Бога отстоял, и крест отдали, а золотую цепочку Куликов оставил себе на память. Убрали его от нас, когда он присвоил себе два револьвера «товарищей».
Белье давали с клеймом клинического военного госпиталя, очевидно, выбракованное, до того рваное, что нижнее состояло иногда из отдельных штанин на каждую ногу. Рубашки, доходившие лишь до половины живота, с оборванными тесемками, так что нельзя было завязать воротника, а грубейшие носки, фасона прямого мешка, в том месте, где приходилась пятка, во всю ее величину имели дыру. В две недели один раз меняли простыню и однажды дали вместо нее саван с нашитым посредине крестом.
Немного суеверного каптенармуса латыша Мазика, очень хорошего человека, это даже смутило, но я ему объяснил, что крест не может быть плохим предзнаменованием, а скорей хорошим.
Зато попалась как-то прекрасная, длинная, батистовая рубашка с клеймом «Женек, гимн. кн. Оболенской». Как она попала сюда, никто объяснить не мог, а я жалел, когда с ней пришлось расставаться при смене на кургузую и грубую мужскую.
Хозяйство начало приходить в расстройство – электричество часто не давало света, и в зимние дни приходилось сидеть в темноте, потому что ни керосина, ни свечей уже не было. Это было особенно тягостно, поэтому когда раздобывали какой-нибудь огарок и спички, то приходилось беречь его как зеницу ока, зажигая лишь на несколько секунд.
Всю старую команду постепенно отправили в строй, а вместо нее назначили новую. Приехал и сам Бонапарт – Керенский. Надобности в этом, понятно, не было никакой, но его «влекло к знакомым берегам», и надо же было покуражиться перед бывшими сановниками, которым он объявил, что государь отрекся от престола и составилась новая власть – Временное правительство, в коем он не последнее звено.
Объявили новую инструкцию, утвержденную Керенским. Жаль, что он не испытал ее после того на своей спине. Прогулки полагались всего по несколько минут, так как выводили поодиночке, чтобы никто друг друга не видел; пища – исключительно из солдатского котла, вернее – остатков в нем, так как команда питалась раньше нас, в коридоре, а затем разносили заключенным, подавая оловянную миску с бурдой и на ней тарелку с признаками какой-нибудь каши, в которую однажды мне подсыпали битое стекло, кусок которого уколол в нёбо, что и спасло меня. В «глазок» при этом все время наблюдали – когда начнутся последствия этого варварства.
От полков гарнизона приходили солдаты посмотреть, как сидят бывшие царские слуги. На нервы действовало постоянное щелканье закладки «глазка», пока все не удовлетворят свое любопытство. Слышен был при этом смех, всякие издевательства, обещание скоро с нами покончить…
В самом начале никаких свиданий не допускали, и я не подозревал, что мою жену тоже арестовали. Во время прогулки один из часовых мне мимоходом сообщил: «Ваша жена тоже арестована». Через несколько же дней, проходя по коридору на прогулку, я заметил женщину вместе с дежурным. Это навело меня на мысль: не здесь ли и Екатерина Викторовна? Оказалось, что она и Анна Александровна Вырубова действительно в Трубецком бастионе и для них из женской тюрьмы командированы две надзирательницы.
Камеры наши мы должны были убирать сами, для чего в форточку нам просовывалась половая щетка. При царском режиме уборка производилась во время прогулки прислугой, и никогда ничего из нашего имущества не пропадало, чего нельзя сказать про время царствования Керенского.
И физические и моральные условия были таковы, что никакое здоровье не могло их вынести без ущерба. Пришлось обратиться к врачу, каковым оказался ассистент известного Мечникова – и прекрасный доктор, и прекраснейший человек, Иван Иоанович Манухин. Все, что он только в силах был сделать, чтобы облегчить нашу участь, не говоря уже о медицинской помощи, он делал. Разрешено было, например, молоко сильно ослабевшим и второй матрац.
При всей строгости наблюдения страже удавалось сделать кое-что, выходящее за пределы установленного режима. Так, например, я мечтал о том, каким развлечением были бы карты и возможность убивать время пасьянсами. Бумага, перо и чернила нам разрешались в течение дня. Я попросил купить мне так называемую «александрийскую» и получил несколько листов этой бумаги. Ни ножа, ни ножниц, конечно, не давали. Перегибая лист многократно и нажимая ногтем на сгиб, я постепенно делил бумагу до размера самых малых пасьянсных карт, что выходило у меня чрезвычайно аккуратно. Затем от руки изображены были все масти и фигуры, но особенно забавно вышли дамы. Когда мне удалось передать затем такие карты в камеру жены, она мне говорила, что страшно им обрадовалась, – они придали ее номеру уют, но на дам она без смеха не могла смотреть.
Раскладывать пасьянсы надо было только так, чтобы карты не были видны в «глазок». Это достигалось тем, что сидеть приходилось спиною к двери, – да у столика иначе и нельзя было поместиться.
Удалось соорудить и абажур к электрическому фонарю, благодаря случайно очутившемуся у меня в руках кусочку проволоки от бутылки «Боржоми», которую откупоривали в коридоре у моей двери.
Отправляясь на прогулку, я ее заметил и при возвращении носком сапога продвинул в камеру. Бумага у меня была, и этого материала было достаточно, чтобы защититься от падающего прямо в глаза отраженного от рефлектора неприятного света. На это примитивное сооружение почему-то решительно никто никакого внимания не обратил.
Среди нашей стражи были люди с человеческим сердцем, которым мы с женою обязаны тем, что имели возможность сообщать друг другу несколько слов, а каким это было подбадривающим средством для нас лично – не испытавшему того, что мы испытывали, понять трудно.
Также мне удалось самостоятельно значительно уменьшить сырость в камере. Дело в том, что зимой окно намерзало, оттаявшая вода собиралась в желобок и затем текла по стене, образуя на полу лужу. Мокрая же стена покрывалась плесенью. Я неоднократно заявлял об этом старшему, но это оставалось «гласом вопиющего в пустыне».
Сердце мое стало пошаливать, и доктор прописал микстуру, которую принесли из аптеки в довольно большой стеклянной посуде. По инструкции она подавалась только в окошко и после приема лекарства отбиралась. Но однажды, случайно, бутылка осталась у меня, и я решил ею воспользоваться для осушки стены. Для этого нужна была веревка. На мое счастье, во время прогулки я заметил порядочный кусок таковой возле водосточной трубы, и мне удалось поднять ее незаметно для часовых.
Нужный материал был у меня таким образом готов, не хватало только палки, чтобы достать до высоко прибитого у нижнего края окна желобка. Это удалось добыть последовательно на трех прогулках: в первую я выломал из куста хворостинку и должен был оставить на месте; во вторую – я ее очистил, но не успел спрятать, и в третью – забрал, принес в камеру и положил под матрац.
Я проложил по желобу веревку, и ее хватило настолько, что удалось еще из середины опустить часть и привязать бутылку. По этой системе «вервия» стала стекать вода преисправно, и я только ежедневно выливал ее. Вся эта махинация, находясь за светом, не была видна со стороны двери, поэтому обратило на себя внимание старшего то обстоятельство, что стена стала просыхать, а затем и совсем высохла. Когда же он мне заявил, что не понимает, почему у других стена мокрая, а у меня сухая, во избежание недоразумений я секрет свой открыл, но не только не получил упреков, а напротив, мне высказано было одобрение.
Называли меня «дедушкой», и на этот раз старший говорил библиотекарю: «А дедушка-то, поди, какой механик, оказывается».
Наша квартира и все наше достояние осталось на руках у Марьи Францевны Кювье, заведовавшей в доме хозяйством уже много лет. Несмотря на свое слабое здоровье, она добилась с большим трудом свиданий со мной. Происходили они в присутствии товарища прокурора и солдатского депутата – всего 10 минут.
Однажды меня неожиданно позвали на допрос. Приехал сенатор Кузьмин, чтобы закончить следствие и заявить, что появившееся со слов Варуна-Секрета сообщение в «Новом Времени» по моему делу оказалось ложным. Оно действительно было ложно, как и все остальные приписываемые мне, но только не удостоилось того же внимания со стороны следователя раньше. Со следственным материалом ознакомиться я успел только частью и настаивал на предъявлении мне дел полевых судов о Мясоедове и Иванове.
Их и привез мне, после того, прокурор Ланской. Прочтя одни только приговоры, я понял, почему так долго нельзя было их добиться и почему сенаторы Таганцев и Носович так сопротивлялись и так опасались их оглашения… Такими же были в действительности и оба Николая Николаевича – великий князь и его начальник штаба.
Для чтения этих дел посадили меня в комнату, в которой градусник показывал ниже нуля. Ланской находил, что в делах нет ничего интересного и не стоило из-за этого зябнуть. Ему очень не понравилось, когда я ему показал, что в них представляет совершенно исключительный интерес, и сделал все нужные мне из дел выписки.
После того явился ко мне в камеру присяжный поверенный Муравьев в роли председателя новой Чрезвычайной следственной комиссии и убедительно говорил, что дело это чрезвычайно важное. Я и ожидал, что «чрезвычайная» комиссия в «чрезвычайном» деле и разберется.
Глава XXXIII. Гласное судопроизводство и обвинение
Совершенно в стиле предшествовавшего следственного производства, ни в одной из фраз которого не было и подобия поисков правосудия, – а лишь целый ряд эпизодов политической борьбы, – в августе 1917 года решили инсценировать гласное судилище, обставив его с особенным усердием. Власть так называемого Временного правительства близилась к закату. Дело Сухомлинова, состряпанное в 1915 году для того, чтобы спасти полководческую славу великого князя, удовлетворить жажду мести Поливанова, а господам Родзянко и Керенскому пробраться к кормилу правления, – должно было уже теперь, в 1917 году, послужить дальнейшей цели: Керенскому и окружающим его людям удержаться у власти. Великий князь, Янушкевич, Поливанов и Гучков были уже давно в роли инструмента в руках Керенского именно в то самое время, когда в своем ослеплении думали, что вожжи в их собственных руках. Дело Сухомлинова должно было демократам и социал-демократам, ставшим целиком органом посольства Антанты, послужить средством унизить в глазах общественного мнения свергнутое царское правительство и раз и навсегда закрыть ему возможность возвращения к власти. Горькое разочарование для Николая Николаевича, надеявшегося возложить корону на свою собственную голову! Мой процесс должен был служить доказательством для всех в России, как опустилось, насколько развалилось и до какой степени предательским стало военное ведомство под эгидою царского правительства, и побудить крестьянина взять в свои руки спасение отечества. Мало того: новые властелины хотели процессом против царского военного министра учинить пропаганду и отвлечь им внимание солдатской массы от большевиков, которые после предательского приказа по армии № 1 военного министра Гучкова все сильнее и сильнее завладевали настроением всей страны. С апреля 1917 года зажигательные ленинские речи раздавались уже на фабриках и в казармах Петербурга. Большевистское восстание было тогда подавлено не без больших усилий. Немцы наступали безостановочно. Распространяемый в народной массе большевиками лозунг мира с немцами и войны с «капиталом согласия» становился среди молодого корпуса офицеров все популярнее, так как очевидная эксплуатация России Антантой, несомненное использование русского солдата исключительно как пушечного мяса многочисленным патриотам открыли глаза на то, что они гнусно приносятся в жертву только интересам Франции.
Это было проклятие, тяготевшее над Временным правительством, а также и царским, которое под руководством Извольского и Сазонова, договором двойственного союза, вело Россию к французскому игу. С того времени, как Россия в своей конвенции с Францией пошла на то, чтобы после объявления войны не соглашаться идти ни на какой сепаратный мир, она потеряла самостоятельность, так как в техническом отношении находилась в полной зависимости от своего союзника. Верховная комиссия по этому пункту не признала нужным разбираться, ввиду тех ограничений, которые ей были поставлены в вопросе о военном ведомстве. Она должна была бы затем выяснить, что Франция заключила договор, которого не в силах оказалась выполнить, потому что при европейской войне она нам технически оказать помощи не могла, как она это делать обязалась. В 1915 году русская дипломатия имела полную возможность вести самостоятельную политику, которая повела бы к тому, что Антанта пошла бы на мир с Германией, так как Россию нельзя было вынудить выполнять условия договора, не соблюдаемого другой стороной. В связи с этим есть и моя в этом вина, которую я вполне сознаю и сейчас подтверждаю: в те годы, с 1909 до 1914, я сделал не все, чтобы обратить внимание подлежащих ведомств на слабый пункт нашего положения в договоре двойственного союза. В течение этого времени я постоянно заботился о создании русской военной промышленности, не избегнув и личных конфликтов там, где их обойти было нельзя. Коковцов и великий князь Сергей Михайлович, в союзе со Шнейдер-Крезо, парижской и петербургской дипломатией препятствовали мне во всем и со своими возражениями выступали в Совете министров, Государственной думе и проникали даже до государя.
В продолжение многих лет ставились задачи, которые можно понять, лишь если допустить, что преследовалась цель полнейшей зависимости от воли Франции, – покорить Германию. Отсюда и пункт союзного договора с добровольным подчинением приказу французского капитала, который в условии договора Коковцова о железнодорожном займе проявлен определенно. Русский народ своими дипломатами и финансовыми людьми прямо-таки был продан Франции. Весной 1917 года широкие круги в России начали это сознавать. И так как Временное правительство не хотело мира, который оно от Германии в ее затруднительном положении могло получить за «понюшку табаку», – то появился Ленин и товарищи, которым с их лозунгом «мир без аннексий и контрибуций» было нетрудно привлечь на свою сторону страну и все военные силы.
Господа сенаторы, присяжные заседатели, прокуроры, защитники и подсудимые поместились на эстраде концертного зала собрания армии и флота. Места для публики было много.
Состав присяжных заседателей был образован, не считаясь с послереволюционным демократизмом. Случайно попал один, оказавшийся ко дню заседания солдатом, и Сенат, или, вернее, председатель суда сенатор Таганцев, немедленно же поспешил его устранить, сославшись на закон, аннулированный революцией, о бесправии солдата.
Свой нравственный облик Таганцев выказал образно по поводу свидетеля, моего старинного приятеля Н.Ф. Свирского, лет двадцать тому назад имевшего мастерскую художественной мебели, дворянина, человека с высшим образованием и по происхождению ничем не хуже Таганцева. Сенатор брюзгливо спросил: «Свирский – мебельщик?» Тон и манера говорили при этом: военный министр и какой-то мебельщик?!
Целый месяц тянулось судопроизводство. Перед судом и публикой продефилировала вереница свидетелей, более 100 человек всех сословий, рангов, положений и состояний. Неизвестно для чего вызваны были представители магазинов, удостоверившие только, что предъявленные счета моей жены подписаны действительно ими. В моем гардеробе почему-то следственные власти не рылись, поэтому мои портные и сапожники на суде не дефилировали.
Но зато сенаторы считали деньги в чужом кармане и моей «арифметикой», по выражению Носовича, были недовольны, так как миллионов ни русского, ни германского происхождения у меня не оказалось.
Были свидетели, сопровождаемые стражей. Давать показания и подтверждать свои сказки на суде охоты не было у всей группы лжесвидетелей.
Очень жаль, что чрезвычайно интересное показание давал генерал Михельсон, бывший наш агент в Берлине, при закрытых дверях. Дело в том, что когда рылись при обыске в моей переписке, то увидели, что лет двенадцать тому назад мне писал барон Теттау, известный германский военный писатель, проделавший с нашими войсками всю японскую кампанию.
Сенатор Носович хотел его использовать против меня и спросил генерала Михельсона:
– Не знаете ли, кто такой барон Теттау?
– Да, знаю, он офицер Генштаба и русофил, отчего и уволен в отставку.
При этом неожиданном ответе нужно было видеть выражение лица прокурора: он сделал смешное движение рукой, но это ни к чему не привело – он должен был рассмеяться. Как не юрист, я не могу рассудить, насколько г-н председатель оказался на высоте своего положения с формальной стороны. Но как простой смертный я сомневаюсь, закономерно ли было обрывать на каждом шагу защиту и показания свидетелей, говоривших в мою пользу, не допускать оглашения документов, имеющихся в следственном материале, и вместе с тем не останавливать обвинителя в некорректных выражениях и вообще в его вызывающей манере, что отмечалось даже в газетных отчетах из зала суда.
По кассационной жалобе Правительствующему сенату можно убедиться, какая масса вопиющих, прямых нарушений законов правосудия допущена и совершена председателем.
В роли добровольного свидетеля появился на суде инженерный генерал Величко, находя это судилище местом, в котором ему удобно сводить счеты со своим бывшим начальником.
По окончании показания этого свидетеля г. председатель предложил ему вопрос:
– Скажите ваше личное мнение: были ли мы подготовлены к войне?
Такой вопрос озадачил даже свидетеля, и он переспросил:
– Мое личное мнение?
– Да, – ответил Таганцев.
Тогда Величко стал излагать личное свое мнение, превратившись из свидетеля в эксперта.
Затем как бывший долгое время прокурором сенатор Таганцев, должно быть, по привычке, забыв, что он исполняет обязанность председателя, в своей напутственной речи присяжным в течение трех часов уговаривал их, склонял, а вернее «соблазнял» к обвинению. Каждого же из свидетелей он предупреждал, что просит говорить «правду, одну только сущую правду», а сам, в своей обвинительной речи, усердно повторял уклонение от истины прокурора Носовича и лжесвидетелей. Если к этому добавить, что на три дня присяжные были отпущены домой, что у них на руках был обвинительный акт, то картина незакономерности этого судилища будет полная.
Пунктом первым я признан виновным «в том, что, состоя с 11 марта 1909 года до 13 июня 1915 года в должности военного министра и будучи в качестве главного начальника всех отраслей военно-сухопутного управления, входящих в круг ведения Военного министерства, обязан наблюдать за благоустройством войск и военных управлений, учреждений и заведений и направлять действия всех частей министерства к цели их учреждения, в прямое нарушение таковой своей обязанности, оставил без наблюдения и личного своего руководства деятельность Главного артиллерийского управления по принятию сим последним надлежащих мер для снабжения войск и крепостей оружием, артиллерией и огнестрельными припасами и вообще для полного обеспечения государства предметами вооружения».
По пункту десятому я оказался виновен «в том, что, состоя с 11 марта 1909 года по 13 июля 1915 года»… и т. д., согласно пункту первому, «в прямое нарушение таковой своей обязанности, вслед за возникновением войны России с Германией, а затем и с другими державами, не принял необходимых мер для увеличения крайне низкой производительности частной промышленности для снабжения нашей армии предметами артиллерийского довольствия, каковые проявления его, Сухомлинова, бездействия власти представляются особенно важными, как повлекшие за собой понижение боевой мощи нашей армии».
Такое заключение может именно только «представляться», так как приписывать мне «понижение боевой мощи нашей армии», которую я получил, для восстановления ее боеспособности, совершенно немощной, – является чистейшим нонсенсом, так как нельзя растратить то, чего не имелось.
А что действительно «особенно важно» в этих двух пунктах, это неправильное понимание закона о степени и пределах власти военного министра, его прав и обязанностей, в чем нетрудно убедиться, вникнув в следующие статьи Свода Основных Законов, кн. V, разд. II, гл. I:
Ст. 154: «Существо власти, вверяемой министрам, принадлежит единственно к порядку исполнительному».
Ст. 166: «Власть министров состоит в том, что они могут понуждать подчиненные им места и лица к исполнению законов и учреждений». В Своде военных постановлений, в ст. 2-й: «Военное министерство, в общем составе государственного управления, есть высший орган, чрез который объявляется и приводится в исполнение высочайшая воля по предметам до военно-сухопутных сил относящимся».
Статья 1-я того же Свода гласит, что «верховное начальство над всеми сухопутными вооруженными силами Российского государства принадлежит государю императору – державному вождю российской армии. Государь император определяет устройство армии, от него исходят указы и повеления относительно дислокации войск, приведения их на военное положение, обучения их, прохождения службы чинами армии и всего вообще, относящегося до устройства вооруженных сил и обороны Российского государства».
Из этого кажется ясно, что военный министр как глава ведомства есть ближайший исполнитель воли верховного вождя армии, непосредственно ему подчиненный, и статьей 10-й установлено, что военный министр «наблюдает за благоустройством войск и военных управлений, учреждений и заведений и направляет действия всех частей министерства к цели их учреждений».
К статье 2-й имеется даже примечание, предусматривающее, как надлежит поступать тем начальствующим лицам, которые будут получать лично от государя повеление, «к исполнению до военной части относящееся», помимо военного министра.
И решительно нигде в законе нет указаний по поводу того, чтобы военный министр обязан был «руководить» лично не только Главным артиллерийским управлением, как сказано в пункте первом приговора, но и ни одним из остальных. В законе и не может быть такого положения, противоречащего естественным силам человека.
Неудивительно, что экс-корнет Родзянко на суде мог возглашать о моей всесильной власти, но чтобы гг. сенаторы-законоведы законов не признавали или не разбирались в них – есть от чего прийти в негодование.
Мыслимо ли признать по здравому смыслу нормальным, что министр может руководить лично и распоряжаться во всех главных управлениях ведомства? Тогда почему же не ставить в вину командиру корпуса, что он лично не руководит всеми полками, ему подчиненными?
В законе такого абсурда и нет. Военный министр «наблюдает» и «направляет», поэтому никому в голову не приходило создавать такое сверхъестественное положение, чтобы он обязан был «лично руководить» в числе прочих и таким сложным техническим управлением, как артиллерийское. В порядке же наблюдения, в отношении вопросов снабжения войск вообще и проведения кредитов, я поручил это моему помощнику как человеку, стоявшему у этого дела с 1905 года и более меня в этом отношении компетентному и осведомленному. Таким образом Главное артиллерийское управление находилось в ведении генерала Поливанова до 1912 года, а затем генерала Вернандера до 1915 года.
Когда генерал Поливанов мне доложил, что справиться с артиллерийским управлением не может, потому что оно забронировано великим князем Сергеем Михайловичем, я взял Поливанова для личного доклада об этом верховному вождю, ввиду статьи 18 Основного Закона, в которой указано, что «государь, в порядке верховного управления, устанавливает в отношении служащих ограничения, вызываемые требованиями службы». Но и этот, казалось, сильный бронебойный снаряд не помог.
Для того чтобы была хоть какая-нибудь возможность успешной работы, при той разрухе в самом ведомстве и в армии и при той тяжелой обстановке, в которой я очутился, другого выхода у меня не было, как восстановить полностью установленный законом порядок верховного управления всеми сухопутными вооруженными силами.
Принятый мной порядок как ближайшего исполнителя воли верховного вождя армии, конечно, был не по нутру великому князю Сергею Михайловичу.
Легкомысленное показание Сергея Михайловича не могло бы оставить следа в обвинительном акте, если бы следователь потрудился ознакомиться с этим вопросом по делам канцелярии Военного министерства, а не доверял человеку, настолько в сердцах увлекающемуся, что обнаружил даже полнейшее свое незнакомство с функциями Военного совета.
Вместо того чтобы говорить о том, с чем он совсем незнаком, он должен был дать правдивое показание по делу, ему действительно близко знакомому, – о деятельности Главного артиллерийского управления. Не утаивая ничего, он обязан был по совести выяснить неосновательность того обвинения, которое в приговоре выразилось таким образом, будто бы я «не принял необходимых мер для увеличения крайне низкой производительности казенных заводов» и затем «к использованию частной промышленности». Ему ли не знать, что все возможные только меры были приняты, и в сентябре 1914 года частная промышленность была призвана и использована широко, и что ко времени моего увольнения поступление снарядов значительно возросло, как это видно из доклада Верховной комиссии генерала Петрова, 14 августа 1915 года (Т. I). На этом докладе, когда А.И. Гучков заявил, что на июнь армия получила 900 000 снарядов, председатель сделал поправку: «1 200 000», а Гучков добавил к этому: «а с августа, в сентябре и октябре, пойдет уже все нормально».
В пункте первом говорится о том, что я лично не руководил Главным артиллерийским управлением. И не должен был по закону руководить, а личное мое вмешательство, когда я узнавал иногда о непорядках, вынуждало меня к этому лишь для наблюдения. Но и это усердием великого князя Сергея Михайловича превращалось якобы в личную мою заинтересованность по отношению к тому или иному заказу или заводу.
Если бы на чашу весов Фемиды было все это добросовестно положено, без обмана и обвеса, – ни первого, ни десятого пунктов приговора не могло бы существовать.
Затем к пункту первому имеются дополнительные пункты а), б), в), г), д), относящиеся к моим упущениям по делам Главного артиллерийского управления – в частностях:
«а) в последние перед войной годы и даже во время возникших опасений близости европейской войны, несмотря на предуказания Военного совета, выраженные в журналах его от 26 августа и 16 декабря 1904 года, допустил непринятие Главным артиллерийским управлением необходимых мер к тому, чтобы приспособить отечественные заводы к потребностям армии в снарядах во время войны и не подверг разработке даже вопрос о питании армии орудийными снарядами во время войны, на случай недостаточности заготовленных в мирное время запасов, каковое проявление его, Сухомлинова, бездействия власти представляется особенно важным, как повлекшее за собой понижение боевой мощи русской армии; б) в последние перед войной годы и даже во время возникших опасений близости европейской войны оставил без пересмотра произведенное военным ведомством в 1910 году исчисление количества требуемых пулеметов, могущего быть выделенными в случае войны количества винтовок, а также наличности ружейных и пулеметных патронов по исчислениям военного ведомства с 1906 до 1908 года, каковое проявление его, Сухомлинова, бездействия власти представляется особенно важным, как повлекшее за собой понижение боевой мощи русской армии; в) в последние перед войной годы и даже во время возникновения опасений европейской войны допустил непринятие Главным артиллерийским управлением необходимых мер для того, чтобы обеспечить казенным пороховым заводам взрывчатых веществ переход (на случай войны) от производительности, достаточной для мирного времени, к повышенной производительности, необходимой для удовлетворения потребностей в порохе и взрывчатых веществах во время войны, каковое проявление его, Сухомлинова, бездействия власти представляется особенно важным, как повлекшее за собой понижение боевой мощи русской армии; г) несмотря на ограниченность заготовленного до войны оружия и сомнительность современного, по объявлении войны, пополнения его из-за границы, допустил в последние перед войной годы и даже во время возникших опасений близости европейской войны непринятие Главным артиллерийским управлением мер к усилению как производительности отечественных заводов, так и готовности их к немедленной, по объявлении войны, выделке ружей в исчисленном военным ведомством в 1910 году количестве 2000 винтовок в день, каковое проявление его, Сухомлинова, бездействия власти представляется особенно важным, как повлекшее за собой понижение боевой мощи русской армии; д) ко времени объявления войны в 1914 году допустил, как непринятие Главным артиллерийским управлением к заготовлению всего того количества патронов, которое по исчислениям военного ведомства 1906 до 1908 года было установлено как наименьшая норма, так и непринятие сим управлением мер к обеспечению усиления во время войны отечественной производительности патронов в мере, сколько-нибудь приближающейся к потребности войны, – каковое проявление его, Сухомлинова, бездействия власти представляется особенно важным, как повлекшее за собой понижение боевой мощи русской армии».
* * *
В свою очередь и мне «представляется», что все эти пять пунктов преступлений «в прямое противоречие» с положением о пределах объема власти, обязанностей военного министра и фактической возможности лично руководить, вмешиваясь в детали такого технического дела, отнесены на мой счет неправильно.
Почему же тогда уже не свалить на меня и все недочеты наши перед японской войной?
Для выполнения предуказаний Военного совета нужно было озаботиться развитием нашей частной промышленности настолько, чтобы она могла мобилизоваться одновременно с армией, и согласно требованиям Ставки, Верховного главнокомандующего, изготовляла 1 500 000 снарядов в месяц.
В должность военного министра я вступил в 1909 году и знать о предуказаниях 1904 года не мог, раз мой помощник, генерал Поливанов, стоявший во главе дела снабжения, мне об этом не доложил.
Странно, что мой предшественник, являясь председателем Военного совета с 1904 по 1909 год, ничего в этом отношении не сделал и не оставил следа. Почему?
Вероятно, потому, что «ничего не раздают так щедро, как советы», в особенности те, кому приводить их в исполнение не приходится.
Казалось бы, по правам и обязанностям Совета государственной обороны, с его полномочиями, это была его задача, и почему этот вопрос и там не получил движения, – тоже нет следов.
Очевидно, что для этого нужны были деньги, много времени и, по соглашению с военным ведомством, исключительная работа Министерства торговли и промышленности. Ничего этого следствие не выяснило – не заслужило внимания сенатора Кузьмина; «внутреннее убеждение» ему, должно быть, говорило, что лучше не углубляться в это дело – может получиться совсем не то, что ему надо.
В положении о Совете государственной обороны для таких случаев междуведомственных работ и предусмотрены соответствующие статьи. В показаниях графа Коковцова, благодаря его словоохотливости, эти следы есть. В томе V следственного производства значится: «Зимой 1906 года, после одного заседания Совета государственной обороны, великий князь Николай Николаевич пригласил меня к себе в кабинет и здесь в очень резкой форме стал упрекать меня, что я урезываю кредиты военному ведомству, ставлю армию и его в очень тяжелое положение, что без денег он не в силах организовать и снабдить армию, а потому и не берет на себя ответственности за оборону страны. В ответ на это я рассказал великому князю о полученном мною донесении генерала Хорвата, о моей полной готовности содействовать военному ведомству и о неразрешении всех вопросов именно со стороны последнего. После этого тон великого князя по отношению ко мне совершенно переменился, он стал просить о моей помощи для назревших военных нужд, и окончание нашей беседы было весьма милостивое со стороны великого князя. Я тогда же просил великого князя доложить государю, что я даже при том тяжелом положении, в котором находились в то время наши финансы, считаю себя обязанным давать кредиты на оборону и в этом отношении с моей стороны отказа не будет».
Как всегда, много наговорил великому князю, председателю совета, что нуждам государственной обороны значение «придавал», а денег не давал.
Донесение же генерала Хорвата заключалось в том, что он просил военное ведомство убрать оставшееся после японской войны имущество на линии Восточно-Китайской железной дороги. Коковцов сам говорит: «Вскоре, однако, я покинул пост министра финансов, и какова была дальнейшая судьба донесения генерала Хорвата и указанного имущества – я не знаю».
Легко написать «допустил», «не подверг разработке», «оставил без пересмотра», «не принял мер» и т. п.
В вопросе о бездействии власти обращает на себя внимание, по-видимому, незначительное обстоятельство, имеющее, однако, немаловажное значение.
Когда присяжные получили от суда вопросные пункты, то после совещания вернулись обратно и просили изменить редакцию пункта первого.
Присутствие в составе присяжных юристов, по всей вероятности, повело к тому, что усмотрена была некоторая юридическая безграмотность.
Нельзя же обвинять человека в бездействии власти, будто бы он это творил, «сознательно допуская, что таковым бездействием» способствует неприятелю, и вместе с тем в обвинительном материале давать указания на широкую деятельность его, до превышения власти включительно.
В этой редакции присяжные не согласились меня обвинить, а осудить тем не менее надо было по настоянию председателя, авторитет которого поддерживался если не убедительностью недоброкачественного следственного материала, которым он жонглировал совместно с г. обер-прокурором, то присутствием нескольких десятков штыков.
Не лишено интереса и то, что кроме присяжных заседателей были и свободные заседатели, вся та многочисленная публика, которая не скрывала весьма определенно своих симпатий к защите, а не к предвзятому обвинению, явно проглядывавшему на каждом шагу. Это особенно резко выразилось в дружных рукоплесканиях после речи защитника Казаринова, не оставившей живого места от чудовищного обвинения. Но штыки оказались выше совести и рассудка.
По пункту второму я оказываюсь виноватым «в том, что, состоя в должности военного министра, 14 декабря 1914 года, в составленном бывшему императору объяснении по содержанию замечаний бывшего императора, на отчете генерал-инспектора артиллерии о допущенной медлительности умышленно, исходя из личных интересов, скрыл одну из причин, обусловливавших такую медлительность: “Сделанное им, министром Сухомлиновым, 17 августа 1913 года распоряжение о предварительном, до заказа пушек системы Шнейдера, испытании лафета системы Депора, вследствие чего и произошло замедление в сдаче заказа, затянувшееся до конца сентября 1915 года”».
* * *
Происхождение этого обвинения может служить примером тех приемов, к которым прибегал великий князь Сергей Михайлович, когда вопрос касался какого-либо заказа Шнейдера-Крезо.
Дело в том, что в Красносельском лагерном сборе, где происходили блестящие маневры гвардии, наша конница не знала препятствий; преодолевая их, они проходили по такой местности, которая для конной артиллерии бывала иногда непроходима, и она отставала от гусар, улан и других полков.
В развитии спорта среди офицеров нашей конницы принимали также живое участие и конно-артиллеристы, корпоративное самолюбие которых страдало от того, что они, имея те же пушки, что и пешие батареи, слишком тяжелые, вследствие этого не поспевали в некоторых случаях за кавалерией. Поэтому возникла мысль получить и более легкое орудие, что имело значение лишь чисто маневренное, к боевой стрельбе никакого отношения не имеющее.
Как конноартиллеристу великому князю Сергею Михайловичу эта мысль пришлась по сердцу, и решено было ту же самую пушку Шнейдера спроектировать с уменьшением веса всей системы, что и было сделано, – на несколько пудов она стала легче. Конная артиллерия, таким образом, получала и свою пушку.
Спрашивается, можно ли это признать обстоятельством, вызывающим «необходимость неотложного введения на вооружение в конной артиллерии пушки системы Шнейдера»? Весь заказ ограничивался 320 орудиями, переставленными лишь на более легкие лафеты, но зато, правда, Шнейдера и для конной артиллерии…
Обвинительный приговор по пункту третьему прямо замечателен своею противозаконностью и дискредитированием власти в военное время.
Редактирован он так: «В том, что, состоя в должности военного министра, вопреки положению Совета министров от 10 февраля 1915 года, коим по рассмотрении заявления его, Сухомлинова, о желательности способствовать устройству в России частного оружейного завода, под условием предоставления сему заводу на три миллиона ружей, было постановлено одобрить задуманную военным ведомством меру с тем, однако, чтобы ближайшие в этой области предложения, выработанные по соглашению с министром финансов, были вновь представлены на утверждение Совета министров, – в прямое нарушение предоставленных ему по должности военного министра полномочий, – в письменном заявлении своем от 12 февраля, предоставлял представителю русского Акционерного общества артиллерийских заводов, гражданскому инженеру Балинскому, немедленно приступить к заказам на полное оборудование оружейного завода, – каковое его, генерала Сухомлинова, превышение власти, как стоящее в прямом противоречии с приведенным решением Совета министров, в области имеющих особое значение мероприятий по обороне государства, представляется особенно важным».
Так как на это я был уполномочен государем, то при чем тут «прямое противоречие» с решением Совета министров, если ст. 209 кн. V Свода Основных Законов категорически гласит: «Не считать превышением власти, когда министр особенно на какой-либо случай был верховной властью уполномочен». Ст. 143 Воинского устава о наказаниях говорит о том, что «не почитается превышением власти», если военный министр «отступит в своих действиях от обыкновенных правил, по особому на сей случай или вообще по случаю сего ради данному власти уполномочию». В той же статье, в п. 2, кроме того, имеется указание на то, что «в чрезвычайных обстоятельствах военный начальник или другое должностное лицо не отвечает за принятие решительной меры, если она в видах государственной пользы была необходима».
Если бы у меня даже не было уполномочий верховной власти, я имел право в данном случае принять эту важную в военное время меру. Но, кроме того, раз это якобы превышение власти осталось без последствий, то состава преступления не было и не могло быть, за отсутствием какой бы то ни было вредоносности; трудно даже при всей юридической казуистике создать покушение на превышение власти.
Винят человека в бездействии власти и одновременно карают за превышение ее. Прокурор находит, что одно другому не мешает. Действительно, в истерике смеются и плачут одновременно. Было и у меня от чего плакать и смеяться.
Ставка шлет сверхэкстренные телеграммы, требуя ружей. Генерал Янушкевич пишет мне отчаянные письма, «волосы дыбом» у него становятся: «Глубоко уверен в полном вашем сочувствии этому первостепенному по важности делу. В нем залог успеха конца. Крайне необходимо развить полным ходом на всех заводах выделку винтовок». При такой обстановке из Англии получается предложение доставить нам полное оборудование ружейного завода. Я докладываю государю телеграмму, контрассигнированную в Лондоне нашим морским агентом Волковым, лично государю известным. Для решения вопроса имелся срок всего 6 дней. Получаю высочайшее повеление: «не упускайте завода». Докладываю Совету министров о полученном повелении; получаю принципиальное согласие, которого и не требовалось, и делаю распоряжение, чтобы «не упустить», по краткости срока.
Оказывается, что с формальной стороны я в чем-то перед Советом министров провинился; подымается волнение, и в такое время, когда, казалось бы, о формальностях думать предосудительно.
В пункте втором я виноват, что задержал заказ в мирное время, в интересах технического усовершенствования боевого материала, всего на месяц, а в пункте третьем я виноват, что поспешил в тяжелых условиях военного времени в интересах армии не упустить крайне нужный нам ружейный завод.
В пункте четвертом значится, что я, «состоя в должности военного министра, в период времени с сентября 1911 года до середины апреля 1912 года, по соглашению с другими лицами, сообщал командированному в его, военного министра, распоряжение подполковнику Мясоедову, заведомо для него состоявшему агентом Германии, такого рода вверенные ему, Сухомлинову, по занимаемой им должности, сведения, которые заведомо для него долженствовали, в видах внешней безопасности России, сохраняться в тайне от иностранного государства, а именно о результатах наблюдения контрразведывательного отделения Главного управления Генерального штаба за иностранными шпионами и о проявлениях революционного движения в нашей армии».
Во всем этом пункте приговора нет ни единого слова, отвечающего действительности. Заключение о том, что я знал, будто Мясоедов агент Германии, ни на чем не основано, так как кроме сплетен и ложных показаний таких, как А.И. Гучкова, и на суде не признавшего возможным ни подтвердить ничем свои подозрения 1912 года, ни указать источник введенного тогда в печати обвинения, – не было решительно никаких данных.
Редакция газеты «Голос Москвы», орган Гучкова, признала справедливым заявить по поводу этих сплетен, что введена была «в заблуждение».
Консультация присяжных поверенных, которой Гучков не мог не сообщить все данные, которые у него были, признала, что он не имел оснований к обвинению Мясоедова.
Расследование по распоряжению главного военного прокурора выяснило ложность сообщения Гучкова.
Отрицательные отзывы Департамента полиции вызваны были из-за дела о провокации жандармского офицера Пономарева и разоблачений на суде, сделанных Мясоедовым. Этим же органом Министерства внутренних дел настраивались против Мясоедова Столыпин и Макаров, но никаких данных, хотя бы сколько-нибудь правдоподобных по части шпионажа, не было.
Если бы они были, то после увольнения в 1912 году Мясоедова каким образом такой могущественный по сыску орган, как Департамент полиции, да к тому же еще жаждавший отомстить Мясоедову, его не изобличил бы как шпиона, при малейшей к тому возможности?
Наряду с этим у меня были рекомендации, благоприятные Мясоедову, со стороны его бывших начальников и близко знавших его людей, заслуживающих полного доверия. Мясоедов служил в Вержболове, вблизи имения императора Вильгельма, при приездах которого на охоту приглашались и наши служащие на пограничной станции, причем награждались орденами и портретами, как это принято у коронованных особ.
Более чем наивно утверждать, что это в награду за услуги по шпионству, а Мясоедов не так наивен, чтобы выдавать себя такими вещами, если бы действительно он по этой части был грешен. Поэтому «заведомо» для меня Мясоедов не был «агентом Германии».
Когда его приговорили военно-полевым судом, будем говорить прямо, по приказанию великого князя Николая Николаевича, и объявлено: «За шпионство и мародерство», многие поняли, что дело нечисто по части правосудия. Все попытки главного военного прокурора получить дело этого полевого суда не увенчались успехом. С большим трудом удалось получить это необыкновенное дело лишь в последние дни следствия, и когда я его просмотрел, то убедился, что Мясоедов повешен за мародерство и никаким агентом не был.
Такое же мнение приходилось слышать от приезжавших с театра войны и, как мне передавали, в том числе и полковника Лукирского, бывшего председателя этого суда. А раз это так, то понятно, почему ни сенатор Кузьмин, ни Носович, ни Таганцев, прикрываясь вошедшим в законную силу приговором, не позволяли распространяться по этому поводу, так как оглашением возмутительного произвола и насилия под фирмой «полевого суда» отпадала вся постройка против меня, по проекту прапорщика Кочубинского и его сотрудников, по сенсационному делу обвинения военного министра в измене.
Затем странно читать в приговоре такую чистейшую ложь, как сообщение мной сведений, «долженствовавших сохраняться в тайне, в видах внешней безопасности России от иностранного государства», и указание на сведения о результатах нашей контрразведки.
Ничего подобного не было, так какая же цель?
Затем, если у меня состоял офицер корпуса жандармов, с той целью, о которой я уже говорил, то почему же я не должен был давать ему те материалы и поручения, которые считал нужными? К секретным делам управлений он доступа не имел, так как никакого органа я не создавал, а имел в виду выработать условия, которые оградили бы армию от вредящего делу излишнего сыска и усердия Департамента полиции.
Подобная несообразность в обвинении объясняется тем, что, взяв умышленно неверную отправную точку зрения, будто Мясоедов шпион, господа следователи с этим масштабом прошлись по всему делу.
Юридическое безобразие этого пункта неизвестно чему приписать, преступной ли подтасовке или недомыслию чинов юстиции. В достаточной мере в нем, пожалуй, и того и другого.
Прежде всего обер-прокурору Носовичу, в таком изобилии подчеркивавшему «даты», не следовало пренебрегать ими в этом случае. Становясь на юридическую точку зрения, когда следует признать установленным, хотя судом неправедным, – но признаваемым господами сенаторами непогрешимым, – что Мясоедов шпион?
В 1915 году – полевым судом в Варшаве. А когда я дал письмо Мясоедову? – В 1914 году. Что же из этого следует? А то, что выражение: «заведомо для него, Сухомлинова», что Мясоедов шпион, является утверждением задним числом, то есть обвинением недобросовестным, так как на гнусных тучковских и других сплетнях можно только порочить и позорить наше правосудие.
Нельзя так халатно обращаться с масштабами, не разбирая их соответствия данному случаю.
Опорочить Мясоедова очень старался Департамент полиции, но серьезных данных не было никаких. Рекомендовали же мне его такие заслуживающие доверия люди, как бывший военный прокурор, генерал Маслов, жена сенатора Викторова и его начальники, как, например, генерал Сергей Сергеевич Савич, бывший начальник штаба корпуса жандармов. Из них первые знали его с малолетства, и у них он бывал принят, как родной.
Как рекомендовал его генерал барон Таубе, видно по письму генерала барона Медема, в котором приведены следующие слова барона Таубе: «Согласитесь, что в данном случае я должен пожертвовать своим самолюбием; перевод Мясоедова в одну из центральных губерний решен окончательно, и я ничего не могу сделать.
Пусть Мясоедов не беспокоится, он там долго не останется и вскоре получит должное место и положение, потому что я считаю его прекрасным офицером».
При обыске у меня было взято письмо барона Таубе, в котором он мне рекомендовал Мясоедова еще убедительнее. Но письма этого в деле я не нашел, и мне оно сенатором Кузьминым возвращено не было. Вообще некоторых взятых документов в деле не оказалось.
Затем в следственном материале имеются следующие данные: Мясоедов, «видя недоверие к себе шефа», просил об отчислении, что и состоялось 31 июля 1907 года, с оставлением его в Отдельном корпусе жандармов и с прикомандированием к жандармскому полицейскому управлению Северо-Западных железных дорог, а не «меридиана Самары», как предполагалось. 2 октября он ушел в запас, а командир корпуса жандармов сообщил дежурному генералу Главного штаба, что «подполковника Мясоедова, к сожалению, представилась необходимость переместить с занимаемой должности на другое место, после несколько неосторожных его показаний на суде в Вильно, которые послужили революционной печати предлогом для нападения на правительство и корпус жандармов». Так вот где собака зарыта!
Там же имеется справка судной части Департамента полиции о корнете Пономареве, который, желая отличиться, организовал водворение оружия контрабандным путем и к этой провокации подстрекал разных лиц, что в 1907 году и было пропечатано в газете «Речь».
Показания на суде Мясоедова по этому делу восстановили против него Департамент полиции, вследствие чего и источником всех нападок и предупреждений был последний. С делом Пономарева приезжал ко мне и полковник Еремин. Департаментом же полиции настроен был и А.А. Макаров. Вместе с тем дежурный генерал Главного штаба сведений о неблагонадежности Мясоедова не имел. Генерал Монкевиц, бывший против него, заявил, тем не менее, что обвинение агента Герца о неблагонадежности Мясоедова не подтвердилось, то есть и в контрразведывательном отделении Главного управления Генерального штаба данных для опорочения Мясоедова не имелось.
А так как, кроме всего этого, целых два года после увольнения в 1912 году, находясь под наблюдением, Мясоедов ни в чем предосудительном замечен не был, то нет ничего удивительного, что когда он обратился ко мне с просьбой не препятствовать его поступлению на службу, для реабилитации, в минуту такого общего подъема, охватившего всех, я не могу ему не ответить «по-христиански», как он меня просил, хотя бы частным путем, то есть не на бланке военного министра, без № и прочего.
Поэтому считаю более нежели неточностью выражение в тексте приговора: «Удостоверил отсутствие с его, военного министра, стороны препятствий», так как я не имел в виду содействовать его определению, да еще с преступной целью, как это возмутительно мне приписывается.
В штабе 6-й армии, куда обратился Мясоедов, его не приняли, несмотря на мое письмо, правильно оценив его не как рекомендацию, а как частное, лишь указывающее о неимении препятствий.
На совершенно частное письмо Мясоедова, в котором он просил меня простить его некорректное, по отношению ко мне, поведение, я ему дословно ответил: «На письмо ваше от 29 сего июля уведомляю, что против вашего поступления на действительную военную службу лично я ничего не имею.
Вам же о поступлении вновь на службу надлежит подавать прошение в установленном порядке».
«Лично» и «установленном порядке» – выражения, свидетельствующие о характере ответа в частном порядке, что ясно и в показании подполковника Защука, служившего в штабе 6-й армии: «При этом показал мне полученное им (Мясоедовым) частное письмо от генерала Сухомлинова».
И все это хорошо было известно следователю Кузьмину, но по одному ему известной причине он этими данными пренебрег.
Сам А.И. Гучков после консультации присяжных поверенных убедился, что «твердых положительных данных в подтверждение сказанного мною (то есть А.И. Гучковым) против Мясоедова обвинения в шпионстве не имеется».
Затем сознание поручика Колаковского в неправдивости части своих показаний и оправдание полевым судом Мясоедова по двум главным пунктам обвинения могут служить доказательством, что с решением его участи нельзя было спешить до такой степени, что улик надлежащих не собрали и приговор приказано было привести в исполнение немедленно, не представляя на конфирмацию, о чем, однако, просили.
Наконец, Борис Суворин, в своем письме 26 июля 1914 года, невзирая на то крупное недоразумение, которое у него было с Мясоедовым в 1912 году, пишет ему: «Я был крайне обрадован, получив ваше письмо. Как вы совершенно верно говорите в нем, теперь нам не время считаться, а я со своей стороны рад протянуть вам руку и предать забвению все прошлое».
И это пишет редактор газеты, которая выступала против Мясоедова!
После всего этого строки пункта шестого приговора: «каковыми действиями своими он, Сухомлинов, заведомо благоприятствовал Германии в ее военных против России операциях», – в юридическом отношении клевета, своей неправдоподобностью и грубой постройкой бросающаяся в глаза.
До чего были запуганы господа присяжные, можно судить по тому, что и на эту до смешного очевидную ложь они не посмели ответить отрицательно.
В пункте пятом я обвиняюсь в том, «что, состоя в должности военного министра, в период времени с 11 марта 1909 года до конца марта 1914 года, по соглашению с другими лицами, сообщал австро-венгерскому подданному Александру Альтшиллеру, заведомо для него, Сухомлинова, состоявшему агентом Австро-Венгрии, такого рода сведения, которые заведомо для него долженствовали, в видах внешней безопасности России, храниться в тайне от иностранного государства, а именно о содержании его, Сухомлинова, доклада бывшему императору по поводу мероприятий военного ведомства, в области военной обороны России».
Во всем этом пункте отвечает истине только то, что я состоял в должности военного министра с 11 марта 1909 года и что Александр Альтшиллер – австро-венгерский подданный. Все же остальное – заведомая ложь прапорщика Кочубинского, создавшего целое «преступное сообщество», судившееся полевым судом совершенно противозаконно, только для того, чтобы из этого можно было проектировать то, что составило настоящий пункт пятый приговора.
Сенатор Таганцев не мог не видеть, что дело о полковнике Иванове – сплошное преступление по должности следователя, прапорщика Кочубинского, автора этого позорнейшего дела, для глумления над правосудием. Сенаторы Кузьмин и Носович, ознакомившись с производством Кочубинского, вырабатывали обвинения по заведомо для них преступному материалу этого следователя. И при таких условиях понятно: прикрываясь тем, что приговор полевого суда в Бердичеве вошел в законную силу, гг. сенаторы не допустили оглашения этого вопиющего дела на суде, сознавая, что иначе вполне основательно можно было ожидать скандальнейшего провала всей двухлетней постройки из недоброкачественного материала.
Но «шила в мешке не утаишь». По мясоедовскому делу разоблачения уже начались в печати, а на очереди – дело полевого суда в Бердичеве, этого второго краеугольного камня в фундаменте строительства Кочубинского. Когда все подробности сделаются достоянием гласности, то будет ясно, что «преступное сообщество» Кочубинского – на самом деле свод уголовных преступлений самого следователя, который потрудился немало, чтобы людей, находившихся в чисто коммерческих связях, сделать шпионами.
В одном письме, взятом при обыске, точки, поставленные в не подлежащих по грамматике местах, признаны были им тоже шифром; а между тем, говорят, что эксперт признал их поставленными другими чернилами, более подходящими по цвету к перу Кочубинского…
По поводу доноса, по-видимому, князя Андроникова, начальник Отделения по охранению общественной безопасности и порядка в Петрограде, 11 марта 1915 года № 6822, заявляет, что «негласным расследованием по означенному анонимному заявлению неблагоприятных сведений об Альтшиллере в Петрограде не было».
В своем показании присяжный поверенный Финн (Т. IV) заявляет, что до 1914 года никогда не слыхал, что Альтшиллер – шпион, живший в Киеве с 1870 года.
Если бы действительно что-либо могло обратить на себя внимание в поведении или делах Альтшиллера, похожее на то, что приписал ему прапорщик Кочубинский, а в унисон с ним и господа сенаторы, то как же мне никто не доложил бы об этом в Киеве и Петербурге, и не были бы приняты соответствующие меры?
Заслуживает внимания эпизод с заявлением Анны Гошкевич со скамьи подсудимых на суде в Бердичеве, где признали необходимым передать дело военно-полевому суду, вместо окружного суда в Петербурге, как это полагалось по закону.
Найдя подходящего для «застенка» председателя, которого по закону нельзя было назначить председателем военно-полевого суда, не постеснялись испросить на это особое высочайшее соизволение.
После того как прочитано было показание А.И. Гучкова, совершенно неожиданно г-жа Гошкевич стала подтверждать басню Гучкова о свободном доступе в мой кабинет и подозрении относительно Альтшиллера, тогда как в других своих показаниях говорила совсем другое. Очевидно, из благодарности за освобождение ее одной еще до суда. То, что имеется в следственном материале, указывает на роль Анны Гошкевич. В частном письме она пишет Кочубинскому: «Пока не вызывайте меня для допроса, а если что узнаю, то напишу». Подсудимая – сотрудница следователя Кочубинского, заявляющая другому следователю, что была привлечена к делу, но в чем оно заключается и чем окончилось, объяснить не может, знает только, что председатель объявил ей, что она свободна.
Отбросив всю казуистику, обращаясь просто к здравому смыслу, спрашивается: если бы действительно существовало такое сообщество и в состав его входил Альтшиллер, крупный шпион, работающий совместно с самим русским военным министром, то какая надобность в таком случае ему подкрадываться к оставленным на столе бумагам, на виду у людей, которые могли сообщить тому же Гучкову?
Обидно и досадно, что подобные бессмысленные измышления могли заслужить доверие, казалось, серьезных людей, тогда как, кроме голословных разговоров и намеков на шпионство, в деле нет никаких мало-мальски основательных данных. И этого не утаишь теперь, когда люди желают знать скрываемую от них правду.
Обвинение по пункту шестому «в том, что, состоя в должности военного министра, после объявления Германией войны России, 29 июля 1914 года, в письме, составленном им и врученном подполковнику Сергею Мясоедову, заведомо для него, Сухомлинова, принимавшему участие против России в пользу Германии, удостоверил отсутствие с его, военного министра, стороны препятствий к определению Мясоедова на действительную службу и тем оказал содействие к вступлению последнего в действующую армию и продолжению указанной его, Мясоедова, преступной, изменнической деятельности, осуществленной им затем посредством собирания для неприятеля сведений о расположении наших войсковых частей, каковыми действиями своими он, Сухомлинов, заведомо благоприятствовал Германии в ее военных против России операциях».
Из дела полевого военного суда в Варшаве под председательством полковника Лукирского оказывается, что во всем этом Мясоедов был оправдан и осужден лишь за мародерство, так как не отрицал, что в имении императора Вильгельма из кабинета последнего взял две картины. Поэтому-то так упорно и долго не давали мне возможности ознакомиться с этим возмутительным делом.
Этот пункт шестой является беспримерным по наглости издевательством над правосудием и мошеннической проделкой чинов юстиции под командой Таганцева.
Обвинение в пункте седьмом заключается «в том, что, состоя в должности военного министра, в августе 1914 года, в интересах находившихся в войне с Россией держав передал не принадлежащим к военному ведомству лицам, а именно Николаю Гошкевичу и Василию Думбадзе, составленный в канцелярии Военного министерства перечень важнейших мероприятий военного ведомства с 1909 по 20 февраля 1914 года, в каковом перечне содержались заведомо для него, Сухомлинова, долженствующие сохраняться в тайне сведения о предназначенных для боевой обороны России, вооруженных ее силах, а именно мероприятиях по устройству, усилению и комплектованию армии, по мобилизации войск и подготовке к военным операциям, по вооружению войск, изготовлению и заказам новых образцов материальной части, а также по снабжению войск инженерным имуществом и техническими средствами».
Текст этого пункта не имеет окончания, «каковое его, Сухомлинова, преступное деяние представляется особенно важным», по всей вероятности потому, что «перечень» в сущности аналогичен оглавлению имеющихся во всех государствах «сборниках вооруженных сил» иностранных армий, а потому придавать ему важность и то значение, которое из известных побуждений и видов желательно, было бы неразумно.
Дело же заключается в том, что волей прапорщика Кочубинского Василий Думбадзе, включенный в члены «преступного сообщества», предпринял издание биографий общества «Война и Мир». Не будучи знаком с военным министром, он через Гошкевича обратился с просьбой доставить с этой целью материал для брошюры с моей биографией. Действительно, необычайно тайное сообщество, в котором члены друг друга не знают!
* * *
Обвинение пункта восьмого «в том, что, состоя в должности военного министра, в составленном им в мае 1912 года и опубликованном 16 того же мая, в газете «Русский Инвалид» официальном от Военного министерства опровержении, из личных целей, заведомо ложно удостоверил, что командированный в его, генерала Сухомлинова, распоряжение подполковник Отдельного корпуса жандармов Мясоедов не имел доступа к секретным перепискам того отделения Главного штаба, в коем сосредоточиваются сведения, поступающие из Департамента полиции, а равно к секретным делам и документам по находившейся в ведении Главного управления Генерального штаба военной контрразведки и что вообще никаких поручений по делам, касающимся военно-разведывательной и контрразведывательной деятельности на Мясоедова не возлагалось, тогда как в действительности названный штаб-офицер по его, генерала Сухомлинова, распоряжению докладывал последнему наиболее важную, поступающую по контрразведывательному отделению Главного управления Генерального штаба, секретную, цензурную переписку (очевидно, спутали с полковником Ерандаковым), получил от него, генерала Сухомлинова, секретный обзор революционного движения в армии и был дважды командирован им, генералом Сухомлиновым, для секретных поручений в города: Ковно, Вильно и Минск»; и пунктом девятым «в том, что, состоя в должности военного министра, 21 мая 1912 года, представил бывшему императору, составленный по его, Сухомлинова, распоряжению доклад, в коем из личных целей поместил заведомо ложные, описанные в предыдущем вопросе, сведения».
Обвинение по этим двум пунктам – явное недоразумение, если не допускать и здесь умышленного воспроизведения на бумаге факта, не имевшего места в действительности.
Прежде всего объяснение, написанное в газетах, в опровержение тучковского сочинения, отвечало буквально официальному расследованию через главного военного прокурора и иное, не отвечающее действительности, – недопустимо.
С какой небрежностью редактировался приговор, можно судить по пункту восьмому, в котором указано, что объяснение это составлял будто бы я («в составленном им»), тогда как оно составлено в Главном военно-судном управлении. Если же это считать подлогом, то в таком случае в нем участвовало не только Главное военно-судное управление, но и все другие, принимавшие участие в расследовании.
Объяснение, напечатанное в газетах, имело в виду опровергнуть басню г-на Гучкова о том, что при военном министре создан особый орган по сыску в войсках и во главе поставлен Мясоедов, заведомый шпион. Все это оказалось сплошным вымыслом. Мясоедов не имел даже никакого доступа к делам управлений и поручения получал от меня лично, никакого отношения ни к сыску, ни к контрразведке не имеющие; что же касается того, что я передал ему обзор революционного движения в армии, доставленный мне из Министерства внутренних дел, то ведь командирование штаб-офицера Отдельного корпуса жандармов, по моему соглашению с министром внутренних дел, и было сделано с целью ограждения войск от излишнего усердия по сыску со стороны Департамента полиции. Для выяснения этого дела подобный документ как необходимый материал мне прислан был не для того, чтобы я его держал под спудом, а для разработки соображения, как быть с этим, что можно сделать?
Только желанием найти во что бы то ни стало во всем отрицательную сторону можно объяснить себе такие дикие выводы, что человеку, взятому для известного дела, правильно было бы не давать возможности дело это делать и не давать в руки никаких материалов.
Но что не может меня не возмущать до глубины души, – это уже безусловно преступное помещение заведомо ложного заявления в пункте восьмом, будто Мясоедов докладывал мне «наиболее важную, поступающую по контрразведывательному отделению Главного управления Генерального штаба секретную, цензурную переписку».
Целым рядом показаний это опровергается как самим начальником Генерального штаба, так и всеми стоящими у этого дела лицами. Ведь для того, чтобы мне докладывать, надо же было Мясоедову откуда-нибудь эти данные получать. Откуда же он их получал?
Что это несомненно ложь, добросовестный следователь мог бы убедиться по распоряжению моему начальнику Генерального штаба: «Одному из наиболее опытных и заслуживающих особого доверия чинов вверенного вам управления произвести расследование».
Сочинившему подобную нелепую басню не пришло в голову как это соображение, так и то, зачем заводить такую путаницу, если полковник Ерандаков то, что спешно, докладывал мне лично, не ожидая очередного доклада Генерального штаба.
Такие серьезные данные для обвинения лишь из одного усердия можно сочинять, подтасовывать, чтобы создать видимость преступления там, где действительно его на самом деле нет.
Очевидно, такая не совсем чистая работа и здесь создалась из двух-трех показаний самого Мясоедова. Когда расследование производилось Палибиным, по распоряжению главного военного прокурора, Мясоедов давал правдивое показание и не мог иначе, потому что был бы уличен, если бы показал неверно. На этот раз и видно, что ни в деле сыска, ни контрразведки он никакого участия не принимал.
Затем в письме ко мне, когда был уволен, со свойственной ему наглостью, с целью добиться возвращения на службу, он прибег к шантажу, врал, будто я давал ему известные важные поручения; между прочим, запечатанный конверт с французским договором превратился у него в едва заклеенный. Только ради шантажа и можно перечислять то, что я ему будто бы поручал, точно не знаю, что я сам давал. Наконец, во второй раз, на суде, в Варшаве, спасаясь от явно угрожавшей ему казни, он прибег к тому же, надеясь этим поднять свои акции перед судьями: какой же он преступник, если пользовался у министра таким доверием.
И несмотря на то, что сам генерал Поливанов, который не пощадил бы Мясоедова, на запрос сенатора Посникова, 20 сентября 1915 года за № 2548, удостоверил, что «данных, которые указывали бы на то, что казненный Мясоедов имел отношение к делам политического розыска в армии, в делах центральных управлений военного ведомства не имеется», а сенаторы Кузьмин и Носович примкнули к двум ложным заявлениям Мясоедова.
Очевидно, что, гоняясь за сочинением обвинений в подлогах, приходится их делать самому.
Так оно, несомненно, имело место в данном случае.
* * *
Для большей помпы процесса, который должен был опорочить царский режим и превознести этим новое правительство, избрали концертный зал Офицерского собрания армии и флота.
Больше месяца тянулось судоговорение, оборудованное исключительно для меня особым законом. Тревожное время, в период разбора дела, не могло не влиять на присяжных, в большинстве чиновников, которые были до того напуганы, что просили отпустить их домой.
Обвинитель сенатор Носович, струсив, требовал применения самой высшей меры наказания, пожалев о том, что смертная казнь отменена. Присяжные поступили благороднее и, несмотря на тот же страх, во-первых, признали редакцию вопросов, им врученных, подлежащей изменению; во-вторых, оправдали во всем мою жену и меня по первому пункту, но храбрости не хватило оправдать совсем, – очевидно, побоялись толпы.
Кассационная жалоба моя, несмотря на самые бесспорные к тому основания, устранена от рассмотрения. Да разве могло быть иначе? Ведь Сенату приходилось признавать неправильность Сената же, а это было бы равносильно самоубийству!
Как в обществе, так и в печати приговор все-таки принят был не так, как того ожидали закулисные деятели процесса. Речь нашего защитника вызвала в публике бурное сочувствие, прекратившееся лишь после того, как зала была очищена вооруженной силой, а после объявления приговора поднялся шум, от которого судьи побледнели и быстро исчезли. Они, правда, судили меня, а похоронили русское правосудие!
Глава XXXIV. Осужденный – помилованный – беженец
Гласное судопроизводство продолжалось с 10 августа по 12 сентября 1917 года.
Целый месяц мы пробыли вместе с женой – было о чем переговорить и рассказать. В середине процесса нас на три дня отвезли в крепость.
Сейчас же после объявления приговора мы должны были расстаться. Я был осужден к бессрочной каторге с лишением всех прав, и в ту же ночь меня отвезли в мой № 55 Трубецкого бастиона.
Когда стали пускать к нам в камеры наехавших из разных стран корреспондентов, то один американец меня спросил, что я теперь из себя изображаю?
– Форменного пролетария, – ответил я.
– О, да, да, генерал, философ, – воскликнул он и стал записывать в свою книжечку.
Очутившись на свободе, жена моя энергично стала хлопотать о том, чтобы сделать существование мое в неволе в условиях, возможно соответствующих моему возрасту и здоровью. Два раза в неделю я мог ее видеть, а вскоре подоспела и вторая революция, о которой на прогулке мне сообщил один унтер-офицер из караула: «Подождите немного, мы вам скоро доставим сюда Керенского с товарищами».
Но он не угадал, так как Керенский улизнул, а «товарищей» его действительно доставили.
Переворот этот ввел в нашу жизнь узников большую перемену, с одной стороны, облегчив условия существования в значительной степени, а с другой – увеличив опасность для жизни.
Свидания назначались более продолжительные и нескольким сразу, поэтому мы знали, кто где сидит. На прогулку стали выпускать по несколько человек. Я гулял со Щегловитовым и Белецким. Все Временное правительство, кажется человек одиннадцать, гуляло всей компанией.
Разрешили приносить продовольствие, газеты и даже водили нас в Петропавловский собор на богослужение. Позволили мне и Щегловитову привести в порядок каталог и книги библиотеки, для чего мы сидели по соседству с моей камерой в особой комнате. В последнее время даже, от 8 до 10 ч. вечера, нам было дозволено бывать друг у друга в номерах.
Пуришкевичу, Пальчинскому, Де-Боде, Рутенбергу разрешено было топить печи в коридоре, и они большую часть дня проводили поэтому вне камер. Сплошь и рядом двери оставались не на запоре.
Продовольствие тоже улучшилось – на помощь пришел так называемый политический Красный Крест, доставлявший нам ежедневно кое-что из съестного. Этим мы обязаны сердечной заботе о нас глубокоуважаемого доктора Ивана Ивановича Манухина.
Белецкого скоро перевели в «Кресты», и мы гуляли вдвоем с Щегловитовым, которого я имел возможность ознакомить с моей черновой работой, послужившей основанием к составлению записки о моем процессе. Указания его были для меня весьма ценны.
Жене моей удалось выхлопотать перевод и меня в «Кресты». В 8 ч. вечера я собирался в гости к Ивану Григорьевичу Щегловитову, в № 56, а мне пришли сказать, что за мной приехали. Действительно, в коридоре был офицер, с предписанием доставить меня в «Кресты». Незамысловатое имущество мое, при содействии моих соседей и чинов команды, было быстро уложено, и, выйдя из каземата, в автомобиле я увидел жену, которая и отвезла меня на Выборгскую сторону.
* * *
«Кресты» оказались громаднейшей тюрьмой, получившей это название вследствие крестообразного расположения ее корпусов одиночных заключений. Там же имеется несколько зданий вроде лечебниц, в том числе и хирургическое отделение, в два этажа. В верхнем – помещались «политические», в категорию которых зачислили и меня. Я из мрачного, сырого, за отсутствием подлежащего ремонта разрушающегося бастиона попал в светлое, сухое, теплое, недавно выстроенное здание, с центральным водным отоплением, ванной комнатой с двумя прекрасными ваннами, постоянно горячей водой и кухней в распоряжении заключенных.
Одна из камер превращена в зубоврачебный кабинет, что представляет большое удобство и облегчает многим страдания и без того тяжелые для узника. Хирургическое отделение – роскошно по своей чистоте, обилию воздуха, света, высоким палатам, перевязочной и операционной, оборудованной не хуже лучших клиник. Несколько врачей, фельдшеры, отвечающие своему назначению, делают пребывание в неволе людей, с подорванными силами и здоровьем, вполне сносным.
На лестницу вышел встретить меня Белецкий, при котором, во время службы его в Министерстве внутренних дел, строилось это здание. Он принимал большое участие в целесообразной конструкции тюремной лечебницы, в которую сам попал в виде заключенного. Посадили потом сюда же и техника, устраивавшего водяное отопление этого здания. В трех просторных палатах, с громадными окнами, помещалось от 5 до 7 человек в каждой. Имелись еще и две комнаты, для одного-двух человек.
Попал я в палату № 8, где находились генерал Болдырев, полковник Винберг, сотник Попов и бывший большевистский комиссар Янковский, приезжавший в качестве такового, когда я сидел в крепости, имевший какое-то отношение к наблюдению за местами заключения.
Этот совсем юный человек очень входил тогда в положение арестованных, и ему мы были обязаны некоторыми льготами. По его словам, он ездил и в место пребывания государя, а за что его самого арестовали – трудно было понять из его рассказа.
Отдельную комнату занимал бывший член Государственной думы, а затем министр внутренних дел, Алексей Николаевич Хвостов, сильно похудевший, сбавивший из своих девяти пудов добрую треть. В палате № 6 помещались Белецкий, Бурцев, князь Шаховской, Кованько, Парфенов.
Палата № 7 наполнилась вскоре Временным правительством; прибыли также Пуришкевич, Рутенберг, Пальчинский, профессор доктор Лебедев, Де-Боде, граф Буксгевден и др. Перевели из крепости и Щегловитова в нашу комнату № 8, так как Трубецкой бастион как место заключения закрывался.
Свидания разрешались почти ежедневно и в течение нескольких часов. Прогулки по два раза в день, а общие, по этажам, в течение часа и больше.
Хвостов и Белецкий пользовались все время массажем весьма опытного в деле массирования классного медицинского фельдшера, несколько сеансов у которого выпало и на мою долю.
Ваннами и душем можно было распоряжаться по нашему желанию хоть ежедневно. На каждом этаже выбирался староста для соблюдения известного порядка во внутреннем нашем обиходе, а через него делались все наши заявления начальству тюрьмы.
На богослужения ходили через так называемый главный пост в центральном здании в обширный, благолепный тюремный храм, куда собирались желающие из всех зданий.
С пищей становилось уже очень трудно, но по палатам образовались артели, и мы сами стряпали еду, сочиняя завтраки и обеды из казенной пищи, того, что доставлял нам политический Красный Крест, что приносили посетители из дому и что доставлял торговец, допускаемый в палаты. Допускали и газетчика, приносившего нам ежедневно все выходившие газеты.
На ночь палаты запирались в 9, а в 6 ч. утра открывались. Весь день сообщение было свободное. Устраивались даже партии в винт.
В отдельном здании имелась хорошо оборудованная типография. Нам с И.Г. Щегловитовым разрешено было работать. Но мы в ней так сильно простудились, что старший врач занятия эти нам запретил. Я же мечтал о том, чтобы самому набрать «Записку о моем процессе» и в тюремной типографии ее отпечатать. В мой план и входило, выждав теплое время, привести это в исполнение – в конторе типографии и смета была даже составлена.
К концу моего пребывания в «Крестах», 4 марта, вследствие освобождения Бурцева, Болдырева и многих других, меня и Щегловитова перевели из палаты № 8 в № 6, которую, в отличие от «чеховской» палаты того же номера, прозвали палатой «лордов», так как в ней сидели сановники. Попав таким образом в «лорды», я с Хвостовым рано утром выходил подметать место нашей прогулки.
Хвостов был в лирическом настроении и писал очень удачные, язвительные стихи на тему современных событий.
Щегловитов не выходил из пессимизма, а меня называл «неисправимым оптимистом». Признавая в своем образовании пробел по высшей математике, он при содействии Кованько проходил дифференциальное и интегральное исчисления.
Посетителей хирургического отделения было довольно много, но некоторые из них своей неосторожностью и бестактностью портили нам немало, до прекращения кое-каких льгот включительно. Своей энергией и разными действиями выручала нас Екатерина Викторовна, ее ходатайства почти всегда были успешны; продовольствием в самое трудное время она нас снабжала усердно, и появление ее среди узников подбадривало и оживляло всех. О всем том, что лично для меня делала моя жена, говорить не стану, понятно почему, а если помещаю эти строки, то потому, что с меня мои товарищи по несчастью взяли слово, – если я буду писать свои мемуары, то о ней упомяну как о сестре милосердия в самом высоком и благородном смысле этого термина, тогда самое светлое и радостное воспоминание о ней останется у всех, имевших возможность близко ознакомиться с ее высокими душевными качествами.
Эта так много выстрадавшая и столько горя перенесшая женщина действительно понимала страдания других и все, что только было в ее силах, делала для облегчения участи томящихся в неволе людей, рискуя не только своим и без того слабым здоровьем, но и безопасностью.
Удостоил нас своим посещением и Урицкий. Он обходил всех и разговаривал о деле каждого заключенного. У меня спросил только фамилию и больше ничего. Его визит имел последствия: не разрешены были свидания в палатах – их перенесли в коридор.
Посещение другого лица, из большевистского мира юстиции, имело для меня громадное значение по результатам, которые затем последовали.
Приехал Зорин, молодой, весьма благообразный на вид блондин, спокойно и толково излагавший свою мысль, производивший впечатление одаренного природным умом и здравым смыслом человека.
Когда дошла очередь до меня, он мне сказал, что мое дело закончено и его ведению не подлежит.
Я ему на это ответил, что сферы его деятельности я не знаю, но, по старым законам, как достигший 70-летнего возраста, я подлежал бы освобождению от присужденного мне наказания. На это Зорин, улыбаясь, мне заметил, что старых законов они теперь не признают. С этими словами он повернулся к сопровождавшему его офицеру, бывшему, если не ошибаюсь, присяжному поверенному, и тот ему подтвердил, что такой закон действительно в старых уложениях имеется.
Я же добавил, что непризнание старых законов следует отнести к тому, что новое правительство признает их недостаточно совершенными, не отвечающими справедливости, гуманности; все новое, устанавливаемое в этом отношении, не может же быть, в силу этого, хуже того, что было раньше. При таких условиях может не нравиться буква закона, но не смысл его, – в данном случае бесцельное мучение достаточно выстрадавшего старика.
Зорин внимательно слушал то, что я ему вразумительно и спокойно говорил, и видно было, что для него все ясно. Потом спокойно произнес: «Да, это так, что вы говорите, и хотя меня как будто и не касается, но на такое дело надо обратить внимание. Я напишу об этом в Москву, даже составлю такой пункт, который мог бы войти в декрет 1 мая, который там готовится».
Вот то, что сказал мне в заключение нашего свидания Зорин, говорят, простой мастеровой.
Этот его «пунктик» в декрете 1 мая 1918 года имел место, и меня из неволи освободили: представитель большевистской юстиции оказался по здравому смыслу и своей порядочности выше моих сенаторов.
* * *
Освобождение мое чуть не состоялось раньше, но могло при этом окончиться катастрофой. Караульную службу красногвардейцы исполняли, конечно, безобразно, часто наряд на смену предыдущего совсем не являлся.
Компания офицеров решила этим воспользоваться и освободить из «Крестов» часть заключенных в хирургическом отделении, в том числе и меня. Составили для этого свой караул, который прибыл в тюрьму, но, к счастью, вскоре после вступления настоящего нового караула; поэтому заподозрили что-то неладное и телефонировали в комендантское управление. Пока шли справки, караул благоразумно исчез, а мы лишь догадывались, что произошло нечто необыкновенное: у нашего здания появились патрули, был произведен обыск.
30 апреля вечером явился к нам в палату № 6 начальник тюрьмы со своим помощником и заявил о возможности моего освобождения, если завтра в декрете об амнистии будет ясно, что я этому подлежу. На случай такого для меня благополучия он переводит меня сейчас в другое помещение, из которого я мог бы немедленно выйти на свободу.
Товарищи в палате помогли мне уложить мои пожитки, которые остались на моей кровати, а я без всякого багажа, простившись сердечно со всеми, покинул хирургическое отделение, и помощник начальника тюрьмы повел меня по неведомой для меня дороге. Мы прошли несколько дворов и подошли к громадным железным воротам, которые сторожем были открыты, и перед моими глазами оказалась Нева, отражавшая в своем течении горевшие фонари на набережной.
С наслаждением полной грудью вздохнул я и перекрестился, почувствовав преддверие свободы. Помещение для меня приготовлено было в том же доме, где жил начальник тюрьмы. Постель была постлана, и я поистине спал «сном праведника», а утром пришел начальник тюрьмы со словами: «Поздравляю, вы – свободный гражданин, а у подъезда ждет извозчик, которому вы скажете, куда желаете ехать».
* * *
После моего освобождения 1 мая из «Крестов» радостное чувство, которое я испытывал, было почти повторением того, которое я переживал, когда произведен был в офицеры в 1867 году. Но в то время я получал известные права и становился в ряды нашей гвардии с определенным положением, шутка сказать, корнета. После закрытого учебного заведения – свободный человек!
Через 50 лет, тоже из «закрытого заведения», только другой совсем категории, я – тоже свободный гражданин и тоже с положением настоящего «пролетария».
Имущественное мое положение определялось формулой: «Яко наг, яко благ, яко нет ничего», то есть в условиях легкого и свободного передвижения.
За два года я потерял в весе около двух пудов. Сколько убыло у меня жизненной энергии, определить трудно, за неимением такого счетчика. Доверия же к людям осталось мало.
Освобожден я был из заключения по декрету об амнистии, то есть в порядке управления советской властью. Теперь это значило: жить! И я просто радовался моей свободе.
* * *
На квартире жены нельзя было мне жить по двум причинам. Во-первых, это было такое крошечное помещение, что и без всякого имущества человеку там места не было. А во-вторых, благодаря той травле, которой я подвергался за время моего процесса, своего рода популярность моего имени привлекла бы к квартире жены внимание таких людей, которым, безусловно, лучше было говорить: «Здесь не живет».
Нашлись добрые люди, недалеко от Нарвской заставы, которые меня приютили.
В июле я перебрался поближе к островам, чтобы подышать немного лучшим воздухом. Там пробовал рыбу удить на Неве и Невках, стал поправляться, меня начали узнавать в трамвае и на улице.
Нашлись добрые люди, которые меня предупредили, что после того, как отправили в Москву из «Крестов» и частных лечебниц бывших царских министров, где их попросту расстреляли, без всякого суда, то стали называть мою фамилию как случайно избежавшего расстрела.
В пустой квартире громадного дома на Каменноостровском проспекте я скрывался некоторое время благодаря покровительству швейцара и старшего дворника, двух бывших гвардейских унтер-офицеров, хорошо меня знавших. В одно прекрасное утро ко мне зашел швейцар, рассказавший о бывшем в доме обыске. Я находился на пятом этаже. Прибывшие на грузовом автомобиле для ночного обыска большевики, утомленные в нижних этажах, подошли к моей двери. Швейцар храбро открыл ее, а дворник сказал, что квартира эта пустая, на что и было похоже, так как ключ находился у швейцара. Руководивший обыском заявил, что они и так устали, чего же тут мотаться еще по пустым квартирам. «Закрывай!» – крикнул он, и я был спасен. Но оставаться в этом доме дальше нельзя было; да и по соседству с домом, в котором я жил, был обыск – искали меня. Пришлось перебраться в Коломну, в мансарду, чтобы выждать некоторое время и не напоминать о себе.
Слухи о том, что меня ищут, не прекращались, а когда я сам слышал, как на площадке трамвая три солдата, рассуждая о расстрелах царских министров, упомянули мою фамилию с таким добавлением: «Ничего, найдем его и тоже расстреляем», – я понял, что оставаться в совдепии мне не следует.
Но куда направить свои стопы?
Ближе всех была граница Финляндии, теперь уже самостоятельного государства. В Финляндии у меня было немало друзей, в том числе бывший мой ротный командир Александровского кадетского корпуса, Бьерклунд, уговаривавший купить усадьбу под Выборгом, на берегу рыбного озера.
Я решил уйти в Финляндию. 22 сентября (5 октября), вечером, совсем налегке отправился на Финляндский вокзал пешком.
Когда я проходил мимо новой ортопедической клиники клинического военного госпиталя, у меня мелькнула мысль о превратности судьбы человека. До моего назначения министром клиника помещалась в старом здании, там было и тесно и неудобно. Во время одного из посещений я обратил внимание на то, что в военном ведомстве такое обилие ломки ног и рук – и такое несоответствие с этим состояния специального для сего учреждения. И где? В лечебнице при Военно-медицинской академии, где готовятся военные врачи-хирурги!
Профессор Турнер, на руках которого была эта лечебница, подробно ознакомил меня со всеми дефектами своего заведения. Главному военно-санитарному инспектору это, видимо, не понравилось, и он со своей стороны доложил, что, конечно, хорошо было бы иметь хорошую клинику и по этой специальности, но кредиты так ограничены и проходят с таким трудом, что приходится попечение об этом отложить. А я как раз перед тем был в прекраснейшей гинекологической клинике профессора Рейна, находящейся при той же академии, только что выстроенной, по всем новейшим указаниям науки о женских болезнях. Поэтому с моей точки зрения относительно их значения для армии, я не мог понять, почему на эти кредиты ортопедическая не была построена раньше гинекологической?
Начали разбираться, пересмотрели сметы, выкроили ассигнование, и я присутствовал вскоре при закладке, а затем освящении клиники. Мое имя значится на доске, замурованной в фундаменте, и на доске на лестнице. Каждый раз, когда приезжал, я был желанным гостем в этом здании, перед которым теперь прохожу и не знаю даже, где буду ночевать, как и где буду существовать в добровольном изгнании…
С билетом третьего класса, в пустом совершенно вагоне последнего поезда, я приехал на станцию Белоостров. Погода была ужасная, дождь шел непрерывно, и на платформе был всего один мой рыбак, предупрежденный о моем прибытии. Сошли с платформы и в совершенном мраке, шагая по грязи, пошли на северо-восток, к стороне Ладожского озера. Шли довольно долго и добрались наконец до избушки, в которой я переночевал.
Когда на другой день прояснилось, то я увидел всего в нескольких шагах пограничную речку Сестру, сильно вздувшуюся от дождей. Ее коричневая вода бурлила, покрытая пузырями и пеной. В этой избушке пробыл я весь день, питаясь кое-чем с собой взятым и куском конины моего спутника, меня покинувшего.
Это место в лесу было до того глухое, что за весь день пробежала мимо всего одна голодная собака. А на следующее утро, с рассветом, мой рыбак появился, спустил в воду из довольно тонких досок сбитый плашкот с невысокими бортиками, наподобие крышки от коробки, и предложил мне войти в него.
С места же зачерпнули воды, оттолкнувшись от берега; шевелиться было опасно. Я держался за бортовые доски на коленях, и сильным течением, при нескольких ударах весла-лопаты, нашу поистине утлую ладью перенесло к тому берегу, который уже не был русской землей.
* * *
Еще раз пришлось пережить радостное чувство освобождения, но в данном случае умаляющее радость, сознание того, что с этой минуты я эмигрант, покинувший родину, оказавшуюся мачехой, а не родной матерью.
Полной радости не могло быть и потому, что на том неприветливом берегу остались дорогие, близкие мне люди, участь которых будет мне вряд ли известна, и когда я их увижу – представить себе не могу.
Оказался я снова в лесу. Полотно железной дороги приходилось к западу от меня, поэтому я взял направление на северо-запад. К счастью моему, дождя не было, и эта прогулка не представляла тяжелого похода по болоту и кочкам. Вскоре стали доноситься отдаленные свистки финляндских паровозов, но ни единой живой души на всем пути я не встретил. Лес стал редеть, и между деревьев показалась красная будка, говорившая мне о близости станции, к которой я через несколько минут и подошел, в полной надежде, что никто меня не узнает и я проеду в Гельсингфорс, а там видно будет, что и как «образуется».
Но долго ждать не пришлось – все «образовалось» тут же. «Ваше высокопревосходительство, какими судьбами, откуда вы?» – раздался голос хорошо знакомого мне бывшего нашего офицера, капитана Монтэля, а теперь коменданта пограничной станции Раяйоки.
Пришлось мне рассказать, и о Сухомлинове дано было знать по телефону начальнику приграничного округа, капитану Рантакари, который приехал с экстренным поездом и увез меня в Териоки, где отвели мне помещение в доме комендатуры.
С 24 сентября по 8 октября я пробыл в Териоках, пока решали вопрос, как быть со мной. Дело в том, что от тяжелой жизни в России масса народу бежала в Финляндию, а продовольственный вопрос здесь сильно осложнился. Поэтому для местных властей приятнее было бы иметь русских лишь транзитными пассажирами, а я просил разрешения остаться в Финляндии, так как материальные условия не позволяли мне предпринимать далекое путешествие. 8 октября я получил разрешение прибыть в Гельсингфорс. Вечером я выехал из Териок.
Глава XXXV. Конец
Озираясь на пройденный мною путь, во время моего продолжительного одиночного заключения, я старался вникнуть в причины, которые вызвали ужасную катастрофу. Причины стихийные, неудержимо прогрессирующее развитие, которое не могла удержать никакая сила, шли рука об руку с погрешностями отдельных лиц, а людская слабость и неспособность ускорили несчастие. Технические, хозяйственные и социальные несовершенства в жизни Российского государства должны были сильно отразиться на политической атмосфере, так как во главе государства стоял человек, для которого выпавшая на его долю задача была непосильна.
Николай Александрович из-за несовершенства своего характера и неподготовленности к призванию самодержавия жестоко поплатился.
Мне непристойно присоединяться к хору его обвинителей. Для критики образа его правления время еще не пришло. Пусть критикуют следующие за нами поколения. В моей памяти Николай Александрович жив лишь как мой добрый царь, которого я в самые трудные дни его жизни, в 1917 году, когда его же близкие люди, во главе с Николаем Николаевичем, предали, поддержал бы всеми силами, но я сидел в тюрьме не без согласия, конечно, самого царя.
Николая Александровича я знал еще со времен Балканской войны. В течение последних двенадцати лет моей службы, являясь командующим войсками, начальником Юго-Западного края и военным министром, часто приходилось вести с ним серьезные разговоры, в которых нередко затрагивались вопросы о существовании государства. Это происходило большей частью в тяжелые дни, но иногда и в счастливые, полные надежд на будущее.
Если бы в настоящее время я сказал, что этого монарха действительно знал глубоко по существу и всесторонне, я бы уклонился от истины. Я не принадлежал к числу тех немногих, как, например, граф Фредерикс, граф Шувалов, которые принимались на положении друзей царской фамилии и в повседневной жизни находились в условиях общечеловеческих взаимоотношений с царем и наследником. Мы виделись, когда это было вызвано служебной необходимостью. Если по каким-либо обстоятельствам происходила более интимная встреча, то здесь играла роль случайность.
Между царским домом и нами, сановниками, не принадлежавшими к тесному семейному кругу, находилась стена, перешагнуть которую нам, старым солдатам, хотя и соприкасавшимся в различных случаях с царем и его близкими в течение многих лет, удавалось очень редко.
Естественной причиной этого явления была обширность царской фамилии, что в значительной степени облегчало ей жить замкнуто в своем кругу, не нуждаясь в посторонних. Если бы семья состояла из небольшого числа лиц, это было бы уже труднее.
Ввиду большого количества подраставших молодых великих князей, в семидесятых и восьмидесятых годах не было никакой необходимости привлекать для игр и занятий сверстников из семей, преданных царю.
Николай Александрович был очень дружен с детьми великого князя Михаила Николаевича, брата Александра II, и часто после обеда, когда «весь Петербург» отправлялся по набережной Невы на Острова, его можно было видеть сидящим на подоконнике большого окна Михайловского дворца. Великий князь Сергей Михайлович был его самый близкий друг: когда наследнику пришлось расстаться с холостой жизнью, он принял на себя заботы о Кшесинской, красивой балерине, которая для Николая Александровича значила больше чем просто минутное увлечение.
Меня и многих других не раз удивляло большое доверие царя, которое он иногда проявлял. Казалось, этому не было границ. Но как только вопрос касался лиц царской фамилии, грань давала себя чувствовать, словно государь опасался деятельность этого лица подвергнуть критике постороннего.
Этим родственным чувством, которое по отношению ко мне никогда не проявлялось в виде высокомерия, и объясняется то, что мы считали слабостью и неустойчивостью главы Романовых, а это привело к тому, что в действительности в критические минуты Николай II принимал решения, не проистекавшие из его самодержавной воли, а под давлением того члена царской фамилии, который в данный момент имел на царя наибольшее влияние.
Сергей Михайлович, вдовствующая императрица Мария Федоровна, убитый в Москве в 1905 году Сергей Александрович, императрица, но больше всего Николай Николаевич (младший) имели возможность при этих условиях влиять на некоторые начинания царя, что шло вразрез с наилучшими стремлениями и вызывало обиды его сановников, желавших пользы стране и престолу.
Будучи еще юношей, Николай Александрович обратил на меня внимание. В 1878 году, как я уже говорил, Драгомиров рекомендовал меня в воспитатели к наследнику. Ближе я познакомился с Николаем Александровичем, когда он стал перед эскадроном. В то время, когда был начальником Офицерской кавалерийской школы, он проходил практически устав кавалерийского обучения на эскадроне школы.
Цесаревич исправно посещал занятия эскадрона школы, прошел все уставное обучение от кавалериста до эскадронного учения включительно. Чрезвычайно внимательно относился ко всем указаниям, разъяснениям и перед эскадроном произносил команды отчетливо, уверенно.
На первых порах казалось, что он сам своего голоса не узнает и удивляется его звучности; но довольно скоро эта робость исчезла.
На память об этом обучении я получил от его императорского высочества портрет, в гусарской форме, с подписью.
До 1898 года, то есть за время, что я был начальником Офицерской кавалерийской школы, я видел государя часто, но не общался лично. В ближайшие 10 лет, когда я командовал 10-й кавалерийской дивизией, был начальником штаба и помощником Драгомирова, а также командующим войсками в Киеве, мне доводилось видеть царя лишь во время моих приездов в столицу.
Мои личные разговоры с государем по поводу последствий японской кампании и проекта реорганизации великого князя Николая Николаевича я уже изложил раньше, как и обстоятельства, при которых я принял должность начальника Генерального штаба под командой Редигера. Государь не смог быть мне во всем поддержкой, как он это обещал.
* * *
…Мое жизнеописание превратилось в исповедь. Как я упомянул во вступлении, писал я не для того, чтобы оправдываться перед моими противниками и еще менее заискивать у них. Я в этом не нуждаюсь. Только что мне исполнилось семьдесят пять лет, поэтому смена их образа мыслей принесла бы мне мало пользы. Я писал, чтобы показать нашему народу, где и в чем его вожди заблуждались, писал с возрастающим внутренним успокоением, так как последние годы бедствий и горя привели меня к осознанию того, что русский народ в отношении своих главных жизненных задач в конце концов выйдет на правильный путь. Начинающееся на моих глазах мирное, дружественное сближение России и Германии является основной предпосылкой к возрождению русского народа с его могучими действенными силами. Русский народ молод, силы его неисчерпаемы.
Русские и немцы настолько соответствуют друг другу в отношении целесообразной, совместной продуктивной работы, как редко какие-нибудь другие нации.
Но для сохранения мира в Европе этого было недостаточно – необходим был тройственный союз на континенте. Вместе все это создавало почву для предопределенной историей коалиции: Россия, Германия и Франция – коалиции, обеспечивавшей мир и европейское «равновесие», угрожавшей лишь одной европейской державе – Англии. Эта угроза заставила ее взять на себя инициативу создания другой, более выгодной ей коалиции – «entente cordiale». Альбион не ошибся в своих расчетах: два сильнейших народа континента лежат, по-видимому, беспомощно поверженными в прах. Одно лишь упустил из виду хладнокровно и брутально-эгоистически рассчитывающий политик: ничто не объединяет людей так сильно, как одинаковое горе.
Другой залог для будущего России я вижу в том, что в ней у власти стоит самонадеянное, твердое и руководимое великим политическим идеалом правительство. Этот политический идеал не может быть моим. Люди, окружающие Ленина, не мои друзья, они не олицетворяют собой мой идеал национальных героев. В то же время я уже не могу их больше назвать «разбойниками и грабителями», после того как выяснилось, что они подняли лишь брошенное: престол и власть. Их мировоззрение для меня неприемлемо. И все же медленно и неуверенно пробуждается во мне надежда, что они приведут русский народ, быть может, помимо их воли, по правильному пути к верной цели и новой мощи… Верить в это я еще не могу, но тем сильнее того желать… ввиду бесчисленных ужасных жертв, которых потребовало разрушение старого строя. Что мои надежды являются не совсем утопией, доказывает то обстоятельство, что такие мои достойные бывшие сотрудники и сослуживцы, как генералы Брусилов, Балтийский и Добророльский, отдали свои силы новому правительству Москвы. Нет никакого сомнения, что они это сделали, убедившись в том, что Россия и при новом режиме находится на правильном пути к полному возрождению.



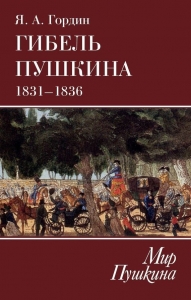





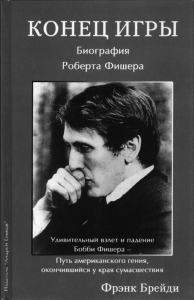

Комментарии к книге «Генерал В. А. Сухомлинов. Воспоминания», Владимир Александрович Сухомлинов
Всего 0 комментариев