Улоф Лагеркранц От ада до рая Книга о Данте и его «Комедии»
Предисловие
Уже более шести веков Данте почитают одним из величайших поэтов нашего культурного региона. Тэн называл Данте, Шекспира, Микеланджело и Бетховена столпами человечества и тем самым ставил перед всеми другими. Стефан Георге говорил о Данте, Шекспире и Гете как о титанах в литературе Нового времени, и эта оценка преобладала в современной Германии. Широко известны и слова Элиота: мир делят меж собою Данте и Шекспир, и никого третьего здесь нет.
Можно с легкостью привести сколько угодно подобных высказываний. Для великого множества людей Данте занимал и занимает в литературе такое же место, какое в мире сказок отводится льву. Он был выделен в особую категорию, и когда его сопоставляли с другими, выбор сравнимых по масштабу фигур сводился буквально к единицам. «Величайшее из всех поэтическое произведение», – говорит о «Божественной Комедии» Умберто Козмо, и, судя по тону, для него это разумеется само собой, будто речь идет о солнце на нашем небосклоне.
Тот, кто занимается Данте, поначалу не может не ощущать бремени его славы. И избавить от этого способен лишь один – сам Данте. Читая «Комедию», забываешь о его славе, забываешь, что на протяжении столетий лучшие умы комментировали это произведение, что о его проблемах существует целая литература, сравнимая по объему разве что с толкованиями Библии. Все это попросту забывается, потому что «Комедия», запечатленная на книжных страницах, захватывает читателя. Будто ждешь в мраморном зале среди увешанных золотом придворных вельмож, пока тебя допустят к грозному правителю, а войдя, обнаруживаешь, что властвует он не в силу внешнего могущества и внушающих почтение атрибутов, но в силу своего духовного превосходства. Страх исчезает. Даже начинающий чувствует себя спокойно.
О «Комедии» как живой словесной ткани, о множестве ее персонажей, о ее многогранности я знаю достаточно, чтобы понимать несовершенство собственного моего повествования. Работая над книгой, я чувствовал себя чем-то вроде провинциальной телефонной станции, которая реквизирована армией великой державы. Звонков слишком много, я не в состоянии обеспечить все необходимые соединения. Я обращался за помощью к давним и недавним исследователям Данте и получал ее. Моя благодарность им очень велика, хотя, возможно, и не всегда достаточно четко выражена. Я заимствовал методические приемы и точки зрения, порой не делая подробной ссылки на источник. В дантоведении общеизвестно, что Эрих Ауэрбах – новатор в так называемом образном подходе, что Синглтон дал новую трактовку «Новой Жизни», что Маццео облегчил нам ориентирование в райском свете (достаточно упомянуть хотя бы эти три примера). Подобные вещи можно считать всеобщим достоянием. Я искал ключи и путеводные нити в разных направлениях, но предпринял по «Комедии» свое собственное странствие.
Главный источник моих знаний о «Комедии» – само это произведение, которое я читал снова и снова. И всякий раз, когда мне казалось, что я немного продвинулся в понимании, открывались новые пути и новые перспективы. Это сродни восхождению на гору. Чем выше поднимаешься, тем огромней становится мир и тем меньше – сравнительно – ты понимаешь. Утешает лишь одно: усиливается желание взойти на вершину и расширяется кругозор.
Конечно, я надеюсь, что моя книга послужит стимулом к чтению «Комедии». Стоит почитать и другие произведения Данте, особенно трактат об универсальной монархии и «Новую Жизнь». Но с «Комедией» они соотносятся так же, как задачки, которые Эйнштейн решал в школе, с его теорией относительности или как воскресные парусные прогулки в Генуэзской бухте, которые Колумб совершал в детстве, с его плаванием через неведомую Атлантику. Вместе с тем мне едва ли не страшно советовать людям читать «Комедию». Это не книга для чтения, а, скорее, жизнь, которую нужно прожить. Вряд ли стоит читать «Комедию» только один раз. Сравнивая Данте с Шекспиром, необходимо помнить, что Шекспир был вынужден каждой своей драмой одерживать полную победу над зрителями. Кроме того, он обладал редкой способностью одним махом реализовать весь свой талант. Данте же посвящает «Комедии» всю жизнь, вкладывает в нее весь свой опыт, наполняет ее несчетными судьбами, высказывает свое отношение к извечным моральным, политическим и религиозным проблемам. И все это образует монолит, чьи внешние масштабы значительны, однако не неизмеримы. Если не останешься здесь надолго, извлечешь из этого произведения слишком мало.
Переводы из «Комедии» – за исключением оговоренных особо – сделаны мною[1], и ценную помощь при этом мне оказала моя приятельница, г-жа Карин Хубинетте. Во избежание терминологической путаницы названия трех царств умерших – Ада, Чистилища и Рая – я пишу со строчных букв, когда имеются в виду соответствующие места действия. Названия же частей (кантик) «Комедии» – с прописной (в русском тексте в обоих случаях традиционно используются прописные буквы, но названия кантик даны в кавычках. – Перев.). Чтобы помочь читателю отыскать в «Комедии» пассажи, о которых я веду речь, я даю подсказку цифрами в скобках. Номер песни указан римскими цифрами, номер части и стиха – арабскими. Например, (2, XVII, 102–104) означает: «Чистилище», Песнь семнадцатая, стихи 102–104). И наконец, хочу выразить благодарность к.ф.н. Анн-Карин Пиль за подбор иллюстраций.
Если кому-то захочется продолжить изучение Данте, он найдет в конце книги список литературы, безусловно не претендующий на полноту, ведь за без малого два десятка лет, прошедших со времени первой публикации этой книги, я лишь спорадически следил за многочисленными работами о Данте. Моя библиография систематически прослеживает только шведские исследования, первое место среди которых, разумеется, принадлежит вышедшей в 1967 году книге о Данте Э.Н. Тигерстедта.
Рискну назвать и одну работу с итальянского «фронта». Проф. Мария Корти из Падуанского университета опубликовала любопытные суждения о Данте и так называемом адамовом языке, которые как будто бы подтверждают притязание Данте на то, что, создав «Комедию», он создал нечто совершенно уникальное.
Улоф Лагеркранц
Ад
Человек среди теней
Завязка такова: флорентиец Данте Алигьери предпринял странствие через Ад, Чистилище и Рай – три царства, ожидающие человека после смерти. Спустя несколько лет он рассказывает об этом путешествии, и в результате возникает поэтическое произведение, которое с начала XVI века зовется «Божественной Комедией». Как и в иных автобиографических повествованиях, рассказчик старше и опытнее того себя, о котором он ведет речь. Поэтому целесообразно их различать, именуя героя поэмы пилигримом Данте, а ее создателя – рассказчиком Данте. Такое различение в известном смысле опирается на самого Данте и использовалось целым рядом современных исследователей.
Пилигриму Данте вот-вот исполнится тридцать пять лет. Родился он во Флоренции под знаком Близнецов (21 мая – 20 июня) в 1265 году. Образованный человек из хорошей семьи, он изучал искусство античности и современной ему эпохи, философию и богословие. Писал стихи и активно участвовал в политической жизни родного города. Важнейшая часть его жизни еще впереди. Умершие, которых он встречает, обладают способностью видеть будущее, и пилигрим часто спрашивает их, как у него все сложится. Свое странствие он начинает в Страстную пятницу 1300 года, того самого, что по указу папы отмечается как великий юбилейный год и ознаменован для верующих особенными послаблениями. В Рим стекаются несметные полчища паломников. Странствие пилигрима через царства умерших продолжается примерно неделю. Еще целых пятьдесят лет до Чумы и семьдесят четыре – после кончины св. Франциска. Эпоха крестовых походов завершилась, но идея их по-прежнему жива во многих сердцах. Лишь девять лет назад было утрачено последнее христианское владение в Святой Земле. На папском престоле – Бонифаций VIII, на троне Священной Римской империи – Альбрехт Габсбург; первого пилигрим и рассказчик ненавидят, второго презирают. Такого рода сведения, привязывающие Дантово странствие к истории, могут оказаться полезны, однако читателю, который готовится вникнуть в «Комедию», стоит подумать и о том, что поэма носит визионерский характер и разыгрывается параллельно вне времени и во времени. «Комедия» существует, и действие ее отображается и вершится в этот самый миг, принадлежит настоящему ничуть не меньше, чем дождь за окном и холодная война.
Пилигрим Данте заплутал в лесу. Первые строки поэмы гласят: «Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura, / che la diritta via era smarrita». – «Земную жизнь пройдя до половины, / Я очутился в сумрачном лесу, / Утратив правый путь во тьме долины». Мы понимаем, что лес – это наша жизнь и что пилигрим прошел свою жизнь до половины. Он видит озаренный солнцем холм, хочет взойти на вершину, но путь ему преграждают три грозных зверя – сначала рысь, «вся в пятнах пестрого узора», затем «лев с подъятой гривой» и, наконец, волчица. Эта волчица, куда более свирепая и страшная, чем два других зверя, теснит пилигрима к глубокой долине. И в сей тяжкий час ему встречается муж, «от долгого безмолвья словно томный». Пилигрим просит незнакомца о помощи: «Спаси, – воззвал я голосом унылым, – / Будь призрак ты, будь человек живой!» (I, 65–66). Тот отвечает, что он не человек, но был им, и рассказывает, что предки его родом из Мантуи, что родился он при Юлии Цезаре, жил в Риме во времена доброго кесаря Августа, когда еще почитали ложных и лживых богов. Согласно средневековому обычаю, не полагалось называть свое имя, а тем паче хвастать им (сам Данте неукоснительно соблюдает этот обычай), и незнакомец поэтому не говорит своего имени, но представляется заплутавшему путнику, прибегнув к не менее действенному способу: «Я был поэт и верил песнопенью, / Как сын Анхиза отплыл на закат / От гордой Трои, преданной сожженью».
Пилигрим, вспыхнув от смущения, радостно восклицает: «Так ты Вергилий, ты родник бездонный, / Откуда песни миру потекли? / <…> / О честь и светоч всех певцов земли, / Уважь любовь и труд неутомимый, / Что в свиток твой мне вникнуть помогли! / Ты, мой учитель, мой пример любимый; / Лишь ты один в наследье мне вручил / Прекрасный слог, везде превозносимый. / Смотри, как этот зверь меня стеснил! / О вещий муж, приди мне на подмогу, / Я трепещу до сокровенных жил» (I, 79–90). Вергилий отвечает, что путнику, который заплакал от страха, нужно пойти другой дорогой, ведь дикий зверь никого не пропускает, такой его обуревает ненасытный голод. Вергилий вызывается указать иной путь, который, хоть он много-много длиннее, тоже ведет к свету. Странствие пройдет через Ад и Чистилище. Если же пилигрим захочет идти дальше, ему придется найти себе другого вожатого, ибо он, Вергилий, не был христианином и оттого ему нет доступа в Рай. Данте с благодарностью принимает предложение, и на том Песнь первая, имеющая характер пролога, заканчивается. В следующих тридцати трех песнях два поэта спускаются в подземный мир и встречают там осужденных на вечные муки.
Рассказчик Данте – средневековый человек в возрасте от сорока пяти до пятидесяти пяти лет. С 1301 года он живет в изгнании, и над ним нависает угроза смертного приговора. Бонифаций VIII скончался. Альбрехта Габсбурга в 1309 году сменил Генрих VII Люксембургский. В 1314 году кесарем становится Людвиг IV Виттельсбах, но императорская власть – лишь тень того, чем она была когда-то. С Климента V (1305–1314) начинается «вавилонское пленение» пап в Авиньоне. «Комедия» писалась в период упадка двух великих властей, папской и императорской, которым Данте посвятит столь много своих дум, энергии и поэзии.
В эпосе, который пишет рассказчик, его молодое «я», пилигрим, любит женщину по имени Беатриче. Она уже оставила этот мир и живет в Раю, откуда охраняет и направляет странника. Именно по ее просьбе Вергилий нарушил свое долгое безмолвие, чтобы прийти Данте на помощь. Беатриче – добрый гений и для странника, и для рассказчика. Здесь, как нередко в поэме, трудно провести грань меж пилигримом и рассказчиком. Они живут на разных планах, принадлежат к разным возрастным группам, но между ними постоянно проскакивают огненные искры. Черты старшего, опаленные политическими и религиозными страстями, угадываются в незамутненном облике младшего. В сопровождении Вергилия и Беатриче младший – зачастую как ребенок, ведомый отцом или матерью, – направляется к Раю. Старший мощно и умело ведет к той же цели свое творение, под покровительством тех же духов. Рассказчик Данте находится на вершине знаний своего времени, тогда как знания Данте-пилигрима скудны и недостаточны. Пилигрим – герой в романе воспитания. Странствие-жизнь преподает ему уроки морали, политики, религии, благодаря которым он развивается. Много времени проходит, прежде чем он обретает ясность. Его борьба за познание – одна из великих тем «Комедии».
Читатель не видит, где пролегает раздел между тридцатипятилетним пилигримом и его пятидесятилетним творцом, и эта неопределенность действует как стимул. В точности никогда не известно, говорят ли с тобою мудрость и знание, или ты имеешь дело всего-на-всего с наивным вопрошателем. Иными словами, читатель не испытывает гнета духовного принуждения. Подле Данте-рассказчика всечасно находится Данте-пилигрим. Рассказчик не забывает, что пилигрим полон колебаний, тревог и сомнений. Одновременно он знает, что эти сомнения и тревоги были, а вероятно, и остаются его собственными. Ведя свое повествование, он порой не делает различия между собою давним и собою теперешним. И в этом он похож на всех других людей.
Каждый из тех, кого пилигрим встречает на своем пути, прошел через врата смерти и обладает лишь призрачным телом. Плотью облечен только сам Данте. В Аду темно, потому-то пребывающие там горемыки часто не замечают, что гость не таков, как они. Подобная невнимательность в Аду связана с природой этого места. Здесь обитают люди, находящиеся в аффекте. Откуда же у них возьмется интерес к ближним! Каждому хватает собственной боли. Каждый замкнут в себе, и нередко именно в этом и заключается кара.
На горе Чистилища, расположенной в безбрежном океане по другую сторону земного шара, напротив, светит солнце, и тень, которую отбрасывает тело Данте, выдает его. Не удивительно поэтому, что встречи в Чистилище всегда ознаменованы испугом или удивлением. Видя, что грудь Данте дышит, а солнечные лучи сквозь него не проникают, умершие громко восклицают от изумления, показывают друг другу на него, устремляются к нему, чтобы удовлетворить свое любопытство. Любопытство – признак того, что они пребывают в более счастливом состоянии, нежели проклятые в Аду. Им хочется умножить свою ученость, расширить объем сознания. Но удивление еще и совершенно естественно. Ни один живой человек не бывал в этих краях, и пилигриму все время приходится объяснять, как это возможно, что он, еще в первой, земной жизни, странствует среди умерших.
Пилигрим и сам порой забывает о разнице между своим положением и положением других. Как-то раз, стоя рядом с Вергилием, он видит перед собою лишь собственную тень, и в испуге молниеносно оборачивается, хочет убедиться, что Вергилий по-прежнему здесь. Он забыл, что Вергилий – бесплотная тень. В другой раз, встретив дорогого умершего друга, он трижды пытается обнять его, и трижды руки обнимают воздух и смыкаются на собственной его груди.
Рассказчик не пожалел сил, изображая встречи живого пилигрима с тенями умерших. Кое-кто из комментаторов сетует на многочисленность сцен удивления. Им можно ответить, что повествование требует постоянно помнить о различии между живыми и умершими. Среди душ, уже не нуждающихся в кислороде, дышащая грудь явно бросается в глаза не меньше, чем Гулливер среди лилипутов. Разве кто-нибудь критикует эти крохотные существа за то, что они сперва дивятся Гулливеровым размерам и лишь затем тщательно изучают прочие его свойства?
Но, возможно, сцены удивления – лично меня всякий раз охватывает восторженное волнение, когда близится такая сцена, – черпают свет не из одной только потребности в правдоподобии. Быть единственным обладателем тени среди миллионов – отличие уникальное, сравнимое разве что с неповторимостью личности или непревзойденного гения. Среди страстей, раздирающих грудь Данте, изгоя и рассказчика, есть и честолюбие. Может статься, именно честолюбие и самонадеянность побуждали его столь часто возвращаться к встречам живого пилигрима с умершими. Тени в испуге отшатываются и восклицают: он вправду жив? Почему солнечные лучи рвутся, а не пронизывают его насквозь? В этих возгласах читателю слышен отзвук иных реплик: вправду ли, вправду ли это – Гомер, Шекспир, Эйнштейн, Чаплин, Данте? Может ли смертный, создав произведение, которое читается на протяжении веков, победить смерть и жить, когда другие уже стали тенями? Стремление к этому огнем горит в жизни и творчестве Данте. Вергилий, сопровождающий пилигрима, – побудительное напоминание о шансах на бессмертие, какими обладает поэт. «Божественная Комедия» создается в состязании с вожатым и учителем Вергилием. Одна из ее задач – прославить имя Данте. И поэт достиг своей цели, ведь тот, кто читает «Комедию», ежесекундно ощущает в плоти и крови действия присутствие его личности. Данте поныне отбрасывает тень среди мириад умерших.
За исключением Данте, все персонажи «Комедии» – призраки, духи. Верил ли Данте в духов, в посмертное продолжение жизни? Безусловно, верил. И хотя мы не можем разделить эту его убежденность, у нас все равно нет причин отступать. Библейский Адам, сервантесовский Дон Кихот, мартинсоновский бродяга Болле[2] тоже не существуют в чувственном мире. Они живут силой воображения своих творцов и нас самих. Они тоже тени, мы не можем ни обнять их, ни поговорить с ними. Однако, скажете вы, нас уверяют, что они такие же люди, как мы. Они дышат, вкушают запретные плоды, сражаются с ветряными мельницами, из их ран течет кровь, они мерзнут и греются в печи для обжига кирпичей. А вот у Данте люди обладают всего лишь призрачными телами. Не приобретает ли его поэма таким образом оттенок нереальности?
В соответствии с тогдашними воззрениями Данте полагает, что душа, которая создана непосредственно Богом и оттого не может умереть, со смертью тела освобождается, причем захватывает в свою новую жизненную форму все, что в человеке божественно и бренно. В Песни двадцать пятой «Чистилища» римский поэт Стаций, шагая вместе с Вергилием и пилигримом по узкой горной тропе, читает целую лекцию на эту тему. Когда нить жизни прерывается, говорит Стаций, после человека остается плоть, принадлежащая миру животных и растений. Освобожденная душа обладает памятью, волей и разумом. В царстве мертвых – попадает ли душа в Ад или в Чистилище – она создает себе призрачное тело, своего рода тень, владеющую аналогами тех чувств, какие человек имел в своей первой жизни. Эта тень соотносится с душой, как костер с пожаром. И говорят умершие через эту тень. Она смеется, плачет, вздыхает, испытывает всяческие эмоции и желания. Поэтому умершие хоть и не едят, могут ощущать голод. Не пьют, но чувствуют жажду. Не имея тела, обжигаются о пламя или осязают тяжесть груза. Иными словами, умершие во всем подобны живым. От нас их отличает лишь одно: они перешли в другую форму существования. И невзирая на это, признать их все-таки трудно?
О нет. Ощущение близости и чистой правды усиливается благодаря тому, что в «Комедии» только один человек одет плотью, а все остальные – тени. Читая поэму, мы не задумываемся о проблеме бессмертия души, точно так же, как, читая о Гулливере, не задумываемся, существуют ли на самом деле лилипуты и великаны. Перед лицом «Комедии» опять-таки совершенно безразлично – и данную точку зрения решительно отстаивал Элиот в своей небольшой книжке о Данте, – веруем мы или нет. От нас требуется одно: верующие ли, нет ли, мы должны читать эту книгу так, как следует читать всякую книгу и встречать всякого человека, а именно – без предубеждения.
Ни один человек не воспринимает другого столь же реально, сколь себя самого. Притом за свою жизнь он общается с тенями ничуть не меньше, чем с людьми, дышащими тем же воздухом, что и он. Умершие родственники, умершие возлюбленные, умершие друзья – все они присутствуют в нашей будничной жизни. С годами их число увеличивается. Автор «Комедии» уже близок к старости. В XIV веке жизнь была суровее и короче, нежели теперь, и теней умерших в жизни каждого человека набиралось куда больше, чем в наше время, если отвлечься от не-побиваемого рекорда по теням, который могут засвидетельствовать уцелевшие в современных лагерях каторжного труда и смерти.
Умершие герои и негодяи истории, умершие мыслители, художники и поэты играют очень важную роль в жизни интеллигентного, просвещенного человека. И задача Дантовой поэмы, в частности, пробудить к жизни давнюю культуру. «Пусть мертвое воскреснет песнопенье, / Святые Музы, – я взываю к вам», – восклицает Данте в начальных строфах «Чистилища». Желая реалистически изобразить, как выглядит для человека жизнь здесь, на земле, и подыскивая наиболее типичную ситуацию, разве не стоит изобразить человека из плоти и крови, окруженного тенями, которые из своего призрачного бытия ищут контакта с ним, еще живущим? Поэма Данте – заклинание умерших. Их призывают, чтобы они приняли участие в теперешней жизни, или они являются сами, ибо имеют сообщить нечто по-прежнему актуальное.
В тот миг, когда вступает в свою поэму и начинает странствие по царствам умерших, Данте как художник и человек приобретает колоссальное преимущество, и он отлично сумеет им воспользоваться. Хотя все так непривычно, хотя в Аду стоит оглушительный шум, а в небесах от света слепит глаза, мы во всякий миг узнаём себя. Умершие все время рядом, и их присутствие – существенная часть нашей жизни. Их жизнь окончена, и они предстают перед нами в образах и ситуациях, которые по ходу жизни и истории вырисовываются все отчетливее. Дантовы встречи в царствах умерших под стать встречам, какие у всех нас случаются ежедневно. Поэтому «Комедию» можно воспринимать как поистине уникальное реалистическое произведение в западной поэзии. «Комедия» – произведение, где участвуют умершие, где слышен призыв воскресить мертвую поэзию, где всему, что принадлежит миру познания, дано присутствовать здесь и сейчас.
Это не означает, что «Комедия» обыденна и простодушна. Возможно, такая характеристика справедлива для ряда песней «Чистилища». Но «Ад» отражает не только боль, обусловленную природой этого места, а еще и ужас, которого не избежит никто из ищущих контакта с умершими. Вергилий не просто благородный представитель античной поэзии. Он еще и провидец и заклинатель умерших. В свое время, когда писал «Энеиду», он вместе с Энеем уже спускался в подземный мир, и теперь тогдашние заклинания вновь приходят ему на помощь. Он воплощает древние знания о подземных духах и об искусстве улавливать их в словесные и кровные сети. Именно Вергилий спасает пилигрима от чудовищ, стерегущих разные круги Ада. Он бросает землю в пасть Цербера и тем унимает его. Он прикрикивает на Минотавра, напоминая ему о его убийце, Тезее. Когда ничто другое не помогает, он призывает на выручку ангелов или использует магическую формулу, которая ломает всякое сопротивление: «Того хотят – там, где исполнить властны / То, что хотят» (1, V, 23–24). Через все песни «Ада» проходит дрожь ужаса, и ни древним, ни новым заклинаниям никогда не одолеть его целиком и полностью.
В Раю блаженные мечтают о Страшном суде, когда они соединятся со своими телами и испытают огромное счастье. В мире поэтического слова всякий обрисованный поэтом персонаж – тень, жаждущая наполниться кровью, превратиться из фантома в пышущее жизнью существо. Данте признаёт, что его персонажи – тени, но зачастую они кажутся нам одетыми живою плотью. Умершие живы, но одновременно мы знаем – и мучаемся из-за этого, – что они мертвы. Одно из многих чудес, связанных с «Комедией», заключается в том, что для нашего восприятия она по своей форме и развитию очень похожа на правду, что Данте усматривает в бытии множество измерений и взрывает тесные рамки, которые мы возводим вокруг себя.
Искусство быть в Аду
Вместе со своим другом и вожатым Вергилием пилигрим Данте спускается в Ад, расположенный под поверхностью земли. Переправляется через темные мертвые реки. Пересекает раскаленные пустыни и бесприютные ледяные равнины. Он не в царстве грез и тем паче не в аллегории, а среди реального ландшафта. И ведет он себя в Аду таким же манером, как Сэм Уэллер из «Записок Пиквикского клуба» ведет себя в Лондоне, когда во дворе гостиницы «Белый олень» усердно чистит сапоги постояльцев и перешучивается со служанкой. Если б кто-нибудь сообщил м-ру Уэллеру, что Лондон – сущий град обреченных (учитывая нищету и убожество тогдашних больших городов, такой вывод вполне оправдан), это не помешало бы ему с удовольствием озираться по сторонам и не упускать оказии получить чаевые. Рассказчик Данте охотно прибегает к образам, соединенным с приятностью и идиллией, чтобы через них высветить страшные и трагические события. А потому мне кажется, он не стал бы порицать того, кто сравнивает пилигрима в Аду с Сэмом Уэллером в Лондоне. Ведь это сравнение просто помогает запомнить: пилигрим Данте находится в Аду и ведет себя точно так же, как любой из нас ведет себя там, где присутствует телесно.
Данте – путешественник-первооткрыватель в стране, где у жителей странные обычаи. Одни валяются в грязи, другие носят позолоченные куколи из свинца. Третьи купаются в кипящей смоле, четвертые единоборствуют между собою. Или он – посетитель в лазарете, который переходит из палаты в палату, от койки к койке, глядя на опухших и уродливых жертв тяжких недугов. Или он – мирный гражданский человек, очутившийся в гуще битвы и окруженный тысячами павших воинов.
Пилигрим знает, что Ад – место заключения, тюрьма и населен осужденными. Об этом ему напомнили в тот самый миг, когда он туда входил, ибо над вратами написано:
Я увожу к отверженным селеньям, Я увожу сквозь вековечный стон, Я увожу к погибшим поколеньям. Был правдою мой Зодчий вдохновлен: Я Высшей Силой, полнотой Всезнанья И Первою Любовью сотворен. Древней меня лишь вечные созданья, И с вечностью пребуду наравне. Входящие, оставьте упованья. Per me si va nella cittâ dolente; per me si va nell’eterno dolore; per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto Fattore; feccemi la divina Potestate, la somma Sapienza e il primo Amore. Dinanzi a me non fur cose create, se non eterne, ed io eterno duro: lasciate ogni speranza, voi ch’entrate.Итак, уже в начале странствия и в начале поэмы четко сказано, что Ад создан верховной божественной силой, и читатель, как и пилигрим, в дальнейшем убедится, что там часто идет речь о высшем суде. И в произведении, где повествуется о жизни за порогом смерти, это совершенно естественно. Ведь, поскольку всем очевидно, что в земной жизни зачастую побеждает злодей, а добрый, хороший человек страдает, по ту сторону смерти Бог должен восстановить равновесие, ибо Он есть любовь и справедливость.
Пилигрим встретит людей, наказанных по заслугам. Но он человек, а не робот. Он читает письмена «сумрачного цвета», начертанные над вратами, и говорит Вергилию: «Учитель, смысл их странен мне». Вергилий отвечает: «Здесь нужно, чтоб душа была тверда; / Здесь страх не должен подавать совета. / Я обещал, что мы придем туда, / Где ты увидишь, как томятся тени, / Свет разума утратив навсегда» – il ben dello intelletto (ст. Г8). Вергилий имеет в виду, что грешники в Аду утратили знание о Божией благости и о высшей правде. Как это могло случиться, нам не сообщают. Однако есть основания предположить, что Данте тревожит жестокая необратимость кары, выраженная в словах об упованиях, которые здесь должно оставить. Кое-кто из христианских интерпретаторов считает, что осужденные выбрали зло, выбрали Ад, но как можно выбрать вечные муки, понять трудно. Зато есть и соблазн так сформулировать положение вещей: в адском концлагере заключены противники Бога. Верующий – хоть нацист, хоть христианин – должен бы испытывать удовлетворение и спокойно прохаживаться по этому огромному лагерю, радуясь тамошнему порядку и возмездию, постигшему мятежников против диктатора Бога. Это ли имеет в виду Вергилий, говоря, что «нужно, чтоб душа была тверда»?
Через несколько секунд после разговора меж Вергилием и Данте по поводу надписи учитель берет пилигрима за руку. Со спокойным ликом – con lieto volto (ст. 20), – который утешает Данте, но читателя приводит в замешательство, Вергилий вводит Данте в Ад. Там беззвездное пространство полнится вздохами, плачем и громкими воплями. И хотя Вергилий безмятежен, Данте в ужасе дает волю слезам. Он не в силах памятовать о том, что каждое из существ, с которыми ему предстоит встреча, прошло суд, составляющий неотъемлемую часть христианской религии.
Конечно, не исключено, что пилигрим плачет вопреки всей справедливости наказания, что его охватывают ужас и сочувствие при виде кошмаров, к которым приводит грех. Всякая кара – возможная угроза и для него самого, ведь он свою жизнь еще не закончил. Вергилий, однако, явно недоволен этой слабостью пилигрима.
Пилигрим, каким мы видим его во время странствия по Аду, это человек, часто забывающий о наказании и воспринимающий Ад как страну, полную необъяснимых страданий. Он видит вокруг себя существа, мучимые грязью, истерзанные страстями. Они изгнаны из земной жизни. Тела их покрыты гнойниками, вздуты, истощены, изорваны бешеными псами. Есть и такие, что опутаны собственной ложью, перепачканы пороками и вечно казнятся мыслью, что предали великое дело, растратили попусту свои возможности, но сделанного не воротишь, оно навсегда решило их участь.
Пилигрим помнит надпись над вратами, и ее смысл держит его в постоянном страхе. Однако он не компонент арифметического примера для верующих христиан, а человек. Потому-то на протяжении своего странствия и реагирует на обстоятельства неодинаково. То пугается, то приходит в ярость, то просто любопытен и, едва не забавляясь, описывает обычаи узников и облик бесов-стражей. Но разве может он пресечь в себе сочувствие к недужным и страх перед буйными обитателями сумасшедшего дома? Точно так же он не может не испытывать отвращения к людям подлым и мерзким. Как поступили бы мы сами, встретив в аду Гиммлера, убийцу миллионов невинных? Даже если бы он, подобно другим тиранам, топившим мир в крови, понес наказание и сам варился теперь в этой кипящей жидкости – смотри Песнь двенадцатую «Ада», – мы бы, наверно, бросили ему бранное слово, а то и огрели по голове, окажись она слишком близко. В теории терпимость и сочувствие практиковать легко, но, очутившись в Аду фактически, по-настоящему, многие из нас вряд ли бы выдержали испытание. Разумеется, нам было бы трудно подавить удовлетворение при виде унизительных ситуаций, в которых оказались наши личные враги. Злорадство, разумеется, не преминуло бы поднять голову. А как бы мы отнеслись к тем, кто при жизни грозил другим адскими муками и теперь пойман в собственные сети? Глядя на них, мы бы, скорей всего, лишь с большим трудом сумели отбросить мысль о справедливости кары и приятное чувство, что сами-то мы только гости в этом неуютном месте, ибо всегда проповедовали терпимость. Поэтому нас не должно удивлять, что Данте порой ведет себя в Аду беспощадно, что он, вот сию минуту плакавший о несчастных, уже в следующий миг способствует ужесточению их мук. Тот, кто осуждает пилигрима за такую беспощадность, демонстрирует вдобавок постыдную нехватку фантазии.
Данте пишет о высочайших вещах, о борьбе добра и зла в человеке, о возможностях завоевать истинное счастье, о конечном предназначении человека. «Комедия», безусловно, путешествие, предпринятое в определенное время, каковое установлено с помощью положения звезд, луны и солнца. Однако подлинное путешествие происходит вне времени и являет собой как бы составление карты человеческой жизни – не той, какою она рисуется в конкретном случае от колыбели до могилы, но какою ее можно себе помыслить, когда реализуется всякая возможность и всякий задаток способен развиться во зло или во благо.
Рассказчик поместил пилигрима в Ад, где люди терпят жестокие муки. Верил ли он, что такой Ад существует на самом деле? Верил ли, что в краю по ту сторону надежды можно утратить знание о высшем благе? Для начала давайте отложим этот вопрос. Мы вернемся к нему в позднейших главах, опираясь на опыт, приобретенный в долгом странствии. Пока можно констатировать, что в мире несомненно существуют болезни, и войны, и ненависть, и безмерное страдание. В песнях «Ада» «Божественной Комедии» человек попадает в царство, где его собратья страдают без надежды и смысла. Его восприятие начеку, чувства обострены. В те минуты, когда перед нами, казалось бы, бессмысленное страдание, нам мало проку от рассуждений, что в общем и целом жизнь замечательна, исполнена смысла и прекрасна. Пилигриму тоже не много пользы от надписи, которая утверждает, что обитающие в Аду несут заслуженную кару.
Возможно, он думает, что в безнадежности Ада заключено утешение, ведь постоянно возобновляемая и постоянно обманутая надежда, пожалуй, куда большая мука, нежели сознание, что приговор окончателен.
Пилигрим живет под покровительством Бога. Путь ему указывает Вергилий, которого он считал едва ли не божеством. Возлюбленная пилигрима, находясь в Раю, всечасно наблюдает за ним и через несколько дней ожидает его там. Но ни Беатриче, ни Вергилий, ни католическая церковь, ни христианская вера не могут избавить его от участия и сопереживания мучений тех, кого он встречает. Рассказчику многое ведомо о страдании, его проявлениях, его обычаях и привычках, его языке и философии. Карлейль говорил, что Данте наделяет голосом десять безмолвных веков христианства. Что же касается страдания, то эти слова приложимы ко всем векам.
Средневековье – период слишком обширный и разнородный, и общие, собирательные характеристики к нему неприменимы. Но эти столетия в еще большей степени, нежели наши, ознаменованы войнами, голодом, эпидемиями, опустошавшими целые регионы, расколом, который с кинжалом в руке пробирался через городские стены в дома людей. Может статься, в эпоху Данте боль и страдание были привычнее. Убийц на глазах у всех живьем закапывали в землю – вниз головой и вверх ногами. Когда пилигрим достигает того круга Чистилища, где в огне очищаются сладострастники, он, сжав руки, заглядывает в огонь, и в памяти его, будто наяву, оживают тела людей, сожженные огнем на земле (2, XXVII, 16–18). Разве же Данте мог не думать снова и снова об этой каре, которая постигла бы и его, будь он схвачен в стенах Флоренции?! Каждый мог видеть и слепых нищих, что брели, держась за плечи друг друга, и еретиков, пытаемых палачами в железных личинах. Страдания нашей эпохи столь же, а то и более велики, но многие из нас воспринимают их отстраненно, без остроты, абстрактно. У наших дверей никто от голода не умирает, мы лишь читаем об этом в газетах или видим на телеэкране. Может быть, потому страдание в нашем мире и безмолвно. Никто пока не наделил голосом то непостижное, что происходило в окопах Первой мировой войны, в русских лагерях, в разбомбленных городах Второй мировой, в нацистском мире, где евреев преследовали, сгоняли в лагеря смерти и умерщвляли, как умерщвляют паразитов.
В песнях «Ада» Данте наделяет речью беспредельное страдание. Тем самым он подает мысль о единственном способе облегчить бессмысленную боль – о словах, осознании, памяти. И делает это с такой могучей силой, что мы поистине должны благодарить его, когда он нет-нет да и напоминает нам, что здесь, в его юдоли страдания, находятся лишь тени, а не существа из плоти и крови. Иначе бы мы вряд ли выдержали.
Вот почему идти вслед за Данте не означает в первую очередь получать ответ на вопросы. Это означает – записаться в огромный университет сопереживания, где дело всечасно идет о том, чтобы повышать осознание, и где всечасно отдаешь себе отчет в собственном несовершенстве и мечтаешь, что придет день, когда постигнешь больше и почувствуешь себя живее и сильнее.
Франческа
Во втором круге Ада пилигрим видит и узнаёт Франческу и ее возлюбленного Паоло. Врата с роковой надписью остались позади. В преддверье Ада ему встретились ничтожные, презренные людишки, которые не смеют ни бунтовать, ни соглашаться, трусливый довесок, отвергнутый небом и не признанный Адом. Теперь они завидуют участи других – благой ли, тяжкой ли, им безразлично. Повстречал пилигрим и перевозчика Харона, гневного старика с пламенами вокруг глаз, который не желал переправить его через первую из рек царства мертвых. В первом круге Ада, в Лимбе, он повидал благородных язычников, живших до Христа и оттого не снискавших блаженства. Если всюду в Аду воздух полон криков и проклятий, то в Лимбе стоит тишина. Лишь вздохи поднимаются к темному своду, ибо здешние обитатели живут в бесконечной тоске без надежды. Там Данте встретился с Гомером, Горацием, Овидием и Луканом и был принят в их круг. Поодаль он видел Цезаря в боевом снаряжении, с соколиным взором, Гектора, Энея, Аристотеля, Сократа, Платона. Теперь же он очутился в настоящем Аду, где узники вправду несут наказание. У входа во второй круг стоит на страже Минос, дух бездны; оскалив пасть и бия хвостом, он посылает новоприбывшие души в тот круг Ада, что назначен божественным судом. Пройдя мимо этого чудовища, Вергилий и пилигрим внезапно оказываются во власти урагана. В кромешной мгле осужденных швыряет адскии ветер, который – и, за редким исключением, все толкователи Данте непременно на это указывают – символизирует возбуждение и пыл страсти.
Здесь обитают те, кто согрешил ради любви, те, «кого земная плоть звала, / Кто предал разум власти вожделений» (V, 38–39). «И как скворцов уносят их крыла, / В дни холода, густым и длинным строем, / Так эта буря кружит духов зла / Туда, сюда, вниз, вверх, огромным роем; / Им нет надежды на смягченье мук / Или на миг, овеянный покоем» (V, 40–45). Подобно тому как журавли с унылым кликом летят в вышине, формируя длинный клин, мчатся перед пилигримом в вихрях бури призрачные тени, жалуясь и плача. Удивительно, однако здесь без разбору объединены как распутные и порочные, так и те, кто страстно любил одного-единственного человека, – иначе говоря, две группы, между которыми наша этика проводит различие. С помощью Вергилия – ведь тот, воспевший любовь царицы Дидоны, знаток в этой области – Данте узнаёт целый ряд великих влюбленных, что прославлены в истории и в поэзии: вот Семирамида, возведшая разврат в ранг державного закона, вот сластолюбивая Клеопатра рядом с Еленой, супругой Менелая, соблазненной Парисом и ставшей поводом для Троянской войны, вот Тристан, которого выпитый на корабле любовный напиток навечно связал с Изольдой, женою короля Марка. О пилигриме сказано, что, слыша, как его учитель – il mio dottore – поименно перечисляет всех этих дам и кавалеров далекого прошлого, он опечалился и дух его затмился, будто заплутал. Данте использует в своем стихе слово smarrito, а читатель помнит, что в форме smarńta это слово встретилось ему в самом начале «Комедии». Пилигрим, говорилось там, очутился в сумрачном лесу, потому что правый путь был им утрачен, smarńta. Означает ли это слово здесь намек на характер прегрешения, которое сбило пилигрима с пути?
К числу тех, что прожили свою жизнь в любви или наслаждении любовью, относятся Паоло и Франческа. Как почти всегда в «Комедии», эти двое появляются внезапно, причем поэт даже не дает себе труда сообщить подоплеку и предпосылки. С персонажами, которые считаются известными, Данте обходится так же, как нынешний журналист, когда его посылают на аэродром или на вокзал встретить Грету Гарбо либо де Голля. Журналист не сообщает, что генерал – французский диктатор, а эта актриса, сыгравшая бессмертные роли в фильмах о любви, по неведомым причинам стала затворницей. Он исходит из того, что читателю известны эти элементарные сведения, и разве только слегка на них намекает. Его метод – представить объект интервью как можно живее и непосредственнее. Он стремится запечатлеть мгновение, захватить знаменитость врасплох. Данте действует так же. Персонажи «Комедии» проходят перед нами как люди, которых мы встречаем в путешествии или в газете. Этот метод используется, даже когда речь идет о самом Данте – о пилигриме, герое поэмы. В первых же стихах «Комедии» он внезапно появляется перед нами – заплутавший в сумрачном лесу. Мы не знаем ни кто он, ни как его зовут, ни откуда он идет. Но не успеваем усомниться в его существовании, ибо рассказ уже влечет нас дальше, не оставляя ни единого шанса на сопротивление. Как в кинофильме, действие устремляется вперед и завладевает нами – и лишь исподволь мы знакомимся с героем, за которым следуем, и вникаем в его проблемы.
Неудобство такого метода, разумеется, состоит в том, что мы, по идее, должны бы иметь тот же круг знакомых, что и Данте. Должны бы знать, кто все эти люди, которые обмениваются репликами, плачут и смеются на страницах «Комедии». Поэма не трудна для понимания. Наоборот, Данте всегда прозрачно-ясен и, как добрый учитель, готов в любую минуту прийти читателю на помощь. И писал он на народном языке, итальянском, именно потому, что хотел быть понят простым народом. Наша трудность заключается вот в чем: Данте предполагает, что нам, подобно теперешним читателям газет, известны основные факты о соответствующих персонажах. Мы должны разбираться в культурной традиции дантовской эпохи, в Библии, в классической поэзии, в трудах Отцов церкви, в великой богословской философии XII–XIII веков, должны знать огромное множество исторических фигур на международной и флорентийской арене того времени. А значит, мы попадаем в зависимость от комментаторов и ученых толкователей текста. Их первоочередная задача – указывать дорогу и давать разъяснения. На пути в глубь поэмы нам не обойтись без их указателей, без перечней действующих лиц. Но стоит нам сориентироваться – комментаторы исчезают, и мы остаемся одни в живом организме поэмы.
Потому-то теперь нам надобно знать, что Франческа была дочерью синьора Равенны, Гвидо Веккьо да Полента, и состояла в родстве с Гвидо Новелло, синьором Равенны, который приютил Данте на склоне его дней. По политическим соображениям Франческу выдали за отпрыска знатнейшего семейства Римини, человека уродливой внешности и дурных помыслов. Она же влюбилась в его младшего брата, Паоло. Законный супруг застал влюбленных, что называется, на месте преступления и убил обоих. Случилось это, когда сам Данте – в двадцать один год – тоже был страстно влюблен. Событие привлекло большое внимание, стало крупнейшим общественным скандалом тех лет.
Когда влюбленные в своем безумном полете оказываются в пределах слышимости, Данте окликает их, сочувственно называя «души скорби» – animi affanate. На зов Данте они спешат приблизиться, подобно тому «как голуби на сладкий зов гнезда, / Поддержанные волею несущей, / Раскинув крылья, мчатся без труда». Вся Песнь пятая отмечена образами птиц, которые издревле соотносятся с эротической страстью. Слово берет Франческа. Она благодарит Данте за сострадание, прозвучавшее в его оклике. Говорит, что, если б Господь ей позволил, она бы вымолила у Него спасение для Данте, ведь он жалеет ее, хоть она и запятнала землю своей прелюбодейской кровью. Итак, о Франческе мы прежде всего узнаём, что она чувствует себя презираемой и муки ее отчасти в том, что она представляет себе, с какой ненавистью и суровостью думают о ней люди. Она была красива, богата, знатна. Теперь же благодарна за одноединственное приветливое слово.
Франческа продолжает рассказывать, где родилась, как полюбила Паоло и как он пленился любовью к красавице – bella persona, – какой она была когда-то. Ее тяжко томит мысль о том, как она лишилась жизни. По всей вероятности, она имеет в виду, что ее и Паоло застали в любовной ситуации, которая в глазах ненависти дурна, смехотворна и унизительна, а от преданности и нежности, какими полны влюбленные, ее отделяет пропасть. О своем муже-убийце Франческа, предчувствуя, что он будет наказан страшнее, чем она сама, роняет суровое и как бы огненное слово: его ждет Каина, один из нижних кругов Ада. Ведь на Пасху 1300 года, когда происходит действие «Комедии», он еще жив.
Данте внимает ей. Едва вступив в этот круг, он пришел в сильное волнение и теперь склоняет голову и стоит так, пока Вергилий не окликает его: «О чем ты думаешь?» И Данте отвечает: «Какая нега и мечта какая / Их привела на этот горький путь!» Потом, снова обернувшись к влюбленным, он говорит: «Франческа, жалобе твоей / Я со слезами внемлю, сострадая. / Но расскажи: меж вздохов нежных дней, / Что было вам любовною наукой, / Раскрывшей слуху тайный зов страстей?»
Франческа отвечает: «Тот страждет высшей мукой, / Кто радостные помнит времена / В несчастии; твой вождь тому порукой». Эти слова – отзвук трактата позднеримского философа Боэция об утешении, какое можно почерпнуть из философии, но, как всегда у Данте, заимствование совершенно естественно вливается в его стихи. Потому-то нам кажется, будто эти слова, вопреки своей древности, вот только что родились в груди несчастной Франчески. Можно добавить, что Данте – один из отцов стилистического приема, которым охотно пользуются столь многие поэты нашего времени; я имею в виду скрытую цитату, обвеивающую новый стих дыханием великого прошлого… Франческа добавляет: «Но если знать до первого зерна / Злосчастную любовь ты полон жажды, / Слова и слезы расточу сполна». Читатель «Комедии», достигнув Рая, вспомнит эту готовность Франчески говорить. Она показывает, что Франческа в родстве с созданиями, обретающими спасение, ибо самая характерная их черта – готовность расширить познания тех, кого они встречают. Каждая сцена, каждая реплика, каждый жест в «Комедии» согласуются со всеми прочими, подобно тому как согласуются между собой грани и ребра кристалла. Поэтому невозможно составить себе представление о «Комедии» посредством какой-нибудь одной цитаты или пересказа отдельного эпизода. Деталь раскрывает свое глубочайшее значение, только когда рассматривается вкупе со всеми другими деталями, в гармонии целого.
«В досужий час читали мы однажды / О Ланчелоте сладостный рассказ», – продолжает Франческа. Ланчелот (Ланселот) – один из героев бретонских преданий о рыцарях Круглого стола, популярных в те века. Он любит Джиневру (Женьевру), прекрасную супругу короля Артура. Об истории их любви и ведет речь Франческа:
Одни мы были, был беспечен каждый. Над книгой взоры встретились не раз, И мы бледнели с тайным содроганьем; Но дальше повесть победила нас. Чуть мы прочли о том, как он с лобзаньем Прильнул к улыбке дорогого рта, Тот, с кем навек я скована терзаньем, Поцеловал, дрожа, мои уста. И книга стала нашим Галеотом! Никто из нас не дочитал листа!Галеот, как, пожалуй, стоит пояснить, это рыцарь, который предательски разжигает страсть меж Ланчелотом и королевой. Пока Франческа рассказывает, Паоло, рыдая, стоит рядом. Данте внимает с таким сопереживанием, что ему кажется, он сам близок смерти. И он падает наземь, «как падает мертвец» – соте corpo morte cad, – на этом Песнь пятая кончается.
Скупыми средствами – Данте свойственны суровость и едва ли не лапидарность слога, которых нельзя не заметить, сколь бы прелестные птичьи образы он ни использовал, – в репликах Франчески раскрывается ее пылкая натура. Почему она наказана? Почему человека таких качеств мы находим в Аду? Брак был таинством; венчаясь, жених и невеста давали обет не только любить друг друга, пока их не разлучит смерть, но и всеми силами подражать союзу меж Христом и Церковью. Тот, кто не соблюдал этот священный обет, не просто разрушал собственный брак, но посягал и на союз меж Спасителем и Его Церковью. Быть может, и Франческа получила бы прощение, однако ж она умерла, не раскаявшись. По преданию, она бросилась вперед и приняла удар кинжала, предназначенный Паоло, и тем самым продемонстрировала, что в последнее мгновение своей жизни больше думала о возлюбленном, нежели о Боге. Значит, Франческа справедливо находится в Аду, где остается тою же гордой женщиной, что и при жизни.
И все же, читая в «Комедии» о Франческе, вряд ли кто-нибудь захочет судить ее. Даже приверженец объективной морали, который считает преступным вообще всякое прелюбодеяние, не может не признать, что здесь имеется максимум смягчающих обстоятельств – принуждение к браку, уродливый супруг. По преданию, Паоло от имени брата вел переговоры о браке, и Франческа решила, что он-то и есть ее будущий супруг.
Набожная католичка и переводчица Данте Дороти Сейере (Dorothy Sayers) – в менее благочестивый период своей жизни она писала детективы и вот уж несколько лет (смею надеяться) обитает на небесах, каковые никогда не подвергала сомнению, – разумеется, утверждает, что Франческа сдалась чересчур легко, что ей недостало сил сказать «нет» и что она слишком жалеет себя. Но я не могу найти в Дантовом тексте ни малейшего основания для подобных упреков, которые словно для того только и предназначены, чтобы оправдать вынесенный Франческе приговор и заставить нас примириться с ее пребыванием в Аду. На заре дантоведения эта тенденция была самым обычным делом. Однако разве у Франчески нет причин плакать и разве не пристало ей поблагодарить того, кто питает к ней сочувствие? Если упреки Дороти Сейере касательно того, что Франческа не смогла сказать «нет», хоть сколько-нибудь справедливы, выходит, кара минует лишь никогда не любившего. Если с субъективной точки зрения Франческа как нарушительница супружеской верности попала в Ад вполне заслуженно, то можно очень даже понять средневекового поэта, которому Ад виделся единственным местом, где после смерти наверное встретишь порядочных людей, в том числе благородных рыцарей и знатных дам, что жили и умерли во имя любви. Пилигрим Данте, разумеется, тоже не осуждает Франческу. От сострадания он падает наземь – и, как подчеркивает автор, падает едва ли не замертво.
Что же отличает Франческу от образов других женщин, которые любили и оттого были несчастны? Офелия у Шекспира поет свою безумную песню и совершает ради любви самоубийство. Изольда любит Тристана, невзирая на то что состоит в браке с королем Марком, и автор романа – по крайней мере в версии Жозефа Бедье[3] – целиком на ее стороне, ставя любовь превыше условностей и внешних заповедей морали. Анна Каренина у Толстого тоже охвачена преступной любовью, которой не может противостоять. В конечном счете эта любовь и толкает ее под поезд.
Глядя на этих женщин – Офелию, Изольду, Анну – и памятуя о той боли, какою был отмечен конец их жизни, мы видим, что они, в точности как Франческа, находятся в своего рода Аду. Для них нет жизни вне книг, о них повествующих. Они любят и, с ужасом в крови и нервах, ходят на тайные свидания. Их терзают предрассудки и порицания ближних, раздирают собственные чувства и смертельно мучают зависть и поношения общества. Каждая живет в своем круге Ада, и муки их длятся вечно. Писатели навеки обрекли их такому существованию.
Франческа – любящая женщина. Когда мы встречаем ее, она сама говорит, что навечно скована с любимым. Еще она говорит, что любовь, которая «сжигает нежные сердца», пленила и Паоло и в нем тоже вспыхнула страсть. Боль этой любви заключалась в том, что влюбленные могли обладать друг другом лишь украдкой, ибо каждую секунду поневоле опасались разоблачения. Вот почему можно сказать, что Ад Франчески нисколько не разнится с Адом Изольды и Анны. Сама ее натура, сами обстоятельства ее жизни и суть кара. По выражению Элиота, кара – это состояние, а не следствие. Франческа явлена перед нами просто как одна выхваченная из жизни судьба. Страдает она оттого, что способна на недюжинную страсть. Данте, пишет Эзра Паунд, показывает нам сокровенное «я» людей, их прижизненное психическое состояние, увековеченное после смерти. Если Паунд прав, то в «Комедии» мы видим Франческу такой, какой она была при жизни.
Однако ни Данте, ни мы, читатели, не можем равнодушно отнестись к тому факту, что все происходит в Аду, а не в Санкт-Петербурге и не в средневековой Дании. Франческа в Аду – не только образ недозволенной любви. Оправдывая ее, мы вынуждены определить свою позицию и по другому вопросу.
Каждому человеку хочется быть нужным, хочется приносить в жизни пользу, не щадя себя. Но коль скоро расплачиваться предстоит собственной кровью, мы должны знать, что дело, ради которого мы идем на жертвы, достойно такой платы. Вправду ли священный долг повелевал мне, родившемуся Орестом, убить родную мать и тем отомстить за отца? Этот вопрос, требуя решения, ранит куда глубже, чем когти свирепых Эриний. Правильно ли я поступил, предав родину ради моих политических убеждений? Не ошибка ли – принять смерть по призыву отчизны? Правильно ли было отказаться от всего прочего в жизни ради любви к бренному телу, которое скоро состарится?
Данте знал античную трагедию рока и неумолимость звезд, властвовавших там судьбами героев. Он и сам как политик, мыслитель и любовник испытывал соблазн отказаться от всего ради одной-единственной идеи или страсти. Его «Комедия» разыгрывается одновременно на многих уровнях. На одном из этих уровней Данте странствует в глубь собственной души. Встреча с Франческой происходит, когда он стоит на жизненном распутье. Он пишет свою великую поэму, которая – в этом для него нет сомнений – будет в веках указывать людям путь из бедствий к состоянию счастья, как сказано в знаменитом письме другу и покровителю Данте, веронскому синьору. Поэт мог осилить свое поэтическое странствие, лишь отринув ради «Комедии» все остальное.
Франческа и Паоло в поэме не только отражение влюбленной пары из артуровской легенды – Ланчелота и Джиневры. Они еще и образуют контраст влюбленной паре «Комедии» – Беатриче и Данте. Данте, подобно Франческе, пылал любовью к bella persona, и эта любовь определила всю его жизнь. Когда Франческа рассказывает о своей любви и о том, как она скована с Паоло, пилигрим стоит склонив голову. На вопрос Вергилия, о чем он думает, он отвечает: «О, знал ли кто-нибудь, / Какая нега и мечта какая / Их привлекла на этот горький путь!» Легко понять и задумчивость Данте, и личную подоплеку его рефлексий. Он видел Беатриче в расцвете юной ее красоты, и сердце в его груди проснулось. Наверное, он тоже мечтал о том счастье и единении, каких искала и нашла Франческа. Беатриче умерла, и в поэме ее красота ведет пилигрима не к наслаждениям и земному счастью, но к умноженному знанию и спасению души. Он приходит перед Франческой в столь великое волнение, оттого что узнаёт себя, собственную жизнь. Он тоже мог бы предаться своей страсти и посвятить ей одной всю жизнь. Он тоже мог бы оказаться здесь, в Аду, навеки осужденный и скованный с существом, которое способно было подарить лишь кратковременное счастье, но выбрал другое – любить умершую женщину, которая с небес вела его, когда он писал свою великую поэму. Однако этот выбор дался ему нелегко, ибо означал отказ от многих прекрасных и милых вещей, какие есть в жизни. Вот почему такая дрожь пронизывает рассказ о Франческе, которую мчит могучий ветер.
Моральный музей и Брунетто Латини
Дантов Ад устроен согласно четкой моральной системе. Каждому греху отведено определенное место. Главный принцип – чем ниже мы спускаемся в воронкообразную бездну, тем страшнее грехи, какие мы там встречаем. Схема легко запоминается, ведь вполне естественно, что те, кто дальше от Бога, отягощены более тяжкой виной. Люцифер, прикованный в центре земли, от Бога дальше всего.
Франческа находится во втором круге Ада – из-за своей неистовой любви; чревоугодники, как свиньи, валяются в грязи в третьем круге. В четвертом толкают друг на друга грузы скупцы и расточители. В пятом круге, в жиже Стигийского болота, обитают гневные и скучные, восклицающие из своего унижения: «В воздухе родимом, / Который блещет, солнцу веселясь, / Мы были скучны, полны вялым дымом; / И вот скучаем, втиснутые в грязь» (VII, 121–124). Вильгельм Экелунд[4] (Vilhelm Ekelund), который любил Данте и оставил о нем так много метких высказываний, пишет о тех, кто скучал в теплом солнечном свете, что, на его взгляд, они воплощают самый тяжкий из всех грехов… Далее следует нижний Ад, собственно inferno, обнесенный высокой стеной, которую стерегут бесы, и заключены там еретики, насильники, самоубийцы, воры, прорицатели, обманщики и обольстители. В девятом, последнем круге заморожены в вековечном льду предатели.
Если в верхнем Аду грешники недостаточно противостоят соблазнам и грехи их надлежит рассматривать прежде всего как результат неистовости – пьянство, обжорство, любовные заблуждения, – то в нижнем Аду несут наказание отъявленные злодеи. Они были коварны и выступали как орудия зла. Потому и наказаны куда суровее.
Существует огромная литература об иерархии грехов у Данте и о связи этой иерархии с античной и средневековой мыслью. Данте располагает большим наследием. Он имел случай слышать изощренные споры о категориях и разрядах грехов, о природе зла и его зарождении, о возможностях искупления и очищения. Многие ранние толкователи рассматривали «Комедию» как судебный протокол, где Данте записал приговоры Господа. Когда пилигрим выказывает сочувствие с теми или иными узниками Ада, то, например, Эдвард Мур (Edward Moore), имеющий столь большие заслуги перед дантоведением, спешит подчеркнуть: дело не в том, что Данте якобы примирительно смотрит на грех осужденных, а в том, что даже человек, совершивший тяжкое преступление, может сохранить привлекательные качества.
Для моралиста Дантов Ад – музей, где педантичный чиновник Данте, руководствуясь определенными правилами, классифицировал грехи и разложил их по полочкам. Посетитель ходит от витрины к витрине и читает на табличках, какого рода животные выставлены здесь на обозрение. Он видит не кары, а разные виды греха, упорядоченные Линнеем от морали. В основе классификации не субьективная оценка, а моральная шкала, которой через Библию и церковь снабдил человечество сам Господь Бог. Любая человеческая слабость выявлена с огромной отчетливостью, так что даже малосведущие способны воспринять полезный наглядный урок. Многие из грехов облечены в легкопонятные аллегорические одежды. Лицемеры щеголяют в позолоченных куколях (плащах) из свинца. Насильники варятся в кипящей крови. Обманщики вымазаны человеческими экскрементами, потому что пачкали мир ложью. Дороти Сейере убеждена, что именно в отделении обманщиков Данте уготовил место нынешним журналистам, любителям писать о сенсациях и о светской жизни, ведь они искажают реальность, изображая ничтожное важным и значительным.
Если посмотреть на Ад под таким углом зрения, он оборачивается жутким выставочным залом, где демонстрируются всевозможные человеческие изъяны. Посетитель ходит меж витрин, получая полезные напоминания. Он видит собственные свои грехи, до такой степени конкретизированные, что и сам теперь вполне способен обнаружить у себя иные недостатки, а не просто с удовлетворением констатировать, что здесь дается полезный, хотя и несколько жестокий урок людям, практикующим пороки, от каких лично он, слава Богу, избавлен. Конечно, порой он ставит эти оценки под сомнение. Разумеется, я имею в виду не ту оценку, которая осудила грешников на вечные муки, а ту, что заложена в основу классификации. Однако меж тем как посетитель, расхаживая по залу, в меру своих способностей предается этическим размышлениям, его охватывают сомнения и тревога.
Франческа была личностью благородной и незаурядной, и даже самый закоснелый моралист стоит перед нею потрясенный. Пилигрим, конечно же, встречает и немало существ неприятных, если не сказать мерзких, достаточно назвать обжору Чакко из Песни шестой и злобного гордеца Филиппе Ардженти из восьмой. Но куда более сильное впечатление производят на него тени, которые сродни Франческе и явление которых в Аду для него было шоком. К их числу относятся вождь гибеллинов Фарината, несущий в огненной гробнице кару за ересь (к нему я еще вернусь в главе о политической миссии Данте), канцлер императора Фридриха II Пьер делла Винья, который в образе дерева живет в лесу самоубийц и единственное преступление которого заключается в том, что в порыве отчаяния он покончил с собою, а также поэт и политик Брунетто Латини, нагой, обитающий в пустыне, где непрерывно идет огненный дождь.
Брунетто находится в седьмом круге, он и его собратья собраны здесь вместе с лихоимцами, поскольку, как пояснял один из давних толкователей, лихоимцы делают плодным то, что природа задумала стерильным, а именно золото, тогда как гомосексуалисты, наоборот, делают бесплодным то, что природа создала плодотворящим, – половое влечение. Данте и Вергилий только-только вышли из леса самоубийц и идут по высокому каменному берегу реки Флегетон. С одной стороны простирается огненная пустыня, куда они не решаются ступить из боязни обжечься. Современному читателю приходит на ум выжженная солнцем местность, где находятся несчастные герои «Счастливых дней»[5] Сэмюэля Беккета, и эта ассоциация оправданна, ведь Беккет из тех писателей нашего столетия, что близки Данте и испытали сильное его воздействие. Пилигрим и Вергилий идут по берегу так же, как тюремщик идет по стене, окружающей тюремный двор. Внизу они замечают людей, которые бредут им навстречу и, прищурясь – из-за яркого пламени и расстояния, – вглядываются в лицо пилигрима, а оттого (Данте вновь прибегает к яркому бытовому сравнению) каждый выглядит «как старый швец, вдевая нить в иголку» (XV, 21).
Один, узнав Данте (XV, 23), протягивает руку, хватает его за подол и восклицает: «Что за диво!» – Quai maraviglia! Лицо его искажено, опалено огнем. И Данте узнает его не сразу. Он наклоняется – ведь стоит он так высоко, что ноги его на уровне головы собеседника, – всматривается и отвечает: Siete voi qui, ser Brunetto? – «Вы, сэр Бpyнетто?» И слышит: «Мой сын – о figli-uol mio, – тебе не неприятно, / Чтобы, покинув остальных, с тобой / Латино чуточку прошел обратно?»
Брунетто Латини родился во Флоренции в 1210 году и, стало быть, на пятьдесят пять лет старше Данте. Он принадлежал к числу знаменитейших флорентийцев и скончался в 1294 году в родном городе, где занимал целый ряд высших публичных постов. Подобно Данте, значительную часть своей жизни Латини провел в изгнании, главным образом во Франции. Когда молодой земляк встречает его в Аду, он мертв уже шесть лет. Брунетто был знаменит прежде всего как ученый и поэт. Согласно флорентийскому хронисту Виллани, он первым ввел во Флоренции серьезное изучение риторики и общественно-политических наук. Главные его труды – написанная по-французски энциклопедия «Книга о сокровище» («Livre dou trésor») и дидактическая поэма «Малое сокровище» («Tesoretto»), написанная итальянскими стихами и оказавшая определенное влияние на великое произведение Данте. Ряд существенных сведений у Данте, как показали исследования, заимствован из работ Брунетто.
Иными словами, Брунетто Латини был старшим коллегой Данте. Согласно преданию, во Флоренции они жили по соседству. Во всяком случае, в детстве и юности фантазию Данте расшевелил именно этот высокопоставленный муж. Вообще можно констатировать, что целый ряд великих персонажей «Комедии» – люди, которых Данте впервые увидел ребенком. И это вполне естественно. Никто не бывает для нас так велик, как тот, кого мы видели в детстве, и нередко отблеск этого первоначального величия остается с нами на всю жизнь. О многих достопамятных фигурах своего детства Данте может сказать слова, какие он произносит в Песни шестнадцатой «Ада» о трех флорентийских потентатах: «Отчизна с вами у меня одна; /Ия любил и почитал измлада / Ваш громкий труд и ваши имена» (XVI, 58–60). Брунетто – один из них. Несколько времени оба флорентийца идут рядом. Данте смущен, что находится на берегу, над Брунетто. Поэтому он почтительно склоняет голову как можно ниже. Вполне вероятно, что идет он, почти согнувшись пополам, тогда как голова Брунетто остается на уровне его подола.
Брунетто спрашивает, какой случай или рок подвиг Данте сойти сюда, прежде чем пробил его последний час, и кто сей муж, указующий ему дорогу. Данте подробно отвечает, впервые рассказывает одному из осужденных, как ему привелось начать странствие через Ад. Видимо, Данте чувствует, что обязан дать объяснение почтенному земляку. «Там наверху, – я молвил, – в мире света (in la vita serena), / В долине заблудился я одной, / Не завершив мои земные лета. / Вчера лишь утром к ней я стал спиной…» И вот теперь под водительством Вергилия он идет этой дорогою домой. Пилигрим предпринимает путешествие через Ад, чтобы достичь солнечных высей Рая – подлинного дома человеков. Брунетто, по всей видимости, полагает, что Данте ведет речь о произведении, которое пишет и которым надеется снискать славу и почет. И полагает не без причины, ведь, меж тем как пилигрим продвигается в своем странствии вперед, рассказчик Данте занят работой над поэмой. «Звезде своей доверься, – он (Брунетто. – Y.JI.) отвечал, – /Ив пристань славы (glorioso porto) вступит твой челнок, / Коль в милой жизни верно я приметил. / И если б я не умер в ранний срок, / То, видя путь твой, небесам угодный, / В твоих делах тебе бы я помог» (ст. 55–60).
Брунетто держит себя перед младшим преемником, как и подобает прославленному старцу. На собственную судьбу он не ропщет, он полон дружеского ободрения. Исследователи много спорили о том, вправду ли Брунетто был учителем Данте. В любом случае, он был наставником в духе, образцом, который сам по себе служил стимулом. Вдобавок он тоже изведал проклятие изгнания. Он произносит беспощадные, горькие слова о неблагодарных и злобных флорентийцах, предсказывая, что Данте будет изгнан из их родного города и что обе партии – т. е. и Черные, и Белые гвельфы – станут охотиться за ним.
Данте отвечает страстным взрывом благодарности и симпатии. «Когда бы все мольбы мои свершились, – / Ответил я, – ваш день бы не угас, / И вы с людьми еще бы не расстались. / Во мне живет, и горек мне сейчас, [продолжает Данте, и прямо воочию видишь, как он еще ниже склоняется к старцу за адской стеной] / Ваш отчий образ, милый и сердечный, / Того, кто наставлял меня не раз, / Как человек восходит к жизни вечной; / И долг пред вами я в свою чреду / Отмечу словом в жизни быстротечной». После еще нескольких реплик и просьбы Брунетто хранить в памяти его «Сокровище» – энциклопедию, в которой он «живым остался» (riel quale io vivo ancora), – друзья расстаются. Брунетто спешит вдогонку своим товарищам. Разговаривая с Данте, он подвергал себя риску ужесточения кары. Данте провожает его взглядом, и ему вспоминаются знаменитые веронские состязания бегунов, где призом был отрез зеленого сукна. В этот час, наперекор Аду и неприглядной спешке, Брунетто кажется ему победителем, а не проигравшим.
Эта встреча учителя и ученика – символ духовной сыновности, какую должно искать каждому человеку. Сын, Данте, идет по высокой тропе, ему пока не грозят огненный дождь, старость и смерть. Отец, Брунетто, покрыт шрамами, стар, опален огнем, но он свершил дела, которые обеспечат ему бессмертие. Их встреча в огненной пустыне собирает в пламенном фокусе культурную преемственность – одну из главных тем «Комедии». Можно понять Т.С. Элиота, который был настолько заворожен этой сценой, что воскресил ее в лучшем из своих «Четырех квартетов», в «Little Gidding». В разбомбленном, горящем Лондоне 1940 года англо-американский поэт сталкивается лицом к лицу с человеком, напоминающим ему давно умершего учителя. Подобно Брунетто (или самому Данте? ведь в огненной пустыне были они оба: один попал туда после смерти, другой – в видении своей поэмы), незнакомец из-за ожогов неузнаваем, и ветер доносит слова «Комедии»: «Вы?..»
Пилигрим Данте держится перед Брунетто не только с достоинством, но и мужественно. Поскольку Брунетто наказан за насилие над естеством, Данте не мог не сознавать, что и на него может пасть тень. О figliuol mio — «мой сын», «мой мальчик», – как ни переводи эти слова Брунетто, звучит вполне невинно. Однако ж человек подозрительный мог сделать иной вывод. И все же Данте признает, что многим обязан Брунетто, и обещает защищать его в верхнем мире. В «Комедии» вообще нет ни единого намека на гомосексуализм Брунетто. Не находись он там, где мучаются насильники над естеством, мы бы и вовсе знать не знали о его грехе. Следует ли нам в таком случае думать, что рассказчик Данте, полагая приговор, вынесенный Брунетто Латини, самоочевидно справедливым, счел совершенно излишним его обсуждать? Ведь не Данте, а Бог обрек Брунетто бродить в огненной пустыне. Бог назначал кары в Аду, и эти Божии решения запротоколированы в Библии и других священных церковных писаниях. Вот почему – и я уже на это указывал, – когда Данте изображает Ад и его круги, он не самостоятельный творец, а копиист. Фактически Данте находится в той же ситуации, в какой ныне находится каждый из нас. Ведь и у нас есть свой Ад, организованный так же строго, как и средневековый. Только мы не придумали для него имени. Может, назвать его – Общественное Мнение, отдел Вечное Проклятие?! В разных кругах этого Ада мы, согласно своим моральным принципам, предрассудкам и условностям, размещаем наших ближних.
Имеется и биржа грехов, где цены то растут, то снижаются. Когда близка война, тягчайшим грехом становится измена родине, и предателей отсылают в девятый круг. Чем глубже мир и согласие, тем с большим пониманием относятся к человеку, который пожертвовал всем ради другой идеи. Может статься, различие между нами и Данте в том, что мы живем в чуть менее монополистичном мире, нежели он. По крайней мере, в демократическом мире есть великое множество Адов, а потому представители оных инстанций не могут выдвигать слишком тиранические требования.
Стало быть, Данте помещает Брунетто в пылающую пустыню, ибо так велит ему господствующая система морали. У Данте не было другого выхода, как не было его и у советского писателя, который, производя раскопки в истории Советского Союза и натолкнувшись на Троцкого, не мог не отмежеваться от этого великого революционера. Можно представить себе Данте перед Брунетто и как викторианца, пришедшего в тюрьму навестить Оскара Уайльда. Он признает справедливость наказания, но помнит и все доброе и гениальное, тоже присущее этому человеку, и не настолько низок, чтобы отрицать свой долг перед ним, а этот долг существует, хоть и касается грешника. Такую мысль высказывали многие ученые дантоведы.
Однако встречу двух великих флорентийцев можно истолковать и по-другому. Зачастую – и в Дантовом мире это не редкость – между карой и внутренним состоянием осужденного нет никакой связи. Отчасти это, безусловно, имеет отношение к наивной повествовательной традиции, оставившей след в «Комедии». Впрочем, Данте умеет использовать эту наивность в своих целях. Невольно напрашивается подозрение, что он стыдится Божиих приговоров и использует Ад в качестве алиби, под прикрытием которого сохраняет внутреннюю свободу. Быть еретиком, вольнодумцем грозило опасностью. А риск стать объектом такого рода обвинений был для Данте особенно велик, ведь всю жизнь он выступает как критик и противник папского престола. В своих политических сочинениях он отстаивает едва ли не кощунственные идеи. Защита самоубийц и гомосексуалистов тоже могла возыметь крайне неприятные последствия. Признавая себя другом Брунетто Латини, Данте рисковал не меньше, чем советский гражданин, который в сталинские времена дерзнул бы назвать своим другом Троцкого. Перед судом Бога Брунетто – побежденный, и все же у Данте хватает смелости назвать его «тем, чья победа».
Не надо забывать, что в античной культуре, столь почитаемой Данте, любовь к мальчикам считалась более возвышенной и обогащающей душу, нежели любовь к женщинам. Данте, сопровождаемый Вергилием, сам принадлежал этой культуре, сидел у ног Сократа, Платона и Аристотеля и совсем недавно был принят в круг первейших античных поэтов. А разве сама Флоренция не была античным городом, где никогда не прерывалась традиция великой эпохи Эллады и Рима? Разве теплое чувство, возникшее меж учителем и учеником, не было благодатной почвой для единения и роста? Разве пересуды неотесанной черни зачастую не представляли такой эрос в искаженном виде, хотя на самом деле он, может статься, избегал каких бы то ни было грубых форм выражения? Что, если, кроме легкого, участливого прикосновения милого, усталого лица, эта любовь ничего более и не желала?
Брунетто Латини – победитель в Аду, и встреча его с пилигримом полна тепла и нежности. А если, чего доброго, какой-нибудь средневековый читатель, мало что понимающий в наивной традиции, возмущался тем, что этот узник, этот наказанный за гомосексуализм учитель и совратитель юношей, изображен в упомянутых красках, рассказчику Данте было проще простого отвесить учтивейший поклон и сказать: «Но разве вы не видите, что Брунетто находится в Аду и поместил его туда я. Вы же не верите на самом деле, будто в Аду есть победители?» Засим на его губах появлялась гордая и одновременно презрительная усмешка.
В «Комедии» присутствует объективная моральная схема. Однако Данте плохо подходит на роль смотрителя морального музея. Пройдя вместе с ним по всему зданию, мы обнаруживаем, что витрины сплошь разбиты. Или скажу чуть осторожнее – разбита большая часть витрин, ибо утверждать, что Данте исключительно богобоязнен и не показывает строго морализаторских черт, было бы неправильно. Но здесь, в Песни пятнадцатой «Ада», да и во многих других местах, закоснелая схема разламывается, и живая вода сочувствия и понимания хлещет наружу. И в ее волнах виден благородный лик Брунетто Латини.
Бесы
I
Демоны, бесы и чудовищные звери исправляют в Дантовом Аду службу стражей. Там есть трехглавые псы, перевозчики с пламенами вокруг глаз, драконы с человечьим лицом, гиганты и быкочеловеки. Эти твари, населяющие топи и подземные пещеры в природе и в душе, ведут свое начало из глубокой древности. Каждая культура фантазировала о них, страшилась их и пробовала изловить. На протяжении столетий, именуемых Средними веками, они мелькают перед нами везде и всюду. Их вмуровывают в стены церквей, они кишат на старинных полотнах, ими полнятся народные сказки и народные драматические действа.
Иные из таких существ играют у Данте не только роль стражей, но и роль шутов и скоморохов. В Песнях двадцать первой и двадцать второй по берегам широкого рва, где кипят в смоле мздоимцы, шныряет стая проказливых крылатых бесов с длинными баграми в руках. Если кто из грешников пытается вынырнуть на поверхность, чтоб хоть немного облегчить жжение, бесы мигом пускают в ход свои багры. Они словно поварята, которым повар наказал следить, чтобы мясо в котле не плавало поверху (XXI, 55 слл.). То и дело они отпускают грубые шутки и дерзкие реплики. Один «трубу изобразил из зада». Другой норовит поддеть пилигрима багром. Двое бесов, летая над смоляным рвом, затевают драку. Словно ястребы, рвут друг друга острыми когтями, сцепляются, теряют высоту, падают в смолу и, увязнув крыльями, не могут взлететь. Собратьям приходится вызволять их оттуда баграми.
В сценах вроде этой действие мчится вперед, будто его подстегивают цирковым бичом. Демоны-шуты так и скачут, так и сыплют остротами. Даже у Бельмана[6] в самых буйных его «Посланиях» ничуть не больше движения и непосредственности. Грешники, понятно, тоже тут как тут – забились в смолу, точно лягушки летним днем в болотную жижу. Однако здешний черный юмор гонит сочувствие прочь. Слово забирает шут и одерживает победу. Читатель соглашается с мыслью, что и в Аду есть место для фарса, что по соседству с величайшим страданием найдется запасный выход черного юмора.
Эти бесы являют собой нулевую точку морали, принадлежат к этакому гангстерско-палаческому клубу, который за работой развлекается абсурдными выходками. Они абсолютное зло, и нам трудно поверить, что существуют они только в нашем воображении. Это конечные станции на пути страданий. Отринув все человеческое, они целиком и полностью предались миру демонов. Вот почему в моральной схеме их можно использовать лишь для фарсов или для антуража.
Казалось бы, Ад должен быть им по нраву, как змее болото. И если говорить о бесах-поварятах с баграми, так оно и есть. Однако ж другие демоны терзаются. У многих из них великое прошлое. Когда-то они были богами, полубогами, царями, героями античных мифов или истории. Судья в Дантовом Аду, как и в «Энеиде» Вергилия, – критский царь Минос. Сей блистательный владыка могучей морской и скотоводческой державы, который вместе со своей семьей – Пасифая, что, забравшись в деревянную телку, предлагала себя быку, была его женой, Ариадна с клубком, спасительница Тезея, была его дочерью – играл столь важную роль в эллинской фантазии, преобразился под землею в чудовище с хвостом-бичом. Он указывает грешникам их место в Аду, обвивая несчастных своим хвостом, – число витков означает соответствующий круг Ада. Стало быть, хвост у него такой длинный, что может обвить грешника по меньшей мере девять раз. Плутос, бог богатства, стережет четвертый круг Ада, где скупцы и расточители толкают грудью камни, а изображен он как волк с вздувшейся мордой. Благородный кентавр Хирон, воспитатель Ахилла, стоит на страже у кровавого озера тиранов. Ад – место сбора для тех, кто опустился на демоническую ступень. Туда стекаются мертвые боги, уроды, кошмарные женщины-змеи и мужчины-быки, все искалеченные и насмерть заблудшие в подземных пещерах естества и души. Ад – царство демонов, существовавшее задолго до христианства, но вобравшее в себя также иудейских и библейских духов бездны во главе с Люцифером, падшею Утренней звездой.
Но где же находились демоны, прежде чем добрались до конечного пункта страдания, прежде чем свет угас в их душах? Когда палач достигает такого совершенства, что может шутить за работой? От тех веков до нас дошли живописные полотна, где мы видим палачей, на лицах которых словно бы отражается полнейшее равнодушие к положению осужденных. Неужто эти палачи настолько очерствели, что оставались безучастны, или же их бесчувственность обусловлена верой в то, что они служат правому делу? Настоящие палачи, которых воочию видели Данте и его современники, служили государству и церкви. Пыткам и казням обрекали людей, которых по доносу объявляли безбожниками. Первая половина XIII века ознаменована чудовищным истреблением альбигойцев. Палачи вершили божественное правосудие, а тот, кто протестует, беспринципен и опрометчив.
II
В Песни двадцатой, предшествующей бесовским забавам у смоляного рва, пилигриму встречается толпа людей, бредущая очень медленно, в слезах. Сначала ему кажется, будто они «водят литании», но, как только они подходят ближе – в Аду темно, и оттого нетрудно впасть в ошибку, – он замечает, что головы у них повернуты на сто восемьдесят градусов. Чтобы видеть дорогу, они поневоле пятятся задом. Потому и бредут так медленно. Слезы бегут у них по спине, стекая в ложбину меж голых ягодиц. Кара отмерена согласно простому символическому правилу, столь любимому в те времена. Здесь несут наказание прорицатели, пытавшиеся заглядывать в будущее. Оттого Господь и свернул им головы. Среди них – Тиресий, который с помощью колдовства предрек Улиссу (Одиссею), что его ждет в грядущем. Рассказчик Данте призывает читателя извлечь урок из увиденного и сообщает, что сам заплакал, глядя на это.
Он плачет, опершись на скалы в долине прорицателей. Вергилий, обычно невозмутимый, прикрикивает на него: «Ужель твое безумье таково? <…> / Здесь жив к добру (la pieta) тот, в ком оно мертво» (ст. 26 и 28). И продолжает: «Не те ли всех тяжеле виноваты, / Кто ропщет, если судит божество?» Некоторые интерпретаторы отмечали, что эта резкость Вергилия обусловлена тем, что в Средние века он имел славу прорицателя. Показывая особенную непримиримость Вергилия ко всякого рода предсказательству, Данте хочет подчеркнуть, сколь необоснованна подобная клевета.
Однако ж и палачи на средневековых картинах, возможно, с благоговением внимали таким речам, какие здесь произносит Вергилий. Тот, кто испытывает сострадание, виновен в пренебрежении долгом, в беспринципной слабости, которая на службе недопустима. Комендант лагеря смерти Освенцим, Рудольф Хёсс, перед казнью написавший воспоминания, оставил нам свидетельства о таком конфликте совести. Конечно, он мучился, надзирая за убийствами в газовых камерах, но считал свое сострадание предательством по отношению к фюреру. Если не истребить евреев, то будет невозможно осуществить прекрасную мечту о тысячелетнем арийском рейхе, где воцарится счастье. Концлагерный палач, у которого дрожала рука, был трусливым солдатом на фронте справедливой войны. Разумеется, убивать неприятно, однако, покуда он исполнял свой долг, совесть оставалась спокойна.
Впрочем, у Данте демоны и палачи отнюдь не счастливы. В Аду они вправду живут как солдаты и прислужники тамошнего властелина Люцифера, но знают, что существует власть превыше его. Может, и Рудольф Хёсс знал, что власть его фюрера не безгранична, оттого и мучился? Я говорю сейчас не о риске, что Гитлер проиграет войну и тысячелетний рейх вообще не состоится, а о том, какими возможностями располагал Хёсс, чтобы в победившей Германии счастливо жить палачом в отставке, ухаживая за своим садом и слушая вожделенное блеяние овец в кошаре. Надо признать, до некоторой степени мы все – палачи в отставке, поскольку мы дети победителей. История повествует о гибели народов и культур, и всюду торжествовала сила, а не справедливость. Но история говорит и о другом – о постоянном возвращении определенной модели, не связанной с властью и насилием. Трудно и даже малоприятно наделять эту модель названием или хотя бы пытаться наметить ее контуры. Неправомерностей здесь много, причем ужасающих. Однако в «Божественной Комедии» мимо этой модели пройти никак нельзя.
В Песни двадцать четвертой «Ада» пилигрим и Вергилий выходят к горной расселине. Путь туда так утомителен, что пилигрим, измученный и запыхавшийся, садится наземь. Продолжать странствие он способен лишь после того, как Вергилий делает ему выговор, подчеркнув, что без усилий невозможно достичь славы. Это интермеццо показывает, с одной стороны, что честолюбие – существенный стимул для пилигрима и поэта, с другой же – что чем страшнее переживания, тем сильнее у пилигрима внутренний протест. Ведь он идет дорогой самопознания и находится теперь в глубинах бездны. Оттого и дышит так тяжело.
Когда пилигрим собрался с силами и они пошли дальше, оба слышат из расселины чей-то голос, но говорящий охвачен таким неистовством, что речи его невнятны. И тут пилигрим обнаруживает, что ров внизу полон змей. Среди чудовищ мечутся нагие люди, без всякой надежды на спасение. Руки их скручены змеями за спиной. Змеи обвивают бедра и грудь. Данте видит человека, которому змея впивается в шею. И сей же миг тот вспыхивает, обращается в пепел и, подобно Фениксу, вновь восстает из праха. Он, говорится в «Комедии», напоминает человека, который упал в обморок и не знает, чем обморок вызван – злыми силами или запруженьем крови. Поднявшись, он в ужасе и смятенье смотрит вокруг и глубоко вздыхает (XXIV, 97 СЛЛ.).
Данте сообщает нам, что это Ванни Фуччи, разбойник и вор, похитивший церковное серебро и сваливший вину на другого. Фуччи и в Аду так же необуздан, жесток и гнусен, как при жизни, и Данте признаёт, что он осужден по заслугам. Пилигрим и Фуччи беседуют, и Фуччи говорит, что он «был любитель / Жить по-скотски, а по-людски не мог, / Да мулом был и впрямь» (ст. 123–125). Ему досадно, что Данте видит его в унижении, и, чтобы помешать пилигриму насладиться злорадством, он предсказывает ему грядущие беды. Диалог, происходящий в запальчивости и гневе, кончается тем, что Фуччи делает пальцами грубый жест, адресуя его не кому-нибудь, но Богу. В тот же миг змея туго обвивает ему горло, так что он более не может издать ни звука. И тут пилигрим роняет самую жестокую свою реплику во всей «Комедии»: «С тех самых пор и стал я другом змей» – Da indi in qua mi fur le serpi amiche (XXV, 4). Пожалуй, стоит добавить, что слова Фуччи черпали силу и яд еще и из того факта, что Фуччи принадлежал к партии Черных гвельфов, изгнавших Данте из Флоренции.
Змеиный ров отведен ворам. Потому мы и находим там Ванни Фуччи. Пилигрим и читатель уже через короткое время начинают ощущать помрачение, словно от дурмана или змеиного яда. Пилигрим видит кентавра, оплетенного змеями, с крылатым драконом, нависшим над затылком. Потом кентавр исчезает. И в тот же миг незаметно, откуда ни возьмись, появляются три духа (XXV, 34 слл.), окликающие пилигрима и его вожатого. Данте поднимает палец, чтобы привлечь внимание Вергилия к новоприбывшим. Шестиногий змей наскакивает на одного из духов и крепко его обхватывает, прилипает к нему, как плющ к дереву. Передние ноги стискивают плечи духа, средние сжимают бока, задние – ляжки. Змеиные зубы вгрызаются в щеки. Хвост просунут между ногами. Змей и человек начинают сливаться в одно, будто бы они из воска. И цвет у них меняется, как если бы подожгли бумагу и бурая каемка бежит впереди огня: белизна исчезает, но чернота еще проступить не успела. Головы человека и змея сплавляются. Руки человека и передние лапы змея оборачиваются двумя новыми конечностями. Ляжки, ноги, животы делаются «невиданными частями». От изначальных существ не остается ничего – в змеиную долину бредет новая жуткая тварь.
Но поэту Данте этого мало. К второму из трех пришельцев проворно устремляется змееныш, как ящерка в летнюю жару перебегает от куста к кусту. Змееныш жалит его в пупок и падает наземь. Укушенный молча стоит, глядя на лютого гада. Начинает зевать, одолеваемый не то сном, не то горячкой. Змей и человек неотрывно смотрят друг на друга. Из язвы в животе и из пасти змея идет дым, обе струи перемешиваются. И в этом соединяющем их дыму рептилия и человек исподволь меняют свой облик. Змеиный хвост раскалывается надвое, а человечьи ноги срастаются. У змея теперь ноги человека, у человека же – хвост змея. На месте чешуи является кожа, и наоборот. Человечьи руки втягиваются под мышки, тогда как лапки змееныша удлиняются. Задние его лапы свиваются в мужской член, а естество человека раздваивается. Во время всей этой метаморфозы они неотрывно, как загипнотизированные, смотрят друг на друга. Человек падает наземь, змей поднимается. Лоб у человека уплощается, уши уходят внутрь, словно рожки улитки, язык раздваивается. По завершении перемены облика дым исчезает. Змей с шипеньем ползет прочь, человек плюет ему вдогонку.
Читатель знает, что участники этих чудовищных метаморфоз – воры. Хотя в тексте Данте тактично обходит это молчанием. Глядя на Ванни Фуччи, мы уже испытывали сомнения. При всей его яростной грубости кара казалась нам слишком бесчеловечной. Пожалуй, можно бы утешиться тем, что огонь, который пожрал его и из которого он вновь восстал, был символом шального неистовства животной натуры. Но одновременно мы видели, что случившееся с этим беднягой походило на эпилептический припадок, изображенный художником, который даже в виду таких мук сумел точно подметить реальность. В самом тексте имеются намеки, что речь идет о болезни, не зря же Данте обращается к сравнению, где говорится о человеке, упавшем в обморок по причине запруженья крови – oppi-lazion (XXIV, 114).
Когда же повествуется о двух других, мысль о том, что они несут наказание, вызывает растущую неприязнь. Если в XIV веке считали, что с ворами надлежит поступать именно так, мы вынуждены брезгливо отвернуться. У нас маловато сведений о людях, которые подвергаются таким чудовищным метаморфозам. Об одном из них, во всяком случае, известно, что во Флоренции он состоял в партии Черных гвельфов, хотя нам безусловно претит допущение, что Данте выступает здесь в роли мстителя. Попытка истолковать эту сцену как аллегорию тоже мало что проясняет. Человек, предающийся пороку, оборачивается зверем. Образ, бесспорно, яркий и действенный, но как интерпретация душевного состояния тривиальный. Реально же в поэме присутствует и не поддается объяснению вот что: люди там истребляются. Они наказаны не за какое-то внешнее преступление, и муки, которые они претерпевают, идут не извне, а изнутри. Происходящее с ними Данте воспринимает как непостижимость и отказывается от комментариев, лишь коротко замечая в конце песни о странных метаморфозах: «<…> видеть начали туманно / Мои глаза и самый дух блуждал» (XXV, 145–146).
У превращенных под угрозой сама их человеческая суть. Они вот-вот выпадут из всякого сообщества, из всех взаимосвязей и больше походят на душевнобольных, чем на подвергнутых наказанию. Первый невнятный крик, достигший слуха Данте, вполне мог донестись из сумасшедшего дома. Не змеями, а веревками и смирительными рубахами – вот чем могли быть связаны безумцы, нагишом мечущиеся вокруг. Здесь обитают несчастные, жалкие люди, которых вышвырнули из дому и от которых даже родные матери отреклись. Это братья и сестры кафковского Грегора Замзы, превращенного в таракана, братья и сестры ведьм Карлфельдта[7], ощущавших собственное зло как дьявольскую скверну, братья и сестры душевнобольных героинь Агнес фон Крусеншерны[8], которые чувствовали, как из глаз у них вырастают когти, братья и сестры потерпевших кораблекрушение, обезумевших от жажды, терзаемых призрачными рептилиями персонажей «Острова обреченных» Стига Дагермана[9].
Воры ли здешние обитатели, убийцы ли, изменники или нет – значения не имеет. Их кары – следствие непостижной, грозной опасности, в которой они пребывают. Нам они знакомы по зачумленным, порочным зонам, куда редко проникает наша мысль. А кроме того, наблюдая их, мы заглядываем в собственную душу, словно высвечиваем прожектором морскую пучину. Там мельтешат твари, о существовании которых мы прежде только догадывались.
Дантов Ад – тоже сумасшедший дом, где происходят жуткие превращения и человеческое отмирает. Пилигрим здесь, как и в других местах, гость, но вместе с тем и участник действа. Порой его втягивают в происходящее, и он вынужден защищаться от больных, которые нападают на него. Ему передаются безумная ненависть и злоба Ванни Фуччи. Может, оттого и слетает с его губ объяснение в любви к пышущим злобой змеям? Или же, видя, как в людях, ведущих свой род от Бога, открыто проступает звериное, он проникается уверенностью, что Ад действительно учреждение правосудия? Те, кто выбрал звериное, выбрали и вечную муку. В таком случае пилигримовы объяснения суть знак душевного выздоровления. Он начинает понимать, что Вергилий справедливо повеселел лицом у входа в пропасть. Примечательно, что в Песни двадцать пятой описание метаморфозы змея и человека прерывается пассажем, обращенным к читателю:
Лукан да смолкнет там, где назван им Злосчастливый Сабелл или Насидий, И да внимает замыслам моим. Пусть Кадма с Аретузой пел Овидий И этого – змеей, а ту – ручьем Измыслил обратить, – я не в обиде: Два естества, вот так, к лицу лицом, Друг в друга он не претворял телесно, Заставив их меняться естеством. (XXV, 94-102)Иными словами, Данте признаёт, что пишет, сознательно соревнуясь с теми самыми поэтами, в чей круг был принят в Лимбе, – в частности, Овидий снискал известность своими «Метаморфозами», превращениями, – и примыкает здесь к античной традиции. Он писал, сознательно соревнуясь со своими предшественниками, и в самом тексте охотно бросал им вызов. Подобные состязания играют большую роль и в современной поэзии, однако вызовы, упоминания образцов и хвастливые заявления насчет победы над ними вышли из моды.
Впрочем, как бы мы ни толковали сцены метаморфоз в этих песнях «Ада» – как описания болезненных состояний, как изображения власти зла в человеке, как блистательные художественные пассажи в удивительном жанре или как все три варианта, слитые воедино, – мы отнюдь не исчерпаем содержания этих сцен и не объясним их мощного воздействия. Мы высвечиваем преображающихся людей и ищем объяснение. Едва анализ завершен, грандиозные сцены вновь отступают в таинственный мрак, среди которого разыгрываются. Они существуют. Являют нам разрушение человеческих форм. Люди переживали такое во все времена. Дантово бахвальство, что он превосходит своих предшественников, небезосновательно. А как насчет тех, кто пришел после него?
III
Бесы и чудовища, исполняющие в Аду службу палачей, – тоже существа, претерпевшие метаморфозу, исключенные из круга братьев и сестер, отринутые родными матерями. На самом деле они разом и палачи, и жертвы – убийцы, что на эшафоте сплавляются в одно с приговоренным к смерти. Несколько наиболее эмоциональных сцен «Комедии» показывают нам умирающих демонов. Зверь Плутос, стерегущий четвертый круг Ада, падает наземь, как только Вергилий произносит имя архангела Михаила, – падает резко, в мгновение ока, как падают паруса, когда буря ломает мачту (VII, 13–15). Быкочеловек Минотавр, встретившись с путниками, ведет себя словно бык, который в ту самую секунду, когда получает смертельный удар, рвет аркан и бестолково кидается в разные стороны, потому что не способен управлять своими движениями (XII, 22–25). Тот, кто видел корриду, знает, сколь гениально этот образ передает одиночество, безумную ярость и полную безнадежность.
Безумная ярость демонов объяснима, если принять в расчет их занятия. Данте, странствующий через их царство, знаменует собой вмешательство в их полномочия. Обычно они властны над теми, кто является в Ад. Но перед Данте и Вергилием, которым покровительствуют свыше, вынуждены отступить. Они тюремщики на службе у Люцифера, коменданта, а Данте для них – напоминание, что есть сила и власть выше Люциферовой. Может быть, отчасти их ярость обусловлена сознанием, что сила любви больше силы ненависти? Может быть, при встрече с пилигримом, посланцем Бога, у них пробуждается память о том, что некогда они сами принадлежали миру, который в двойном смысле был миром света? Не пронзил ли палача-Минотавра луч этого мира, как острие шпаги пронзает бычье сердце? Тому, кто находится в мире «Божественной Комедии», вполне естественно ответить на этот вопрос утвердительно.
Когда пилигрим Данте, уже завершая странствие через Ад, в последнем его круге идет по вековечным льдам, ему мнится, будто впереди, в тумане, машут крылья ветряной мельницы (XXXIV, 6). Он впадает в заблуждение, противоположное тому, в какое триста лет спустя впадает Дон Кихот, принявший настоящие ветряные мельницы за великанов. Ведь пилигрим-то видит перед собою исполина – Люцифера, самого Врага, царя и владыку Ада. Люцифер похож не только на ветряную мельницу, но и на крест, о чем говорит тщательный анализ, проделанный проф. Чарлзом Синглтоном (Charles Singleton). Четыре огромных крыла ветряной мельницы и в самом деле очень легко спутать с большим крестом. Люцифер желал стать подобным Богу и достиг своей цели. Он копия Бога, только с противоположным знаком. У него три головы, то есть, как и Бог, он триедин. Ветер ненависти, исходящий от него, цепенит и умерщвляет все в его царстве, подобно тому как в царстве Бога все растет и живет благодаря солнечному свету и любви. Люцифер был прекраснейшим из ангелов, слугою Божиим. Слугою он остается и в Аду. Всяк, кто видит его, знает, каков Бог. Люцифер – знак, указующий на Бога. Он иллюстрирует слова Бл. Августина, что как художник, как мастер Бог использует даже дьявола и что, если Бог не мог бы его использовать, Он вообще не дал бы ему возникнуть. Иначе говоря, Данте, используя в «Комедии» дьявола, имеет на то высочайшую мыслимую санкцию. Вот почему в аллегорической схеме «Комедии» совершенно оправданно, что пилигрим карабкается по Люциферову телу и так достигает жерла, которое выводит его из Ада.
Люцифер подобен Богу еще и в том, что распят, что он существо страждущее. Слезы струятся из всех шести его глаз, кровавая пена выступила на всех губах. Он – и все слуги в его царстве разделяют эту участь – несет знак креста, навеки выжженный в душе. Данте, как и другие его современники, верил, что человеческая душа сотворена Богом и каждый человек хранит память о блаженстве, пережитом в тот миг, когда он вышел из рук Божиих. В мирозданье, которое строит Данте, явственно оживает это представление о памяти – как знак креста.
Даже самое дурное из существ, падший ангел, – даже тут справедливо высказывание Августина, что натура, где нет ничего доброго, существовать не может. Все – хотя бы как далекую, смутную грезу – хранят память о доброте, о защищенности, о журчащей воде, о заместительном страдании, о любви, не ищущей обладания. Величайшее страдание испытывают те, кто сознает, что отринут навеки. Это демоны, умирающие от прикосновения света, когда память об утраченной защищенности забредает в их Ад. Самая страшная адская кара – мечта об освобождении, но оттого, что есть такая мечта, никакого Ада нет. Он всего лишь образ мучительной боли и знак, указующий путь к избавлению.
Улисс
Песнь двадцать пятую «Ада», ту, где повествуется о жутких метаморфозах, Данте завершает словами, что глаза его «уж видеть начали туманно <…> и самый дух блуждал». Метаморфозы происходят в состоянии сна. В Песни двадцать шестой пилигрим все еще пребывает в сильном волнении. Теперь он вместе со своим вожатым идет по скалистой местности меж седьмым и восьмым рвом адского круга, который носит название Malebolge — Злые Щели. Внизу его взору открывается расщелина, полная огней. По обыкновению Данте иллюстрирует увиденное образом, взятым из будничной жизни, и, как всегда, эта идиллическая картина являет разительнейший контраст ужасам, каковые ей должно подчеркнуть: как селянин, отдыхая вечером на холме, видит долину внизу полной светляками, так пилигрим видит полным огнями восьмой ров Злых Щелей (XXVI, 25).
Уразумев, что он видит, Данте испытывает потрясение. Он говорит – и внезапно пилигрим Данте и рассказчик Данте демонстративно выходят на сцену вместе, – что страдал тогда и теперь, когда пишет, страдает вновь: Allor mi dolsi, ed ora mi ridoglio — «Тогда страдал я и страдаю снова» (XXVI, 19). И продолжает, что вынужден пуще прежнего обуздывать свой ум, чтобы он не заплутал и не оставил свою звезду.
В каждом огне заключен человек. Грешники целиком и полностью объяты огнем. Горя в огне, они движутся вперед, и поэт невольно вспоминает пророка Илию, который на своей конной колеснице исчез в вышине, окутанный облаком, – образ вполне здесь уместный, ибо речь в этой песни идет о великом путешествии. Пилигрим видит огонь, раздвоенный вверху, и спрашивает у вожатого, кто же там заключен. Тот отвечает, что в этом огне мучится Улисс (Одиссей) вместе с Диомедом, своим соратником. Они несут наказание, продолжает Вергилий, за лукавый совет. Ведь, как известно, именно Улисс измыслил хитрость с деревянным конем, посредством которой была взята Троя, и как раз это Вергилий считает преступлением. Вдобавок он роняет намек на героя собственного великого произведения, Энея, сына Трои и основателя Рима, а стало быть, прародителя всей Италии. Тем самым Вергилий хочет подчеркнуть справедливость приговора, вынесенного Улиссу, ибо тот посягнул на одного из ставленников самого Бога.
По-прежнему в сильном волнении Данте спрашивает Вергилия, нельзя ли ему поговорить с теми, кто заключен внутри огня. Дважды он повторяет «я молю», упрашивая Вергилия дождаться, когда подойдет рогатый пламень. Вергилий отвечает, что просьба Данте «всегда к свершенью сердце расположит», однако советует ему молчать во время разговора. Улисс и Диомед, замечает он, как-никак греки и, может статься, не пожелают слушать пилигрима. Трудно понять, почему Улиссу лучше беседовать с Вергилием, который так вдохновенно воспел одного из его врагов, но на этой проблеме мы останавливаться не будем, ее рассматривали многие дантоведы. Как бы то ни было, именно Вергилий берет слово, когда старинный раздвоенный огонь приближается к путникам. Окликнув героев, он призывает их остановиться и просит Улисса поведать, как тот умер. Может показаться странным, что Вергилий спрашивает об этом, а не о грехе, за который Улисс казнится, но создатель «Комедии» особенно заворожен мгновением смерти, что вполне естественно в эпоху, когда вечное блаженство или вечное проклятие могли зависеть от обстоятельств последнего мига земной жизни.
Для «Комедии» и по другим причинам необходимо снова и снова обращаться к мгновению смерти. Умершие заняты размышлениями о своей жизни. Время для них остановилось, существуют только минувшее да вечные муки, испытываемые теперь. Но вечные муки зачастую и состоят из минувшего, превращенного в окаменелость, в реликт, заключенный внутри камня вечности. Их жизнь сосредоточивается в мгновении смерти, когда все решилось окончательно. Они вынуждены – и иного им не дано – смотреть назад именно сквозь окно обстоятельств смерти. В этом отношении их ситуация фактически не отличается от той, в какой находится каждый из нас, еще живых. Мы оглядываемся на свою жизнь в окошко данной минуты. Всякий миг настоящего есть, собственно говоря, миг смерти, ибо мы не ведаем, будем ли жить дальше, и оттого имеем все основания во всякий миг смотреть на свою жизнь как в последний раз, обдумывая, какова была эта жизнь и ее дела. Вот почему можно сказать, что спросить Улисса, как он умер, побуждают Вергилия деликатность и знание психологии. Ведь и сам Улисс хочет поговорить именно об этом, невзирая на боль.
На оклик Вергилия больший рог раздвоенного огня начинает шататься и потрескивать, словно от ветра. Вершина его двигается, как язык. С трудом – ведь он молчал много сотен лет и, наверно, хрипит еще сильнее, чем Вергилий в Песни первой «Комедии», – герой начинает говорить. Улисс рассказывает, что, воротясь на Итаку после десяти лет блужданий, он вскоре был вновь охвачен жаждой странствий. Ни благоговение перед стариком отцом, ни нежность к сыну, ни любовь к жене, Пенелопе, не могли унять стремление увидеть мир и «все, чем дурны люди и достойны» (XXVI, 99). С несколькими верными товарищами он на одном-единственном судне вышел в море. Держа путь по Средиземному морю, он видел берега Сардинии, Испании и Марокко и достиг пролива, что ныне зовется Гибралтарским. Когда Улиссов корабль подошел к этому узкому проливу, где Геркулес воздвиг столпы в знак того, что человеку не дозволено проникнуть дале, и сам Улисс, и товарищи его были уже стары и слабосильны. Улисс обращается к друзьям:
«О братья, – так сказал я, – на закат Пришедшие дорогой многотрудной! Тот малый срок, пока еще не спят Земные чувства, их остаток скудный Отдайте постиженью новизны, Чтоб, солнцу вслед, увидеть мир безлюдный! Подумайте о том, чьи вы сыны: Вы созданы не для животной доли, Но к доблести и к знанью рождены» – virtute e conosсenza. (XXVI, 112–120)И заключенный в огне Улисс продолжает так:
Товарищей так живо укололи Мои слова и ринули вперед, Что я и сам бы не сдержал их воли. Кормой к рассвету, свой шальной полет (folle volo) На крыльях весел судно устремило, Все время влево уклоняя ход. Уже в ночи я видел все светила Другого остья, и морская грудь Склонившееся наше заслонила. Пять раз успел внизу луны блеснуть И столько ж раз погаснуть свет заемный, Когда гора, далекой грудой темной, Открылась нам; от века своего Я не видал еще такой огромной. Сменилось плачем наше торжество: От новых стран поднялся вихрь, с налета Ударил в судно, повернул его Три раза в быстрине водоворота; Корма взметнулась на четвертый раз, Нос канул книзу, как назначил Кто-то, И море, хлынув, поглотило нас. (XXVI, 121–142)Нам неизвестен образец рассказа о смерти Улисса. Возможно, он целиком придуман самим Данте. Когда поэт был молод, несколько смельчаков генуэзцев отправились в океан, чтобы отыскать земли по ту его сторону, но больше о них никто не слыхал, и вполне возможно, Данте находился под впечатлением этого доколумбова предприятия. Улисс представляется нам как естественный символ жажды приключений и знаний. Выдающийся итальянский дантовед Бруно Нарди (Bruno Nardi) высказывал предположение, что эту идею подсказал Данте эпизод с сиренами у Гомера. Данте едва ли был непосредственно знаком с гомеровской поэмой, но, разумеется, постоянно сталкивался с комментариями и ссылками на нее. В одной из своих книг Цицерон пишет, что нелепо думать, будто чары, которыми сирены околдовали Улисса, заключались только в искусном пении, ведь сирены даруют знание, и не удивительно, что любомудрым такие песни дороже родного очага. Эти-то слова как бы отзываются эхом в речах дантовского Улисса. Знания – соблазн, превосходящий все прочие. Из всех женщин сирена как дарительница знания – самая опасная.
Улисс сознает, что бросает вызов воле богов. Ради знания он готов на любую жертву. Не искать знания о странах и народах, о зле и добре означает жить как зверь. Он ищет знания, попирая божественные запреты и человеческие табу, и недвусмысленно заявляет, что сознает: высшая сила не желала, чтобы человек проник на другую сторону земного шара. В своем рассказе Улисс не единожды намекает, что его плавание было грехом. «Шальной полет» – так он его называет и замечает по поводу гибели, что «Кто-то», иначе говоря Бог, желал ее. Тем не менее он совершил свое плавание и не жалеет об этом. Здесь, в Аду, его настрой ничуть не изменился. Улисс похож на бегуна, который был побежден в состязаниях и без малейших сантиментов говорит о своем поражении и о превосходстве победителя, но это не мешает ему гордиться собственными усилиями и засчитывать в плюс свои амбиции.
Для многих дантоведов Улисс воплощает стремление к знанию ради знания. Он образцовый представитель завоевательного духа, направленного как вовне, так и внутрь, а этот дух есть предпосылка всякого человеческого прогресса. Даже когда близятся старость и смерть – и остается «малый срок, когда еще не спят земные чувства», как говорится в поэме, – Улисс продолжает собирать факты и проникать все дальше. Он образец для каждого, кто к концу жизни испытывает недовольство. Для Улисса путь полон смысла, даже если впереди ждет гибель.
Улисс – противник той картины мира, какую обычно связывают со Средневековьем. Бог создал мир и положил пределы человеческому знанию. Мир – это хитроумный часовой механизм, и однажды его бой возвестит о Страшном суде. Разумом человек может постичь, как шестеренки цепляются друг за друга, как движутся стрелки и колеблются маятники, но в своем стремлении к знанию он должен помнить, что изучает часовой механизм, что за всем этим есть некая мудрая рука, есть смысл в мгновеньях и образах, явленных на циферблате, есть конечная цель. Часовщика зовут Бог. Ради Него мы ищем знания о часах, то бишь о мире. Бл. Августин просил Бога избавить его от искушения искать знания ради знания, и мольба эта часто возносилась к небесам в последующие века.
Вот об этом-то Улисс забыл. Вопреки божественному запрету он дерзает отправиться в плавание и проникнуть в океан. И ведет он себя как человек, который действует наудачу, просто начинает свое дело и ставит под вопрос не только плод, но также корень и самое зерно. Во всей «Комедии» Улисс – наиболее опасный человек, и, собственно говоря, господином в Аду пристало быть именно ему, а не Люциферу. Рядом с Улиссом Люцифер не кто иной, как жалкий фокусник и подражатель! Люцифер хотел стать подобным Богу. Вот на что он замахивался в своей гордыне, но на самом деле как раз поэтому был самым благочестивым и смиренным из всех слуг Божиих. Ведь разве мыслима большая покорность, чем желание стать в точности таким, как тот, кого любишь? Люцифер – льстец, подхалим, который все истолковал ошибочно и так и не уразумел, что Бог, создавая человека по своему образу и подобию, оставил за собою всю власть. В этом пункте Бог не хотел иметь ни подобий, ни родичей. И наказание Люциферу назначено самое позорное и глумливое из всех: он ничего не достиг и тем не менее принужден играть роль анти-Бога, который во всем свидетельствует о том, чему бросал вызов.
Подлинный враг Бога – Улисс, для которого знание и свободные искания важнее Бога. В старости, когда, казалось бы, пора обратиться помыслами к спасению своей души, он продолжает изыскания, и смерть настигает его в разгар бесплодных трудов. Улисс презирает Бога и стремится походить на него как можно меньше. Многие склонны именно Улисса, и никого другого, считать истинно европейским героем.
Пилигрим – как я уже показал на целом ряде примеров – испытывает перед Улиссом куда большее волнение, чем перед кем-либо другим в Аду, за исключением Франчески. И его трепет легко понять. Сама «Комедия», а не только Улисс, в ней выступающий, повествует о странствии в запретный мир. Спускаться в царство мертвых не дозволено. Всего через несколько песней пилигрим начнет восхождение на ту самую гору – гору Чистилища, – которую Улисс увидел после пятимесячного плавания и с которой задувал уничтожительный вихрь. Можно предположить – и пожалуй, особо пояснять это незачем, – что Улисс, хотя он язычник и жил за много столетий до Данте, придерживается тех же представлений о мире, что и люди Средневековья. Такое предположение не создает для фантазии больших трудностей. Подобно Улиссу из поэмы, Данте проникает в неведомые края и теперь, на склоне жизни, ищет знания о людских добродетелях и пороках. Может, и в его путешествии присутствовал вызов божественной воле?
Этот аспект весьма тревожил пилигрима. В Песни второй он спрашивает Вергилия, позволительно ли ему, еще живому, сойти в царство мертвых. Вспоминает, что Эней, еще когда был облечен плотью, спускался в подземный мир, ведь ему, богоизбранному основателю Римской державы, надлежало получить там знания, необходимые для осуществления этой миссии. Вспоминает он и о том, что, согласно средневековой легенде, апостол Павел тоже нисходил в подземное царство, ведь и он опять-таки должен был основать могучую державу – Церковь. И Павел, и Эней, проникая в обитель мертвых, имели полномочия от Бога. Но чем же он, пилигрим Данте, оправдает свое странствие? Хотя Гомера поэт не читал, ему, вероятно, было известно, что Улисс, стоящий перед пилигримом, тоже побывал в Гадесе и тогдашняя его дерзость сродни умонастроению, увлекшему его в океан.
Вергилий успокаивает пилигрима – еще в Песни второй! – и открывает ему, что живущие в Раю три благодатные жены послали его Данте провожатым. Дева Мария, святая Лючия, Просветляющая, и Беатриче, возлюбленная Данте, увидев пилигрима в сумрачном лесу, прониклись состраданием и решили его спасти. Странствие совершается по их желанию. Подобно Христу, однажды сошедшему в царство смерти, дабы попрать ее власть, Беатриче сошла в Ад, отыскала Вергилия, поведала ему свою тревогу о Данте и попросила помочь заплутавшему. Она сказала, что говорит любя, а значит, странствие Данте происходит по велению любви и Бога. Слыша рассказ Вергилия о встрече с Беатриче, пилигрим, минуту назад охваченный сомнениями и падший духом, поднимается, подобно тому как цветок, сомкнутый и побитый ночным морозом, с восходом солнца выпрямляется и раскрывает лепестки. Он «воспрянул, мужеством горя» (tanto buono ardire), почувствовал себя свободным:
О, милостива ты, кем я избавлен! И ты, сколь благ не пожелавший ждать, Ее правдивой повестью наставлен! Я так был рад словам твоим внимать И так стремлюсь продолжить путь начатый, Что прежней воли полон я опять, Иди, одним желаньем мы объяты… (II, 133–139)Именно после этих слов пилигрима и в таком настрое начинается в «Комедии» путешествие в царства мертвых. Иными словами, налицо поразительное совпадение тех чувств, какие обуревают пилигрима в начале пути и какие испытывали спутники Улисса. Совпадение даже в том, что и его, и их побуждает к дерзости советчик, вождь и друг: пилигрима – рассказ Вергилия, мореходов – речь Улисса.
Фактически Данте и Улиссовы товарищи находятся в одной и той же ситуации. Но Данте очень сродни и самому Улиссу. Не будет преувеличением сказать, что они кажутся братьями, из которых один благословен, а другой проклят. В Улиссе Данте узнаёт себя (эту позицию особенно отстаивал Бенедетто Кроче (Benedetto Croce). Приближаясь к нам в огне, Улисс воплощает собою амбиции и соблазны, хорошо знакомые Данте. Ведь поэт странствует не просто в глубины земли и в страны по ту сторону земного шара, но и в глубины души, а там еще больше, чем во внешней реальности, рискуешь угодить в запретные края. Не заглядывал ли Данте совсем недавно в запретный мир душевнобольных и провидцев, отчего у него случилось помрачение чувств? Можно спросить себя, твердо ли сам Данте знал, к которому из братьев он ближе – к благословенному или к проклятому.
Вергилий сообщает пилигриму, что Улисс наказан за свой лукавый совет насчет коня. Большинству читателей это наказание наверняка покажется варварским. Ведь оно означает, что Троя была на стороне Бога и потому враги ее должны нести наказание. Эней – на правой стороне, а Улисс нет. В «Комедии» есть персонажи, которые и лукавые советы давали, и сами лукавили, но тем не менее вознаграждены небесным блаженством, потому что их лукавство и обман пошли во благо богоизбранному народу. Например, блудница Раава, обманувшая своих земляков и впустившая в Иерихон людей Иисуса Навина. И вот за это позорное деяние она с почетом принята в Раю. Подобно другим тиранам, Бог благоволит любому обману, который полезен Ему самому. Здесь властвуют те же законы, что и в тоталитарном государстве. Предатель – вошь, которую нужно раздавить, и ни малейшего человеческого благородства и величия за ним признать нельзя. Тот же, кто идет на предательство во имя отчизны и партии, – настоящий герой, и место его в национальном пантеоне. Такие делишки в любой тирании сами собой разумеются.
Наделяя Улисса человеческим величием – ведь рассказ его свидетельствует о мятежности и пылкости разума, – Данте поступает так же, как в случае с Брунетто Латини. Улисс одинаков и в Аду, и в жизни. При желании можно рассматривать окутывающий его огонь как символ честолюбия, воли к непрерывному расширению знаний. Она толкает его вперед, не дает покоя, день и ночь сжигает душу. Огонь – это ищущая, неуемная сущность человека, проклятие, преследующее его всю жизнь, и одновременно благостыня. Можно сказать и иначе: Улисс – человек Возрождения, представитель безудержного искания, запертого в темнице средневековой веры. Его могучая энергия – доказательство, что скоро он выйдет на волю.
У.Б. Станфорд (W.B. Stanford) в своей монографии «Тема Улисса» («The Ulysses Theme», 2nd ed. 1963) проводит параллель меж Дантовым Улиссом и Фаустом. Как полагает Станфорд, Данте понимал всю безнравственность осуждения Улисса из-за деревянного коня. Победоносные римляне – вот кто перетолковал миф об Улиссе, выставив героя лукавым колдуном, которого должно отлучить от круга порядочных людей. На самом деле, придумав хитрость с деревянным конем, Улисс не преступал никакого международно признанного морального закона. Скорее, он, как один из вождей греков-ахейцев, был обязан ради победы использовать любые средства. Данте в согласии с традицией толковал Улисса как лукавого советчика, но углубил отягчающую его вину. Улисс был лукавым и дурным советчиком, ибо уговорил товарищей искать запретного знания и оттого стал причиной их гибели. Потому-то для Станфорда Данте – человек, желающий предостеречь своих современников от безудержных поисков знания. Живи Данте в наши дни, то, по Станфорду, он бы пытался остановить физиков-атомщиков, прежде чем их эксперименты разнесут в клочья земной шар. Данте испытал Фаустово искушение жаждой знаний, но отступил и в образе Улисса осуждает эту жажду. Сходной точки зрения придерживается и Джозеф Маццео (Joseph Mazzeo). По его мнению, симпатизирует Улиссу и славит его в «Комедии» пилигрим Данте, ведь, странствуя через Ад, пилигрим еще грешник и понимает далеко не все. Рассказчик же Данте поднялся на более высокую моральную ступень. Потому-то он и помещает Улисса туда, где ему должно быть, – в Ад.
И Станфорд, и Маццео, по-моему, забывают, что странствует не только пилигрим Данте, но и рассказчик. В поэтических рамках «Комедии», где мы изучаем Улисса и пилигрима Данте, первому живется плохо, а второму – хорошо. Если верить Станфорду и Маццео, пилигрим, видимо, сознает, что его восхищение Улиссом было ошибочно. Но как насчет рассказчика Данте? Он тоже находится под божественным покровительством, когда пишет о трех царствах мертвых?
Вне всякого сомнения, он верил в карающего Бога, и в иерархию грехов, и в спасительный план, каковому должно следовать человечество. Верил в часовой механизм. Но, может статься, в поэтическом озарении он отчасти испытывал и то, что отличало Улисса, когда тот упорно искал собственный путь и отправился в неведомые воды. Прав ли Вергилий, заверяя пилигрима, что их странствию споспешествовала божественная любовь? Да, Вергилий в «Комедии» бесспорно образец доброго советчика, а значит, антипод Улисса. Более того, иные даже считали, что в своих произведениях он возвещал грядущее христианство. Но коль скоро в «Комедии» возникает вопрос о правомерности различения пилигрима Данте и рассказчика Данте, это в крайнем случае означает, что так было нужно, что поэт Данте порой терзался сомнениями, ведь он преступал запретные границы и проникал в сферы, отведенные Богу и ангелам. Может статься, он и сам замечал, что в его поэме, в его Аду не все совпадало с великим образцом. Когда слово стало плотию, когда на фоне великой схемы являются живые существа, теории утрачивают справедливость, догматы веры рассыпаются в прах. Поэт, позволяющий Улиссу крикнуть товарищам, что они созданы не для животной доли, а затем, чтобы искать доблести и знания, не может, давая этим словам прозвучать в поэме, не вложить в них, хотя бы на миг, правду и свободу.
По утверждению Арнольда Нурлинда (Arnold Norlind), одного из немногих шведов, отдавших долгие годы плодотворному изучению Данте, различие между Улиссом и пилигримом Данте заключается в том, что мотивы первого, когда он ищет гору Чистилища, «по сути, эгоистичны, пусть даже красиво именуются “доблестью и знаньем”». Данте же, продолжает Нурлинд, отправляется в Чистилище, чтобы обрести свободу от своего низшего «я». Но если Нурлинд прав и мотивы Улисса эгоистичны, тогда это справедливо и касательно мотивов рассказчика, ведь он пишет «Комедию», поскольку ищет для себя спасения и славы. Если прав Маццео и Улисса славит пилигрим, то позволяет ему это все-таки рассказчик. Если же прав Станфорд и судьба Улисса есть предостережение всем Фаустам человечества, значит, придется вменить остерегателю в вину, что он наделил наказанного грешника слишком яркими и демонически привлекательными чертами. Коли наказывать Улисса, надо наказывать и рассказчика Данте. Коли Улисс узник средневековой тюрьмы, значит, рассказчик Данте тоже узник, продолжающий пилить свои оковы.
Образ Улисса в «Комедии» так полон жизни, потому что рассказчик дрожит от страха перед вечной карой. Может статься, Данте видит в Улиссе себя как поэта? Во всяком случае, не подлежит сомнению, что товарищей Улисса он изобразил людьми, которые погибли, последовав совету предпринять великую исследовательскую экспедицию, и в этом они сознательно противопоставлены пилигриму, которого Вергилий уговорил совершить не менее дерзновенное странствие. Меж этими предприятиями существует кровная связь. У Данте Улисс и его спутники гибнут, но само описание Улиссова величия в жизни и в смерти не лишено рискованных моментов. Художник Данте налагает на Улисса сразу два проклятия – проклятие лукавого совета и проклятие безбожных поисков знания. Однако в тот миг, когда Улиссов корабль затягивает в бездну, иному читателю, может статься, слышится крик. На всем протяжении «Комедии» он должен помнить, что ее герой и создатель зовется не только Данте, но и Улисс и под этой маской, окутанный вечно пылающим огнем, странствует по свету.
Финал в Аду
Пилигрим уже близок ко дну адской пропасти. Становится все темнее, почти ничего не видно. Одновременно туманится разум, смущаются чувства. Во рву воров люди на глазах у пилигрима Данте превращались в скотов. Даже в таких вихрях страха и боли он умел сохранить человеческую и художническую уравновешенность, но подчеркивал, что при этом дух его блуждал. В последующих песнях мы наблюдаем, как постепенно мутнеют и его чувства.
Песнь тридцатая начинается призыванием образов двух исковерканных, доведенных до отчаяния существ. Фиванский царь Афамант, обуянный безумной мыслью, что его жена львица, а двое сыновей львята, приказал охотникам поставить сеть для их поимки, схватил одного из сыновей и раздробил его о каменья. Супруга Приама Гекуба, чья трагическая судьба играет определенную роль и в жизни Гамлета, после падения Трои идет к могилам своих детей. Ее дочь была убита на могиле Ахилла, а мертвого сына прибили к берегу волны. От горя Гекуба лишается рассудка и мечется вокруг, воя как волчица. Два эти образа, по обыкновению нарисованные очень лаконично, будто слова приходится вырывать из груди и оттого их так мало, иллюстрируют душевное состояние в последнем рву Злых Щелей, где, в частности, томится Мирра, соблазнившая родного отца и тем обнаружившая полное смятение чувств. Здесь пилигрим встречает и двух знаменитых поддельщиков – фальшивомонетчика Адамо из Бреши (XXX, 49), который подделывал флорины, и поддельщика слов, т. е. лжеца, Синона, который убедил троянцев внести деревянного коня в город и стал причиной гибели Трои. Оба они, фальшивомонетчик и лжец, затевают злобную перебранку, желая один другому ужесточенья мук. Данте внимательно прислушивается к этой грызне, один из участников которой терзается неутолимой жаждой, а второй раздут водянкой. Вергилий вмешивается и объясняет пилигриму, что слушать этакую перебранку – «низменный позыв» (bassa voglia; ст. 148). От этого укора Данте охватывает столь огромный стыд, что, вспоминая об этом в ходе писательства, он вновь испытывает сильное замешательство. Означенный эпизод свидетельствует, что собственные чувства и разум пилигрима теперь всерьез под угрозой. Он вступает в мир, где его затягивают злоба и ярость, где он близок к гибели.
В Песни тридцать первой изображается схождение в последний, девятый круг Ада. Пилигрим и Вергилий в молчании идут по сумеречному краю. Издали доносится зычный звук рога, и Данте вспоминает самый славный рог Средневековья, в который Орланд (Роланд) дул в Ронсевальском ущелье, призывая на помощь короля Карла Великого. Образ выбран к месту, ведь, как известно, помощь опоздала, и Роланд и его войско были перебиты сарацинами. Вот так же и путники теперь приближаются к поясу, где до помощи далеко, а до гибели рукой подать.
Поодаль пилигрим различает словно бы ряд высоких башен и спрашивает своего вожатого, не город ли там. Над средневековыми итальянскими городами высились, подобно небоскребам нынешних мегаполисов, башни высотой до семидесяти метров – жилища и крепости могущественных семейств. Подойдя ближе, пилигрим видит, что это не башни, а гиганты, до пояса погруженные в каменные колодцы. Они окружают девятый круг Ада. Опутанные крепкими цепями, они несут службу сторожевых псов. Вот один из них и трубил в рог.
Данте замечает, что, на счастье, род гигантов вымер на земле, ведь тому, кто соединяет разум со злою волей и сверхъестественной силой, ни один смертный противостоять не может. Читателя поражает, что вина гигантов заключается прежде всего в том, что они столь огромны. Они вымерли, подобно мамонтам и исполинским антилопам, и стоят прикованные в своих колодцах – представители народа, который сгинул оттого, что не сумел приспособиться к требованиям новой эпохи. Они – символы безвинных неудачников, которых история смела и растоптала. Вспомнив надпись над вратами Ада, гласящую, что юдоль мучений, Ад, сотворена Полнотой Всезнанья и Первою Любовью, мы именно здесь осознаём, что эта Полнота Всезнанья говорит откровенным языком силы. Рожденный гигантом не вправе остаться среди живых, ибо он опасен для негигантов, то бишь для людей обычного роста, которые строят города, обрабатывают землю, создают церкви и державы, пишут земные или божественные комедии.
Возникая из сумрака, гиганты поэтому вызывают что-то вроде чувства освобождения. Хотя, конечно, отмечается, что один из них, Немврод, строя Вавилонскую башню, выказал гордыню, а еще один, Эфиальт, бросил вызов богам. Современному же читателю больше знаком другой из круга гигантов – Прометей, похитивший у богов огонь, подаривший его людям и наказанный за свое «преступление»: он навеки прикован к кавказской скале. Но в целом Песнь тридцать первая, где нам предстают гиганты, повествует в первую очередь о вине, которая есть не что иное, как судьба, назначенная богами, но чуждая любых представлений, связанных с карой. Эдип тоже безвинен в этом смысле: он не знал, что убил своего отца и женился на родной матери. Орест, по законам кровной мести избранный совершить убийство матери, с нашей точки зрения, опять-таки невиновен. Как и Эдип, он был гигантом, поскольку чувство долга перед той ролью, какую назначила ему судьба, приобрело гигантский масштаб и отодвинуло в тень все остальное. Гиганты у Данте не вписываются ни в какие моральные схемы, ни в какие следственные протоколы. Им присуще нечто таинственное, указующее далеко в глубь времен, в эпоху до любых цивилизаций. В «Комедии» – если отвлечься от мощного живописного впечатления, какое они производят среди адского ландшафта, – гиганты служат вестниками последней в Аду великой человеческой драмы. Звук рога в глубинном смысле предваряет появление графа Уголино делла Герардеска и неукротимых натур, что терзаются с ним вместе.
Один из гигантов в круге – Антей, который обретал новые силы всякий раз, как прикасался к Земле, своей матери, и был побежден Геркулесом (Гераклом), поднявшим его над головой и задушившим. По просьбе Вергилия (чтобы добиться своего, Вергилий прибегает к лести, ведь при всем своем поэтическом достоинстве он хитрец) Антей берет обоих путников в свою огромную руку и опускает вглубь, на ледяное озеро Коцит, которое образует последний круг Ада. Там находятся вмерзшие в лед предатели. Подобно тому как лягушка в летний зной высовывает из воды только рыльце, у здешних узников поднимается над льдом только голова. Когда они плачут, слезы застывают ледяными комьями. Есть тут и существа, смерзшиеся воедино, точно козлы, боднувшиеся лбами.
Здесь с Данте приключается нечто весьма неприятное. Дрожа, он бредет по льду и видит под собою тысячи лиц, искаженных холодом, похожих на песьи морды. Ненароком он пинает одного из несчастных. «Ты что дерешься? – вскрикнул дух, стеная. – / Ведь не пришел же ты меня толкнуть, / За Монтаперти лишний раз отмщая?» (XXXII, 79–81) Охваченный подозрением, пилигрим останавливается. Четвертого сентября 1260 года в бою при Монтаперти, состоявшемся между флорентийскими гвельфами и гибеллинами, неприглядную роль сыграл некий Бокка дельи Абати. Принадлежа к войску гвельфов, чьей победы горячо желал и род Алигьери, он был подкуплен гибеллинами и, едва началось сражение, отрубил знаменосцу гвельфской конницы правую руку. Знамя упало наземь, что привело гвельфов в смятение и стало причиной их полного разгрома. Данте догадывается, что перед ним Бокка, и просит Вергилия задержаться, чтобы развеять свои сомнения. Он спрашивает, кто этот человек, и получает злобный ответ. Узник во льду не желает назвать свое имя. Тогда пилигрим наклоняется, хватает его за волосы и говорит:
<…> «Себя ты назовешь Иль без волос останешься, проклятый!» И он в ответ: «Раз ты мне космы рвешь, Я не скажу, не обнаружу, кто я, Хотя б меня ты изувечил сплошь». (XXXII, 98-102)Пилигрим уже накрутил волосы Бокки на руку и выдрал не одну прядь, а тот все выл, глядя вниз, но тут кто-то из его товарищей по несчастью злобно выкрикивает имя – Бокка. Данте выпускает его волосы, обзывает его гнусным предателем и обещает умножить его муки, рассказав в верхнем мире про здешний позор.
По ходу странствия нас неоднократно подготавливали к тому, что пилигрим не сможет пройти через Ад, не пострадав душою. Мы видели, как он борется со смятением. И вот здесь он не выдерживает. Утрачивает все свое достоинство, предстает человеком низким и жестоким. Ведь хотя Бокка совершил гнусное предательство, а к тому же предал партию, к которой традиционно принадлежали Данте и его семья, все же его постигла изуверски лютая кара, что должно было умерить пилигримову ярость.
Конечно, подобные рассуждения, скорее всего, просто окружают встречу пилигрима с Боккой ореолом романтического психологизма. Жестокость пилигрима к Бокке побуждает нас поставить себя на его место, и мы отказываемся принять эту сцену такой, какова она есть, без прикрас. Может статься, встреча с Боккой отражает непримиримость и необузданность, свойственные натуре Данте, однако нам трудно соединить их с гуманным великодушием, какое он проявляет в иных случаях. Как нам быть, если Данте вправду с удовольствием вспоминал эту встречу, пинки по голове предателя и вырванные у него волосы? Что, если Данте считал свое поведение правильным и, когда писал эту песнь, не сомневался, что справедливо предает Бокку презрению читателей? Что, если у него действительно был такой темперамент и даже перед Богом он полагал себя вправе судить столь беспощадно и жестоко? Или вернее сказать: что, если он, как уже не раз, рукоплещет суду Божию и вдобавок выступает как палач?
Толкователи старшего поколения – например, Эдвард Мур, – которые придают объективной моральной схеме в «Комедии» большее значение, нежели мы, и те испытывают нерешительность ввиду жестокости, проявленной пилигримом в данном случае. Надо сказать, Мур разрешает эту проблему, напоминая, что Данте нередко выступает в обличье ветхозаветного пророка. Мудрость пилигрима и манера его поведения, изображаемые как принадлежность его личности, на самом деле мудрость и манера поведения человечества. И свое проклятие Данте произносит от имени человечества. В заключение Мур цитирует Теннисона[10]: когда поэт говорит «я», он отнюдь не всегда имеет в виду себя самого. Его устами говорит весь человеческий род. Стало быть, согласно этой интерпретации, Данте, встречаясь с Боккой, выступает как вершитель божественной кары. И сделать такой вывод тем более легко, поскольку Мур не проводит различия между Данте – героем поэмы и Данте – поэтом, направляющим пилигримовы приключения.
Я, разумеется, сознаю, что мое толкование этой ситуации обусловлено отчасти принятым в наше время строгим различением между рассказчиком и героем его повествования, а отчасти присущей нашему времени тенденцией видеть в каждом поэте и писателе нерешительное «гуманное» существо. Многие писали о Данте так, будто возможно докопаться до правды о нем. Они представляют себе Данте таким же образом, как Данте представлял себе сотворенный мир. Богу всё было ясно, а вот люди пришли к пониманию лишь после долгих и тяжких поисков. Так обстоит и с Данте. Он строил свой мир – три царства умерших, мириады судей. Работал с огромным тщанием и всегда знал, что делает. Читатель вникает в его труд, старается понять. И в один прекрасный день постигнет смысл, какой вкладывал в него сам Данте.
Такие интерпретаторы – а их не счесть – забывают, что «Комедия» произведение поэтическое и нас вовсе не должно занимать, есть в ней готовые решения или нет. В ней имеются неразряженные напряжения. Оттого она и живет. И во время странствия по льду мы находимся в такой напряженной и необъяснимой зоне. Мы вынуждены разом держать открытыми множество путей. Ясно одно: рассказчик Данте, хоть и не сознающий человек Данте – ведь поэт, которому ясны все собственные движения, вовсе не поэт, – здесь, в последних песнях, понимал, что ступил на зыбкую почву. Оттого-то безумие, необузданная ярость все больше выходят на передний план.
Впереди самая мощная сцена в ледяном царстве. Пилигрим видит во льду тень, которая зубами грызет чью-то голову внизу, под собой, – так голодный пес остервенело набрасывается на кость. Эта вспышка бешеного каннибализма привлекает внимание Данте, он останавливается и спрашивает узника, кто он такой. Грешник поднимает лицо от «мерзостного брашна» – fiero pasto, – утирает рот о волосы жертвы и начинает свою повесть. Говорит, что безнадежная боль разрывает ему сердце, но он расскажет о своей судьбе, в надежде, что его история станет хулою врагу.
Имя его – граф Уголино делла Герардеска, а тот, кого он грызет, – архиепископ Руджери, обманом взявший его в плен. Вместе с детьми его заключили в клетку-башню, предназначенную для ловчих птиц. Просидев там несколько месяцев, он увидел вещий сон о своей участи. Увидел, как архиепископ на охоте гонит волка и его волчат. Злобные псы мчались по следу, и волк с волчатами скоро устали. Острые клыки уже вгрызались им в бока, рвали плоть.
Когда граф проснулся и этот сон еще бился у него в голове, он услышал, как спящие сыновья плачут и просят хлеба. Тем же утром сон начинает сбываться: приходит час, когда узникам приносят еду, но они слышат только стук молотков по двери. Дверь заколотили, а их обрекли голодной смерти в заточении. Граф рассказывает, что весь оцепенел от ужаса. Смотрел на сыновей – и не мог вымолвить ни слова. Младший его сын, Ансельмо, расплакался и спросил, почему отец так смотрит, однако Уголино был не в силах ответить. День миновал, стемнело.
Наутро, когда лучик света проник в узилище, отец увидел четыре лица – как бы отражения своего собственного. От боли он укусил свою руку, но мальчики подумали, что от голода. Встав с пола, они предложили отцу съесть их: «Отец, ешь нас, нам это легче будет; / Ты дал нам эти жалкие тела, – / Возьми их сам: так справедливость судит» (XXXIII, 61–63). Уголино старается овладеть собою, чтобы не мучить детей. Тот день и следующий они провели в молчании. На четвертый день без еды и пищи один из сыновей графа, Гаддо, бросился отцу в ноги, сказал: «Отец, да помоги же!» – и скончался. До истечения шестого дня остальные трое сыновей один за другим умирают на глазах у отца. Три дня ослепший от голода и горя Уголино рыдал над телами мертвых детей, выкрикивая их имена. «Но злей, чем горе, голод был недугом», – говорит он затем (ст. 75). В конце концов смерть настигает и его.
Этот рассказ, пожалуй, самый страшный во всей «Комедии». И он становится еще страшнее, если вслед за некоторыми толкователями допустить, что истерзанный голодом граф испытывал соблазн съесть тела умерших детей. Дескать, на это намекают слова, что голод злее горя. Как бы то ни было, в Аду Уголино действительно стал каннибалом, ведь он гложет зубами голову своего смертельного врага.
Как и архиепископ, граф в своей политической деятельности не раз лукавил и обманывал. Стало быть, в Дантовой моральной схеме ему должно находиться во льду. Но именно здесь особенно ярко видно, что кара есть состояние, а не следствие, не результат. Ведь граф, который подобно голодному псу грызет голову своего заклятого врага, настолько вне себя от боли из-за мучений, причиненных его детям, что никакая иная боль до него не достигает. Извлеки мы его из ледяного Ада и помести в цветущий сад, где щебечут птицы и жужжат пчелы, – его мука останется прежней, как и жажда мщения. Может быть, телесные муки, скорее, приносят ему облегчение, действуют отвлекающе, подобно тому как телесная боль способна отвлечь окаменевшего от меланхолии и на время подарить ему облегчение.
Что переживает Данте, пилигрим и рассказчик, глядя на Уголино? Совсем недавно, при встрече с предателем Боккой, пилигрим был охвачен безумной яростью и жаждой мести, сила которых вполне под стать эмоциям графа. Как и Уголино, пилигрим от этой ярости впал в звериную жестокость. Далее в этой песни сказано, что Пиза – город, где Уголино умер от голода, – покрыла себя позором, покарав не только графа, но и невинных детей. Тут мы, разумеется, согласны. Добавим, что и Данте действует жестоко, ибо, с одной стороны, несмотря на все страдания Уголино, помещает его в последнем круге Ада, а с другой – предлагает наказать Пизу, перегородив реку Арно и утопив в наводнении всех горожан.
После расставания с графом пилигрим еще раз являет нам свою жестокость. Его окликает один из духов. Это инок Альбериго, Дантов современник, на совести которого много тяжких преступлений, в частности убийство родственника и его сына. Иначе говоря, его преступления в точности того же свойства, что и совершённые над Уголино. Альбериго пригласил родича на пир, а после трапезы, воскликнув: «Подайте фрукты!», дал убийцам условный сигнал наброситься на гостей. Теперь Альбериго во льду Коцита, и – в знак того, что его преступления еще страшнее, чем совершённые другими узниками, – лицо его обращено вверх. Слезы Альбериго замерзают ледяной корою, и удалить ее он не может, потому что руки скованы льдом.
Во тьме Альбериго принимает Данте за преступника, обреченного той же каре, что и он сам, и просит убрать ледяную корку с его лица, чтобы в слезах освободиться хоть от малой толики боли. Пилигрим отвечает, что готов это сделать, если взамен он назовет свое имя. И добавляет: «<…> и если я солгал, / Пусть окажусь под ледяной корою!» (ст. 116–117). Мы уже знаем, что осужденные на самые тяжкие муки – не в пример тем, кто обитает в более высоких кругах
Ада, – не хотят открывать свои имена. Лишь торжественная клятва Данте убеждает Альбериго. Он называет свое имя, хорошо известное Данте, и намекает на «фрукты», какие некогда велел подать. Теперь, говорит он, ему достались финики вместо смокв, какими он «угощал» родича. Пилигрим удивлен, ведь он не слыхал о смерти Альбериго. На самом деле этот убийца кровных родичей еще живет на земле. Только душа его низвергнута в Ад. Инок Альбериго сообщает пилигриму, что в этом кругу Ада терзается много подобных душ. Душа преступника уже начала свой срок в Аду, меж тем как тело живет на земле, под властью демона. Значит, возможно и такое: человек ест, пьет, спит, носит одежду, а душа его обретается в Аду.
Открыв пилигриму эту ужасную тайну, Альбериго требует платы. «Но руку протяни к глазам моим, / Открой мне их!» – говорит он. Однако ж пилигрим не выполняет своего обещания, ибо, как гласит поэма, «было доблестью быть подлым с ним». Как смекалистый крестьянский сын из сказки, пилигрим сумел хитростью обмануть Альбериго, посулив избавить его от ледяной коросты или скатиться на ледяное дно. Инок Альбериго, считая пилигрима одним из преступников, естественно, решил, что тот обязался принять еще более страшную кару, если не сдержит слово. А сам пилигрим знал, что в любом случае спустится на самое дно.
Так что же, новая низость пилигрима лишний раз доказывает его духовную запятнанность? Психологически вполне естественно, что он, совсем недавно ужасавшийся мукам Уголино, ожесточивается при встрече с человеком, который действовал так же подло, как убийцы Уголино, и тоже заставил страдать невинных детей. Альбериго родом из Генуи, и рассказчик Данте изрыгает по адресу этого города, как и по адресу Пизы, страшное проклятие и дивится, как же Генуя за свою злобу еще не стерта с лица земли. Но мне кажется, что встречей с Уголино развитие пилигрима заканчивается, т. е. подходит к концу «адский» этап его развития. Встретив Альбериго и сам прибегнув к обману и лжи, он на миг превращается в одного из демонов, которые терзают грешников и находят в этом удовольствие. Рассказу об иноке Альбериго, получившем адские финики взамен кровавых смокв, присущи фарсовые черты, это сатировская драма, следующая за трагедией Уголино. Как бы в подтверждение этого поэма намекает на предприимчивых бесов, бродивших у смоляного рва, где варились мздоимцы. Ведь Альбериго называет имя еще одного человека, чья душа терзается в Аду, хотя тело его еще на земле. Этот Бранка д’Орья убил своего тестя Микеле Цанке, который находился среди наказанных мздоимцев Песни двадцать второй. Вот такие внезапные ассоциации – один из секретов Дантова искусства. Яркая электрическая дуга перекидывается от того места, где мы находимся, к более ранней сцене. Вся «Комедия» – и «Ад», и «Чистилище», и «Рай» – одновременно присутствует в фантазии поэта. В любую минуту он может вызвать какую угодно сцену и какого угодно персонажа, чтобы высветить ту или иную ситуацию. Глубочайшая боль сменяется мрачным палаческим юмором, и мы вдруг оказываемся по ту сторону добра и зла.
Вспоминая Уголино, мы видим, что, подобно гигантам, он безвинен. Это человек, обладающий сверхчеловеческими страстями, гигант боли, отеческой любви и ненависти, он не вписывается ни в какую моральную систему, и мы невольно склоняемся перед его страшным величием. Для такой натуры христианская невинность и христианское смирение недостижимы. Поглощенный и ослепленный своими политическими страстями, своей жаждой отомстить противникам, пилигрим Данте рвал волосы Бокки точно так же, как граф рвал волосы и загривок своей жертвы. Меж этими двумя неистовыми сценами есть связь. Графа должно было пленить во льду, вынести ему приговор и назначить кару. Пока это не свершилось, пилигрим, ожесточенный мучитель Бокки, не мог продолжить свой путь к Чистилищу и Раю. В мире христианских представлений, в Дантовом мире, такое может произойти только чудом, только водительством благодати. Даже нам понятно, что пилигриму, который хитростью выманивает у Альбериго его секреты, будет нелегко своими силами подняться в мир света и человечности.
О голодной башне, о своей смерти и смерти сыновей граф Уголино рассказывает в Песни тридцать третьей «Ада». Остается последняя песнь – тридцать четвертая, где мы встречаем Люцифера. Он возникает из мглы на ледяной равнине, и слезы бегут по трем его лицам. Люцифер – существо, окаменевшее в отчаянии. Пожалуй, Данте прибегает к нарочито явной аллегории, когда в знак того, что и Люцифер свидетельствует о Боге, дозволяет пилигриму и Вергилию карабкаться по телу этого чудовища к узкому ходу, ведущему из центра земли на другую сторону земного шара, где расположена гора Чистилища. Путники спускаются вниз по волосатому Люциферову телу. Добравшись до его бедра, Вергилий поворачивается головой в противоположном направлении – с немалым трудом, еще и потому, что здесь, в этом опасном месте, Данте висит у него на шее. Теперь Вергилий взбирается вверх, и у пилигрима перехватывает горло, ведь он думает, что они возвращаются вспять, в Ад. На самом же деле они миновали центр земли. Теперь пилигрим видит Люцифера снизу. Опять аллегория, указывающая, что Ад – мир, перевернутый вверх тормашками, что всё там нужно лишь вывернуть наизнанку – и воздвигнутся Божия любовь и Божии небеса.
Данте был в Аду гостем, туристом, но вместе с тем и сам пережил многое из жизни осужденных. Разумеется, был он и пророком, и моралистом, который, загоревшись гневом Божиим, выставлял на обозрение разнообразные грехи и бичевал свое время. Но особенно трогает он нас как участник событий в Аду и как человек, потому что, с нашей точки зрения, важнее понимать, нежели судить. Пилигрим выбирается из Ада благодаря милости, в которой посредничает Беатриче, неусыпно за ним следящая. Сам он ничего сделать не может, потому-то символично, что в тяжком последнем восхождении Вергилий несет его на себе. Рассказчик же Данте способен продолжить повествование, как указывал Брунетто Латини, благодаря своему гению и целеустремленной воле проникнуть в глубины души и отвоевать их секреты, чтобы ни ему самому, ни его читателям впредь не пришлось жить по-старому, не зная самих себя и тех сил, что подспудно движут нашими словами и делами. Кантика «Ад» в «Комедии» завершается так:
Мой вождь и я на этот путь незримый Ступили, чтоб вернуться в ясный свет, И двигались все вверх, неутомимы, Он – впереди, а я ему вослед, Пока моих очей не озарила Краса небес в зияющий просвет; И здесь мы вышли вновь узреть светила. — Е quindi uscimmo a riveder le stelle. (XXXIV, 133–139)Чистилище
Отрадная жизнь
Пилигрим и Вергилий выбрались на волю. Пилигрим «расстался с темью без рассвета, / Глаза и грудь отяготившей мне» (I, 17–18). Вернулся к отрадному свету, и это означает для него огромное облегчение. Читатель «Комедии» ощущает это облегчение в самом характере стихов, который претерпевает метаморфозу. Схождению в Ад предшествовала картина сумрачного леса. Кантика «Чистилище» начинается картиною моря:
Для лучших вод подъемля парус ныне, Мой гений вновь стремит свою ладью, Блуждавшую в столь яростной пучине. Per correr miglior acqua alza le vele omai la navicella del mio ingegno, che lascia retro a sè mar si crudele.Происходит это на рассвете пасхального утра, на третий день странствия пилигрима. У горизонта «маяк любви, прекрасная планета, / Зажгла восток улыбкою лучей, / И ближних Рыб затмила ясность эта» – Lo bel piarieta che ad amar conforta, / faceva tutto rider l’oriente, / velando i Pesci ch’erano in sua scorta (ст. 19–21). Итак, восходит Венера, затмевая блеском созвездие Рыб. Улыбка, загорающаяся на востоке, предвестье рассвета, не гаснет на протяжении всех песней «Чистилища».
Этим вешним утром путники добрались до подножия горы Чистилища, расположенной в южном полушарии, посреди океана. Местоположение ее – выдумка самого Данте. Имея пристрастие к геометрической точности, он сделал Чистилище аниподом Иерусалима. Согласно средневековым представлениям, город, где был распят Христос, находился в центре обитаемого мира. По Данте, в противоположном полушарии центр образует гора Чистилища, окруженная мировым океаном. На вершине горы помещается Земной Рай, откуда некогда были изгнаны Адам и Ева. Именно туда придет пилигрим в конце своего восхождения на гору.
Солнце пока не взошло. Путники стоят на берегу мирового океана. Там я их и оставлю на протяжении этой и следующей главы, ведь после тяжких переживаний в Аду они нуждаются в отдыхе. Сам же попробую обрисовать характер того места, где они очутились, а затем остановлюсь на основных структурных особенностях «Божественной Комедии».
Согласно верованиям католиков, Чистилище, Пургаторий, есть обитель спасенных душ, которым, прежде чем они попадут в Рай, требуются закалка и очищение. Это второе царство умерших, где пилигрим странствует вместе со своим вожатым, Вергилием. Он восходит на гору и, как и в Аду, обнаруживает, что там господствует строгая моральная схема. Гора поднимается вверх уступами, и на каждом уступе происходит очищение от определенного рода грехов. Как и в Аду, главный принцип здесь таков: чем ниже уступ и чем тяжелее грех, тем большее противодействие испытывает путник. Пилигрим и читатель снова очутились в моральном музее. Отличие в том, что в Аду не было развития, грешники, вечно неизменные, витали, точно мухи, в застывшей смоле проклятия, тогда как Чистилище – «инкубатор», где лопаются скорлупки и распускаются почки.
Пилигрим Данте вступил в Ад и прошел через девять его кругов, как чужак проходит через огромный ночной город. Он знал, что оказался в тюрьме, но шагал по ней не с кодексом законов в руке, а как человек, у которого в груди есть сердце. И откликался на увиденное то состраданием, то отвращением. То плакал, то саркастически усмехался. Таков же он и здесь, в Чистилище. Причем это реальное место, а не теологическая спекуляция. Звезды, сияющие над ним, когда он выбирается из-под земли, – настоящие, и бескрайнее море, раскинувшееся до горизонта, – тоже настоящее. Когда встает солнце, тело пилигрима отбрасывает настоящую тень. В Чистилище он находится точно так же, как Гекльберри Финн находится на большой мутной реке Миссисипи, когда ночью под звездами плывет на плоту.
Ад как тюрьма чужд нам и враждебен, но как состояние хорошо знаком. Пилигрим странствовал через юдоль людских страданий. С Чистилищем обстоит точно так же. Учреждение для посмертного исправления душ представляется большинству из нас противным здравому смыслу и нелепым. Зато как состояние Чистилище нам более чем знакомо, ибо оно просто-напросто идентично нашей жизни – той, какою мы живем на земле.
Поистине гениально поэтому, что Данте не стал помещать Чистилище там, где его обыкновенно помещали в Средние века, – под землей, по соседству с Адом (такой точки зрения придерживался, к примеру, Фома Аквинский), – а определил ему место наверху, на поверхности земли. Ведь в известном смысле пилигрим начинает теперь собственную жизнь. По выражению Умберто Козмо (Umberto Cosmo), Чистилище – Дантова записная книжка.
Можно сказать и иначе: от кошмара и безнадежной боли повествование возвращается к обычной, повседневной жизни. В Аду боль бессмысленна. В Чистилище же страдание исполнено смысла, и оттого отчаянию нет места. Здесь допустимо сравнение с женщиной, которая мучается родовыми схватками. Она хотя и вызывает сочувствие, стонет, просит обезболивающего, но внутренне все время улыбается. И сама она, и окружающие знают: происходит великое событие, из бездонных глубин является новая жизнь.
У смертного одра близкие твердят себе утешительные слова, какие только приходят им в голову, и с надеждой ждут, что скажет врач. Но в глубине души каждый знает, что утешение не более чем лицедейство, декорум, «искусственные цветы», к которым прибегают в этот миг беспредельного отчаяния. Скажи кто-нибудь правду – и все испытают облегчение, освободятся. В Дантовом Аду это, можно сказать, уже свершилось. В самом отсутствии надежды заключено утешение. Правда, сколь она ни ужасна, лучше лжи. Изреченная боль даже последнему негодяю дает мужество выстоять. Именно слова воплощают ту боль, которая поддерживает жизнь, потому что, останься боль безмолвной, она поработила бы нас.
Напротив, когда рождается ребенок, утешение реально, живою птицей летает оно по комнате. Достаточно лишь сказать измученной роженице, что обезболивающее может повредить ребенку, и она безропотно согласится. Ведь все это как бы экзамен. С каждым мгновением в малыша вливается все больше упований. Рождается новая жизнь, и ничто в этот миг, сколь он ни мучителен, не поколеблет веры и надежды.
Такова же обстановка в Чистилище. Там вершится переход от боли к счастью. Оттуда уже близко до жизни более могучей и великой, к которой ты однажды пробудишься. Если в Аду существует мечта о чем-то лучшем, о чем-то ином, то она ложна, несбыточна. Когда обман развеивается, душа с удвоенной ясностью видит, что вокруг лишь камень, пустыня, смерть. В Чистилище такая мечта реальна, поскольку, хотя смерть в конечном итоге вонзает свои когти и в сердце того, кто еще не родился, никто не станет отрицать и ставить под сомнение, что новорожденный, если ему суждено жить, встретит перво-наперво солнечный свет и любящий взгляд.
Оказавшись в Чистилище, пилигрим обнаружит, что здешние духовные условия не отличаются от земных. Посмотревший в глаза Медузе каменеет и навек остается пленником своей меланхолии. Однако никто не способен жить, не делая тех или иных уступок иллюзии, что в жизни есть смысл. В первую очередь это относится к детству и юности, а эти-то два возрастных периода как раз и занимают центральное место в песнях «Чистилища». Чистилище – это сама воля к жизни, стремление быть и действовать. По одну его сторону простирается пустыня смерти – Ад, где обитают люди, утратившие душу; по другую сторону – мечта о спасении и вечности, Рай. «Чистилище» – средняя из трех кантик «Комедии». И мы действительно находимся в середине. Есть люди, которые во всем видят смерть, и люди Средневековья, как и мы, не забывали об этом аспекте. Но нет таких, кто бы не жил в свое время ребенком и доверчивым юношей.
Позвольте мне показать еще на двух примерах, что есть Чистилище, ибо, по-моему, прежде чем начнется восхождение на гору, стоит пояснить, каков характер здешней жизни. Чистилище сходно с жизнью в спортзале, как ее воспринимает пятнадцатилетний мальчуган, сосредоточивший там все свои амбиции, или – для девочки того же возраста – с жизнью в классической балетной школе. Горячее честолюбие захватывает мальчугана, причиняя ему жестокие муки. Вместе с тем он счастлив приходить в зал, чувствовать, как работают руки и ноги, как легко ему прыгается в мягких гимнастических туфлях. Перед его внутренним взором проходят гимнасты-чемпионы, и ничто на свете не может скрыть от него, что они мастера, а он всего лишь жалкий новичок. Ему известно, что здесь властвуют неумолимые законы. Во время прыжка через коня ты должен либо сохранять прямую осанку, рискуя с размаху угодить коню на шею и здорово расшибиться, либо ты никогда это искусство не освоишь. Либо утром и вечером надрываешь пуп с гантелями и кольцами, либо ничегошеньки не добьешься. Либо терзаешь собственное тело и безропотно принимаешь тренерскую схему упражнений, либо так и останешься ничтожеством.
Аналогичным образом обстоит и с девочкой в балетном классе. Ее бросает в пот, и она толком не знает, хватит ли у нее сил держаться прямо, когда она долго едет домой на автобусе. Но какое блаженство охватывает ее, когда педагог то и дело цепляется к ней, делает замечания, читает резкие нотации. Ведь это доказывает, что важная персона, стоящая у зеркала или сидящая на плетеном стуле у фортепиано, считает целесообразным заниматься именно ею, исправлять ее ошибки, насмехаться над нею. Далеко-далеко маячит рай, где великие балерины словно пушинки парят перед публикой, у которой от этих откровений из сферы высшей жизни ширятся сердца.
Иначе говоря, Чистилище являет собою боль, которая имеет смысл, тяжкий труд, приносящий результаты. Чистилище – вера, несмотря ни на что. Чистилище – наша жизнь. Как только Данте приводит нас туда, мы в тот же миг узнаём это место. Вокруг природа, знакомая нам по земле. Пилигрим держит путь среди весенних ландшафтов, в которых легко узнаваемы итальянские прообразы. Рассказчик Данте, совсем недавно явивший нам свои таланты в описании выжженных огнем и скованных льдом пустынь, теперь, призвав на помощь все свои способности, рисует природу в ее живой вешней прелести. И предпочтение отдает картинам, которые увлекают мысли к мгновениям отрадного преображения и покоя в природе. В начале Песни семнадцатой он поясняет новое душевное знание такой картиной: путник, внезапно застигнутый в горах туманом, видит окружающий мир смутно, как подслеповатый крот, потом вновь пробивается солнце, туман тает, и глубоко внизу взору открываются долины. В Песни двадцать седьмой пилигрим, Вергилий и Стаций укладываются спать каждый на своей ступени. Над ними горят яркие звезды. Все трое затихают, как затихает стадо коз в самую жаркую пору дня, когда уходит в тень и после скачек по утесам отдыхает под присмотром пастыря, который, «опершись на посошок, / Стоит вблизи, чтоб им была защита» (ст. 80–81). В Песни двадцать восьмой, когда пилигрим достигает Земного Рая, где в лесах поют тысячи птиц, а воздух полон цветочных ароматов, говорится, что в ветвях пробегает ветер, как «над взморьем Кьясси наполняя бор» (ст. 20). Кьясси – сосновый лес и река вблизи Равенны, где, как известно, долго жил Данте. Побывав в подземном мире, получив напоминание о жизни без единого проблеска света, мы вернулись домой, в свою жизнь, какой она была в лучшие ее мгновения и какой бывает, когда мы еще верим, что стоит воспитывать ребенка, бороться с глупостью в мире и вникать в великую поэзию.
В Аду Данте встречал приговоренных к наказанию, но духовно никак этой карой не затронутых. Они находились в тюрьме, но не были сломлены. Держались, потому что не изменили себе. Гордое племя. Читающий песни «Ада» в трепетном волнении замирает перед великими фигурами, переживая драматический конфликт меж ужасом кары и непоколебимой стойкостью приговоренных. В Чистилище же люди, которых встречает пилигрим Данте, хотя и несут наказание и нередко терпят немалые муки, но с радостью принимают боль, ибо знают: она развивает их, делает достойными Рая.
Философия справедливости, действующая в Дантовом Аду, – принцип возмездия. Зуб за зуб, око за око, жизнь за жизнь. Узникам в огромной тюрьме это совершенно ясно. Бертрам (Бертран) де Борн как факел несет в руке собственную голову, оттого что натравливал друг на друга отца и сына, а значит, разъединял то, что должно составлять одно целое. Он сам говорит Данте, что кара его – заслуженное воздаяние: «И я, как все, возмездья не избег» – lо contrapasso (XXVIII, 142). В Чистилище правосудие более гуманно и современно. Фома Аквинский не только считал, что Чистилище расположено под землей, возле Ада, но и верил, что кары в Аду и в Чистилище одного порядка. В наше время об этом, в частности, писал Бернард Стамблер (Bernard Stambler) в своей работе «Дантов иной мир» («Dante’s Other World»). У Данте в Чистилище, напротив, даже речи нет о том, чтобы назначать кару, равносильную тому или иному греху. Вместо этого Данте ищет способы исправить заблудших, вернуть больным здоровье. Вот почему в его Чистилище нет возмездия. Там дело идет только о том, как искоренить грехи.
И манера повествования у Данте, естественно, меняется. Ад – это скалы и рвы, он архаичен и полон драматизма. Там ни на миг не прерывается связь с древним царством смерти и демонов, и эта кантика «Комедии» более всего зависима от образцов. В Чистилище автор смелеет, обретает новый лирический взгляд. Он выходит в неизведанные воды, дышит глубже и свободнее. Здесь уже не сплошные унылые равнины. Свет ярче озаряет и самого пилигрима, и его борьбу с моральными и религиозными проблемами.
Весенняя итальянская природа обрамляет величественные образы мира дружества, любви, политики, просвещения и поэзии.
Писать как Бог
В исследовании художественных особенностей «Комедии» современное дантоведение пришло к новым, интересным выводам, которые явились результатом углубленного проникновения в средневековую картину мира. Я всего лишь дилетант, попутчик, внимательно выслушавший мастеров, и очень благодарен таким знатокам, как Эрих Ауэрбах (Erich Auerbach), Этьен Жильсон (Etienne Gilson), Чарлз С. Синглтон, Джозеф А. Маццео, Юхан Кидениус (Johan Chydenius), Умберто Козмо, Эрнст Курциус (Ernst Curtius) и др. Порой их позиции расходятся, и мне было нелегко сделать выбор. Главным для себя я считал отыскание продуктивной исходной точки, путей, ведущих в глубь великой поэмы, ракурсов и путеводных нитей, которые облегчат мне понимание и разъяснение. Мое изложение предельно сжато, и я позволяю себе известную стилизацию. В процессе письма я не всегда отдаю себе отчет в том, откуда берутся сведения, которыми я пользуюсь. Не всегда мне понятно и где проходит граница между заимствованным и моим собственным. Все мною сказанное мое лишь в том смысле, что, как я полагаю, находится в моем распоряжении.
Данте писал «Комедию», руководствуясь высочайшим образцом – Господом Богом. Касательно Бога сам Данте и его эпоха, в частности, придерживались следующих воззрений. Бог сотворил мир дыханием совершенной любви. Сотворенное – земля, деревья, животные, люди – и история с ее битвами, убийствами властителей, взлетами и падениями великих цивилизаций существуют просто и однозначно и вполне постижимы чувствами и разумом. Однако ничто в мире не существует исключительно само по себе. Любая вещь и любое событие суть еще и знаки и обладают значением, выходящим за пределы их самих. Творение и история – это книга, написанная рукою Бога. Понимающий читает грандиозные страницы и видит, каков был Божий замысел во всем этом.
Бог написал еще одну книгу – Библию. И написана она тем же способом, что и книга Творения. Первая книга Библии – Бытие – начинается с того, что Бог создает небо и землю, а ее последняя книга – Откровение св. Иоанна – заканчивается Страшным судом, наступающим, когда истекает срок, отмеренный Богом человеку. Меж Творением и Страшным судом происходит величайшее из всех событий – воплощение Бога во Христе, распятие Христа, Его искупительная жертва, преодоление греха и смерти и воскресение. Первая Богова книга – сотворенный мир – еще не дописана до конца, она будет завершена лишь в день Страшного суда. Благодаря Библии мы знаем, каков будет конец.
Опять-таки и Библию надо читать двояко. Все в ней написанное в буквальном смысле правдиво. Каин убил Авеля. Давид плясал, обнажившись, перед ковчегом завета. Иисус воскресил Лазаря. Но есть там и сокровенный, глубинный смысл, причем троякий, потому-то фактически действие в Библии развертывается одновременно на четырех уровнях. Первый уровень, буквальный, напрямую сообщает о случившемся. Его можно назвать историческим планом. Второй уровень трактует о том, что рассказ означает. Здесь речь идет о рассмотрении сообщаемых исторических фактов как аллегорий, таящих в себе истины, которые может обнаружить понимающий. Третий уровень – моральный – наставляет человека, как ему должно жить. Наконец, четвертый уровень – самый удивительный: его называют анагогическим, и он открывает человеку грядущие события и небесные феномены.
Современному человеку эти способы прочтения представляются странными. Поэтому я хотел бы наглядно их пояснить и на помощь призову самого Данте. На склоне лет Данте написал письмо своему благодетелю Кан Гранде делла Скала. Подлинность этого письма ныне уже никто не оспаривает. Данте обстоятельно говорит там о своей «Комедии» – в письме он посвящает кантику «Рай» этому государю – и поясняет, как надлежит ее трактовать.
«<…> необходимо знать, – пишет Данте, – что смысл этого произведения не прост; более того, оно может быть названо многосмысленным, то есть имеющим несколько смыслов, ибо одно дело – смысл, который несет буква, другое – смысл, который несут вещи, обозначенные буквой. Первый называется буквальным, второй – аллегорическим или моральным. Подобный способ выражения, дабы он стал ясен, можно проследить в следующих словах: “Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова – из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею Его, Израиль владением Его”. Таким образом, если мы посмотрим лишь в букву, мы увидим, что речь идет об исходе сынов Израилевых из Египта во времена Моисея; в аллегорическим смысле здесь речь идет о спасении, дарованном нам
Христом; моральный смысл открывает переход души от плача и тягости греха к блаженному состоянию; анагогический – переход святой души от рабства нынешнего разврата к свободе вечной славы. И хотя эти таинственные смыслы называются по-разному, обо всех в целом о них можно говорить как об аллегорических, ибо они отличаются от смысла буквального или исторического. Действительно, слово аллегория происходит от греческого alleon и по-латыни означает «другой» или «отличный».
Если понять это правильно, становится ясным, что предмет, смысл которого может меняться, должен быть двояким. И потому надлежит рассмотреть отдельно буквальное значение данного произведения, а потом – тоже отдельно – его значение аллегорическое. Итак, сюжет всего произведения, если исходить единственно из буквального значения, – состояние душ после смерти как таковое, ибо на основе его и вокруг него развивается действие всего произведения. Если же рассматривать произведение с точки зрения аллегорического смысла – предметом является человек, то, как – в зависимости от себя самого и своих поступков – он удостоивается справедливой награды или подвергается заслуженной каре»[11].
Это Дантово толкование собственного произведения целиком следует господствующему шаблону. Но Данте, пожалуй, использует термин «аллегорический» в более широком смысле, нежели было принято. Например, у Фомы Аквинского аллегорическим называется просто-напросто второй смысловой уровень, что куда лучше совпадает и с нашим словоупотреблением. Два других примера четвероякого способа толкования (оба они заимствованы из работы Юхана Кидениуса «Типологическая проблема у Данте» – «The Typological Problem in Dante»), возможно, помогут прояснить этот вопрос. Бог создал райский сад. Там благоухали настоящие цветы, пели настоящие птицы, и яблоко, которое взяла Ева, было таким же реальным, как те, что продаются у нас на рынке. В аллегорическом смысле Рай до грехопадения являл собою образ Церкви. Согласие в Раю – аллегория, которая для набожного человека знаменовала жизнь Церкви на земле. Моральный же смысл состоял в том, что Рай описывал умиротворенность духа, к которой должно стремиться каждому человеку. Наконец, четвертый смысл, анагогический, сводится к тому, что Рай демонстрирует нам образ вышнего счастья, ожидающего на небесах. Иначе говоря, есть два Рая – земной и небесный, и оба реальны.
В Песни Песней жених воспевает свою невесту. Темой этого произведения традиционно считается свадьба царя Соломона. Юная невеста – вполне реальная женщина. Губы у нее вправду «как лента алая», а благоухание ее одежды «подобно благоуханию Ливана». Но замысел Божий, конечно же, никак нельзя свести только к любовному стихотворению. Вот почему согласно четвероякой схеме Песнь Песней на аллегорическом уровне изображает соединение Христа с Церковью. Христос – жених, всякий истинный христианин – невеста. На моральном уровне Песнь Песней повествует о душе, соединяющейся с Богом. И наконец, на анагогическом уровне в Песни Песней можно вычитать, как душа в Раю навеки сочетается браком с женихом Христом.
Творит ли Бог в истории, используя людей из плоти и крови как материал, творит ли Он словом через Библию – на всех четырех смысловых уровнях намерения Его вполне серьезны. Что бы Он ни создавал, что бы ни писал – всё это вещи реальные на буквальном плане, но одновременно и образы, которые человеку надлежит обдумывать на трех мистических уровнях. Бог любит аналогии и широко ими пользуется. Творит Рай на земле – по образцу царства небесного. Творит Моисея – но на самом-то деле Моисей всего лишь набросок, прототип, прообраз грядущего Христа, который не удовольствуется, как Моисей, ролью вождя, выведшего избранный народ из Египта, а поведет все человечество из земного гнета в небесный Ханаан. Бог создает Иова и насылает беды на этого праведника. Это фигура, образ, предвосхищающий крестные муки Христа. Бог творит невесту средь цветущей весны. Одновременно невеста эта – предвестье счастья, которое ожидает спасенного после смерти. Все сотворенное Богом – знаки, подлежащие истолкованию. Бог проложил в истории и в Библии путеводные нити. Задача человека – отыскать их. Бог – хранитель печати (к такому образу Данте прибегает в «Комедии»), запечатлевающий ее оттиск в человеческом воске, причем не всегда удачно. Однако тот, кто ищет и исследует, даже в неполном оттиске угадывает совершенство.
Рассматривая историческую личность, мы спрашиваем: как прошли ее детские и отроческие годы? Какие идеи ей внушали в юности? На основе ответов мы делаем выводы о характере и поступках. Ищем мотивацию, причины. Человек Средневековья, наверно, задавал те же вопросы. Но куда важнее для него было другое: что символизирует эта историческая личность? В чем ее предназначение? Чьим прообразом она является? Мы полагаем, что, собрав все мотивы, можем истолковать поступки человека. Скажите нам, какова была египетская принцесса, усыновившая Моисея, и тогда мы скажем, в чем тайна великого пророка. Средневековый человек, понимавший, что Моисей был эскизом, прообразом Христа, изучал Христа, чтобы постичь Моисея. Разве же набросок не становится понятнее, когда изучишь готовый шедевр? Подобным образом обстоит и с Раем, и с невестой в Песни Песней – лишь на небесах мы постигаем их подлинную сущность.
Вернемся к Дантову письму Кан Гранде. Иллюстрируя, как надобно толковать «Комедию», Данте обратился отнюдь не к первому попавшемуся примеру. Он процитировал первый стих сто тринадцатого псалма: «Когда вышел Израиль из Египта». Как мы увидим и услышим в следующей главе этой книги, души, прибывающие по мировому океану к горе Чистилища, поют именно этот псалом, а его тема – тема странствия – доминирует в «Комедии». Но вправду ли Данте претендует на то, чтобы его поэму толковали так же, как толкуют Библию? Возможно ли такое? Здесь намечаются две сложности, и обе с виду непреодолимы. Для поэта не составляет труда создать произведение аллегорическое. По сути, Средневековье вообще все произведения трактует аллегорически. Этот подход старше христианства, но господствующее положение он занял в поздней Античности. Дело в том, что он позволял дать нравственные и религиозные истолкования языческим произведениям, которые иначе пришлось бы принести в жертву христианскому фанатизму. Вергилиева «Энеида», присутствующая в «Комедии» на всем ее протяжении и соединенная с нею так же тесно, как водяные знаки с дорогой бумагой, становится в тот период объектом изощреннейших аллегорических трактовок.
Поэт-мирянин, разумеется, уступает Богу и в выразительности, и в выдумке, но также и в том, что не может создать произведение, обладающее абсолютной конкретностью и правдивостью на всех четырех уровнях сразу. В прозаическом философско-эстетическом трактате «Пир», над которым Данте работал в первые годы изгнания, но так и не закончил, он анализирует дилемму поэта и приводит пример из Овидия. Овидий, говорит Данте, создает стихи об Орфее, который своею поэтической песней укрощал диких зверей и заставлял деревья и камни приближаться к нему. Но это не буквальная правда, а аллегория, означающая, что искусство способно смягчить жестокие сердца. А вот если б стихи эти написал Бог, буквальный уровень был бы правдив и камни двигались бы на самом деле. Таким образом, продолжает Данте, поэт являет «истину, скрытую под прекрасной ложью». Аллегорический уровень – правда, а буквальный – ложь. Поскольку же поэт в своей деятельности принужден пользоваться камуфляжем и масками, он не может избежать духовного осквернения.
Легко понять, что в эпоху мощной религиозной и интеллектуальной тирании поэт должен был соблюдать осторожность во всем, что касается морали, политики и веры. Вот почему акцент перемещается с буквального уровня на аллегорический. Поэт оказывается заперт в аллегорической тюрьме. Однажды признав, что всякое поэтическое произведение имеет аллегорический смысл и что правду его надо искать на аллегорическом уровне, он должен был приготовиться в любую минуту, по первому требованию рассказать о характере этой правды. Буквальный смысл повествования блекнет. Персонажи теряют живость, становятся всего лишь аллегориями, прозрачными масками идей и догм.
К Богу не пойдешь и не спросишь, что Он хочет сказать историей или Библией. Бог неисповедим, и когда читаешь Его, зачастую волей-неволей довольствуешься буквальным, историческим смыслом. В Песни Песней совершенно очевидна чувственная радость, но человек набожный твердо верит, что речь там идет не только об усладах, что во всем этом есть и более глубокий смысл, пусть даже его не всегда можно обнаружить. Напротив того, поэт, дерзнувший написать стихи такого откровенного характера, мог быть заподозрен в чрезмерной увлеченности сугубо земной жизнью. Бог – это благость, и сомневаться в Его благости нельзя, даже когда видишь вечные муки грешников в Аду. Ведь если эти муки и реальны, то разъяснятся они, когда нам станут открыты высшие смысловые уровни. Автор-человек, напротив, должен быть готов сообщить, что он имеет в виду. Его можно и нужно призвать к ответу. Иными словами, в стихах об Орфее он говорил о том, что искусство облагораживает, что Орфей был персонификацией поэзии, а камни – это образ грубых натур, в которых пробуждается душа. Если же законы, лежащие в основе искусства, вынуждают поэта лгать, он, разумеется, намного уступает не только Богу, но и философу и теологу, которые способны излагать истины без прикрас, напрямик.
Раз уж поэту трудно, чтоб не сказать невозможно, быть правдивым на буквальном уровне, то и четвертый смысловой уровень представляет для него ничуть не меньшие сложности. Его персонажам следует быть знаками, типами и образными фигурами, которые позднее в более чистой форме явятся в его повествовании и истинная натура которых раскроется лишь по ту сторону смерти. Поэт тоже должен творить по аналогии.
Некоторые современные исследователи – особенно энергично выступает здесь Чарлз Синглтон – полагают, что Данте, говоря в письме к Кан Гранде о том, что «Комедию» следует толковать как Библию, заявляет исключительную, эпохальную претензию. Ведь тем самым он утверждает, что его произведение не похоже ни на какое другое, что не в пример Овидию он не маскирует правду прекрасной ложью и его должно принимать всерьез на всех четырех смысловых уровнях.
А как мы сами относимся к смыслу какого-либо стихотворения, когда читаем его? Нам тоже ясно, что у него несколько смысловых уровней. Свен Дува[12] сражается на мосту. После боя генерал Сандельс спускается к берегу, чтобы спросить о храбреце, сумевшем сдержать вражескую атаку. Склонясь к убитому, он бросает свою знаменитую реплику о пуле, что не тронула чистый лоб, «найдя получше цель – отвагой полное и благородством сердце». В «Водяном» у Стагнелиуса[13] мальчик, сидя в прибрежном ивняке, слышит, как в воде поодаль играет Водяной. В «Икаре» Линдегрена[14] перед нами мифический герой, надевший крылья и поднимающийся к солнцу. Мы понимаем, что каждое из этих стихотворений обладает как аллегорическим, так и символическим смыслом. В «Свене Дуве» речь идет об отринутом и презираемом, которое в надлежащих условиях обретает ценность. «Водяной» говорит о том, как больно быть вне круговорота жизни и смерти, а еще о неизбывной жажде спасения. «Икар» же повествует о возможности экстатического восторга, о мгновении, когда плодные оболочки рвутся и рождается новая реальность. Однако этот смысл для нас в стихах не главный, и говорим мы не об аллегории, а о символе, имея в виду поэтический образ, созданный не одним только разумом и рационально не объяснимый, но рожденный в глубинах души и сформированный силами, какие сам поэт, пожалуй, осознает не всегда, – образ, который анализ никак не может истолковать целиком и полностью. Чтобы понять эти три стихотворения, нужно все время переноситься с одного смыслового плана на другой. Мы так и делаем. И то видим в стихах Линдегрена подлинного мифического Икара, то заражаемся беспримерным восторгом, которым пронизано видение поэта. Мы бы с легкостью приняли и утверждение, что всем этим стихам свойствен и анагогический смысл. Мы хотя и не верим в новую жизнь после смерти, но с готовностью согласимся, что, когда все смысловые уровни, постижимые для нашего разума, исчерпаны, остается кое-что еще, указующее на покуда непостижное.
Но вернемся к Дантовой «Комедии». Можно ли рассматривать ее как правдивую на буквальном уровне? Она повествует о человеке, о самом Данте в возрасте тридцати пяти лет, который странствует по царствам смерти. Это странствие, конечно же, вымысел. Даже если Данте верил, что царства смерти существуют как фактические реальности, он едва ли мог думать, что человек из плоти и крови способен там странствовать. Вымышленный характер поэмы очевиден еще и потому, что Данте позволяет себе вольности касательно устройства этих царств. Я уже упоминал, что Чистилище он располагает по другую сторону земного шара, хотя богословские авторитеты того времени считали, что находится оно в недрах земли, по соседству с Адом. Опять-таки нельзя исключить предположение – более того, его даже необходимо принять в расчет, – что образы, которые встретятся нам в кантике «Рай», основаны на реальных видениях. Данте говорит об этом в письме к Кан Гранде: «Поведав о том, что он побывал в этом месте Рая, автор продолжает (Данте пишет здесь о себе в третьем лице. – У.Л.), что “Вел бы речь напрасно о виденном вернувшийся назад”. И объясняет причину: “Близясь к чаемому страстно”, то есть к Богу, “наш ум к такой нисходит глубине,/
Что память вслед за ним идти не властна”. Чтобы понять это, нужно знать, что в данной жизни человеческий ум, по причине единой природы и общности с умственной субстанцией, находящейся отдельно от него (Данте намекает на ангелов; см. ниже, гл. «Ангелы». – УЛ.), когда он поднимается, поднимается настолько, что память после его возвращения слабеет, ибо он превысил человеческие возможности. Это подсказано мне словами обращения Апостола к Коринфянам: “Знаю о таком человеке, только не знаю – в теле или вне тела: Бог знает, – что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать”. Вот почему, превзойдя возвышением разума человеческие возможности, автор не помнил того, что происходило вне его. Это же подсказано Матфеем, когда он повествует о том, как три ученика пали ниц на землю, не умея потом ничего рассказать, ибо обо всем забыли». Далее Данте ссылается на Иезекииля, на св. Бернара (Бернарда) Клервоского, на Августина и продолжает: «Если же они взвоют, упрекая автора и возражая против способности столь высоко возноситься, пусть прочтут Даниила, из которого узнают, что даже Навуходоносор по воле Божьей видел некоторые вещи, говорящие против грешников, но потом забыл их. Ибо Тот, кто “повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных”, порой милостиво обращающий, порой строго наказующий в зависимости от того, как Ему угодно, являет славу Свою даже тем, кто пребывают во зле».
Но даже если Данте подобно апостолу Павлу, на которого он здесь ссылается и восхищение которого в Рай играло огромную роль на протяжении всего Средневековья, вправду видел Бога, т. е. имел видение, сходное с галлюцинацией, то странствие, о котором повествуется в поэме, все-таки нужно считать вымышленным. А значит, возможности толковать буквальный уровень «Комедии» так, как богословы толковали Библию, отпадают. Или Данте в письме к Кан Гранде трактовал четыре уровня совсем иначе? Может статься, заявленная претензия означает, что он вырвался из оков аллегории и отыскал глубочайший секрет всей поэзии.
Повсюду в «Комедии» сквозит притязание, что в ней оживает умершая поэзия античности. Данте пишет, осознанно соревнуясь с великими Античными поэтами. Какой же такой секрет он обнаружил? А вот какой: поэтическое произведение живет. Оно имеет право существовать, даже когда не удается выявить и описать глубинный смысл. Буквальный его план так же правдив, как буквальный план Библии. В своей работе поэт использует людей, природу, события, а они в конечном счете созданы Богом. И поскольку всё сотворенное в свою очередь есть знак, поэт может быть уверен, что и его материал превосходит собственные пределы. Это поэтическое произведение, каким оно существует на бумаге в данный момент, на буквальном уровне обладает ничуть не меньшей важностью, нежели то, что оно выражает. Именно то, что произведение являет собою, и определяет всё. То, что оно выражает, не второстепенно, однако здесь поэта можно привлечь к ответу не больше, чем Бога. Он – суверен, устанавливающий собственные законы, а не слуга, которого господин может призвать к себе и потребовать отчета. Ему не возбраняется принять Бога за образец и оттого развертывать свое произведение сразу на нескольких уровнях. Но когда это не удается – он же не Бог, а человек, – буквальный уровень остается не менее важен, чем три других, и имеет полное право на свободное развитие. Ведь этот буквальный уровень, может статься, не правдив исторически, по человеческим критериям, но существует еще и правда поэзии, плоть и кровь поэтического произведения.
Этому сопутствует новое самосознание, присутствующее в каждом стихе «Комедии». А также необходимость больше, чем ранее, принимать в расчет и четвертый смысловой уровень. Данте обратился к автобиографии, в частности, потому, что сам он тоже знак, что собственная его жизнь разыгрывается по аналогии с единственной праведной жизнью – Иисусовой.
Бог сотворил мир по грандиозному плану. В центре творения расположена Земля, а вокруг нее вращаются десять небес. В центре обитаемого полушария помещается Иерусалим, где в средоточии истории был распят Бог. Бог есть число три, ибо Он триедин. Он умирает, чтобы возродиться. Преодолевает смерть, добровольно принимая на себя страдание. «Комедия» выстроена по аналогии с грандиозным Божиим планом. В Чистилище там есть зеленая земля, в Аду – черная бездна, в Раю – десять небес. Основа «Комедии» – священная триада, выступающая повсюду, даже в строфике – в терцинах. Над триадой высится еще более священная десятерица, ибо три, помноженное само на себя, дает девять, а поскольку Бог есть единица, то, прибавив оную к девяти, мы получаем десять.
Наисвященным из священных чисел будет в таком случае десятью десять, т. е. сто. Вот почему в «Комедии» сто песней и она уже в основе своей отражает математическое равновесие, каковое является особенностью Бога.
Бог нисходил во Ад, в повествовании Данте то же делает пилигрим. Подобно Иисусу он начинает путь в царства умерших в Страстную пятницу и возвращается на поверхность земли пасхальным утром. Иисус спасает род человеческий. В Дантовом вымышленном мире спаситель – Беатриче. Все происходящее в «Комедии» происходит по аналогии с божественным Творением. Самое главное в двух книгах Божиих то, что Он сделал слово плотию. Сотворил мир из Своей любви и воплотился в Иисусе. Так и в «Комедии» самым важным должна быть инкарнация – видение, дарованное Данте Богом и облекающееся плотью и кровью.
Если читаешь «Комедию» согласно собственным указаниям Данте, но при этом помнишь, что не всегда могут иметь силу сразу все четыре смысловых уровня, то получаешь возможность свободно двигаться в огромном мире поэмы. Не надо любой ценою искать аллегорическое толкование, ведь не исключено, что именно в рассматриваемом отрывке поэт был сосредоточен на моральной, анагогической или аналогической мысли. Впервые мы видим пилигрима в сумрачном лесу, и аллегорический смысл здесь сомнений не вызывает. Хищные звери – рысь, лев и волчица, – сгоняющие его с тропы, это «прекрасная ложь», под которой мы видим тяжкие грехи, сбивающие человека с пути. Появляется Вергилий и пророчествует о Псе, который покончит с Волчицей, символом ненасытной алчности и корыстолюбия, более всего ненавистных Данте. Нам ясно, что Пес, который вкусит «Не прах земной и не металл двуплавный, / А честь, любовь и мудрость» (1, I, 103–104), есть знак, или образ, грядущего Спасителя. Когда же начинается странствие, когда пилигрим входит во врата Ада, рассказчик Данте – человек, являющий собою орудие его инспирации. Все, что он пробуждает в своей фантазии, обретает реальный образ, материализуется и уже не во всякий миг подвластно его рассудку. Аллегория наполняется кровью и идет собственным путем. Потому-то крики, доносящиеся до пилигрима, не символичны, а вполне реальны. Потому-то Франческа – реальный человек, а не аллегория запретной любви. Потому-то деревья в лесу самоубийц, вне всякого сомнения, души, превращенные в деревья, ибо они не ценили свои дарованные Богом тела. Но когда пилигрим, протянув руку, обламывает ветку, когда дерево начинает кровоточить, когда слова проступают из ветвей подобно сырому выпоту, трещащему на брошенном в огонь полене, т. е. слова и кровь одновременно проступают на изломе (1, XIII, 28–44), мы испытываем шок непосредственного переживания, которое целиком поглощает символический смысл. У этой сцены есть образец в «Энеиде», но при сравнении победа неизбежно остается за Данте.
Вергилию, вожатому пилигрима, дантоведение отводило самые разные роли. В нем видели воплощение человеческого разума, и античной поэзии, и Римской империи, и т. п. Возможно и вероятно, Данте имел в виду что-то такое. Однако, рассматривая Вергилия в поэме, мы видим, что он именно тот, за кого себя выдает, – римский поэт, давно умерший и теперь ставший пилигриму другом и отцом. Когда он бледнеет, бледность его вполне реальна. Когда гневается, гнев его в высшей степени очевиден. Он как нельзя более человечен, и для нас совершенно естественно, что его сочувствие особенно заметно, когда в Песни четвертой «Ада» он приближается к Лимбу, где пребывают его собратья-поэты и куда ему самому предстоит вернуться. Если рассматривать Вергилия как загадку, как вешалку для аллегорического одеяния, каковое нам нужно истолковать, он становится совершенно неинтересен. Хоть он и задуман как образец человеческого разума, мы примечаем, как он вдруг забывает о своей роли и смотрит из-под маски печальным и умным взглядом.
Спускаясь к одному из кругов Ада – см. конец Песни шестнадцатой и начало семнадцатой, – пилигрим и Вергилий встречают чудовище по имени Герион. У него ясное и величавое лицо человека, но тело змея. Перед ними персонификация обмана. Мгновение спустя они садятся Гериону на спину, чтобы он переправил их дальше в глубь Ада. Несмотря на то что Вергилий рядом, пилигрим впадает в такой ужас, что ногти у него синеют и он дрожит всем телом, как в лихорадке. Ему хочется попросить Вергилия обхватить его руками, но язык не слушается. Однако Вергилий по обыкновению приходит на помощь и сам обнимает его. В этот миг Герион и для читателя, и для пилигрима отнюдь не аллегория, а живой воздушный корабль, и рассказчик Данте сосредоточивает все свое художническое внимание на изображении опасного полета, который по крутой спирали уносит их в бездну. Когда воздухоплаватели достигают дна провала, куда Герион – он двигается в воздухе, точно угорь, используя лапы как стабилизаторы, а ядовитый скорпионий хвост как руль, – стремительно низвергся, будто сокол, утомленный охотой, и когда они слезают с отвратительного чудовища, укрощенного властной волей и чарами Вергилия, оно сей же миг мчится прочь, как стрела, выпущенная из лука. Аллегория, простая, словно загадка в букваре, обернулась таинственным живым существом.
В огненной пустыне пилигрим встречает поэта-гомосексуалиста Брунетто Латини, и нам бы не составило труда истолковать эту сцену аллегорически. Но она читается на одном дыхании, трогает в самом прямом смысле – показывает человека, который и в несчастье сохраняет свое человеческое величие и достоинство, а большего нам не требуется.
Читая «Божественную Комедию», надо научиться менять уровни выражения, понять, что здесь нет одного-единственного ключа, который подходит ко всем замкам, как нет и Ариадниной путеводной нити. Дороти Сейере, с легкостью сыплющая бойкими формулировками, говорила, что путешествовать по «Комедии» можно так же, как через Атлантику, пользуясь разными средствами сообщения – подводной лодкой, пароходом, самолетом. Что ни выбери, цель будет достигнута. Однако этот образ не вполне удачен, ведь посреди океана «Комедии» зачастую необходимо сменить средство передвижения, что вовсе не рекомендуется, если пересекаешь настоящий океан. В «Комедии» вот сию секунду видишь, как куколка буквального смысла пытается стать мотыльком и расправить свои крылышки, а уже в следующий миг идея, абстракция облекается плотью поэзии и, утрачивая однозначность, оборачивается чем-то иным. Мы то разгадываем аллегорическую загадку, то вникаем в аналогию, где главная общность отодвигает в сторону менее существенные различия. Толкователь должен все время скакать, отпустив поводья, и продвигаться вперед с величайшей осторожностью.
Решив писать свою поэму так, как Бог писал Библию, рассказчик Данте отыскивает самую плодотворную из всех отправных точек. Он двигается меж смысловыми уровнями, однако неукоснительно следит, чтобы ни один из них не попадал в зависимость от другого. В центре произведения он помещает себя самого, каким был в тридцать пять лет. Он присутствует в «Комедии» как реальный человек, но, поскольку он тоже создан Богом, в жизни его заложен Божий план. Потому-то он и проходит сквозь муки Ада к счастью Рая. Потому-то возлюбленная спасает его, как некогда Иисус спас человечество. Потому-то он одновременно и флорентиец Данте, и любой человек, и Бог, воплотившийся в облике человека.
Если рассказчику Данте во всем сопутствовал успех, обусловлено это, в частности, тем, что мифы Библии и христианства кристаллизовались вокруг конфликтов и событий, неразрывно соединенных с жизнью человека. Некоторые современные интерпретаторы считают, что поэтическое произведение не достигает величия, если в основу его не заложен стержневой план – опять-таки триада, – который явлен в жизни каждого человека: любовь к матери и ненависть к отцу. Можно спокойно утверждать, что план «Комедии» столь же неоспорим и отчасти сила ее в том, что мы узнаём самих себя.
Странники стоят на берегу. Они в Чистилище, которое есть метафора нашей собственной жизни и построено по аналогии с жизнью на земле. Звезды тускнеют, восходит солнце. Путники, оставившие за спиной мрак и проклятия Ада, похожи на людей, уцелевших в кораблекрушении. Вернее сказать, на воскресших из мертвых. Пасхальное утро, ранняя весна. Стало быть, перед нами воскресение в четверояком смысле. Пилигрим выбрался из Ада. Владычество зимы сломлено. Умерший Бог пробуждается и отваливает камень от гроба. Поэма, «Божественная Комедия», после долгого пребывания в царстве смерти вступает в царство жизни. Каждый волен выбрать какой угодно уровень, а странствие меж тем продолжается.
Чудесное дружество
На рассвете пасхального дня пилигрим Данте и Вергилий шагают по зеленому лугу, который полого сбегает к берегу, где плещутся волны. Через месяц пилигриму исполнится тридцать пять лет. Если Джотто, современник и друг Данте, правдиво запечатлел его черты на своей фреске, единственном дошедшем до нас портрете поэта, то у него было угловатое лицо, тонкий горбатый нос и глубоко посаженные глаза. «Был наш поэт, – пишет Боккаччо через несколько лет после его смерти, – роста ниже среднего, <…>. Лицо у него было продолговатое и смуглое, нос орлиный, глаза довольно большие, челюсти крупные, нижняя губа выдавалась вперед, густые черные волосы курчавились, равно как борода, вид был неизменно задумчивый и печальный»[15]. А ходил он к концу жизни – об этом тоже сообщает Боккаччо – ссутулясь. Возможно, на это и намекает Данте, когда в Песни девятнадцатой «Чистилища» рисует себя изогнутым «как половина мостовой дуги» (ст. 42). Можно, однако, предположить, что вообще осанка у него тогда была прямая. Сутул Данте-рассказчик, и сединою тронуты его волосы, некогда черные. В поэме он видит себя таким, каков он был. Набрасывает портрет художника в юности.
Пилигрим Данте – главное действующее лицо в эпосе, который сознательно соперничает с античными образцами. Но у него мало общего с Ахиллом, Улиссом и Энеем. Не похож он и на героев средневековой поэзии – Роланда или Ланселота. Подобно Улиссу и Энею, он дерзновенно пускается в грандиозное путешествие и тоже проникает в подземный мир. Но никогда не надеется на меч и на смекалку. Он путешествует внутрь себя – от оружия и хитрости толку не будет. Не заботят его ни собственное достоинство, ни мужская честь. Он позволяет хищным зверям прогнать его с тропы. В Аду прячется от опасности за скалами. Жалуется, сетует, падает в обморок, плачет. Рассказчик старается показать, каким раздерганным, измученным и беспомощным он был когда-то, как легко падал духом. Пилигрим напоминает героя современного автобиографического романа. Он первый главный герой в великом эпосе, не следующий правилам высокого стиля. Он порывает с требованием героического поведения. Он – Руссо за четыреста лет до «Исповеди» и прустовский Марсель. Между ним и нами нет дистанции. Пилигрим – один из первых великих портретов человека.
Данте и Вергилий, чье дружество после долгого странствия по кругам Ада окрепло, с честью выдержав все испытания, встречают стража горы Чистилища, римлянина Катона Младшего, старца с исчерна-седою бородой, солидного и благообразного. Они беседуют под четырьмя звездами Южного Креста, символизирующими четыре главные добродетели – ум, справедливость, храбрость и умеренность, – и Вергилий, который в своих произведениях многократно чествовал Катона и, стало быть, в ответе за то, что именно этого стойкого человека Данте выбрал стражем Чистилища, делает намеки на биографию Катона и его жажду свободы. Он просит у Катона покровительства, и тот, услышав, что некая жена в Раю проявляет интерес к Данте, сразу соглашается. Он призывает Вергилия омыть лицо Данте и опоясать пилигрима «тростьем» (тростником) в знак готовности к смирению. Чувства человека должны быть подобны тростнику, сгибающемуся перед волнами, – излюбленный в Средние века образ, которым у нас в Швеции охотно пользуются, говоря о св. Биргитте.
Рассказчик Данте рисует здесь земное весеннее утро, и ветер, свет и краски тем ярче бьют нам навстречу, что мы еще не освободили свои чувства от адского паралича. Цитирую:
Уже заря одолевала в споре Нестойкий мрак, и, устремляя взгляд, Я различал трепещущее море. Мы шли, куда нас вел безлюдный скат, Как тот, кто вновь дорогу обретает И, лишь по ней шагая, будет рад. Дойдя дотуда, где роса вступает В боренье с солнцем, потому что там, На ветерке, нескоро исчезает, — Раскрыв ладони, к влажным муравам Нагнулся мой учитель знаменитый, И я, поняв, к нему приблизил сам Слезами орошенные ланиты; И он вернул мне цвет, – уже навек, Могло казаться, темным Адом скрытый. Затем мы вышли на пустынный брег, Не видевший, чтобы отсюда начал Обратный путь по волнам человек. Здесь пояс он мне свил, как тот назначил. О, удивленье! Чуть он выбирал Смиренный стебель, как уже маячил Сейчас же новый там, где он сорвал. (I, 115–136)Сцена на берегу невольно воскрешает в памяти мир детства. Так умывают упавших малышей. Именно дети подставляют лицо так, как подставляет здесь свое лицо пилигрим. Он называет Вергилия отцом, вождем, учителем, пестуном, мудрецом, а Вергилий в ответ зовет его сыном. Вергилий ведет пилигрима, защищает, подбадривает и остерегает. Принимает на себя не только обязанности учителя, но и обязанности матери, няньки, возлюбленной. Когда они подходят к адскому городу, он закрывает глаза Данте, чтобы взгляд Медузы не окаменил его. Он обнимает Данте, когда они летят, сидя на плечах чудовища Гериона. Не раз несет его на руках. В одном из кругов Ада держит его так, как матери держат детей, которых им уже тяжело брать на руки, – на бедре.
На реалистическом уровне ситуация была бы понятна, будь Вергилий восемнадцатилетним юношей, а Данте – его семи-, восьмилетним братом. Но ведь они оба взрослые мужчины – стоит подумать об этом, и впадаешь в полное недоумение. Как нести на бедре человека, который ничуть не меньше тебя самого? Возможно, Данте нарочито воскрешает здесь свой детский образ. По словам Августина, христианин, чтобы попасть на небо, должен быть маленьким, как ребенок, а не невинным, как ребенок. Старший друг, поэт с бессмертной славой, отечески ласково склоняется над учеником, утирая с его лица следы грязи и слез. Все это занимает лишь краткий миг. Мы заглядываем в детскую. И тотчас Вергилий и Данте вновь стоят рядом как двое взрослых мужчин. Именно сцены таких молниеносных преображений составляют один из секретов Дантова изобразительного искусства. Его мысль птицей вырывается из клетки и попадает в новую стихию.
Вергилий создал эпическую поэму, живущую в веках. Данте познакомился с «Энеидой» еще ребенком. Вполне вероятно, что по этой книге он выучился читать. Встретив Вергилия в лесу, пилигрим сказал, что от него усвоил «прекрасный слог, везде превозносимый». Для Данте латынь была таким же родным языком, как и итальянский. Ведь он сразу и римлянин, и латинянин, и итальянец, и флорентиец. Куда важнее, однако, что в своей великой поэме Вергилий взял на себя всю полноту ответственности. В «Энеиде» речь идет об отношении отдельного человека и всего человечества к своей судьбе, она изображает человека одновременно как члена общества и как вневременное существо перед лицом любви, справедливости и смерти. Присутствие Вергилия в «Комедии» ежеминутно напоминает Данте, что вот эти-то притязания и должно претворять в жизнь настоящему поэту.
Вергилий – поэт Римской империи, и жил он при Августе, в те времена, когда родился Иисус. Пророчествуя в «Энеиде» о грядущем царстве мира, он, как и Данте тринадцать веков спустя, имел в виду универсальный мир и справедливого властителя всех народов. Неведомо для себя самого он предвозвестил христианское царство мира.
В Песни двадцатой «Чистилища» – путники уже высоко на горе, на уступе скупцов и расточителей, – по всему горному склону разносится крик множества голосов: «Gloria in excelsis Deo» («Слава в вышних Богу»). Гора трепещет, как при землетрясении. Путники пугаются и ускоряют шаги. Тут рядом с ними является некий человек, они учтиво приветствуют друг друга. Вергилий спрашивает, отчего вот только что встряслась гора. Незнакомец отвечает, что всякий раз, как одной из душ пора подняться в небо, земля сотрясается и все души заводят хвалебную песнь. На сей раз гора, продолжает он, встрепенулась из-за него самого, а жил он при императоре Тите – стало быть, в I веке от Р.Х., – был поэтом[16] и воспел стихами Фивы и Ахилла, а образцом в искусстве стихосложения ему служил Вергилий. Будь ему дано жить в одно время с Вергилием, он бы с радостью заплатил за это еще одним годом в Чистилище.
При этих словах Вергилий и пилигрим обмениваются взглядом, и глаза Вергилия говорят, что пилигриму не стоит открывать, кто он такой. Пилигрим невольно усмехается. Три поэта вместе продолжают путь, и Стаций спрашивает у Данте: «Но что в себе хоронит / Твой смех, успевший только что мелькнуть?» (XXI, 113–114). Данте смущен. Учитель велит ему молчать, а Стаций просит говорить. С позволения учителя он после некоторых колебаний отвечает:
<…> «Моей улыбке ты, быть может, Дивишься, древний дух. Так будь готов, Что удивленье речь моя умножит. Тот, кто ведет мой взор чредой кругов, И есть Вергилий, мощи той основа, С какой ты пел про смертных и Богов». (XXI, 121–126)Стаций падает перед учителем на колени и простирает руки, чтобы обнять его. Вергилий, подняв Стация, говорит:
«Оставь! Ты тень и видишь тень, мой брат». «Смотри, как знойно, – молвил тот, вставая, — Моя любовь меня к тебе влекла, Когда, ничтожность нашу забывая, Я тени принимаю за тела». (XXI, 132–136)В Средние века Стаций пользовался широкой известностью. Теперь он забыт. Преклоняя колена перед Вергилием, он символизирует самого Данте, ежеминутно с благодарностью сознающего, чем он обязан Вергилию. Согласно средневековой традиции, Стаций был христианином, но по причине гонений, которым подвергались христиане в его время, скрывал свою веру. Вергилий служил ему примером не только в морали и эстетике, но и в религии. Потому-то Стаций и рассказывает Вергилию:
Ты был как тот, кто за собой лампаду Несет в ночи и не себе дает, Но вслед идущим помощь и отраду, Когда сказал: «Век обновленья ждет: Мир первых дней и правда – у порога, И новый отрок близится с высот!» Ты дал мне петь, ты дал мне верить в Бога! (XXII, 67–73)Стаций цитирует знаменитые строки из Четвертой эклоги Вергилия, которые в Средние века трактовались как пророчество о Христе, хотя изначально были поздравлением другу по случаю рождения сына.
Встреча трех поэтов на горе весьма важна для понимания «Комедии». Вергилий писал о грядущем золотом веке, сам не разумея его природы. Нарисовал образ, который получил прекрасное разъяснение лишь после его смерти. Он нес лампаду за собой, светил не себе, но другим, идущим следом, и тем показал, что поэт есть орудие Бога, что стихи содержат много больше, нежели думает сам поэт. И в этом он опять-таки был учителем и предтечею Данте. «Комедия» тоже заключала в себе истины, которые будут постигнуты лишь в грядущем.
Однако после этого экскурса на один из верхних уступов давайте вернемся к подножию горы. Когда пилигрим стоит на берегу и получает тростниковую опояску, мысли его заняты судьбою Улисса. Ведь Улисс видел гору Чистилища, но не доплыл до нее – его поглотила бездна. Рассказ об Улиссе заканчивается словами, что так «назначил Кто-то» – come altrui piacque. Те же слова звучат вновь, когда Данте рассказывает, как Вергилий свивает пояс для пилигрима: он действует, «как Тот назначил» – соте altrui piacque. Стало быть, Улисса низвергла гордыня, тогда как пилигрим спасается под знаком тростника, под знаком смирения?
Друзья видят свет, быстрее птицы стремящийся по волнам. Это челн с душами, направляющимися к горе Чистилища. На корме его стоит ангел, чьи поднятые крылья служат парусом. Блаженные в челне поют сто тринадцатый псалом: «In exitu Israel» – «Когда вышел Израиль…» Едва судно подходит к берегу, они спешат на сушу. Нерешительно стоят в траве, озираясь по сторонам в неведомом месте. Словно эмигранты в чужом краю. Робостью и удивлением отмечены все их поступки. Заметив Вергилия и Данте, они смиренно склоняют голову и спрашивают дорогу. Такое состояние растерянности и нерешительности, свойственное новоприбывшим, налагает отпечаток на первые восемь песней «Чистилища». Души пребывают в изумлении. Они похожи на детей, которые, стоя у окна, мнят, будто к ним приближаются какие-то грозные, жуткие существа, а секунду спустя обнаруживают, что перед ними вещи хорошо знакомые и неопасные. В Песни третьей Данте прибегает к образу овец, которые выходят из загона и робеют идти дальше. Одна за другой они выбегают из ворот, останавливаются, опускают головы. Позади теснятся остальные, но первые все стоят, сами не зная почему (III, 79–84).
Среди вновь прибывших душ находится флорентийский композитор Каселла, один из друзей Данте. Обрадованные нежданной встречей в чужом краю, друзья обнимаются, но Данте – как Улисс в Гадесе, обнявший свою мать, – обнаруживает, что руки его смыкаются на собственной груди. Друг мертв, он всего лишь тень, с улыбкой отдалившаяся.
Каселла спрашивает, что Данте, еще не расставшийся с земной жизнью, делает здесь, и Данте отвечает, что странствует, дабы когда-нибудь получить возможность вернуться сюда, – прекрасный ответ, ибо пилигрим путешествует по царствам смерти ради своего спасения и по той же причине рассказчик продолжает свою повесть. Данте просит Каселлу спеть для него, как бывало при жизни. И Каселла тотчас начинает петь собственные Дантовы стихи «Любовь, в душе беседуя со мной», положенные им на музыку. Песнь его столь мелодична и отрадна, что все – Вергилий, души, прибывшие вместе с Каселлой, и сам Данте – внимают как завороженные, будто ничего иного для себя не желают. Тут является Катон, который в Чистилище исполняет свой долг не менее ревностно, чем на службе Римской республике. Он укоряет толпу, внимающую песни, называет их «мешкотные души» (spiriti lenti; II, 120) и напоминает, что в Чистилище они прибыли для очищения, чтоб стать достойными лицезреть Бога.
Как голуби, клюя зерно иль сор, Толпятся, молчаливые, без счета, Прервав свой горделивый разговор, Но, если вдруг их испугает что-то, Тотчас бросают корм и прочь спешат, Затем что поважней у них забота, — Так, видел я, неопытный отряд, Бросая песнь, спешил к пяте обрыва, Как человек, идущий наугад; Была и наша поступь тороплива. (II, 124–133)Вот так гласит поэма. Вергилий тоже смущен, ведь он изменил своему долгу вести Данте к высшему совершенству.
Мир знает Данте как человека, который любил и воспевал Беатриче. Но он еще и певец дружества, и друзья сопровождают его на протяжении всей «Комедии». В Песни двадцать шестой «Чистилища» пилигрим встречает Гвидо Гвиницелли и провансальского поэта Арнальда (Арнаута) и беседует с ними. Он делает Гвидо изысканные комплименты, говорит, что почитает даже чернила, какими записаны его стихи. Здесь явственно чувствуются важность дружеского общения и любовь к языку, находящая столь живое выражение в прозаическом трактате Данте «De vulgari eloquentia» («О народном красноречии»). Но какой комплимент сравнится с тем, который Данте-рассказчик адресует провансальцу Арнальду. Арнальд подходит к пилигриму, рассказывает о сумасбродствах своей юности и упованиях на небеса. Рассказчик Данте отдает дань провансальцу, позволяя ему говорить на родном языке.
«Tan m’abellis vostre cortes deman, qu’ieu no me puesc ni voill a vos cobrire. leu sui Arnaut, que plor e vau cantan; consiros vei la passada folor, e vei jausen lo joi qu’esper, denan. Ara vos prec, per aquella valor que vos guida al som l’escalina, sovenha vos a temps de ma dolor!»Или же в переводе:
«Столь дорог мне учтивый ваш привет, Что сердце вам я рад открыть всех шире. Здесь плачет и поет, огнем одет, Арнальд, который видит в прошлом тьму, Но впереди, ликуя, видит свет. Он просит вас, затем что одному Вам невозбранна горная вершина, Не забывать, как тягостно ему!»В таком ракурсе «Комедия» – ристалище, где почести завоевывают духовными деяниями, красноречием и прекрасными стихами. Никто не подвергает сомнению слова Боккаччо, что в этом дружеском кругу Данте жаждал почестей «более страстно, быть может, чем подобает человеку столь исключительных добродетелей»[17].
В этом кругу он ежеминутно соревнуется с великими усопшими. Там всегда присутствует тень Вергилия, как у нынешних молодых поэтов – тень Рембо. Там ткань культуры на глазах прорастает нитями и узорами минувшего. Там внятны сразу все голоса, живые и мертвые. Там рвутся к награде, а в следующий миг говорят победившему другу и сопернику: Что значат почести? Они так мимолетны! Спустя тысячу лет будет совершенно неважно, умер ли ты младенцем, выронив из рук погремушку, или почтенным старцем. А кто распределяет почести? Победители. Побежденного забывают. Н-да. В тот же миг, чувствуя укол в сердце, вспоминаешь, что Вергилию больше тысячи лет и он – живет.
Знаки этого умонастроения обнаруживаются в Песни одиннадцатой «Чистилища», когда пилигрим беседует со знаменитым миниатюристом Одеризи, который очищается от гордыни – греха, в каковом сознается и сам Данте, не без примеси этой самой гордыни. Почести, какие человек снискивает в мире, недолговечны, как зеленый цвет травы. Он приводит ряд примеров того, как одно поколение художников теснит другое с почетных мест. Вот только что в зените славы был Чимабуэ, теперь же лучший – Джотто. Вот только что первым был Гвидо Гвиницелли, теперь же его затмил Гвидо Кавальканти. И возможно, уже родился поэт, который выгонит в толчки их обоих:
Мирской молвы многоголосый звон — Как вихрь, то слева мчащийся, то справа; Меняя путь, меняет имя он. В тысячелетье так же сгинет слава И тех, кто тело ветхое совлек, И тех, кто смолк, сказав «ням-ням» и «вава». А перед вечным – это меньший срок, Чем если ты сравнишь мгновенье ока И то, как звездный кружится чертог. (XI, 100–108)Эпизод с Каселлой трактовали по-разному. Говорили, что Данте здесь прощается с поэзией трубадуров, что предпочитает усладе Катонову справедливость, а красоте – спасение души. Вот голуби клюют что-то на земле, но приближается опасность – и стая тотчас взлетает. Точно так же завороженные песней души спешат прочь от музыки, и единение дарит им радость пуститься в путь, начать восхождение. Эти два образа налагаются друг на друга, перекрывают друг друга и отражают манеру поведения, хорошо знакомую душе. Голуби исчезают, души на берегу, собранные вокруг Каселлы, исчезают тоже. Остается ощущение, что в любом переживании сокрыты семена чего-то иного, что уход для души совершенно естествен, что в мире чувств и искусства всё указует за собственные пределы. Нет ничего плохого в том, что голуби клюют семена, как нет ничего плохого и в том, что молодые люди слушают любовные стихи. Плохо другое: предаваться чему-то – чему угодно – с таким увлечением, которое заставляет забыть о много более важном.
Зачастую Данте ведет речь о душевных состояниях, а не о догмах и принципах. Эпизод с Каселлой – встреча друзей. Умершего и живого. Умерший по-прежнему живет в своем искусстве. Молодой Данте – вот кто находится в кругу друзей, по-южному экспансивный, не в пример нам, северянам, щедрый на ласки, объятия, поцелуи. Катон вторгается в их круг, разрывает маленький мирок ради большого мира.
Так ежеминутно ширится мир в Чистилище, как ширится он и в представлении молодого человека. Именно в детстве и юности, отыскав одну радость, находишь за нею еще большую, видишь в озере океан, в рождественской звезде за окном детской – вечные небесные звезды, в любимой, к которой не смеешь приблизиться, – любовь, способную уничтожить, в ответственности за близких – ответственность за все человечество.
Это самое развитие, этот рывок из оков времени и пространства и есть особенность Чистилища. Может статься, в первых песнях этой кантики и ощущался бы перебор с невинностью, дружескими мечтаниями и покорностью, если бы все происходящее в этих песнях не являлось перед нами, так сказать, на фоне Ада. Ведь нас только-только спасли. Совсем недавно свет был жутким, бил в глаза точно копья. Теперь же над нами сияет мягкий, теплый свет солнца. Совсем недавно слух резали пронзительные звуки. Теперь дует ветерок, плещут волны, поет Каселла.
Живущие здесь были спасены после неслыханных опасностей, и они напоминают читателю, что он тоже чудом спасен – от безумия, окаменения, смерти. Как и в Аду, нам и в Чистилище незачем давать оценку суду, который одних сделал избранниками, а других обрек на мучения. То, что мы сами спасены от удела червей во прахе или от жизни в безумии, в сумасшедшем доме, опять-таки вовсе не наша заслуга. Мы принимаем спасение, и нам незачем решать, нужно ли стыдиться этого или, наоборот, благодарить. Мы просто говорим: это тоже реальность. Чистилище существует. И есть надежда – не на Рай и избавление, не на преодоление смерти, но на определенный порядок в мире мыслей и чувств. В поисках следующего уровня, большего мира, более широкого обзора, чего-то поважнее голубиного клеванья зерен и заключен некий смысл.
Изгнание
I
Данте любит Флоренцию с такой страстью, словно это не город, а женщина. Эта женщина оттолкнула его, и он бранит ее и клянет, а в глазах меж тем горит любовь. Ни один известный мне поэт не связал свое имя с городом так тесно, как он. На форзаце «Комедии» многие века стоит надпись: «Начинается комедия Данте Алигьери, флорентийца родом, но не нравами».
Во времена Данте Флоренция переживала период интенсивного роста. К моменту рождения Данте во Флоренции проживало около сорока тысяч человек. Через тридцать пять лет, к началу XIV века, население почти удвоилось. Флоренция – средневековый город, обнесенный стенами и рвом, облик его, как я отмечал в одной из глав об «Аде», создают прежде всего высокие башни – жилища знатных семейств, а одновременно крепости, где они укрываются во время междоусобиц, которые, надо сказать, бушуют постоянно. При этом Флоренция – вольная республика с широкими контактами по всему миру. «Первый в мире современный город» – так назвал ее Якоб Буркхардт[18]. Повсюду славятся ее текстильные мануфактуры. Ее банкиры – мощнейшая экономическая сила той эпохи; императоры, короли, города, князья и сам римский папа обращаются к ним за финансовой поддержкой. Несмотря на запрет взимать проценты с кредитов, просители их выплачивают, причем в грабительских размерах. Вопреки притязаниям императора Священной Римской империи на монополию чеканки монет, город с 1252 года чеканит собственную золотую монету – флорин, с изображением Иоанна Крестителя, святого патрона Флоренции, на одной стороне и лилией на другой, той самой лилией, которую, как гласит знаменитый стих «Комедии», партийная ненависть не раз окрашивала в красный цвет. Флорин имел хождение во всех концах цивилизованного мира и был предметом подражаний и подделок. Подобно тому как Шекспир словно бы отчасти черпает силу в возросшей мощи Англии при Елизавете I и в «Генрихе IV» и «Юлии Цезаре» отчетливо слышно, как волны мирового океана плещут о борта кораблей Дрейка[19], гигантский замысел Данте связан с подъемом Флоренции и богатством и могуществом ее граждан.
Семейство Данте проживало во Флоренции на протяжении многих поколений. Одного из своих предков, Каччагвиду, Данте-пилигрим встречает в Раю (XV, 88), и тот рассказывает ему, что был посвящен в рыцари императором Конрадом III Гогенштауфеном (он правил в 1138–1152 годах) и погиб в одном из крестовых походов в Святую Землю. Погибнуть рыцарем в крестовом походе, очевидно, считалось столь же высоким отличием, как в наши дни пилотировать английский истребитель в сражении за Великобританию в 1940–1941 годах или быть русским танкистом в Сталинградской битве.
Многие дантоведы признают реальность этого героического предка Данте, хотя, помимо сказанного в «Комедии», достоверных сведений о Каччагвиде нет. С большим сомнением относились к сообщениям ранних биографов (Боккаччо и Леонардо Бруни из Ареццо[20]), что предки Данте принадлежали к числу римлян, некогда основавших город Флоренцию. В те времена было принято приписывать выдающимся личностям такое происхождение. Та же фальсификация происхождения обеспечивала каждый итальянский город римским или – забирай выше! – троянским прошлым.
Гордость происхождением была приметой эпохи, однако у натур благородных выступала не как магия родословной и семейная спесь, а уживалась со способностью индивида в помыслах и делах сравняться с предками. Данте неоднократно бичевал родовую спесь. В «Пире» он пишет: «<…> мы часто говорим о благородном и негодном коне, о благородном и простом соколе, о благородной и плохой жемчужинах. Если <…> у людей оно (благородство. – У.71.) означает отсутствие памяти о своем низком происхождении, то на такую гнусность следовало бы ответить не словами, а ударом кинжала»[21]. Впрочем, это не мешает самому Данте кичиться благородством происхождения, ведь даже в «Комедии» проскальзывают сдержанные намеки на римских пращуров. Всему у Данте присущи значимость и величие, но это не означает, что у него недостает страстей, какие обыкновенно считаются отнюдь не самыми почтенными. Джованни Папини (Giovanni Papini) справедливо отмечает, что, хотя Данте и христианин, он редко руководствуется евангельскими добродетелями. Евангелие проповедует бедность, однако Данте в своей жизни бедность презирает. Евангелие велит прощать врагам, Данте же трудно отказаться от возможности отомстить. Евангелие требует смирения, однако такого надменного поэта, как Данте, еще поискать. Он наполняет свои произведения самовосхвалениями, а в «Комедии», оказавшись в Лимбе, дозволяет принять себя в круг первейших поэтов мира. Тростник смирения опоясывает пилигрима, но создатель его жаждет неувядаемых лавров Аполлона.
Объективных документов, освещающих жизнь Данте, в нашем распоряжении совсем немного. Большую часть сведений о поэте приходится черпать из его собственных писаний, созданных за годы, полные внешних событий и драматических конфликтов. Правда, не сохранилось ни строчки, написанной рукою самого Данте. За семь минувших веков – в 1965 году отмечался семисотлетний юбилей поэта, хотя, в общем-то, и этот юбилей сомнителен, ведь фактически только предполагается, что Данте родился в 1265 году, – даже подписи Данте не обнаружено. «Комедия» начинается сообщением, что странствие пилигрим предпринимает в середине своей жизни, а так как известно, что в Средние века продолжительность жизни составляла семьдесят лет, то к половине жизни человек подходил в тридцатипятилетнем возрасте. Поскольку же странствие – в пользу этого говорят веские, но не абсолютно неопровержимые аргументы – предпринимается в 1300 году, то, скорей всего, родился Данте тридцатью пятью годами раньше.
Значительной роли в жизни Флоренции семейство Данте, видимо, не играло. Принадлежало оно к мелкому дворянству, которое было разорено поднимающимся классом банкиров и промышленных магнатов. Всю свою жизнь Данте ненавидел нуворишей, спекулянтов и ростовщиков, тех, кто жил за счет чужого труда. Сведения о том, что его отец, Алигьери да Беллинчоне, о котором, кроме имени, почти ничего не известно, якобы занимался ростовщичеством, подтвердить не удалось. В своих сочинениях Данте нигде не упоминает ни о своих родителях, ни о своей жене Джемме Донати, ни о пятерых своих детях. Двое его сыновей занимались комментированием «Комедии», но не обладали даже малой толикой отцовской гениальности. Молчание Данте о семье интриговало толкователей и служило источником фантастических домыслов. Известно, что родители поэта умерли рано. И если пилигрим в «Комедии» часто называет Вергилия отцом, а его отношение к Беатриче неоднократно уподобляется отношениям меж матерью и ребенком, то, как полагает Папини, во всем этом, вероятно, отражается потребность в родительской ласке, которой он лишился в раннем возрасте.
Семья Данте традиционно принадлежала к партии гвельфов, равно и саму Флоренцию можно охарактеризовать как город гвельфов. Названия партий – гвельфы и гибеллины – в то время уже изрядно утратили свое первоначальное значение. Быть гвельфом исходно означало – быть приверженцем самоуправления, а в тогдашней борьбе за власть между папой и императором держать сторону первого. Средний класс был гвельфским, отстаивал свободу наперекор любым притязаниям властей предержащих и содействовал демократическим тенденциям на внутриполитическом уровне. «Коммуна Флоренции никогда не платила дани императорам, она всегда была свободна», – гласил ответ флорентийцев штатгальтеру Рудольфа Габсбурга в Г28Г году. Быть же гибеллином означало признавать власть Римского императора и видеть идеал в авторитарно-аристократическом способе правления. К этой партии принадлежала в первую очередь старинная знать, владевшая замками и землями. В Дантовой Флоренции таких людей было предостаточно, однако в ту пору они уже лишились значительной доли своего могущества. В Г282 году их отстранили от управления, и в городе установилась «демократия», опиравшаяся на ремесленные цехи, но фактически подчинявшаяся диктату банкиров и промышленников.
Впрочем, идеологической границы, по поводу которой велись бы теоретические споры, между гвельфами и гибеллинами уже не существовало. Взаимоотношения были примерно такие же, как между «социалистами» и «буржуазными консерваторами» в нынешней Швеции. Идеологические звезды, некогда сиявшие над этими названиями, угасли. Бумажные цветы с исконными эмблемами достают только по торжественным случаям, и лишь в самых глухих уголках страны еще верят в принципиальные различия меж демократическими партиями. На деле всё определяет тактический и практический расчет.
Но в Дантовой Италии идеологическая нивелировка не привела, как у нас, к смягчению политического климата. Напротив, на всем протяжении XIII века идет процесс политического одичания, не в последнюю очередь потому, что со смертью императора Фридриха II дело империи фактически было проиграно и таким образом открылась возможность реализовать гвельфское стремление к самостоятельности. Европа вступает в долгий и мучительный период, который не завершился по сей день и когда-нибудь получит название «Борьба за национальный суверенитет». Более не существовало державы, претендующей на мировое господство и обладающей достаточными силами, чтобы поддерживать мир между поднимающимися национальными суверенами. Раскол ведет к постоянным войнам. Данте приходит к выводу, что беды Флоренции и Италии суть следствие того, что нет более мирового властителя, способного отстоять свое влияние.
Во Флоренции партийные страсти накаляются в течение всего столетия. Едва одна из партий приходила к власти, лидеров другой неизменно лишали всех постов, обвиняли в тяжких преступлениях, отдавали под суд и казнили или обрекали изгнанию. Поскольку же этот город, как и вся Италия, с незапамятных времен соблюдал обычай кровной мести, которая передает свой кинжал от поколения к поколению, и эта кровная месть вмешивалась в политическую борьбу за власть – в Аду Данте встречает своего предка, и тот презрительно поворачивается к нему спиной, ибо Данте не отомстил за его смерть, – можно представить себе, в какой жестокой обстановке жил поэт.
О детстве и отрочестве Данте во Флоренции мы имеем так же мало сведений, как и обо всех прочих обстоятельствах его жизни. Вероятно, он располагал весьма скромным достатком, который, однако, все же позволял вести жизнь человека свободного, заниматься исследованиями и поэтическим творчеством. Он ученый муж, и знания его объемлют все области тогдашней науки. Поэтому учиться он начал, по-видимому, рано. Как и любая другая эпоха, XIII век в культурном плане отнюдь не единообразен, но отмечен огромным богатством и разносторонностью, и интересы Данте простирались во многих направлениях. Прослеживая путь его образования, важно помнить, что в жизни его случались долгие периоды, когда страстный политический энтузиазм затмевал увлеченность поэтическим искусством и философией. Политическая деятельность сыграла роковую роль в его жизни и определила весь ее ход.
В XIII веке, как и в наши дни, искусство и политика были теми двумя сферами, где разные социальные слои вступали в контакт друг с другом. В Италии поэзию ценили очень высоко, и в 90-е годы Данте-поэт благодаря своим талантам поднимается по общественной лестнице и заводит друзей в самых высоких кругах. Очевидно, приблизительно к тридцати годам Данте все больше вовлекается в политическую жизнь города. Активно участвовать в этой жизни были вправе только те, кто принадлежал к какому-либо ремесленному цеху. Однако в 1295 году данное установление смягчили: теперь, просто записавшись в какой-нибудь цех, ты получал право участвовать в политике. Данте записывается в цех аптекарей и врачей, хотя, насколько известно, он не вырастил ни единого лекарственного растения и ни разу не отворял кровь. А еще до того он служил солдатом во флорентийской армии. Согласно Леонардо Бруни, чьи сведения ныне считаются в целом надежными, он был кавалеристом и И июня 1289 года, т. е. в возрасте двадцати четырех лет, сражался при Кампальдино. В «Комедии» встречаются самоуверенные намеки – см., к примеру, вводные стихи Песни двадцать второй «Ада» – на то, что он был в сражении и видел, как конница пошла в наступление. Эйрик Хорнборг[22] (Eirik Hornborg), финляндский патриот и историк, который вполне бы подошел на роль стража в современном Чистилище, ибо ему в высокой степени присущи Катоновы добродетели, как-то раз сказал мне, что тот, кто не любил, не воевал и не дожил до старости, ничего не знает о жизни. Данте отвечал этим требованиям высшей школы жизни. Было ему, правда, только пятьдесят шесть лет, но в те века жизнь отличалась куда большей суровостью, чем теперь.
Несколько лет Данте входит во флорентийский Совет Ста, а в 1300 году на два месяца становится приором, т. е. одним из двух лиц, осуществлявших исполнительные функции в городском управлении. С середины 90-х годов во Флоренции усилилась внутренняя напряженность. Партия гвельфов распадается на две фракции – Белых и Черных. Данте принадлежит к первым. Лидер Черных – Корсо Донати, родич жены Данте. В то время энергичный папа Бонифаций VIII стремится подчинить Тоскану своей власти. И Данте – один из тех флорентийцев, что особенно резко противятся папской политике. Его имя связано с целым рядом акций, направленных против папы и папских банкиров во Флоренции, кое-кого из которых изгнали из страны.
Осенью 1301 года Данте в составе посольства Белых был направлен в Рим, к папе Бонифацию. Вечный город, видимо, произвел на него огромное впечатление, недаром он столько раз упоминает в своих произведениях о его мощи и великолепии. Но поэт видел прежде всего Рим императоров – Цезаря и Августа, – а не папский город. Пока Данте находится в Риме, во Флоренцию прибывает брат французского короля Карл Валуа, посланец папы и союзник Корсо Донати. Его призвали примирить враждующие фракции. В результате его вмешательства Черные одерживают полную победу. Вспыхивает гражданская война, обе стороны действуют жестоко и цинично. Когда верх берут Черные под водительством Корсо Донати, они грабят дома и имения лидеров Белых, по обыкновению обвиняя оных в нечестности. Данте оказался среди тех, кого приговорили к денежным штрафам и изгнанию. Через два года приговор еще ужесточили: если Данте вернется в город, его надлежит схватить и заживо сжечь. Весть об участи, постигшей его партию, Данте получил на обратном пути из Рима. Папа задержал его дольше, нежели остальных участников посольства, и он подозревал, что сделано это умышленно. Девять раз он поносит Бонифация VIII на страницах «Комедии». Поминает и других главных действующих лиц переворота, совершённого Черными в 1301 году. Карл Валуа изображен Иудой, который копьем пронзает грудь Флоренции. Французский королевский дом снова и снова выступает все в том же обличье предателя. В Песни двадцать четвертой «Чистилища» появляется Форезе, брат Корсо Донати, и предсказывает, что настанет день и Корсо, привязанный к хвосту неистового коня, будет увлечен в юдоль, где нет надежды, т. е. в Ад.
Взаимоотношения Данте с семейством Донати показательны с точки зрения его ситуации в обществе. Он был женат на женщине из этого знатного рода и дружил с Форезе, в юности они даже обменивались фривольными сонетами. А смертельным его врагом во Флоренции был брат Форезе – Корсо. В «Комедии» фигурирует и их сестра Пиккарда, которую Корсо силой забрал из монастыря, где она искала мира и покоя, и принудил вступить в постылый брак. Пиккарду мы встречаем в Раю (III, 34 слл.), а стало быть, трое Донати помещены каждый в своем царстве смерти.
II
С осени 1301 года Данте живет в изгнании. Что это означает, ныне известно миллионам людей, ибо изгнание вновь стало карой с чудовищными последствиями. Впрочем, и во времена Данте существовала общность идеалов, что позволяло изгнаннику найти друзей и сподвижников. Был и язык – латынь, – понятный всем образованным людям, а также вера – христианство, – повсюду являвшая себя в одинаковых формах. Изгнаннику наших дней приходится куда хуже. Троцкий, выброшенный из коммунистического сообщества, но сохранивший свои коммунистические убеждения, на Западе, где в нем видят кровавого палача, становится вечным жидом, неприкаянным попрошайкой, которого гонят от одних ворот к другим и которого в конце концов настигает месть могущественного соперника: он умирает от удара ледорубом. Но Данте живется не многим лучше. Подобно Троцкому, он более всего терзался потому, что на родине его поливали грязью, а всё, что он сделал, искажали и перетолковывали и не было никого, кто бы смог или дерзнул его защитить.
За двадцать лет изгнания Данте довелось пользоваться гостеприимством многих государей. Он стал чем-то вроде странствующего придворного, который покуда еще скромным блеском своей славы, учености и рифм платил богатым вельможам за еду и кров. В Раю он спрашивает у своего предка Каччагвиды – как и все умершие, тот способен заглянуть в будущее, – какова будет его судьба. Читателю нужно вспомнить, что свое странствие пилигрим предпринимает, еще живя во Флоренции. Каччагвида отвечает, что, подобно Ипполиту, сыну Тезея и пасынку Федры, которого злая и вероломная мачеха вынудила покинуть Афины, Данте будет изгнан из Флоренции. Оставит все, что ему дорого. В изгнании он узнает, как горек чужой хлеб и как тяжко ходить по чужим лестницам. Но самым тяжким бременем, продолжает предок, станет общение с дурными и глупыми людьми, которые разделят его судьбу и станут выказывать ему лишь неблагодарность, безумство и злобу. Однако ж кровью обольются они, а не Данте. К его чести, он останется сам по себе (3, XVII, 46–69):
Как покидал Афины Ипполит, Злой мачехой гонимый в гневе яром, Так и тебе Флоренция велит. Того хотят, о том хлопочут с жаром И нужного достигнут без труда Там, где Христос вседневным стал товаром. Вину молва возложит, как всегда, На тех, кто пострадал; но злодеянья Изобличатся правдой в час суда. Ты бросишь все, к чему твои желанья Стремились нежно; эту язву нам Всего быстрей наносит лук изгнанья. Ты будешь знать, как горестен устам Чужой ломоть, как трудно на чужбине Сходить и восходить по ступеням. Но худшим гнетом для тебя отныне Общенье будет глупых и дурных, Поверженных с тобою в той долине. Безумство, злость, неблагодарность их Ты сам познаешь; но виски при этом Не у тебя зардеют, а у них. Об их скотстве объявят перед светом Поступки их; и будет честь тебе Что ты остался сам себе клевретом.Эти слова с привычной надменной четкостью обобщают Дантову ситуацию в изгнании. Каччагвида не без оснований ссылается на Ипполита, ведь Флоренция не только средневековый, но и античный город. Современные исследователи – вслед за Курциусом – все больше подчеркивают непрерывное единство традиции, связывающей античность, Средневековье и нас. Античность продолжала жить не только и не столько благодаря так называемым возрождениям, новым, повторным открытиям классического наследия. Античность никогда не умирала. Античные институты жили, хотя и под другими названиями. Возможно, для Данте было даже по-своему утешительно, что его подвергли остракизму, общепринятому в античных городах.
«Комедия» во многих отношениях обусловлена этим изгнанием, которое оставило след во всех произведениях Данте, за исключением «Новой Жизни» и, понятно, юношеских сонетов. В «Пире» он пишет: «После того как гражданам Флоренции, прекраснейшей и славнейшей дочери Рима, угодно было извергнуть меня из своего сладостного лона, где я был рожден и вскормлен вплоть до вершины моего жизненного пути и в котором я от всего сердца мечтаю, по-хорошему с ней примирившись, успокоить усталый дух и завершить дарованный мне срок, – я как чужестранец, почти что нищий, исходил все пределы, куда только проникает родная речь, показывая против воли рану, нанесенную мне судьбой и столь часто несправедливо вменяемую самому раненому. Поистине, я был ладьей без руля и без ветрил; сухой ветер, вздымаемый горькой нуждой, заносил ее в разные гавани, устья и прибрежные края; и я представал перед взорами многих людей, которые, прислушавшись, быть может, к той или иной обо мне молве, воображали меня в ином обличье. В глазах их не только унизилась моя личность, но и обесценивалось каждое мое творение, как уже созданное, так и будущее»[23].
С годами Данте все больше одержим мыслью о Флоренции, и все реже в его сознании оживают красивые и отрадные ее стороны. Когда в трактате о народном итальянском языке он подыскивает пример для иллюстрации своих языковых соображений, выбирает он вот что: «Мне, при сострадании ко всем, особенно горько за тех, кто, изнывая в изгнании, возвращаются на родину лишь в сновидениях»[24]. Именно в изгнании он задумывает и пишет «Комедию», которая сохранит его имя в памяти потомков. В каждом ее стихе сквозит ситуация, в какой находится поэт: то он, как в Песни семнадцатой «Рая», называет Флоренцию «краем, всех милей», то, как в Песни двадцать третьей «Ада», гордо заявляет, что рожден «в великом городе на ясном Арно», то, как в Песни четырнадцатой «Чистилища», говорит, что этот город столь мерзок, что не стоит звать его по имени, и сравнивает его жителей с волками.
Данте-пилигрим странствует в «Комедии» по царствам смерти, надеясь достичь до Беатриче и до вечного света. Изгнанник Данте, поэт, пишущий «Комедию» и направляющий судьбу пилигрима, переезжает из одного итальянского города в другой. Он живет у веронских правителей, и Кан Гранде делла Скала становится его другом. Он гостит у графов Гвиди в Лукке, у семейства Маласпина в Сардзано. Возможно, посещает и Париж с его университетом. После многих переездов он в конце концов находит приют у княжеского семейства Новелло в Равенне. И во всех своих скитаниях мечтает вернуться во Флоренцию, мечтает забыть о тяготах и унижениях изгнания. Пилигрим и рассказчик находятся в одинаковом положении. Читая поэму, мы замечаем, что не всегда можем их различить. Мы видим пилигрима в Аду и на горе Чистилища. Обок с ним идет изгнанник – поэт Данте. Вот только что мы были в царстве умерших. И внезапно нам чудится, будто мы на пути из Лукки в Сиену, будто приближаемся не к адскому городу Диту, как в Песни седьмой «Ада», а к обнесенному стенами средневековому городу, который в сумерки запирает свои ворота, меж тем как чужестранец в одиночестве и тревоге остается по ту сторону рва, высматривая во мраке сигналы наверху стены. И встречаем мы словно бы не тени, а других изгнанников, товарищей по несчастью, которые – в этом смысле их ситуация сродни ситуации умерших – воспринимают самих себя как теней, ибо им уже не дано дышать воздухом родины.
Мы путешествуем в царство смерти и одновременно странствуем по Италии XIV века. На обоих уровнях мы видим флорентийцев, узнающих друг друга по платью, манерам и говору. Кое-кто подшучивал над тем, что Данте помещает столь многих флорентийцев именно в Аду. Но это заблуждение. В Аду есть люди со всех концов Италии. Однако пилигрим замечает лишь своих земляков, уроженцев любимого и ненавистного города. Где бы ни очутился, он спрашивает о флорентийцах, не обращая внимания на всех прочих.
В мире без газет и иных средств связи одним из самых болезненных переживаний для изгнанника было полное неведение об оставшихся дома. Потому-то в царствах смерти пилигрим горит желанием побеседовать с флорентийцами. В свою очередь и они ничуть не меньше жаждут завязать с ним разговор. «Постой! Мы по одежде признаем, / Что ты пришел из города порока!» (ст. 8–9) – гласит реплика из Песни шестнадцатой «Ада». Когда пилигрим проходит мимо лицемеров, одетых в позолоченные куколи из свинца, он слышит несколько слов на тосканском наречии и останавливается. «Комедия» – роман-путешествие, где на каждой странице земляки-изгнанники спешат навстречу друг другу, обмениваются рукопожатиями, сообщают новости. Можно бы назвать «Комедию» и антологией встреч на все вкусы. Есть там встречи приятные, веселые – вроде встречи с инструментальным мастером Белаквой на одном из нижних уступов Чистилища, этот Белаква и в Чистилище такой же лентяй, каким был при жизни, оттого-то на губах пилигрима и играет улыбка. Есть важные дружеские встречи и внезапные столкновения с земляками-недругами, когда в груди Данте сочувствие борется с отвращением и жаждой мести.
«Комедия» – чтение для людей, отторгнутых своим исконным кругом. На всем протяжении поэмы мы видим, как Данте при упоминании Флоренции всякий раз вздрагивает, словно от укуса змеи. Флорентийцы пробуждают в его сердце и самые благородные, и самые жестокие порывы. В огненной пустыне Вергилию пришлось удерживать его, иначе он бы кинулся в пламена и обнял трех заслуженных флорентийских политиков. Но когда жар уступил место льдам Коцита, флорентиец-предатель заставляет Данте забыть о сочувствии и порядочности. Он яростно рвет волосы Бокки.
Самым необычайным образом Дантова любовь-ненависть проявляется в одной из последних песней «Рая». Он поднялся сквозь все небеса, земля в тысячах миль под ним. Он выше звезд. Что за дело ему в этот миг до жалкого города на берегах Арно? Он готовится описать впечатление от вечного света, подыскивает образы, которые разъяснят читателям, как ширится его сердце и как им овладевает сила божественной любви, и говорит, что чувствует себя словно варвар, пришедший из своего скудного края в Рим с его прекрасными дворцами и статуями, – этот образ отражает, сколь глубоко некогда поразил его вечный город. Однако этого образа ему недостаточно, и он обращается к другому, пишет, что пришел «из тлена в свет небесной славы, / В мир вечности из времени вступив, / Из стен Фьоренцы в мудрый град и здравый» (XXXI, 37–39). Столь возвышенная хула, брошенная в лицо родному городу с высочайшего из небес, свидетельствует о том, какую тяжкую боль причиняло Данте изгнание.
«Комедия» рассказывает о человеке, который отправляется в странствие, чтобы достичь вечного света в Раю. И одна из сил, толкающих его вперед, – стремление вернуться домой, восстановить свою репутацию, услышать бой знакомых колоколов. Католическая церковь учила и учит, что молитвы живых способны помочь душам в Чистилище. В «Комедии» нам даются примеры истинности этого тезиса. Форезе Донати сообщает, как молитвы его жены Неллы сократили ему срок наказания. Но и души, находящиеся в Аду и знающие, что для них нет надежды, жаждут памяти живых. «Скажи другим, что ты видался с нами», – говорит Данте один из грешных политиков. «И тот из вас, кто выйдет к свету дня, / Пусть честь мою излечит от извета, / Которым зависть ранила меня!» (1, XIII, 76–78) – просит несчастный канцлер Фридриха II Пьер делла Винья, как и Данте, несправедливо обвиненный и отринутый верный слуга Флоренции. «Но я прошу: вернувшись в милый свет, / Напомни людям, что я жил меж ними» (VI, 88–89), – кричит чревоугодник Чакко, лежащий в грязи под снегом и дождем в третьем круге Ада. Лишь в нижнем Аду грешники не желают, чтобы о них вспоминали, и пытаются утаить от пилигрима свои имена. Читаешь и думаешь: вот самая страшная кара по мысли Данте – чтобы флорентиец не ведал, кто он, и даже сам порой желал такого забвенья.
В репликах о памяти слышен голос изгнанника Данте. Обитатели Ада имеют в виду не «милый свет» солнца, а улицы и площади Флоренции. Когда канцлер просит замолвить о нем доброе слово, нам слышится, как сам Данте, встречая земляков, говорит им: «Вспоминайте обо мне на родине, просите за меня перед властями предержащими, возражайте тем, кто порочит меня!» Таким образом все, что поначалу кажется у Данте особенным и странным, претворяется в нечто закономерное, справедливое для каждого из нас. На буквальном уровне мы не считаем просьбы и заступничество важными. Но в переносном смысле очень в них нуждаемся.
III
Самая впечатляющая встреча меж пилигримом и одним из флорентийцев происходит в Песни десятой «Ада». При содействии архангела Михаила пилигрим и Вергилий проникли в нижний Ад, извне похожий на средневековый город. Подле городской стены расположен дол, напоминающий Данте римский некрополь под Арлем, который можно увидеть и в наши дни. Раскрытые каменные гробницы теснятся одна возле другой. Горят огни, опаляя могилы, где терзаются души еретиков. Чем страшнее ересь, тем горячей огонь. Из некой могилы пилигрим слышит голос:
«Тосканец, ты, что городом огня Идешь, живой, и скромен столь примерно, Прошу тебя, побудь вблизи меня. Ты, судя по наречию, наверно, Сын благородной родины моей, Быть может, мной измученной чрезмерно». (X, 22–27)Пилигрим пугается, не понимая, откуда идет голос, и теснее льнет к своему вожатому. И Вергилий, как всегда, подбадривает и поддерживает его:
«Взгляни, ты видишь: Фарината встал. Вот: все от чресл и выше видно тело». (X, 32–33)Фарината дельи Уберти принадлежал к числу великих сынов Флоренции. Его семейство долго возглавляло партию гибеллинов. Сам он родился в начале XIII века и скончался в 1264-м, за год до рождения Данте. Большой патриот и страстный гибеллин, Фарината в 1239 году стал главой своего семейства. Вероятно, Данте относился к нему с таким же пиететом, как Черчилль[25] к Дизраэли[26] или Улоф Пальме[27] к Брантингу[28]. Это мощная полумифическая фигура из прошлого, но не настолько далекая, чтобы ее следы не дымились кровью и жгучей болью. В 1260 году Фарината был одним из вожаков в сражении при Монтаперти, когда гибеллины наголову разбили флорентийских гвельфов, не в последнюю очередь благодаря предательству Бокки. Иными словами, Фарината – враг той партии, к которой принадлежало семейство Данте. Гвельфская Флоренция вызывала у гибеллинов такую злобу, что после победы при Монтаперти кое-кто требовал сровнять город с землей. Эти требования встретили резкий отпор со стороны Фаринаты. Его любовь к родному городу оказалась сильнее партийных страстей. Своим энергичным вмешательством он спас Флоренцию от разрушения.
Услышав имя Фаринаты, пилигрим оборачивается и видит вождя гибеллинов, который гордо возвысил из огненной гробницы грудь и чело и, «казалось, Ад с презреньем озирал» – come avesse lo inferno in gran dispitto (ст. 36). Вергилий ведет пилигрима меж могил, к Фаринате. Когда они подходят к изножию гробницы, Фарината как бы с презрением смотрит на Данте и спрашивает, кто его предки. Данте отвечает. Фарината приподнимает брови и замечает:
<…> «То был враждебный дом Мне, всем моим сокровным и клевретам; Он от меня два раза нес разгром». «Хоть изгнаны, – не медлил я с ответом, — Они вернулись вновь со всех сторон; А вашим счастья нет в искусстве этом» — та i vostri non appresser ben quell’arte. (ст. 46–51)В этот миг беседа прерывается. Перед Фаринатой из гроба поднимается призрак, дух, который, видимо, стал на колени и высунул голову над краем могилы. Он озирается по сторонам, словно надеясь увидеть подле Данте кого-то еще. Но его надежда напрасна, и, рыдая, он говорит Данте:
<…> «Если в этот склеп слепой Тебя привел твой величавый гений, Где сын мой? Почему он не с тобой?» (ст. 58–60)Данте сразу узнал его и понял, кого он высматривает. Это старый флорентийский аристократ Кавальканте Кавальканти, отец ближайшего друга Данте, поэта Гвидо Кавальканти. Кавальканте не случайно находится в одной гробнице с Фаринатой, ведь они друзья и ровесники, и хотя принадлежали к разным партиям – семейство Кавальканти было гвельфским, – Кавальканте, стремясь примирить враждующие стороны, женил своего сына Гвидо на Беатриче, дочери Фаринаты. «Комедия» отображает замкнутое аристократическое общество, и большая часть упомянутых в ней людей связана родственными узами, дружбой, разного рода контактами. В нашей стране долго господствовали сходные обстоятельства. Когда общественно опасный революционер Брантинг в конце концов занимает место за столом Королевского совета, старый архиреакционер король узнает в нем своего давнего школьного однокашника. Даг Хаммаршельд[29] еще в гимназических кружках имел возможность изучать деятельность Ярла Яльмарссона[30] и выработать суждение о консерватизме, выразителем которого был упомянутый политик. На фотографии, сделанной в день выпускного экзамена, бок о бок стояли будущий шпион, полковник Стиг Веннерстрём[31], и его одноклассник, будущий серийный убийца Фредрик фон Сюдов. Эти двое однажды встретятся в Аду, устроенном всеми нами.
О старом Кавальканте Кавальканти шла молва, будто он вольнодумец и не верит в бессмертие души. Вероятно, потому мы и находим его среди еретиков. Из глубины гроба он услышал и узнал голос Данте и надеялся увидеть с ним рядом своего сына. Предполагал он это по двум вполне естественным причинам. С одной стороны, Гвидо и Данте близко дружили, с другой – у них были общие художнические задачи. Отец Гвидо намекает на это, высказывая мысль, что Данте сумел живым низойти в Ад благодаря своему гению. Отчего же это не может удаться и его сыну? – думает отец, уязвленный ревностью. Его взгляд скользит вокруг так же, как взгляд честолюбивого отца озирает чемпионский помост или почетную трибуну, когда почести достаются другу его сына.
Данте отвечает Кавальканте очень мягко и скромно. Говорит, что пришел в Ад не своей волей, а ведомый Вергилием и что Гвидо, может статься, недостаточно чтил Вергилия. Такой ответ Данте во многом примечателен. Ведь он прямо заявляет, что пишет о путешествии в подземный мир в силу своего поэтического гения, как наследник
Вергилия. И одновременно говорит, что тех задач, какие он и Гвидо Кавальканти некогда ставили перед собой, ему уже недостаточно. Дантоведение с большим тщанием исследовало вопрос, почему Гвидо не чтил Вергилия, но к однозначным выводам так и не пришло. Ясно только, что, по мнению Данте, сам он продвинулся дальше Гвидо, обогнал его, оставил позади и нынешнее странствие никогда бы не состоялось, если б он остался в давнем кругу друзей, продолжая совершенствовать «дольче стиль нуово». Вергилий – визионер, писавший о золотом веке, когда народы будут мирно жить под властью справедливого правителя. К тому же поэт Вергилий, по свидетельству Стация, провидел Христа, вел к христианству, хоть сам и не обрел спасения. Какую бы задачу ни ставил перед собою Данте (вполне вероятно, он и сам не раз менял свою исходную позицию в этом плане), имел ли он в виду странствие в сокровенные глубины души или чувствовал себя скорее пророком, миссионером единого христианства и нового мирного царства, он так или иначе служил великой идее. Здесь-то и заключено различие между ним и Гвидо.
Однако отец Гвидо ничего этого не понял. Вот сию минуту его занимала поэтическая стезя сына. Но слова Данте направили его мысли в другое русло. В своем ответе Данте употребил прошедшее время. Сказал о Гвидо, что тот «не чтил» – ebbe a disdegno – творений Вергилия (ст. 63). И у отца возникает подозрение, еще более ужасное, чем то, что сын его в искусстве отстал от Данте. «Как ты ответил? / Он их не чтил? Его уж нет средь вас? / Отрадный свет его очам не светел?» (ст. 67–69) – спрашивает он. Для Данте вопрос не лишен щекотливости. Как приор он нес изрядную долю ответственности за то, что Гвидо был приговорен к изгнанию, где захворал и умер. Иными словами, Данте как бы послал друга на смерть. Но сейчас, весной 1300 года, когда происходит действие «Комедии», Гвидо еще жив. Стало быть, Данте мог бы немедля дать отцу успокоительный ответ, но ему пока не вполне ясны особенности жизни умерших. Чуть раньше пилигрим встретил чревоугодника Чакко, который предсказал ему грядущие беды. Значит, умершим известно, что произойдет в будущем. А коли так, им наверное известны и нынешние обстоятельства на земле. Эта неуверенность и заставляет Данте медлить с ответом, а отец решает, что его ужасное подозрение оправданно. Он поднялся из могилы в полный рост и теперь без единого слова падает в гробницу и более не появляется.
Фарината на протяжении этой сцены даже бровью не повел и как ни в чем не бывало продолжает беседу с Данте. Главные действующие лица этой песни «Ада» все трое закутаны в широкие плащи одиночества. Каждый думает о своем, и оттого реплики, которыми они обмениваются, имеют для каждого свой смысл. Пока Данте беседовал с Кавальканте, Фарината обдумывал слова Данте о том, что его, Фаринаты, люди не постигли искусство возвращаться из изгнания.
«То, – продолжал он снова, – что для них / Искусство это трудным остается, / Больнее мне, чем ложе мук моих. / Но раньше, чем в полсотый раз зажжется / Лик госпожи, чью волю здесь творят, / Ты сам поймешь, легко ль оно дается». Счет времени Фарината ведет по явлению Прозерпины, властительницы царства мертвых, чей лик озаряет каждый новый месяц. Сейчас Пасха 1300 года, а значит, пятьдесят месяцев спустя Данте отправится в изгнание. Фарината ошибается, ведь на самом деле Данте остается прожить во Флоренции всего два года. Мысль об унижениях изгнания была для Фаринаты страшнее всякого огня. Предсказав Данте его судьбу, Фарината дал ему пищу для размышлений. Дантова похвальба, что его ближним удается вернуться из изгнания, мало что значит, если сам он не овладел этим искусством. Мы знаем, что этого ему было не дано.
Фарината продолжает: «Но – в милый мир да обретешь возврат! – / Поведай мне: зачем без снисхожденья / Законы ваши всех моих клеймят?» Напомню: в то время гибеллины были изгнаны из Флоренции, и в городе действовали суровые законы, направленные против них. «В память истребленья, / Окрасившего Арбию в багрец, / У нас во храме так творят моленья», – отвечает Данте. Он имеет в виду сражение при Монтаперти, состоявшееся на холме над тосканской рекой Арбией, чьи воды приняли кровь многих флорентийских гвельфов. Фарината со вздохом качает головой и, намекая на кровавую резню, говорит: «Там был не только я <…> / Зато я был один, когда решали / Флоренцию стереть с лица земли; / Я спас ее, при поднятом забрале» (ст. 91–93).
Встреча пилигрима и Фаринаты – конфронтация двух политических противников, чьи судьбы так схожи, что едва ли поэт Данте этого не заметил. Власть императора Священной Римской империи после смерти в 1250 году Фридриха II все больше слабела. Габсбурги, обладатели этого сана, с трудом отстаивали перед папами свой суверенитет. В 1308 году умирает Альбрехт Габсбург, и преемником его становится Генрих граф Люксембургский, избранный императором при поддержке французского папы Климента V, в соперничестве с тем самым Карлом Валуа, которого Данте называл Иудой. Одного этого факта уже достаточно, чтобы сделать Данте приверженцем Генриха. Франция в то время – сильнейшая держава Европы, оттого и папская резиденция была тогда перенесена в Авиньон. В 1310 году император Генрих прибывает со своими войсками в Италию, желая короноваться и в Риме. Этот поход, как он надеется, обеспечит его тем престижем, который ему, монарху относительно бедному и малоземельному, крайне необходим. С прибытием Генриха в Италию у многих изгнанников вновь пробуждается надежда. В том числе и у Данте. Со страстным энтузиазмом он включается в жаркие схватки по поводу того, признавать ли итальянским князьям и городам власть императора.
Данте присутствует на церемонии в Милане, когда Генриха коронуют железной короной. Весной 1311 года он обращается с открытым письмом к правителям и народам Италии, – письмом, столь перегруженным риторикой, что в нем нелегко узнать сурового и лаконичного автора «Комедии». Однако Данте прошел великую школу риторики, которая не закрывала своих дверей с времен Античности и в Средние века прочно обосновалась в латинской литературе. «<…> занимается новый день, являя над кручами востока зарю, которая рассеивает мрак столь долгих злосчастий, – гласит это письмо, – <…> взойдет титан – миротворец; и с первыми его лучами воспрянет справедливость, что, подобно подсолнуху, чахла без солнца. Все страждущие от голода и жажды насытятся в свете его лучей <…>. Возрадуйся отныне, о Италия, ты, которая даже у сарацин способна вызывать сострадание; скоро ты станешь предметом зависти всех стран, ибо жених твой, утешение вселенной и слава твоего народа, милостивейший Генрих, божественный и августейший кесарь, спешит на бракосочетание с тобой. Осуши свои слезы и уничтожь все следы скорби, о прекраснейшая; ибо близок тот, кто освободит тебя из узилища нечестивцев, тот, кто мечом рассекая злодеев, сокрушит их и вверит свой виноградник другим земледельцам»[32] и т. д.
Генрих Люксембургский, по-видимому, и как личность не отвечал высоким требованиям Данте, и взглядов Данте на величие императорской власти не разделял. Надежда, возлагаемая на него Данте, скоро пойдет прахом. Император полагает, что правители Италии видят в нем вовсе не миротворца, а просто козырную карту в собственных играх. Со всем цинизмом, типичным для тогдашней эпохи, он позволяет использовать себя в таких целях. Однако ж уступчивость приносит ему мало пользы. Он добирается до Рима и коронуется там в июне 1312 года. Но к тому времени в Италии уже составился заговор с целью его изгнания из страны. Неаполитанский король Роберт, глава заговора, оккупирует Рим. В кулуарах непрерывно действуют флорентийские дипломаты и флорентийское золото. Флоренция выступает как подлинный организатор сопротивления императору. У города были серьезные причины занять такую позицию, ведь император не желал возобновить монополию Флоренции на чеканку золотой монеты, что флорентийцам было совершенно не по вкусу. В 1312 году папа Климент V, который надеялся, что Генрих станет противовесом французской королевской власти, открыто переходит в стан противников императора, а тем самым дело Генриха фактически обречено на провал.
Данте в эти годы пребывает в возбужденном состоянии духа. Происходящее есть продолжение несчастья, постигшего его в 1302 году, только уже во всемирно-историческом масштабе. Весной 1311 года он находится вблизи тосканской границы и каждый день ждет, что «милостивейший Генрих», к которому он взывал, даст ему возможность вернуться во Флоренцию. Он снова берется за перо и пишет послание своим землякам, опять-таки облачившись в хламиду ветхозаветного пророка. Флорентийцы, пишет он, нарушают волю Бога, поднимаясь против короля всего мира, который один способен установить покой и справедливость. И если Флоренция будет упорствовать, ее ждет страшная судьба. «Охваченные горем, вы увидите разрушенными тараном и испепеленными в огне постройки ваши, не защищенные стенами возрожденного Пергама, сооруженные не для ваших нужд и неразумно превращенные в места преступлений. Повсюду вокруг вы увидите смятенный люд, то разделенный мнениями – за и против, то единый в едином желании и устрашающе ропщущий на вас, ибо он не умеет одновременно голодать и бояться. И вам будет больно взирать на разграбленные храмы, в которые каждый день ходят толпы жен, и на изумленных и неразумных детей, вынужденных искупать грехи отцов. И если не обманывается мой вещий ум, <…> вы увидите город, поверженный нескончаемой скорбью, отданный в руки иноземцев, и часть из вас погубит смерть и темница, а немногие оставшиеся в живых будут рыдать и томиться в изгнании. Добавлю вкратце, что за свою приверженность рабству вам не избежать позора и тех же самых несчастий, которые за его верностью свободе довелось испытать славному городу Сагунту»[33].
Коротко говоря, Данте пророчествует здесь о полной и окончательной гибели. Месяцем позже он пишет еще одно письмо, адресованное непосредственно императору. Он именует Генриха преемником Августа, который вернет Италии и миру золотой век, некогда воспетый Вергилием. Восклицает: «Вот Агнец Божий, вот тот, который берет на себя грех мира»[34]. Укоряет императора в непонимании, что главный его противник – Флоренция. Именно этот злобный город и надобно прежде всего разбить. Геркулес не мог одолеть гидру, ибо на месте каждой отрубленной головы отрастали новые. Лишь добравшись до источника ее силы, герой одержал победу. Вот так же и императору должно понять: итальянскую гидру можно уничтожить, лишь истребив корень зла. «Неужели ты не знаешь, о превосходнейший из государей, и не видишь, с высоты своего величия, где нора, в которой живет, не боясь охотников, грязная лисица?»[35] – вопрошает Данте, написавший свое письмо «близ истоков Арно»[36]. Злодейка утоляет жажду не в быстром По и не в Тибре. Нет, ужасное чудовище погружает свою пасть в воды Арно и зовется Флоренцией. Она – змея, готовая пожрать свою мать; она – паршивая овца, заражающая все стадо хозяина; она – противоестественная Мирра, жаждущая объятий родного отца.
Смертельному врагу родной страны Данте изображает ее как гидру, которую надо истребить. Один результат этого письма не подлежал сомнению: пока режим, властвовавший тогда во Флоренции, будет существовать, поэт не сможет вернуться из изгнания. И город с ответом не промедлил. В сентябре 1311 года была объявлена широкая амнистия политическим изгнанникам, Данте же был подчеркнуто исключен из их числа. Конечно, принципы верности отчизне не настолько вошли ему в плоть и кровь, как нам, ведь он жил в эпоху, когда идеи универсализма еще не утратились. Тем не менее обстоятельства, в которых он находился, морально тяжко его угнетали. Он предрекал гибель Флоренции и пытался ее ускорить. От слов до дела было рукой подать.
Фарината в гробнице и тот Данте, что пишет «Комедию» и формулирует реплики Фаринаты и пилигрима, пребывают, стало быть, в одинаковой ситуации и терзаются сходными мучительными воспоминаниями. Фаринате во Флоренции ставили в вину, что он был одним из предводителей резни, окрасившей кровью воды Арбии. Но что до планов уничтожения города, то здесь у него полное алиби: он предотвратил уничтожение Флоренции. А как обстояло с Данте? Он звал к огню и мечу, однако известно, что, когда Генрих после коронации в Риме и открытого разрыва с папским престолом в конце концов двинулся на Флоренцию, Данте, присоединившийся к его армии, отказался участвовать в этом походе. Видимо, не смог идти с оружем против своих земляков. Но кровожадное письмо существовало. Фарината, защищающий себя в «Комедии», рисует нам образ самого изгнанника Данте, выступающего в свою защиту. За Фаринатой, который в языках пламени встает из гроба, мы видим изгнанника-поэта, сгорающего от тоски по родине и от угрызений совести. Фарината полон презрения к Аду, ибо собственная репутация в родном городе для него важнее вечной кары. Так же обстоит и с Данте, ведь муки изгнания – презренный пустяк и не идут ни в какое сравнение с муками оттого, что тебя считают злодеем, желавшим погибели отчему городу.
Фарината и Кавальканте находятся в Аду, в том круге, где терзаются еретики, но, как всегда, мы не слышим от них упоминаний о грехе, за который они наказаны. Мы уже привыкли не смешивать внешнюю моральную схему с внутренней, глубинной виной. Не обман с конем был грехом Улисса, но его неуемное стремление собирать знание ради знания. Фарината так поглощен своей политической страстью, что ужасы Ада становятся ему безразличны. Кавальканте, сжигаемый огнем за ересь, интересуется честью сына, а не спасением собственной души. Они оба еретики в том смысле, что полагают земную жизнь и преходящие цели более значимыми, нежели небеса и вечность. И являются оба вместе затем, чтобы рассказчик Данте мог показать, что и в политике, и в поэзии он сам продвинулся дальше.
Политика, внутренняя политика Флоренции, – вот всепоглощающая страсть Фаринаты. Высочайшая идея, ярчайшая звезда на его небосклоне – любовь к родине. Когда эта любовь вступает в конфликт с его партийными интересами, он отдает предпочтение родине. Потому-то и говорит «нет», когда его соратники хотят уничтожить город. В кругу идей партийной политики и любви к родине этот человек подошел к пределу человеческих возможностей. И если Данте помещает его в Аду, это означает, что, по его убеждению, сам он продвинулся дальше.
IV
Данте не отступается от мысли вернуться во Флоренцию. Но ранняя смерть императора Генриха, упадок папской власти, укрепление силы и рост притязаний национальных правителей, а также раскол в Италии создавали крайне неблагоприятные для Данте обстоятельства. Он понимал, что политическими средствами добиться возвращения едва ли возможно. Когда в одной из последних песней «Рая», видимо написанной всего за несколько лет до смерти, он мечтает о возвращении, то выступает уже не в качестве пророка, призывающего мировластителя к огню и мечу. Теперь он выражает надежду, что великое произведение, над которым он работал долгие годы и которое уже снискало ему славу, ибо песни его распространялись в списках, станет тем тараном, что сломит все препятствия. И в Песни двадцать пятой пишет:
Коль в некий день поэмою священной (il роета sacro), Отмеченной и небом и землей, Так что я долго чах, в трудах согбенный, Смирится гнев, пресекший доступ мой К родной овчарне, где я спал ягненком, Немил волкам, смутившим в ней покой, — В ином руне, в ином величье звонком Вернусь, поэт, и осенюсь венцом Там, где крещенье принимал ребенком; Затем что в веру, души пред Творцом Являющую, там я облачился И за нее благословен Петром. (ст. 1-12)Почти все видные дантоведы отдали дань дискуссии о том, в какой степени и каким образом Данте развивается как политический мыслитель. Одинаково или по-разному смотрит он на происходящие в мире события в те годы, когда активно участвует в европейской политике, и в те, когда пишет «Комедию»? Такая дискуссия, разумеется, предполагает, что Дантовы произведения поддаются мало-мальски точной датировке. Все согласны, что книга «О народном красноречии» и «Пир» написаны до «Монархии» и что «Монархия» возникла примерно в 1312 году, когда император Генрих находился в Италии, хотя, в общем, не исключается и возможность, что «Монархия» была закончена уже после смерти императора в 1313 году. Далее, «Комедии» отводят последние восемь лет жизни Данте (поэт умер в 1321 году. – Перев.). Памятуя о колоссальных внутренних и внешних масштабах «Комедии» и о том, что еще в «Новой Жизни», написанной, как принято считать, в 90-е годы во Флоренции, Данте анонсирует большое произведение, где главным действующим лицом будет Беатриче, мы, однако, не можем не поставить под сомнение тезис, что «Комедия» была создана лишь за последние восемь-десять лет жизни поэта. Твердо и однозначно здесь ничего утверждать нельзя. Материал слишком спорный. Попытки датировать те или иные части «Комедии» сугубо умозрительно, сопоставляя ее с другими работами, на мой взгляд, свидетельствуют только о честолюбии.
Но, даже если рискнуть и положиться на обозначенную выше общепринятую хронологию, будет весьма трудно проследить Дантово развитие. «Монархия» представляет собой политический трактат. Данте выступает там как сильный полемист, логически точный в своих рассуждениях. Развивая свои идеи с такою же решительностью и ловкостью, с какою рыцарь управляет конем на ристалище, он полемизирует с политическими идеологами прошлого и современности, и позиции его можно установить с максимальной определенностью. «Комедия» же – произведение поэтическое, со сложным символико-аллегорическим аппаратом. Живой организм, а не абстрактная теория. Сопоставлять и сравнивать идеи, которые Данте высказывает в «Монархии» и в письмах, с соответствующими пассажами «Комедии» все равно что вводить в математическое уравнение живой цветок или птицу. Проф. А.П. д’Антрев (А.P. d’Entreves), автор интересной монографии о Данте – политике и философе, проводит мысль
о том, что в период между «Монархией» и «Комедией» Данте изменился настолько радикально, что в некотором – и весьма важном – отношении «Комедию» следует рассматривать как искупительное произведение раскаявшегося грешника. В «Комедии» Данте якобы сожалеет, что поддерживал императора Генриха, а главное – раскаивается, что сравнивал его с Христом. Согласно христианскому учению, человечество спасется благодаря внутреннему очищению каждого человека, а не вмешательством извне. По мнению д’Антрева, Данте видел в универсальной монархии такую же боговдохновленную силу, как и универсальная церковь. Вот за это-де кощунство Беатриче и укоряет Данте, когда любящие наконец встречаются в Песни тридцатой «Чистилища».
Теория д’Антрева не могла не вызвать возражений. Чарлз Тилл Дэвис (Charles Till Davis) в своей работе «Данте и римская идея» («Dante and the Idea of Rome») резонно замечает, что в Средние века сравнение императора с Христом было частью традиционного церемониала. Можно добавить, что в Раю Данте указывает то место на небесах – одно из самых высоких, – куда после смерти попадет император Генрих. Стало быть, непохоже, чтобы он в этом плане испытывал раскаяние. Я лично считаю, что нет никакой необходимости выстраивать процесс развития. Данте одержим любовью к Флоренции, но эту любовь дополняет универсализм, красной нитью проходящий через всю его жизнь. Д’Антрев бесспорно прав, говоря, что в изгнании Данте был вынужден стать гражданином мира. О Катоне говорили, что он жил не ради себя, а ради всего человечества. То же справедливо и для стареющего флорентийца Данте Алигьери. Однако в любом периоде жизни поэта можно без труда найти доказательства его универсального мировоззрения – наследия универсальной Римской империи и универсальной античной культуры, которую он стремился возродить. Уже в трактате «О народном красноречии» он, полемизируя с теми, кто везде и всюду ставит на первое место собственную страну, пишет: «Но мы, кому отчество – мир, как рыбам море…»[37] и т. д. Эта фраза заимствована из «Со-кровища» Брунетто Латини, из той самой работы, которую Брунетто при встрече с Данте в Аду особенно ему рекомендует. Может статься, Данте именно об этом и думал, когда говорил, что Брунетто научил его, как стать бессмертным. Ибо один из путей к бессмертию для Данте – перебороть флорентийский национализм и писать, ориентируясь не на Флоренцию, а на общечеловеческое благо. Это было не только обязательство, но и утешение. Поэт и мыслитель не имеет отечества. Его дом всюду, где можно свободно размышлять и писать, а там, где ему отказано в такой свободе, он всюду в изгнании. Где мысль свободна, там и земляки. Или, как Данте писал в 1315 году флорентийскому другу, когда до него дошли слухи, что на определенных унизительных условиях ему разрешат вернуться на родину: «Разве не смогу я в любом другом месте наслаждаться созерцанием солнца и звезд? Разве я не смогу под любым небом размышлять над сладчайшими истинами, если сначала не вернусь во Флоренцию, униженный, более того – обесчещенный в глазах моих сограждан?»[38]
«Комедия» повествует об общности вне времени и пространства, и в царствах смерти Данте встречает главным образом поэтов и философов, людей, живущих под знаком универсализма и чувствующих ответственность за все человечество. И в самой высокой степени это относится к Вергилию, написавшему «Энеиду» во имя золотого века, который наступит, когда все народы объединятся под справедливой властью.
Весной 1311 года в письме императору Генриху Данте процитировал строки римского поэта Лукана, одного из тех, с кем он встречался в Лимбе. Эти строки Лукан вложил в уста римлянина Куриона, который вмешался в ход истории, энергично призвав Цезаря перейти Рубикон и тем решить битву за власть. «Прочь замедленье отринь!» – так у Лукана кричит Цезарю Курион. Теперь, когда партийные группировки охвачены сомнениями и сил у них мало, самое время нанести удар. Данте применяет эти слова к ситуации Генриха VII. Ему следует немедля двинуться на Флоренцию, как Цезарь двинулся на Рим. Подобно Данте, Курион жил в изгнании и имел личные причины желать, чтобы Цезарь захватил власть. Совет, который он дал Цезарю, способствовал усилению раскола в Римской империи. Любопытно, что в «Комедии» Данте поместил Куриона в Аду среди зачинщиков раздора (XXVIII, 94). Курион является перед нами пораженный ужасным недугом: он лишен языка в наказанье за то, что слишком много говорил у Рубикона. В раскаянье Курион терзается мыслью о совете, который некогда дал.
Есть ли у нас здесь возможность констатировать перемену в политических взглядах Данте? В ГЗГГ году Курион – добрый советчик, и его совет Цезарю сплавляется с Дантовым советом императору Генриху. Но в «Комедии» Курион упомянут лишь потому, что сеял раздор меж соотечественниками. Д’Антрев делает вывод, что Данте сожалеет о своих попытках уговорить Генриха на поход против Флоренции и Курион в Аду отбывает наказание за самого Данте. К этому заключению целиком и полностью присоединяется Колин Харди (Colin Hardie), который более всех других исследователей отстаивает односторонний взгляд на «Комедию» как на самоанализ. Чарлз Тилл Дэвис, напротив, и здесь настроен скептически. Если Данте порицает свой совет, данный императору Генриху в ГЗГГ году, значит, он порицает и свой взгляд на императорскую власть как единственную гарантию мира. А это противоречит логике. В «Комедии» нет кары страшнее, чем назначенная Кассию и Бруту, предателям империи.
Но вправду ли так важно, когда именно Данте поместил Куриона в Аду – до или после письма императору Генриху? Курион в «Комедии» находится среди зачинщиков раздора. Данте, должно быть, адресовал себе подобные обвинения, поскольку призывал императора уничтожить Флоренцию. В Курионе, пораженном в Аду гнойными язвами и онемевшем, можно увидеть образ самого Данте, тоже изгнанника, мучимого язвами угрызений совести. Но тот Курион-Данте, что вмешался или пытался вмешаться в мировую историю, призывая Цезаря перейти Рубикон, а Генриха – выступить против Флоренции, тоже присутствует в «Комедии». На моральном уровне Курион, возможно, прообраз величайшего из всех сеятелей раздоров, Люцифера, который сеял рознь в небесах. Но «Комедия» не только этический трактат и не только поэтическое произведение. Она еще и трактат политический, ратующий за всемирную империю, где владыка получит полномочия не от папы, а непосредственно от Бога. «Комедия» прямо указывает противников этой идеи и, значит, противников Бога: Флоренцию, Францию и папу Бонифация VIII, ведь именно они противостоят универсальной монархии. Нелепо думать, что Курион оказался в Аду за поддержку универсальной монархии.
V
В Песни шестой «Чистилища» Данте и Вергилий встречают итальянского поэта Сорделло, трубадура начала XIII века, известного своими политическими амбициями. В одиночестве он сидит на земле и молча смотрит на приближающихся путников. Осанкой, как гласит поэма, он похож на отдыхающего льва.
Вергилий подходит к Сорделло, чтобы спросить дорогу, и слышит встречный вопрос – Сорделло хочет узнать его имя. Обычно Вергилий представляется фразой, которая якобы была выбита на его надгробии и начиналась с названия его родного города – Мантуи. Как только название города слетает с его губ, Сорделло вскакивает на ноги, перебивает его и с радостным криком заключает в объятия. Дело в том, что Сорделло, как и Вергилий, родом из Мантуи. Обуреваемый чувствами, разбуженными именем отчего города, он забывает, что спрашивал, как зовут Вергилия.
В этой живой сцене нам предстает образ Данте в его отношении к Флоренции. Одновременно она воплощает его мечту об истинном братстве земляков, составляя контраст с жестоким расколом, преобладавшим в общественной жизни XIV века. Данте-рассказчик пользуется возможностью выйти за рамки поэмы и сетует на обстоятельства в Италии, на отечество – «скорбей очаг, в великой буре судно без кормила». Страна, которая бы могла быть госпожою народов, стала кабаком. Сорделло и Вергилий бросаются друг другу в объятия, едва услышав имя родных пенатов, но в современной Данте Италии покоя и мира нет, даже те, что живут в одних стенах, грызутся меж собой. Рим – покинутая «вдова, в слезах зовущая супруга»; Флоренция – «больная, которая не спит среди перин, ворочаясь и отдыха не зная».
Вечереет. С наступлением темноты никто в Чистилище не решается продолжать путь вверх по горе, ибо зло здесь не преодолено до конца и сила его с заходом солнца возрастает. Сорделло ведет Данте и Вергилия в долину со свежей травою и тысячами ярких цветов. Там в лучах заката сидят умершие властители. Вместе с сумерками приходят печаль, тоска по дому и ощущение подстерегающей опасности. Властители, воспевавшие Деве Марии, умолкают и смотрят в небо. Два ангела слетают в долину. У них зеленые одежды, две пары крыл, и каждый сжимает в руках огненный меч с неострым концом. Они опускаются по сторонам долины, защищая ее от зла.
Когда настает ночь, Данте заводит с умершими властителями политическую беседу, а Вергилий рассказывает ему о созвездиях, горящих над ними. Во время беседы Сорделло указывает на устье дола. Ощущение опасности вполне оправданно. Приближается змея. Ползет по траве и цветам. Изредка поворачивает свою мерзкую голову и лижет себе спину, словно умывается, как иные животные. В тот же миг ангелы, эти горние ястребы, взмывают вверх. Их крылья с шумом рассекают воздух, и змея, заметив их, спешит скрыться в бездне, откуда она явилась. Ангелы возвращаются на свои места, и в доле властителей вновь воцаряется покой.
Властители, обитающие здесь, слишком предавались земным заботам. Потому и несут покаяние. Тысячи цветов распространяют окрест нежный сплав своей дивной красы и ароматов. Сонм властителей – один из многих в «Комедии» образов справедливого миро-правления и справедливого универсального сообщества. Чем дальше мы вчитываемся в поэму, тем более чудесными красками расцвечивается это царство справедливости.
Бл. Августин различал Град Божий и град земной. Сообщество избранных он называл Иерусалимом, а заблудших и проклятых – Вавилоном. Но как Иерусалим, так и Вавилон для Августина суть города духовные, их нельзя путать с земными. Церковь может походить на Иерусалим, а земное государство – на Вавилон, однако граница меж двумя царствами протягивается через всякое государство и через сердце всякого человека. В течение столетий после Августина христианские философы развивали идею божественного государства. Иерусалим как незримое сообщество, как город, имеющий опору лишь в людских сердцах, все больше превращается в силу, зримую в чувственном мире. Церковь притязает на то, что она и есть Иерусалим, а ее верховный представитель, папа, не только водитель душ, но и владыка над членами общества. То бишь в конечном итоге папа имеет власть и над правителями народов, и над мироправителем, императором. Если император получает одобрение наместника Бога на земле, то и держава, какою он правит, священна. Вавилон исчезает, и возникает царство справедливости во главе с правителем-папой.
Данте всеми силами оппонировал этой политической теории. В частности, памфлет «Монархия» стремится показать, что император получает власть прямо от Бога, а не через посредничество папы. Данте утверждает, что у человечества на земле есть общая цель и состоит она в использовании полной интеллектуальной силы всех людей. Он первый мыслит человечество как единство, значимое само по себе. С точки зрения теологов, человек существовал во имя Бога. И предназначение человечества в том, что оно будет спасено. Поскольку же вся власть на земле сосредоточивается в папской персоне, земные обстоятельства в конечном итоге играют незначительную роль. В «Монархии» Данте показывает, что индивид лучше всего развивается к мудрости и достоинству, если ему дано жить в мире и покое. Вот почему мир и для человечества – самое главное, ибо лишь в мирных условиях люди способны достичь своей цели. Только универсальная монархия, объемлющая всю землю, основанная на справедливости и черпающая силу из сострадания и любви, может обеспечить человечеству необходимый для него мир.
Данте наделяет земную жизнь людей смыслом, не связанным с их спасением и вечной жизнью, – и это важная веха в развитии человечества. Нам легко принять его позицию. Мы тоже понимаем, что на земле необходимо преодолеть раскол и что это может произойти под знаком международной организации. Понимаем, что война способна уничтожить нашу цивилизацию и что важнейшая задача нашей эпохи – обеспечение мира. Вдобавок мы считаем, что назначение человечества в том, чтобы каждый развивался в соответствии со своими способностями, и что это возможно, только если будет сохранен мир и повысится благосостояние.
Данте ненавидел обман, возникающий от смешения Августинова Града Божия с мирским сообществом, и страшился его. Потому и считал своим долгом показать, что мироправитель, император, который в первую очередь и был гарантом мира и верховным представителем земной справедливости, получал санкцию на власть прямо от Бога. В своей жизни он некоторое время боролся за то, чтобы императора официально признали мироправителем. Но, когда создается «Комедия», он уже не видит в этом непосредственно актуальной политической задачи. Поэма рисует образ сообщества, где стремление властителей к справедливости и правосудию существует бок о бок со стремлением святых праведников к спасению и вечности. В Раю справедливые властители сообща образуют орла, который беседует с Данте. Но орел, символизирующий власть римского кесаря, одновременно и птица Божия. Царство Божие, которое Августин мыслил как сообщество душ, сплавляется с земным царством мира.
Я позволю себе вернуться к Фаринате. Пилигрим продолжает беседу с вождем гибеллинов. Ему досадно, что старик Кавальканте понял его превратно, и он просит Фаринату сказать Кавальканте, канувшему в глубь гробницы, что его сын еще жив. Затем он хочет продолжить разговор с Фаринатой, однако Вергилий выказывает нетерпение, поэтому пилигрим успевает только спросить, какие души мучаются здесь вместе с Фаринатой. Тот отвечает:
<…> «Здесь больше тысячи во рву; И Фредерик Второй лег в яму эту, И кардинал; лишь этих назову». (1, X, 118–120)Засим он исчезает, и пилигрим с Вергилием идут дальше. Видя, что спутник огорчен, римский поэт спрашивает: «Чем ты смущен?» (ст. 124). Пилигрим дает ему ответ, содержание которого нам не сообщается. И Вергилий продолжает: «Храни, как слышал, правду роковую / Твоей судьбы <…> / <…> Но знай другую: / Когда ты вступишь в благодатный свет / Прекрасных глаз, все видящих правдиво, / Постигнешь путь твоих грядущих лет» (ст. 127–132). Вергилий подчеркивает важность своих слов, поднимая палец.
Данте-рассказчик таким образом сам подчеркнул важность беседы Фаринаты и пилигрима. Для читателя, желающего понять развитие, которое проходит пилигрим, она имеет первостепенную важность. Несмотря на свое моральное величие, Фарината остается в Аду, так как Данте считает его путеводные звезды несовершенными. В схеме поэмы Фарината действительно еретик, как и старик
Кавальканте, ибо они не дошли до идеи человечества, которое, претворяя в жизнь земное мирное царство, готовит себя к царству вечному. Вот об этом и расскажет пилигриму в Раю Беатриче.
Фредерик II (Фридрих II), самый блистательный из Гогенштау-фенов, и кардинал (Оттавиано дельи Убальдини, гибеллин. – Персе.) – единственные товарищи по несчастью, которых Фарината потрудился назвать по имени, – были честолюбцами, видевшими конечную цель в личной императорской власти. Как и у Фаринаты, их цель лежала в пределах времени. Потому они и в Аду.
Беатриче
На вершине крутой горы Чистилища расположен Земной Рай, где некогда в совершенном счастье жили Адам и Ева. В странствии пилигрима он тождествен солнечной вершине, которую тот видел в Песни первой «Ада» и взойти на которую ему помешали рысь, лев и волчица. Теперь, в Песни двадцать восьмой «Чистилища», он туда добрался.
Земной Рай – это лес. Солнечный свет сочится сквозь листву, благоухают цветы, поют птицы. Господень лес – la divina foresta – противоположность сумрачному и дикому лесу, в котором пилигрим заплутал. Данте-поэт, правда, сравнивает его с сосновым лесом на берегу реки Кьясси под Равенной, но здешний лес неподвластен законам земной природы. Он создан самим Богом. И происходящее в нем – прямое Его волеизъявление.
Прежде чем пилигрим входит в лес, Вергилий сообщает ему, что время его испытаний закончилось. В водительстве Вергилия он более не нуждается. «<…> Я над самим тобою / Тебя венчаю митрой и венцом» (XXVII, 141–142) – таковы последние слова Вергилия в «Комедии».
Заключительные песни «Чистилища» более обычного насыщены содержанием. И я приближаюсь к ним с трепетом. Пытаясь говорить о них, я сильнее прежнего чувствую свою неспособность и сознаю, что с каждым следующим шагом это чувство будет обостряться и достигнет мучительной кульминации в собственно Раю. Мне необходимо с еще большей решительностью выбрать для себя путь, оставив все прочие в стороне. Поэтому я пройду мимо собирающей цветы женщины, которую пилигрим первой встречает в Раю, не стану задерживаться на беседе о природе Рая и невинности, которую они ведут, и сосредоточусь на той, о ком возвещает собирательница цветов, – на Беатриче.
Некогда на земле Беатриче была возлюбленной пилигрима. Уже десять лет, как она умерла и душа ее живет на небесах. Она спускалась в подземный мир, чтобы просить Вергилия спасти ее друга из сумрачного леса. Теперь она вновь покинула истинный Рай, дабы в Земном Раю встретить возлюбленного и стать его водительницей по десяти небесам. Каждый миг своего странствия возлюбленный ее мечтал об этом мгновении. Мысль о встрече толкала его вперед. В трудных обстоятельствах Вергилию достаточно было просто назвать ее имя – и Данте тотчас превозмогал свое малодушие. Перед самым вступлением в Земной Рай – в Песни двадцать седьмой – пилигриму было нужно войти в огонь, где очищались те, кто слишком много внимания отдавал земной любви, и он вдруг оробел, заупрямился. Вергилий сумел унять его страх, сказав, что по ту сторону его ждет Беатриче. «Как очи, угасавшие для света, / На имя Фисбы приоткрыл Пирам, / Под тутом, ставшим кровяного цвета, / Так, умягчен и больше не упрям, / Я взор к нему направил молчаливый, / Услышав имя, милое мечтам», – гласит поэма (XXVII, 37–42). Любовь открыла глаза Пирама, хотя смерть уже вонзила в него свои когти. Ту же силу дарит пилигриму любовь к Беатриче.
Пилигрим идет по Земному Раю вдоль берега реки Леты, из которой дозволено пить спасенным душам. Тогда они забывают все зло, от которого избавились. Воздух за рекой пылает словно от огня. Пилигрим видит семь огромных светильников, движущихся вперед под звуки «Осанны». За светильниками шагают двадцать четыре маститых старца в белых одеждах, увенчанные лилиями. За ними – четыре зверя в венцах из зеленой листвы. У каждого шесть крыл, усеянных глазами подобно телу Аргуса. Данте-поэт заявляет, что не станет подробно их описывать. У него нет на это времени. Желающего узнать больше он отсылает к Иезекиилю (Езекиилю), который в подробностях описал этих зверей.
За зверями следует двухколесная «победная повозка» – вроде тех, что использовались в триумфальных парадах римлян. Ее влечет Грифон с золотым телом. По одну сторону повозки пляшут три женщины, по другую – четыре. За ними взгляду предстают два благообразных серьезных старца, дальше – четверо смиренных, а замыкает шествие одинокии старец, спящии, с лицом, отмеченным гением. Эти семеро, в противоположность двадцати четырем старцам, увенчаны не лилиями, но розами и иными багряными цветами. Видящий их мог бы поклясться, что чело у каждого пылает огнем.
В общем и целом комментаторы едины в толковании смысла этой процессии. Светильники символизируют семь даров Святого Духа. Двадцать четыре старца в венцах из лилий суть двадцать четыре книги Ветхого Завета. Четыре зверя с Аргусовыми глазами представляют четыре Евангелия. Повозка – Церковь, а Грифон – Христос. У правого колеса пляшут три богословские добродетели, у левого – четыре основные (естественные) добродетели. Следующие за ними старцы – оставшиеся книги Нового Завета, а одинокий спящий с печатью гения на челе, конечно же, Иоанн, создавший свое Откровение в состоянии боговдохновленного транса. Из Откровения, а не только из Книги Иезекииля, как уже поняли сведущие в Библии, заимствована большая часть феноменов в процессии – светильники, двадцать четыре старца, звери с крылами, полными глаз. Пилигрим видит в райских кущах процессию Священного Писания. И вместе с тем мимо него шествует само время, вся история человечества от дня Творения до Страшного суда.
В «Комедии» много фантастичного и причудливого. Но Данте-рассказчик стремится придать всему правдоподобный характер. Даже чудовище Герион с лицом человека и телом змея убедило нас в своем реальном существовании. А теперь, при виде процессии, нам кажется, словно Данте являет нашему взору просто аллегорию. Без ключа сцена в лесу останется загадкой. Или, может статься, это предвзятое заявление? Конечно, процессию можно рассматривать как театральное действо, как спектакль в роскошных костюмах и масках, закрывающих лица персонажей. Мы сидим в партере и смотрим на освещенную сцену. Удивляемся и радуемся, что существует мир, столь далекий от будней. Но перед нами вовсе не игра. Рассказчик Данте никогда еще не был так серьезен.
Вокруг повозки парят сонмы ангелов. Один, «подъемля вдохновенный взор» – quasi da ciel messo (ст. ГО), – поет из Песни Песней: «Veni, sponsa, de Libano, veni» («Иди с Ливана, невеста, иди»). Другие ангелы сыплют вокруг цветы и восклицают: «Благословен грядущий!.. Дайте лилий полными горстями». Заметим, что эти слова произносятся не по-итальянски, а на церковной латыни: «Benedictus qui venis! <…> Manibus о date lilia plenis!» Пилигрим видит средь ангелов на повозке женщину в зеленом плаще и белом покрывале, в венке олив. Под плащом у нее огненно-алое платье. Хотя лицо женщины скрыто, он тотчас знает, кто она. «И дух мой, – хоть умчались времена, / Когда его ввергала в содроганье / Одним своим присутствием она», – говорит он, – вновь «былой любви изведал обаянье» – d’antico amor senti la gran potenza. Ощутив ту силу, что покорила его еще отроком, он «глянул влево, – с той мольбой во взоре, – / С какой ребенок ищет мать свою / И к ней бежит в испуге или в горе, – / Сказать Вергилию: “Всю кровь мою / Пронизывает трепет несказанный: / Следы огня былого узнаю!”» – conosco i segni dell’antica fiamma.
E lo spirito mio, que già cotanto tempo era stato che alla sua presenza non era di stupor, tremando, affranto, senza degli occhi aver piu conoscenza, per occulta virtu che da lei mosse, d’antico amor senti la gran potenza. Tosto che nella vista mi percosse l'alta virtu, che gia m’avea trafitto prima ch’io fuor di puerizia fosse, volsimi alla sinistra col rispitto col quale il fantolin corre alla mamma, quando ha paura о quando egli e afflitto, per dicere a Virgilio: “Men che dramma di sangue me rimaso, che non tremi; conosco i segni delTantica fiamma”.И в этот миг пилигрим обнаруживает, что Вергилия рядом с ним больше нет. Репликой о митре и венце Вергилий намекнул, что его роль учителя и вождя пилигрима сыграна до конца. Но пилигрим не сообразил, что остался один и что поэтического искусства, на котором он до сих пор учился, ему уже недостаточно. Вергилий вернулся в Лимб. В сознании пилигрима молнией проносится воспоминание о том, как по прибытии к горе Чистилища друг влажными от росы ладонями умыл его испачканное лицо. С нарастающей болью он трижды повторяет имя Вергилия. Троекратное восклицание само по себе комплимент Вергилию, который в эмоциональных сценах охотно прибегал к этой речевой фигуре. «Все чудеса запретных Еве рощ / Омытого росой» (guance nette di rugiada; XXX, 53) – поэту довольно лишь этих слов, чтобы вновь воскресить ритуал умывания на берегу, – «не оградили / От слез, пролившихся как черный дождь».
Беатриче наблюдает за ним с повозки, она недовольна, что в этот решающий миг своей жизни он горюет об умершем друге. И она говорит: «Дант, оттого что отошел Вергилий, / Не плачь, не плачь еще; не этот меч / Тебе для плача жребии судили». Первое слово Беатриче, обращенное к пилигриму, – его имя. Первый и единственный раз в «Комедии» звучит это имя. Причем с укором. А быть может, и с легким оттенком ревности.
Кто такая Беатриче? Согласно Евангелию от Луки, ученики Иисуса вскричали при входе в Иерусалим: «Благословен грядущий». Эти слова из сто семнадцатого псалма относились к грядущему Мессии, Спасителю рода человеческого. Стало быть, Беатриче идет к пилигриму, будто она – Христос. Одновременно мы знаем, что Беатриче – молодая флорентийка, которую Данте любил в юности. Алое платье, надетое на ней, он видел раньше. Оно напоминает ему об их первой встрече, когда он еще был отроком. Об этом он рассказал в первой из своих книг – в автобиографическом романе «Новая Жизнь» («Vita Nuova»). Там в первых же строках говорится, что он встретил Беатриче, когда ему было девять лет, а ей – на несколько месяцев меньше. «Так предстала она предо мною <…> облаченная в благороднейший кроваво-красный цвет, скромный и благопристойный, украшенная и опоясанная так, как подобало юному ее возрасту. В это мгновение – говорю по истине – дух жизни, обитающий в самой сокровенной глубине сердца, затрепетал столь сильно, что ужасающе проявлялся в малейшем биении»[39].
Алое платье – лишь одно из многих связующих звеньев меж «Новой Жизнью» и «Комедией». Даже видение Беатриче средь сонма ангелов запечатлено в романе, в главе XXIII, где повествуется, как Данте видит во сне смерть Беатриче. Во сне солнце меркнет. Летящие птицы падают мертвыми, начинается землетрясение. Беатриче умерла, и когда поэт смотрит в небо, он видит множество ангелов, возвращающихся в горние выси и поющих «Осанну». Перед ними плывет белоснежное облачко. Это Беатриче, поднимающаяся в небеса. Теперь она появляется в «Комедии» – средь тех же ангельских сонмов, под пение «Осанны».
Чей-то голос на повозке пел о невесте из Песни Песней. Она была реальной женщиной с глазами, как голуби, и волосами, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской. Но вместе с тем являла собою и образ христианки, соединившейся с женихом Спасителем. Поэтому не стоит удивляться, что Беатриче одновременно флорентийская возлюбленная и символ чего-то иного, более высокого.
В Южной Европе существовала – причем долгое время – любовная поэзия куртуазного характера. Трубадуры воспевали женщину, чья красота и прелесть пробуждали в душе самые благородные чувства. Они искали у нее не чувственного наслаждения и не обладания – для этого служили жены и блудницы. Возлюбленная трубадуров была владычицей, domina, которой они подчинялись в служенье. Поэт-возлюбленный относится к ней так же, как рыцарь к своему суверену. Возникавшие таким образом поэтические произведения явились первыми с времен Античности высокими стихами, которые дерзнули воспеть любовь к земной женщине как нечто столь же обязывающее, столь же ответственное, как помыслы о спасении души. Поклонявшийся Даме, domina, на самом деле был еретиком, ведь такие почести подобали лишь одной из всех земных женщин – Пресвятой Деве. Многие трубадуры закончили свои дни в монастырях, где несли покаяние за то, что воспевали земную любовь. Одного из них, по имени Фолько, мы встречаем в Раю, где он на небе Венеры представляет тех, кто посвятил жизнь земной любви, однако вовремя успел обратиться к любви высокой.
Существовала ли Беатриче в действительности, нет ли, с полной уверенностью сказать невозможно. Скорее всего, у нее имелся флорентийский прообраз, звали ее Биче, как сообщает Боккаччо, а была она дочерью некоего Фолько Портинари. Некоторые исследователи готовы жизнь свою поставить на карту – лишь бы убедить нас, что Беатриче просто аллегорическая фигура, персонификация божественной милости или же богословия. Другие, как Этьен Жильсон, прилагают неимоверные усилия, доказывая, что Беатриче не только аллегория. Но что бы мы ни думали и ни писали о ней, в нашем распоряжении не будет иного материала помимо того, каким снабдил нас сам Данте. Имя, которое сообщил нам Боккаччо, а равно и имя Симоне де Барди, за которого она в 1277 году якобы вышла замуж, мало что нам дают. В отношении Данте к Беатриче бесспорно присутствует нечто сродни любви трубадуров. Беатриче несомненно будила у своего поклонника благороднейшие мысли и чувства. Ей присущи все атрибуты, какими наделяли свою возлюбленную трубадуры. Но и в «Новой Жизни», и в «Комедии» она нередко выступает как владычица, как предмет смиренного служения. В «Новой Жизни» она однажды не пожелала поздороваться на улице со своим юным возлюбленным, так как до нее дошли слухи, что он оказывал внимание другой. Здесь она ведет себя согласно всем известным земным правилам любви. Однако она резко отличается от других любящих женщин в литературе. Изольда, Джульетта, Анна Каренина и мадам Бовари предстают в соответствующих произведениях как самостоятельные личности. Любовь для них – страсть, поглощающая их целиком. Любовь – их судьба, они живут в плену ее огня. Ради любви противостоят богам. Франческа в Песни пятой «Ада» была одною из них. Во всякий миг они существуют в своих драмах, и их возлюбленным никогда в голову не придет видеть в них что-то иное, кроме конечной цели своей нежной страсти. А вот Беатриче служит чему-то большему, нежели она сама.
Элиот говорил, что, изображая в «Новой Жизни» Беатриче, Данте повествует не о том, что он вполне осознанно чувствовал к ней, когда она жила на земле. Он показывает, что означала для него любовь к ней, когда он смотрел на эту любовь в свете зрелой рефлексии. Впервые Данте увидел Беатриче маленькой девочкой, и ее красота пробудила неизъяснимые чувства. Став мужчиной, он понял, что любовь к ней вмещала нечто большее, нежели просто желание обладать ею. Он видел в ней совокупность всех земных прелестей и одновременно знак, указующий за пределы ее существа. После ее смерти этот знак не исчез. Она виделась ему как вожатая к высшей красоте и к счастью большему, нежели то, что может подарить обычная земная жизнь. Была приманкой, которая звала его не к себе самой, а к другому.
Но это правда лишь отчасти. Беатриче не только приманка. В поэме она обрисована не так конкретно, как невеста в Песни Песней, однако и в чистую абстракцию никогда не превращается. Данте заканчивает «Новую Жизнь» обетом, что когда-нибудь напишет о ней так, как «никогда еще не было сказано ни об одной женщине»[40]. Эти слова, вопреки общепринятому мнению, относятся не к мере его страсти и не к красоте его стихов, а к характеру его чувства. Для Данте речь не о том, чтобы на состязаниях со всеми возлюбленными трубадуров победный приз достался его любимой. И не о том, чтобы своим поэтическим талантом возвысить Беатриче над всеми воспетыми женщинами. Его возлюбленная была сразу и земной женщиной, и святою, была невестой из Песни Песней и одновременно ею же, но истолкованной на трех мистических смысловых уровнях. В спорах о том, рассматривать ли ее как аллегорию или как реальную женщину, можно поставить точку. Беатриче была и тою и другой.
Эту двойную роль Беатриче играет уже в «Новой Жизни». Когда в главе XXIII Данте видит сон о ее смерти, он проводит параллель между нею и Христом. В главе XXIV сопоставление, как нам кажется, преступает границу кощунства. Данте видит женщину, идущую ему навстречу. Имя ее – Джованна. И он вспоминает, что Джованни (Иоанн) звался тот, кто предшествовал свету истины – la verace Luce — и кто говорил: «Аз есмь глас вопиющего в пустыне: уготовьте путь Господу». Вслед за Джованной и впрямь идет юная Беатриче. В «Новой Жизни» Беатриче именуется чудом, и многие говорят, когда она проходит мимо: «Она не женщина, но один из прекраснейших небесных ангелов»[41], – и все это не комплименты, а констатация факта. В доказательство Данте в главе XXIX подробно обсуждает отношение Беатриче к священному числу три. Весь этот небольшой роман, как известно, отмечен числовой мистикой, которая нам кажется странной. В девять лет Данте впервые встречает Беатриче. А девять – это трижды три. Если вдуматься, говорит Данте, то Беатриче и есть число три. «Таким образом, если три способно творить девять, а творец чудес в самом себе – Троица, т. е. Отец, Сын и Дух Святой, – три в одном, то следует заключить, что эту даму сопровождало число девять, дабы все уразумели, что она сама – девять, то есть чудо, и что корень этого чуда единственно чудотворная Троица»[42].
В Земном Раю, когда двое влюбленных встречаются, пилигрим скорбит не только оттого, что потерял друга. Конечно, ему больно сознавать, что такой добрый и справедливый муж, как Вергилий, вынужден воротиться в Ад. Встреча с Беатриче тоже мучительна. Она одета в алое платье, какое носила ребенком, и он ощущает в себе обаянье давней любви. Одновременно он слышит, как ангелы поют «Благословенна ты». Поэтому встреча с Беатриче после стольких лет означает еще и прощание.
Исчезнувший Вергилий не просто друг, сопровождавший пилигрима в странствии. Он еще и символ дружества, античной поэзии, которую любил Данте, искусства, свободного мира красоты. Вергилий – вочеловеченное Чистилище, образ богатой жизни, исполненной смысла. Покинув Ад, где грешники жили в вечном злом однообразии, пилигрим вновь пережил в Чистилище свою земную жизнь и в этот миг готов вступить в иную вечность – вечность божественного света. Поэтому то, что мы видим в Земном Раю, есть конец времени, завершение жизни.
В Земном Раю, символе счастливой чувственности и цельного земного счастья, происходит встреча Беатриче и пилигрима, и ни он сам, ни читатель не могут не задуматься об этом. Именно теперь Данте, чувствуя «следы огня былого», оборачивается за помощью к Вергилию. Он вдруг понимает, что Беатриче умерла, что, решив изобразить ее как святую, он принес жертву на алтарь поэзии, поступил так ради спасения своей души. Беатриче вовсе не цель его странствия. И он всегда это знал. Но пилигрим живет не в арифметическом примере, а в жизни. И теперь он понимает, что никогда не увидит ее вновь. Когда-то она пробудила в нем неописуемые чувства. Была инструментом, орудием, которое вело его к высокой, богатой жизни. Ее глаза и рот – балконы, откуда он мог заглянуть ей в душу, и душа ее свидетельствовала, что происходит от Бога. Эта платоновская мысль, пронизывающая всю средневековую философию, естественная для каждого, кто любит и кому в лице возлюбленной всегда чудится нечто большее, чем она сама.
Но Беатриче была еще и прекрасным существом, венцом творения. Теперь, в Земном Раю, пилигриму открывается, что отныне Беатриче будет лишь символом, памятью о его юности на земле, во Флоренции. В последний раз Беатриче рядом с пилигримом и рассказчиком, словно она жива, словно Земной Рай существует. Во время встречи в райских кущах все четыре смысловых уровня разом стремятся завоевать сцену, все четыре одолевают поэта слезами и криками, требуя каждый полного его внимания. Пилигрим не выдерживает этого учетверенного напряжения и разражается слезами. Беатриче, называя его по имени, вынуждена вернуть его к осознанию вечного света – цели его пути. Далее, когда Беатриче, а не Вергилий служит пилигриму вождем, ее уже невозможно называть женщиной, буквальный уровень отступает, блекнет, хотя полностью не исчезает никогда. На всем протяжении кантики «Рай», которую, казалось бы, более остальных кантик следует считать посвященной Беатриче, поскольку та играет главную роль почти во всех песнях, она в действительности лишь зеркало, отражающее вечный свет, символ, не обладающий земной личностью и указующий за собственные пределы.
Но прежде чем пилигрим и читатель вступят в величайшую из песней «Комедии», ту, где повествуется об истинном Рае, им дано участвовать в драматическом продолжении торжественной процессии в лесу, звенящем сладостными небесными напевами. Беатриче назвала Данте по имени – повсюду в трех царствах смерти всех зовут по именам в знак того, что главенствует там уже не официальное, связанное с семейным и общественным положением, а совсем другое, связанное с самим человеком и его нравственным и религиозным образом жизни. Беатриче укоряет Данте и, дважды повторив, что она действительно Беатриче, спрашивает, как он дерзнул приблизиться к этой горе: «Как соизволил ты взойти сюда, / Где обитают счастье и величье?» – поп sapei tu che qui e l’uom felice? (XXX, 75) Данте пристыженно опускает голову. Вновь поют ангелы, молят Беатриче посочувствовать раскаявшемуся. Услышав их участливые речи, пилигрим, прежде оцепенелый и безгласный, разражается освобождающими слезами. Напрашивается вопрос, уж не скорбь ли Данте о потерянном друге здесь, в Земном Раю, напоминает Беатриче о том, что, оказавшись перед Богом, человек счастлив и ни о чем другом уже не помышляет.
Беатриче продолжает свою речь: тот, что стоит там, проливая слезы, – употреблением третьего лица она показывает, что их отношения теперь исключают какой бы то ни было личный элемент, – наделен от природы богатыми задатками. Некоторое время он рос и развивался как надо, ибо направляла его она, Беатриче. Но когда умерла, она потеряла для него важность. Он начал гоняться за миражами счастья, скитался обманными путями. Он пал так низко, что не оставалось ничего другого, кроме как показать ему «погибших навсегда» – le perdute genti (XXX, 138). Потому-то она спустилась в подземный мир и уговорила Вергилия стать ему вожатым. Она спрашивает Данте, признаёт ли он свое заблуждение, и он, смущенный, запинаясь, отвечает «да».
Здесь мы получаем подтверждение, что Ад был явлен Данте ради его спасения, дабы он увидел собственные грехи, показанные ему в образах грехов и грешников. Беатриче продолжает допрашивать Данте, процессия меж тем стоит на месте, ангелы внимают. На вопрос, почему он обманывал, Данте, по-прежнему сквозь слезы, отвечает, что с пути его обманчиво сбивала земная тщета – le presenti cose col ialso lor placer (XXXI, 34–35). Беатриче говорит, что раскаянье – точило, тупящее острие суда, а потому Данте следует унять слезы, и добавляет, что ни природа, ни искусство никогда не явят ему такой красы, какою обладал при жизни ее облик. Потерявшего подобное совершенство уже не может привлечь в бренном мире ничто иное. Данте понимает, что она говорит правду, и видит, что нынешняя ее краса превосходит ее земную красу так же, как при жизни она превосходила красою других женщин. Раскаянье жжет столь сильно, что он падает без чувств. Зритель помнит, что пилигрим уже терял сознание перед другой женщиной – перед Франческой в Песни пятой «Ада» он упал, «как падает мертвец». В этот миг Франческа снова здесь, как память о женщине, что была земною целью своего возлюбленного. Теперь Данте совершенно ясно, что Беатриче с самого начала была откровением высшего блага и не могла стать возлюбленной, ибо она – спаситель, Христос в его жизни.
Когда пилигрим приходит в себя, его снова подводят к Беатриче, которая стоит подле золотого Грифона, воплощающего Христа. Он видит отражение Грифона в глазах Беатриче, видит, как в ее зрачках он меняет облик. То он орел, то лев – в знак того, что Христос сразу и Бог, и человек. Яснее невозможно сказать, что такое глаза Беатриче. Это два источника, чьи воды отражают божественный свет. Вдобавок ангелы просят Беатриче показать возлюбленному уста и улыбку: покрывало падает, и Данте видит то, что неподвластно никакому описанию: «О, света вечного краса живая» (XXXI, 139). Он видит неземную улыбку – lо santo ńso – и узнаёт «былую сеть», что притягивала его на земле. На миг он ослеплен, как человек, глянувший на солнце.
Процессия снова приходит в движение. Данте шагает возле одного из колес повозки. Немного погодя Грифон останавливается у дерева, нагого, без листьев и цветов, и привязывает дышло повозки к этому дереву, которое вмиг оживает и покрывается цветами. Беатриче садится возле дерева – все происходит быстро, естественно и фантастично, как во сне. Орел стремительно падает с высоты, терзая кору дерева и задев повозку – та качается, как корабль в бурю. Подкрадывается лисица, норовит залезть внутрь. Дракон снизу пронзает повозку хвостом, вырывает часть днища. И повозка оборачивается диковинным зверем, на котором сидит блудница. Рядом с нею стоит великан, и они то и дело целуются, жадно и похотливо.
Беатриче встает и говорит так, будто в этот миг она сам Христос, ибо произносит обращенные к ученикам слова Христа, как они записаны на латыни боговдохновленной Вульгаты: «Modicum, et non videbitis me; / Et iterum, любимые сестрицы, / Modicum, et vos videbitis me» – «Вскоре вы не увидите меня, <…> и опять вскоре увидите меня». Беатриче рассказывает Данте, что разбитая драконом повозка была и не стала, что вестник Бога, Пятьсот Пятнадцать, явится и убьет блудницу. Она добавляет, что речь ее темна, однако ж события сами разрешат загадку, и просит Данте запомнить увиденное и записать в стихах поэмы: «Хочу, чтоб ты в себе их нес потом, / Подобно хоть не книге, а картине, / Как жезл приносят с пальмовым листом» (XXXIII, 76–78). Здесь она намекает на паломников в Святую Землю: они обертывали свои посохи пальмовыми листьями, чтобы все видели, где они побывали. Иными словами, она дает Данте наказ написать великую поэму.
Что же все это означает? Комментаторы и тут приходят на помощь. Триумфальная повозка, как я уже говорил, – Церковь. Блудница – папский престол при Бонифации VIII. Великан – Франция, вступившая в постыдный союз с папой и вскоре повергшая папский престол в авиньонское унижение. Пятьсот Пятнадцать, вероятно, тот же освободитель, что и Пес, о котором в Песни первой «Ада» пророчествовал Вергилий, и т. д. Но стопроцентной уверенности в том, что перед нами действительно аллегория, которую удастся разгадать, у нас быть не может. Вполне вероятно, что, как полагает английский исследователь Харди, процессия и эпизод с орлом, лисицей и драконом суть образы, символизирующие душевное развитие самого Данте. Отложим до поры до времени эту проблему и спросим себя: что за грех совершил Данте, за что корит его Беатриче? На сей счет имеется целый ряд теорий. Исследователи искали обоснования своих позиций в продолжительности срока, проведенного пилигримом на различных уступах Чистилища, и в степени интереса, проявленного им к различным грехам. Он признается, что надолго задержится на уступе, где очищаются гневные, а вот среди завистников пробудет короткое время. Ему придется гореть в огне сладострастников и нести тяжкие грузы вместе с гордецами. По мнению одних, его грех заключался в том, что после смерти Беатриче он любил других женщин. Подтверждение можно найти в его любовных стихах. Другие считают, что Данте изменил Беатриче, то бишь человеческой мудрости, ради философии и что доказать это можно, штудируя «Пир». Профессор же д’Антрев, как сказано выше, полагает, что в Земном Раю Данте раскаивается, что усматривал в Генрихе VII Христа, ставил целью бренное счастье человечества и оттого стал повинен в ереси.
На мой взгляд, не столь важно, сумеем ли мы установить Дантов грех или нет. Ведь он сам говорит, что с пути его сбивала «тщета земная» – le presenti cose. А это могут быть самые разные вещи. Главное-то для нас вот что: встреча Данте и Беатриче в поэме – великий поворотный пункт, в этот миг вся земная тщета, т. е. жизнь с ее наслаждениями, амбициями, муками, должна уступить место чему-то большему, значительному. «Комедия», как сказал сам Данте в прекрасном и достойном письме к Кан Гранде делла Скала, ставит целью вывести человека из бедствий к счастью. Пилигрим в поэме держит ответ за всех людей. Пройти путь к тому счастью, какое в истинном Раю дарят созерцание и погружение в сверхчувственное, невозможно, если не признать, что всё нужно подчинить означенной великой цели. Женщины, телесные удовольствия, политические амбиции, тоска по родному городу, по жене, детям и товарищам должны отойти в сторону; необходимо признать не только в теории и на словах, но и сердцем, плотью и кровью поступков, что все это просто le presenti cose, тщета земная, не обладающая подлинной ценностью. Поэтому Данте не обязательно сознается перед Беатриче в каком-то определенном грехе. Речь идет о безраздельной устремленности к единственной, главной жизненной цели. Эта встреча знаменует для поэта Данте Алигьери миг становления. Заблуждение, в котором признается Данте, состоит в том, что он не понимал смысла улыбки Беатриче, не понимал, что для него она была Христом. Теперь, по просьбе ангелов, она сбрасывает покрывало, и он видит, кто она такая.
Непросто было понять мысли и чувства Данте, когда в «Новой Жизни» и в «Комедии» он уподобляет Беатриче Христу. В XVI веке, когда готовили первое печатное издание «Новой Жизни» и искали поддержки церковной цензуры, цензоры восприняли как дерзость, что в сновидении поэт в миг смерти Беатриче слышит «Осанну». Столь же недопустимым они сочли изображение ее подруги как этакого Иоанна Крестителя. Последовал приказ вычеркнуть эти пассажи. Позднее большинство предпочитало не обвинять Данте в ереси, а рассматривать Христовы атрибуты Беатриче как своего рода поэтический декор. Подобное толкование, однако, не вяжется со сценами в Земном Раю. Беатриче, как и Грифон, отраженный в ее глазах, сразу и Бог, и человек. Данте придал ей черты Христа, взрывая тем самым земные рамки, некогда ее заключавшие. Но мы никогда не знаем наверное, где находимся. То и дело мелькает алое платье, и сердце бьется все сильнее. Все три царства смерти присутствуют в великой встрече в Земном Раю.
Рай
Вечный свет
В фильме Чаплина «Малыш» бродяга Чарли засыпает на крыльце своей лачуги. Малыша у него отняли, но во сне он получает утешение. Ему снится, что он в раю, где, словно белые курочки, порхают блаженные. Даже собаки и те с крыльями. Давние враги благостно смотрят друг на друга. Бродяга участвует в райском фарсе, который завершается комической потасовкой – только пух да перья летят.
Подобно греческим богам, что низверглись с сияющих олимпийских высот и стали пародийными фигурами у Оффенбаха[43] или агентами по рекламе косметики, символические фигуры христианской фантазии тоже претерпели метаморфозу, снизились. В юмористических журналах и на подмостках ревю черт обернулся паяцем, ангелов же, некогда носивших огненные мечи и сломавших бедро Иакову, когда тот дерзнул сразиться с одним из них, наша церковная индустрия превратила в отвратительных бесполых красавчиков с рождественских открыток.
Чаплиновский сон о рае пародирует небесное бытие, каким оно обычно рисуется в ходячем представлении. Рай – приторная идиллическая вечность, где блеют блаженные овечки да снуют люди в белых ночных рубашках, с пальмовыми листьями в руках. И до того этот рай бесполый и скучный, что пугает молодежь куда страшнее, чем адские муки.
Дантов Рай соотносится с этим наивным небом как фуги Баха с поп-музыкой, как дуб с бумажными цветами, как море со стаканом тепловатой воды. Правда, в нашей стране существует широко распространенная традиция, нежно лелеемая многими поколениями профессиональных историков и гласящая, что эта кантика «Божественной Комедии» наименее значительна как с художественной, так и с человеческой точки зрения. Предположить, что ученые мужи попросту не сумели добраться до «Рая», было бы слишком неучтиво. Возможно, они поддались соблазну смешать Дантово видение с понятием Рая, низведенным до незначительности и комизма. Пора все это пересмотреть. Сам Данте в песнях «Рая» снова и снова повторяет, что у него недостаточно сил для исполинской задачи, которую он поставил перед собою. В Песни тридцатой «Рая», обратив взор к обновленной красоте Беатриче, он говорит себе, что вконец сражён, «как не бывал сражён своей задачей / Трагед иль комик, ни один певец» (ст. 23–24). Он заявляет, что будет рад, если в своих стихах сумеет сохранить хотя бы одну искру вечного райского света. Не раз поэт прибегает к образу человека, пробуждающегося от дивного сна и тщетно пытающегося припомнить увиденное. Лишь ощущение сверхъестественного счастья остается, меж тем как память отказывает, когда он пытается восстановить свои грезы. Тот, кто следует за Данте в этой величайшей его кантике, не может не согласиться с ним. Дать надлежащее представление хотя бы о малой толике изображенного в песнях «Рая» выше моих сил.
Что же такое Рай у Данте? На буквальном уровне – место, куда блаженные попадают после смерти, пройдя долгое или кратковременное очищение в Чистилище. Бок о бок с Беатриче пилигрим идет сквозь небесные сферы. Как в Аду и в Чистилище, он обнаруживает, что здесь царит образцовый математический порядок. Подобно Аду, Рай состоит из девяти кругов, девяти небес, которые одно над другим окружают Землю. Выше этих девяти сфер находится Эмпирей, где обитает Бог, вне времени и пространства. Весь мир заключен в этом божественном вневременном и внепространственном бытии. Всё происшедшее от Бога стремится соединиться с Эмпиреем, и сильнее всего это стремление в девятом, Кристальном, небе, которое именуется также Primum Mobile, Перводвигатель, и вращается с немыслимой быстротою. Каждая небесная сфера черпает силу и движение от лежащей выше. Поэтому всякое небо образует сферу, и чем ближе к Земле, тем медленнее оно вращается. На каждом небе звезды и планеты движутся подобно муравьям, ползущим по движущемуся колесу. В «Пире» Данте подробно описал небеса и даже указал их символическое значение. Семь ближних к нам небес – небеса Луны, Меркурия, Венеры, Солнца, Марса, Юпитера и Сатурна – соответствуют семи искусствам: грамматике, диалектике, риторике, арифметике, музыке, геометрии и астрономии. Восьмому небу – Звездному – соответствует физика, а девятому, Перводвигателю, – метафизика. И наконец, Эмпирей, где живет Божия любовь, – обитель теологии.
Итак, мы находимся не только в блаженстве спасения, но и в великом небесном университете, где всякий раз, как переходим с одного неба на другое, поднимаемся на более высокую ступень, к более высокой мудрости. На каждом из небес пилигрим встречает блаженные души и по обыкновению беседует с ними. Блаженные размещены согласно моральной системе, которая в общем и целом совпадает с представлениями тогдашней теологии. На небе Луны, ближайшем к Земле, обитают души, нарушившие обет. На небе Меркурия – души, жаждавшие мирской славы и оттого совершавшие благородные деяния. Более высокого места они не заслужили, ибо слишком много думали о собственном почете. На третьем небе – небе Венеры – пилигрим встречает тех, что посвятили свою жизнь любви, однако вовремя поняли, что любовь к Богу важнее всего прочего. На небе Солнца беседуют между собой великие ученые и философы. На небе Марса собраны воители за веру, на небе Юпитера – справедливые правители, на небе Сатурна – богословы и Отцы церкви. Наконец, на Кристальном небе – ангелы, одни только и способные выдержать непосредственное присутствие божественного.
Как в Аду и в Чистилище, люди в Раю отделены друг от друга, разбиты на чины и порядки. Однако тут есть большое отличие. Рай – чисто духовное царство, и живущие в нем неподвластны законам времени и пространства. Вот почему Пиккарда Донати, молодая женщина, ушедшая в монастырь, чтобы обрести покой, силой увезенная оттуда и принужденная вступить в ненавистный брак, на самом деле не живет на небе Луны, где ее встречает Данте. И св. Фома Аквинский находится не на небе Солнца, хотя именно там дает Данте свои наставления. Люди являются Данте в разных небесных сферах. Но живут они все на десятом небе в непосредственном единении с Богом. А значит, они знаменуют себя перед Данте на таком-то и таком-то небе не потому, что живут там. В Аду и в Чистилище души заточены в разных кругах. В Раю они являются пилигриму на разных небесах, чтобы продемонстрировать степень своего блаженства, а затем возвращаются к божественному свету. Иначе пилигрим не смог бы постичь мир чистых идей, в котором теперь очутился.
На смысловом уровне несложно понять эту двойственную жизнь блаженных. Живущие в Раю, бесспорно, души спасенные, но их счастье заключается в том, что они достигли раскрытия своих возможностей. Муки Ада мы умели помыслить не как наказание, а как состояние, теперь же, в Раю, нам необходимо понять, что те, кого мы встречаем, не вознаграждены, а живут в состоянии блаженства. С этих людей много спрашивали. Жизнь до предела использовала их возможности, и все они одинаково счастливы. Но в то же время им ясно, что существуют разные степени способностей, что природа – или, если угодно, Бог – поставила предел их возможностям в чувствах, мыслях и поступках, что в мире духа существует иерархия столь же неколебимая, как таблица Менделеева. Они довольны тем, чего сами достигли, и жажду большего воспримут как грех. Мера блаженства совпадает с их натурой.
Мы без труда поймем, что в Раю должно обстоять именно так, если обратимся к примерам из мира поэзии. Бельман – великий поэт. В божественной страстности, какой отмечены его стихи, в порывах, смехе и слезах Фредмана, Мовица и Уллы[44], в блеске и движении зарисовок Стокгольма он давал выход своему гению. Этот несравненный поэт может потягаться с кем угодно, и в минуты вдохновения счастье его вполне достойно десятого неба. Но когда он является нам – в нашей фантазии, – происходит это в небесной сфере, расположенной ниже Шекспировой или Дантовой. Сферы, сотворенные Шекспиром и Данте, выше бельмановской. Диапазон их чувств шире, и представляют они более просторный регион человеческого мира. В Раю наших мыслей мы видим их в более высокой небесной сфере.
Или, пожалуй, точнее будет позаимствовать образ из шахмат, которые Данте хорошо знакомы, недаром он ссылался на эту игру в «Комедии». Шахматист знает, где его предел, то бишь сколько ходов он может предвидеть в тот или иной момент игры. На небесах шестидесяти четырех клеток он безропотно занимает место, соответствующее его способностям. Что же касается сосредоточенности на игре и понимания правил, которые надлежит соблюдать и которые отвергают всякий обман и плутовство, то здесь и гроссмейстер, и новичок равны.
Так обстоит с каждым человеком. Любящий счастлив отдать любви все, на что способен. Но способность любить неодинакова.
Когда мы впервые вступаем в Дантов Рай, предрассудки, обременяющие райскую жизнь, представляют для нас, как я уже говорил, определенные трудности. Однако нужно преодолеть и еще одну сложность. Об Аде и Чистилище Данте писал как поэт, включенный в гордую традицию. Вергилий, по образцу Гомера, позволил своему Энею спуститься в подземный мир. Данте, вероятно зная «Энеиду» наизусть, смело заимствует у учителя. Кто желает узнать об этом подробнее, пусть прочтет известную работу Эдварда Мура. Странствуя в Чистилище, Данте опять-таки имел множество предшественников. Ведь он воспевал земную природу, любовь, воинскую доблесть, церковь. В своем воображении он проделал огромный путь, но был не один.
Поднявшись в Рай, он, напротив, вступает в неизвестность, даже если и получил, может статься, некий импульс от арабского вознесения[45] по поводу чего несколько лет назад в дантоведении велись бурные дискуссии. Лишь теперь он действительно становится подобен Улиссу, искавшему неоткрытые земли на другой стороне земного шара. Теперь его учители – великие мыслители, философы и богословы, а они не были поэтами. Данте предстояло создать собственный мир символов. Во вступлении Песни второй «Рая» поэт обращается к читателям:
О вы, которые в челне зыбучем, Желая слушать, плыли по волнам Вослед за кораблем моим певучим, Поворотите к вашим берегам! Не доверяйтесь водному простору! Как бы, отстав, не потеряться вам! Здесь не бывал никто об эту пору: Минерва веет, правит Аполлон, Медведиц – Музы указуют взору. А вы, немногие, что испокон Мысль к ангельскому хлебу обращали, Хоть кто им здесь живет – не утолен, Вам можно смело сквозь морские дали Свой струг вести там, где мой след вскипел, Доколе воды ровными не стали. (II, 1-15)Ощущение, что находишься в неведомом море, сквозит во всех песнях «Рая». В «Аде» Данте черпал материал для строительства поэмы в узеньких переулках средневековых городов, на местах казней и пыток, в лазаретах и клетках безумцев, на опасных дорогах, какими странствовал в изгнанье. В «Чистилище» он строил из впечатлений от вешней итальянской природы, от литургий в церквах, от встреч с друзьями и ностальгических бесед об отчем городе и о Рае, возможно ждущем впереди.
В «Рае» ему было необходимо создать целый мир форм, пригодный для описания царства чистой духовности. Он строит Рай из света и его игры. Поэтому, вступив в Рай, в первый миг слепнешь. Будто после долгого пребывания в темном помещении вышел на лоно природы, в сияющий солнцем апрельский день. Свет играет в миллионах росинок, в лужицах на дороге, в летучих белых облаках. Он искрится перед глазами, и поначалу ничего не видишь. Глазам надо привыкнуть. Мне кажется, многие не дали себе времени на такую перестройку и оттого так и не сориентировались в Дантовом Раю.
Очутившись на небе Луны, первой станции на его пути, пилигрим видит вокруг лица-видения – так видишь собственное лицо в оконном стекле или в ясном тихом водоеме, где под отражением просвечивает дно (III, 10–12). Он думает, что перед ним вправду отражения, и оборачивается в надежде увидеть людей, которые, как ему мнится, стоят у него за спиной. Беатриче улыбается его ошибке, противоположной той, какую совершил Нарцисс. Ведь он видит не отражения, а блаженных, являющихся в этих легких, сияющих образах. Но так души зримы только на нижних небесах. Выше они целиком облечены светом, и пилигрим не различает ни их черт, ни тел. Поднимаясь с неба на небо, он видит блаженных как звезды, огни, колеса и пылающие уголья. Они словно птицы, стаей летящие над полями. То составляют крест, где отдельные праведники парят будто пылинки в солнечном луче, образуют то венец, то священную букву, то голову орла. И происходит это с такой же естественностью, с какою птицы формируют фигуры в небе. В других случаях они проступают тусклыми огоньками, как звезды в сумерках, – не понять, есть они или их нет. А мгновение спустя ярко вспыхивают и слепят пилигрима своим сиянием, как блеснувший на солнце яхонт.
Данте являет нам лирическую игру, небесный балет, который хотя и разворачивается как будто бы в бесконечном пространстве, тем не менее устойчиво сбалансирован и сплочен. Блаженные в небе Солнца, явленные в виде лучезарных блесков, соединяются в кольца и с пением кружат вокруг Беатриче и пилигрима. Внезапно они умолкают, похожие на череду женщин, замерших посреди танца в ожидании, когда отзвучит музыка. Но чтобы эта картина не слишком заворожила читателя, Данте вскоре вытесняет ее новым, называет кружащие светочи священным жерновом, что обвивает его плечо.
В своей небесной постройке Данте использует феномены на пределе зрительного восприятия, мгновения передышки в природе или в мире людей. Мерные гребки весел толкают лодку вперед, и вдруг, по команде, весла замирают, лодка же продолжает беззвучное скольжение. Души собираются вокруг пилигрима, как рыбы сплываются к тому месте, где что-то бросили в воду. На небе Луны Пиккарда Донати рассказывает пилигриму, как ее выкрали из монастыря, где она искала сердечного покоя, и заставили выйти замуж; закончив свои речи, она исчезает, «как тонет груз». Данте, сколько может, провожает ее взглядом. В Песни двадцать пятой апостол Яков (Иаков) приближается к Петру, словно голубь к голубке, воркуя и кружа возле предмета своего поклонения. Души двигаются как искры в пламени или звуки флейты в аккомпанементе гитары.
О чем же говорит эта игра света и звуков? Счастье в Раю есть отражение вечного света. Потому-то всем, кто является на десяти небесах, должно свидетельствовать о свете. Свет и есть подлинная квинтэссенция Рая. Блаженные так полны света, что пилигриму трудно это осознать. Он проходит закалку, учится выдерживать все больше и больше света. Все блаженные обитают на высшем небе, но являются ему в разных сферах, облеченные более низкими формами света, дабы пощадить его глаза. С каждым мгновением способности пилигрима возрастают, и в этом росте Рай обнаруживает один из важнейших своих компонентов. Рай у Данте – это миг, когда приходит ясность, когда человек после долгих поисков внезапно понимает, что ему открылась более высокая правда, сияющая ярче той, какую он только что уразумел. Рай – противоположность застою. Рай – вечное движение; оттого Данте порой устраивает хороводы душ, подобные движению самих небес. И это движение не перестает. Всё пребывает в расширении, все знают, что когда-нибудь счастье станет еще больше.
В Раю пилигрим обретает то знание, к которому стремится. Недаром же небеса символизируют семь искусств вкупе с физикой и метафизикой. Ведь в Раю собраны все озарения и мудрость, накопленные человечеством, и наслаждение, даруемое этим праздником знания, способен правильно понять лишь тот, кто сумел постичь, что легкомыслие, невежество и баранье упрямство – истинно адское состояние, бытие без надежды.
Пилигриму дается высшее знание об отношении свободной воли к милости, о правильном способе правления, о природе Бога. Его наставляют во многом, что современному читателю кажется неинтересным. Он встречает Адама и первым делом любопытствует, на каком языке некогда говорили в Раю. Ему рассказывают о природе Луны и о происхождении лунных пятен. Он узнает, отчего можно с полным правом сказать, что, разрушив Иерусалим, император Тит отомстил за смерть Христа, хотя тот был распят по желанию самого Бога. Имея возможность получить ответ на высочайшие вопросы, мы, вероятно, предпочли бы спросить о другом. Конечно, содержание той мудрости, что явлена пилигриму, нельзя игнорировать, и ниже оно станет предметом анализа, но стоит все-таки сказать, что Рай производит столь мощное впечатление не только благодаря своей содержательной сущности, но и благодаря состоянию, там царящему. В первую очередь мы обращаем внимание не на результаты, а на внутреннее движение, на принцип, лежащий здесь в основе всего. Быть в Раю – значит приобретать знания и хранить эти знания в сердце как необходимость, как то, для чего мы рождены. Быть в Раю – значит слушать повести о жизни великих людей и загораться страстью, которая вела их в жизни и в делах. Для Данте прежде всего Франциск Ассизский и св. Доминик являют собой несравненные образцы. Быть в Раю – значит обнаружить, что ты дома, что прежде ты любил несуществующее, иллюзорное, теперь же тебе предложено истинно сущее.
Жизнь у Бога
Использовать вещь, говорит Бл. Августин, и просто радоваться ей как таковой совсем не одно и то же. Допустим, мы живем в чужой стране и не будем счастливы, пока не вернемся на родину. В один прекрасный день нам становится невмоготу. Всё, хватит, отправляемся домой. Нам нужно воспользоваться каким-либо сухопутным или водным средством передвижения – тогда мы доберемся до тех краев, где обретем счастье. Но ландшафт, окружающий нашу дорогу, ласкает глаз, да и само путешествие весьма приятно. И мало-по-малу мы начинаем радоваться этим вещам, хотя они всего лишь средство добраться до дома. Нам уже не хочется спешить. Мы все больше увлекаемся случайными радостями путешествия и забываем о конечной цели, а ведь только она и может сделать нас счастливыми… В земной жизни каждый человек находится на положении изгнанника. Мы пилигримы, очутившиеся вдали от Бога, и если желаем вернуться в Его царство, то должны использовать окружающий мир, а не наслаждаться им. Мир – только средство. Через телесное и преходящее мы странствуем навстречу духовному и вечному.
Это августиновское паломничество пронизывает «Божественную Комедию» от первого стиха до последнего. Важным элементом христианства, волнующим умы и чувства, веками было не только странствие души, но и паломничество более конкретного характера. Десятки тысяч паломников ежегодно стекаются со всех концов Европы в Сантьяго-де-Компостела[46], где, по легенде, похоронен апостол Иаков, и в Иерусалим, к Гробу Господню. И в наши дни такие путешествия переплетают религиозные, культурные и политические аспекты с жаждой удовольствий и любопытством, а в результате возникает туристическая индустрия, типичная для Средневековья. Изображая, как пилигрим и Вергилий странствуют по царствам мертвых, Данте охотно обращался к картинам жизни паломников. О кающихся чревоугодниках на шестом уступе горы Чистилища сказано, что, встретив на своем пути незнакомцев, они, как пилигримы, погруженные в глубокие раздумья, оглядываются, но не останавливаются. «Скиталец в думах о возврате скором» – риг соте peregńn che tomar vuole, – гласит Песнь первая «Рая» (ст. 51). В главе о Беатриче я упоминал, что она наставляет Данте с помощью образа – обвитого пальмовым листом посоха паломника в Святую Землю.
В индивидуальных паломничествах сквозит высокое странствие с тою же целью. Данте живет в эпоху крестовых походов. Ему было двадцать шесть лет, когда христиане потеряли свое последнее владение в Святой Земле и пилигримы уже не могли попасть в Иерусалим. Папу Бонифация VIII, этого «первоначальника новых фарисеев», Данте, в частности, обвиняет в том, что он ведет войну с другими христианами, тогда как должен бы воевать с сарацинами (1, XXVII, 85 слл.). В Раю Данте с гордостью позволяет своему предку Каччагвиде рассказывать, как тот, участвуя в крестовом походе, погиб в пути.
Крестовые походы направлялись в Иерусалим, град Господень. Однако – подробнее об этом можно прочитать у Юхана Кидениуса – столица иудеев не была для крестоносцев конечной целью. Земной город Иерусалим являл собою образ, символ Иерусалима небесного, подлинной цели христианина. Предпринимая долгое странствие в Иерусалим, человек тем самым обозначал другое путешествие – долгий жизненный путь в Божий Град. На буквальном уровне Иерусалим был столицей иудеев, а после того как 15 июля 1099 года крестоносцы захватили город, он вошел в Иерусалимское королевство. На аллегорическом уровне Иерусалим – образ Церкви, на моральном – образ души, на анагогическом – Град Божий в Раю.
Знаменательным следствием крестовых походов стало акцентирование буквального смысла. Многие века Иерусалим находился под властью арабов и как бы отступил в дальние дали; на передний план для христианства выдвинулось его символическое значение. Крестовые походы должны были восстановить равновесие между уровнем буквальным и уровнем мистическим. Триумф Дантовой «Комедии» на первом, буквальном уровне, пожалуй, обусловлен тем, что поэт черпал силу в крестовых походах и в восстановленном историческом Иерусалиме.
В поэме пилигрим Данте держит путь к своей райской родине. Отличительная черта людей, встреченных им в Аду, заключалась в том, что они забыли свое паломничество, полагали возможным счастье в чужом краю, т. е. в земной жизни, закоснели в эгоистических желаниях. Франческа видела в возлюбленном цель, а не средство. Улисс искал знания ради знания. Фарината был так поглощен своей политической страстью, что стал равнодушен к вечному. Конечной его целью была Флоренция, подобно тому как конечной целью иудеев, с точки зрения христиан, был Иерусалим. Правильное же отношение предполагало иное: уяснить себе, что Флоренция, как и Иерусалим, образ Небесного Града, который, не утрачивая своего земного значения, предъявляет более высокие требования и открывает более широкие горизонты.
И в Чистилище души порой тоже забывают, что они пилигримы. Прелестные ландшафты и встреча с друзьями вводят их в соблазн не спешить. В Песни второй, когда Каселла поет, говорится: «Мой вождь, и я, и душ блаженных стадо / Так радостно ловили каждый звук, / Что лучшего, казалось, нам не надо» (II, 115–117). Тут-то и вмешивается Катон, укоряя их. Данте забыл о своем паломничестве, подобно тому как, может статься, нередко в жизни ставил свое поэтическое творчество превыше спасения души. Кстати, поет Каселла стихи самого Данте.
Но в Чистилище такие отклонения всего лишь случайности. Души знают, что останутся чужестранцами, пока не достигнут Небесного Града Божия. Потому-то и пели, направляясь в ангельском челне к горе Чистилища, псалом «Когда вышел Израиль из Египта», глубинный смысл которого, по словам самого Данте, возвращение души к Богу. Песнь восьмая начинается стихами, которые снова и снова звучат в кантике «Чистилище». Вечер, вскоре пилигрим сойдет в дол властителей. «В тот самый час, когда томят печали / Отплывших вдаль и нежит мысль о том, / Как милые их утром провожали,/ А новый странник на пути своем / Пронзен любовью, дальний звон внимая, / Подобный плачу над умершим днем» (VIII, 1–6). Когда солнце село, в долине, которую меченосцы-ангелы охраняют от змей, властители поют латинский гимн «Salve, Regina», который в переводе звучит так: «Славься, Царица, Матерь милосердная, жизнь наша, и радость, и упование. К тебе мы взываем, изгнанники, Евины дети, к тебе воздыхаем, плача и рыдая в сей юдоли слез. Заступница наша, обрати на нас свой любящий взор и укажи нам путь из изгнания нашего к Иисусу, благословенному Сыну твоему».
Когда, очутившись среди завистников, у которых зашиты веки, Данте спрашивает, нет ли среди них кого из Италии, он слышит в ответ: «У нас одна отчизна – вечный град (т. е. Рай. – У.Л.), / Ты разумел – душа, что обитала / Пришелицей в Италии, мой брат» (2, XIII, 94–96).
В Раю даже соблазна забыть о паломничестве нет. Об руку с Беатриче Данте вступил в чисто духовное царство, о чем свидетельствует прекращение самого странствия. В Аду продвигаться вперед было трудно – отчасти по причине дикой природы этого места, а отчасти в силу внутренних причин, ведь пилигрим стремился противостоять тому знанию о себе самом, которое предлагалось ему в Аду. В Чистилище поначалу тоже было нелегко, и Данте досадовал на испытания и очищения, каким его подвергали. Только к концу странствия протесты умолкли. В Раю ему достаточно просто представить себе новую небесную сферу – и он уже там. Если Чистилище – школа мыслей и чувств, где требуется напряжение всех сил, то Рай – академия, где подготовительная учеба уже закончена. Когда входит преподаватель и начинается беседа, все сразу приступают к общему великому заданию. Теперь величайшей жертвой будет – отказаться от участия.
Уже на низшей из небесных сфер – сфере Луны – пилигрим испытывает такое же огромное счастье, какое было даровано бедному беотийскому рыбаку Главку, «когда вкушенная трава / Его к бессмертным приобщила в море» (I, 68–69). Пилигрим поднимается от неба к небу, а Беатриче становится все краше, и улыбка ее все прелестней. Песнь двадцать третья – пилигрим уже достиг Звездного неба – начинается с образа птицы, которая еще до рассвета, проведя ночь в гнезде, усаживается на ветку и ждет восхода солнца, ибо ей надо увидеть и напитать птенцов. Вот так же и Беатриче ждет, желая увидеть триумфальную процессию, в которой участвуют Христос, Мария и все святые. Данте говорит, что его глаза в тот миг не вынесли зрелища красоты Беатриче. Он чувствовал себя как человек, который, стоя в тени, внезапно видит цветущую ветвь, озаренную солнцем, что проглянуло в разрыв облаков. Ему кажется, что сам он не выдержит такого яркого света. В другой раз он, как Павел в Дамаске, настолько ослеплен, что вправду теряет зрение, пока Беатриче не исцеляет его взглядом, которому свойственна та же сила, что и руке Анании. Пилигрим, как я уже говорил, проходит закалку. Ранее он закалял свою волю и, наперекор всем препятствиям, мог двигаться вперед. Теперь для него величайшее наслаждение – ринуться дальше, но он должен уразуметь, что еще не созрел для высшей небесной сферы.
Когда христианство только-только возникло, оно было одной из многих религий Римской империи. В течение столетий в него влились идеи античной культуры и восточных мистериальных религий. В XIII веке наиболее активным элементом в христианских спекуляциях является платоновская философия. Хотя Платон и не был известен собственными своими сочинениями, его идеи пронизывали все светские и богословские доктрины. В основе этой философской системы лежало представление, что все сотворенное ищет свой дом.
Огонь стремится ввысь, к своему истоку в сфере огня. Камень па дает вниз, ибо его дом – земля. Душа человека сотворена Богом i хранит смутную память о давнем счастье и о свете, которые она ви дела, когда в миг творения вышла из руки Божией.
В «Пире» Данте пишет, что все вещи стремятся воротиться к сво ему происхождению и оттого душа мечтает вернуться к Богу. «V подобно путнику, который идет по дороге, по которой он никогда н< ходил, и принимает каждый дом, увиденный им издали, за постоя лый двор, но, убедившись, что это не так, переносит свои надеждь на другой дом, и так от одного дома к другому, пока не дойдет дс постоялого двора; так и душа наша, едва ступив на новый и еще не ведомый ей путь этой жизни, направляет свой взор на высшее сво< благо, как на предел своих мечтаний, и потому думает, что оно пре; ней всякий раз, как она увидит вещь, которая кажется душе носи тельницей какого-то блага. А так как знания души поначалу несо вершенны, поскольку она еще неопытна и ничему не обучена, мальк блага кажутся ей большими, а потому о них она прежде всего и на чинает мечтать. Так, мы видим, что малыши мечтают о яблоке, за тем, когда подрастают, мечтают о птичке; еще позже – о красиво! одежде, а со временем – о коне, потом о женщине; а потом мечта ют о небольшом богатстве, затем о большом и еще большем»[47].
О том же паломничестве мысли и сердца наставляет Данте Мар ко Ломбарди на уступе гневных в Чистилище:
Из рук того, кто искони лелеет Ее в себе, рождаясь, как дитя, Душа еще и мыслить не умеет, Резвится, то смеясь, а то грустя, И, радостного мастера созданье, К тому, кто манит, тотчас же летя. Ничтожных благ вкусив очарованье, Она бежит к ним, если ей препон Не создают ни вождь, ни обузданье. (XVI, 85–93)Поэтому, продолжает Ломбарди, человеку нужны законы и правильное управление. Но оттого, что в глубине сердца он хранит память о миге своего творения, он, придя к правильному постижению, будет стремиться назад, к Богу. Ежесекундно он готов оставить чужой край. Однако же каждый человек причастен к первородному греху, явившемуся в мир по причине Евина проступка. Потому-то люди путают цели и средства и прилепляются сердцем к малоценному. Будь воля человека свободной, он устремился бы в объятия Бога, но действительно свободной воля может стать лишь по милости Божией. Эта милость Божия действует двояко. Бог вочеловечился во Христе и тем искупил грех рода человеческого, который люди сами по себе искупить не смогли бы. Но милость Божия действует и в жизни индивида как живая сила, ибо в каждом человеке есть озарение – луч высшего разума, изначальной силы, из которой сотворено всё.
Пилигрим Данте отправляется в странствие по царствам мертвых, чтобы достичь свободы воли, осознать свое происхождение. Теперь, в Раю, он достиг своей цели – с помощью представительницы божественной милости, Беатриче. Теперь для него столь же естественно восходить ввысь, говорит Беатриче, как для реки – сбегать с высокой горы на равнину (3, I, 136–138).
Данте-пилигрим, как и Данте-рассказчик, и в Раю тоже продолжает свой путь, поднимается ввысь стезею света. В Песни двадцать первой ему открывается видение лестницы Иакова, которая в доктрине христианства есть символ восхождения к Богу. Повсюду он видит следы первозданной силы и стремится к ее источнику, достигая его в Песни тридцатой.
С того дня, когда девятилетним мальчиком он увидел Беатриче в алом платье, она стала для него олицетворением красоты и добра. Его манило к ней. Он усвоил урок, что после яблока человек стремится получить коня, после коня – женщину, после женщины – богатства, а после благ богатства – сущее благо. И вот в Песни тридцатой он расстается с Беатриче, ибо теперь перед ним изначальный свет, который в ней отражен.
Данте видит (как уже не раз, он заимствует образ из Псалтири и из Откровения св. Иоанна) поток света, лучезарную реку, струящуюся меж вешних берегов. Из потока взлетают живые искры, садятся на прибрежные цветы. Они похожи на яхонты в золотой оправе.
Словно опьяненные ароматом лугов, эти искры вновь погружаются в поток, но едва одна ныряет в глубину, как оттуда тотчас взлетает другая. Данте устремляется к потоку, как голодный младенец, проспавший время кормления и жадно тянущийся к материнской груди. Но стоит ему всмотреться, как зрелище меняется. Видение принимает облик золотой розы, распускающей свой венчик под струями света. Ангелы, точно пчелы, погружаются в чашечку и снова взлетают. На лепестках розы, будто в круглом амфитеатре, сидят блаженные. До сих пор Данте не мог видеть блаженных, окутанных светом, как шелковичные черви коконами. Теперь его зрение закалено, и он видит их черты. Словно на маскараде, когда пришло время снять маски. Перед Марией, как некогда на земле, простирает крылья архангел Гавриил. Это и есть подлинный Рай, Эмпирей, находящийся вне времени и пространства и объемлющий все сотворенное. Подобно холму, что глядится в водоем у своего подножия, словно любуясь собственной красотой, перед Данте открываются отражения тысяч престолов. Райская роза отверзает созерцателю свое золотое лоно. В небесном амфитеатре он видит Августина, чье учение о паломничестве в тот миг победно подтверждается. Видит и возлюбленную Беатриче, которая вновь заняла свое место в розе, оставленное ради него, и шлет ей благодарность за то, что она вывела его из рабства к свободе.
Св. Бернард Клервоский, величайший из созерцателей и служителей культа Марии, является подле Данте и рассказывает ему о царстве любви, куда он пришел, где нет ничего случайного, нет ни горя, ни жажды, ни голода. Бернард возносит молитву к Марии, просит ее даровать Данте величайшее из всех переживаний – созерцание вечного света. Данте смотрит вверх. Более он ничего не желает. Его странствие прекратилось. Уже нет лестницы, чтобы подниматься по ней, нет тропы, чтобы идти. Он говорит, что увиденное лишь смутно брезжит в его памяти. Так бывает, когда, пробудившись от счастливого сна, забываешь все его подробности. Остается только ощущение счастья. Он смотрел как бы в луч света, не в силах отвести глаза. Недвижимо всматривался и видел три равновеликих круга, разных цветом, будто отраженных друг в друге. Они совпадали, но оставались числом три. В одном явился образ человеческого лица. Подобно геометру, который напрягает все старания, чтобы измерить круг, и не находит решения, поэт ищет связь меж кругом и этим лицом. И вот тут в его сознании молнией вспыхивает озарение – он понимает: поэма окончена, слова иссякли. Он узрел «любовь, что движет солнце и светила» – Г amor che move il sole e l’altre stelle.
Так что же такое Рай, в конце концов? Рай – это не место в заоблачных высях, да, пожалуй, и не посмертная награда душам. Рай – он здесь и сейчас. Человек – уголек, а Бог – огонь и жар, пишет Ангелус Силезиус[48]. Тот, кто не у Бога, холоден, темен и мертв. Иначе говоря, Рай – мгновение, когда уголек души горит, и к этому мгновению Данте ведет своих читателей. Он строит Рай с помощью христианских доктрин, населяет его набожными христианами, ангелами разных чинов. Показывает нам золотую розу, старинный символ созерцания, напоминающий также и об алой розе, символе земной любви, которая некогда пробудила в нем дух жизни. В итоге он подводит нас к трем кругам, символизирующим триединого Бога, и в одном из них мы видим лицо Сына человеческого. Мистерию вочеловечения – вот что открывает молния, вспыхивающая в его сознании.
Данте создал для нас исполинскую розетку своей поэмы и сплошь заполнил фигурами ее стекла. Теперь он бросает нас к источнику света. Все сказанное – лишь образы и отражения. Все свидетельствует о вечном свете и ведет к нему. Когда в последнем великом видении Данте прозревает в круге человеческое лицо, мы понимаем, что так и должно быть. Зажженный любовью, человек причастен божественному свету. Рай – прямое, непосредственное созерцание. Рай – состояние любви, и достигший его знает: изгнание миновало, он дома, больше незачем куда-то идти.
Ангелы
Впервые ангел появляется в Песни девятой «Ада». В конце Песни восьмой пилигрим и Вергилий подходят к адскому городу Диту, окруженному высокой стеной. За нею видны пылающие башни. Вокруг города течет илистая река смерти – Стикс. Перевозчик Флегий только что переправил путников через поток и высадил у городских ворот, где стоят на страже падшие ангелы. Заметив, что пилигрим облечен плотью и не принадлежит к их законной добыче, демоны приходят в раздражение. «Кто он, что сюда идет, / Не мертвый, в царство мертвого народа?» – вопрошают они (VIII, 84–85). Вергилий тщетно уговаривает стражей пропустить их. Бесы кричат, что впустят Вергилия, но в наказание за то, что указывал пилигриму дорогу, он навсегда останется в их городе. Данте они призывают вновь пройти «безумный путь» – la folle strada (ст. 91), – каким он пришел сюда.
Пилигрим, больше прежнего напуганный этим неистовым упорством, просит Вергилия – «О милый мой вожатый» (О саго duca mio; ст. 97) – не бросать его и уже подумывает, не отказаться ли вообще от странствия по царствам мертвых. Вергилий успокаивает его, намекая, что кое-кто придет им на помощь. Спустя секунду падшие ангелы исчезают в городе и запирают ворота перед носом у путников.
Пилигрим и Вергилий стоят во тьме меж стеною и рекой. Вергилий напрягает слух, всматривается во тьму по-над водами, но взор его проникает недалеко, ибо воздух мутен от тумана и испарений. «И все ж мы победим, – сказал он, – или… / Такая нам защитница дана! / О, где же тот, кто выше их усилий!» (IX, 7–9) Единственный раз на всем пути Вергилий запинается, и это еще больше пугает пилигрима, который делает мрачные выводы из рассеченной речи – la parola tronca. Взгляд, брошенный вверх, на рдяную верхушку высокой башни, ничуть его не ободряет. Там внезапно являются три женщины-демона, обвитые зелеными гидрами, с ядовитыми змеями в волосах. Вергилий называет их имена. Это Эринии, или Фурии, – Мегера, Алекто и Тисифона. Они терзают себе грудь, бьют себя по лицу, испускают пронзительные вопли. Зовут Медузу: пусть придет и своим страшным взглядом окаменит пришельца, чтобы он никогда больше не вернулся к земной жизни. Тут Вергилий, защищая Данте, ладонями закрывает ему глаза. Описывая эту сцену, Данте-рассказчик сделал все, чтобы подчеркнуть, каким сопротивлением зло встречает того, кто хочет вторгнуться в его владения. Путь самопознания полон ужасов.
В этот миг по реке прокатывается грохот:
И вот уже по глади мутных вод Ужасным звуком грохот шел ревущий, Колебля оба брега, наш и тот, — Такой, как если ветер всемогущий, Враждующими воздухами взвит, Преград не зная, сокрушает пущи, Ломает ветви, рушит их и мчит; Вздымая прах, идет неудержимо, И зверь и пастырь от него бежит. Открыв мне очи: «Улови, что зримо Там, – он (Вергилий. – У.Л.) промолвил,— где всего черней Над этой древней пеной горечь дыма». Как от змеи, противницы своей, Спешат лягушки, расплываясь кругом, Чтоб на земле упрятаться верней, Так, видел я, гонимые испугом, Станицы душ бежали пред одним, Который Стиксом шел, как твердым лугом. Он отстранял от взоров липкий дым, Перед собою левой помавая, И, видимо, лишь этим был томим. Посла небес в идущем признавая, Я на вождя взглянул; и понял знак Пред ним склониться, уст не размыкая. О, как он гневно шел сквозь этот мрак! Он стал у врат и тростию подъятой Их отворил, – и не боролся враг. «О свергнутые с неба, род проклятый, — Возвысил он с порога грозный глас, — Что ты замыслил, слепотой объятый? К чему бороться с волей выше вас, Которая идет стопою твердой И ваши беды множила не раз? Что на судьбу кидаться в злобе гордой? Ваш Цербер, если помните о том, И до сих пор с потертой ходит мордой». И вспять нечистым двинулся путем, Нам не сказав ни слова, точно кто-то, Кого теснит и гложет об ином, Но не о том, кто перед ним, забота… (IX, 64-103)Речь идет об архангеле Михаиле. А его слова о потертой морде Цербера намекают на приведенный в «Энеиде» рассказ о том, как Геркулес, спустившись в царство мертвых, чтобы освободить Тезея, посадил пса на цепь – оттого-то у этого чудовища и потерта морда. Ангел, играючи отворяющий железные адские врата и наводящий Данте на мысли о Геркулесе и о змее, перед которой в панике разбегаются лягушки, принадлежит к ветхозаветной традиции, как указывал в своей книге об ангелах у Данте Романо Гуардини (Romano Guardini). Такие же ангелы являются перед патриархами. И подобный же ангел во Второй Книге Царств простирает руку свою на Иерусалим, дабы во славу Господню истребить сей город. Джотто еще писал ангелов такой мощи, решимости и силы, но племя их вымерло в эпоху Возрождения, когда ангелы низошли в человеческое, умалились, изнежились. Лишь Гёльдерлин[49] и Рильке[50] – но опять-таки ненадолго – вернут ангелам их былое величие. Впрочем, об этом желающий может прочитать у Гуардини.
Ангела из Песни девятой отличает прежде всего суровая сосредоточенность на своей задаче. Он сошел в подземный мир, чтобы помочь пилигриму продолжить путь, однако не удостоивает его ни взглядом, ни словом. Обличая демонов, он уже думает о следующей миссии. Это – воитель Божий, и ни один рыцарь под забралом, в броне, направляющийся к Гробу Господню, не преисполнен служения так, как он.
На всех уступах Чистилища пилигрим видит ангелов, усиливающихся помочь душам, очистить их и просветить. Они уже не воители, а, скорее, пастыри, отправляющие службу в огромном храме под куполом небес, по ту сторону смерти, ведь Чистилище и вправду такой храм. Но и ангелы Чистилища величественны и повелительны. Более всего они схожи с ангелами Нового Завета, с Гавриилом, который, явившись Марии, сказал ей: «Не бойся!» Один из этих ангелов мелькал в моем рассказе. Появляется он уже в Песни второй «Чистилища», стоит на корме челна, который перевозит спасенные души по мировому океану с обитаемой земли к подножию горы Чистилища. Мощные взмахи ангельских крыл движут этот челн вперед. Когда судно причаливает, спасенные гурьбой спешат на берег. Ангел осеняет их крестным знамением и вновь правит в море, плывет за новыми душами, являя нам ту же сосредоточенность, что и архангел Михаил. Он весь облит сиянием света.
Первые восемь песней «Чистилища» изображают нижние части горы, своего рода преддверие собственно Чистилища. Только в Песни девятой пилигрим вступает в Пургаторий и начинается подлинное очищение. Как и в Песни девятой «Ада», повествующей о вступлении в адский город, главную роль здесь тоже играет ангел. Пилигрим видит перед собою врата и три большие ступени, ведущие к ним. Первая – из белого мрамора, отполированная как зеркало – есть символ самопознания и раскаяния. Вторая – шершавая, из почерневшего пурпурного камня. Это признание, исповедь. Третья ступень алая как кровь. Это воля к искуплению. На алмазном пороге сидит ангел с обнаженным мечом в руках. Пилигрим опускается на колени у ног ангела, и завязывается беседа. Концом меча ангел чертит на лбу пилигрима семь Р – от Peccata, грехи, – в знак того, что он не свободен ни от одного из семи смертных грехов. «Смой, чтобы он сгинул, / Когда войдешь, след этих ран» (IX, 113–114), – говорит ангел. Затем он вынимает из-под землистых своих одежд два ключа, серебряный и золотой, и отпирает ими врата. Он сообщает, что получил ключи от апостола Петра, который велел ему «ошибиться, / Скорей впустив, чем отослав назад», тех, что склоняются у его ног. Створки тяжелых ворот с гулом отворяются. Изнутри долетает музыка: «Те Deum laudamus» – «Тебя, Бога, хвалим». Словно в церкви, когда гремит орган и человеческие голоса то внятны, то теряются в потоке мощных звуков.
Эта сцена – аллегория христианского раскаяния, искупления и спасения. Мы входим в собор, а собор – вполне понятный образ Церкви, подобно тому как ангел с ключами – образ духовенства. Одновременно сцене присуща собственная жизнь, она лучится невыразимой чистотой, которой пронизано все Чистилище. Ангел сделал еще один шаг к человечности. Он интересуется самим Данте, беседует с ним. Правда, важной роли этот ангел не играет. Всё в «Комедии» сосредоточено на пилигриме, он-то безусловно и есть главный герой. Поэма повествует о его душевном развитии и спасении, а потому ни пилигрим, ни рассказчик не могут задерживаться, тратить время на экскурсы и всяческие украшательства. Поэт Данте поступает так же, как архангел Михаил, который, отворив врата адского города, уже размышляет о своей следующей миссии. Едва одна сцена подходит к концу, поэт тотчас обращается к новой. Сами стихи как бы нетерпеливо спешат вперед. Данте быстро расстается с созданными сценами, не тратит лишних слов.
На разных уступах Чистилища являются ангелы, стирающие со лба пилигрима буквы Р. Но, когда он достигает Рая, ангелы перестают исполнять индивидуальные задачи. Лишь теперь пилигриму открывается их сокровенная природа. Те ангелы, каких мы встречали в Аду и в Чистилище, относятся к низшим чинам ангельской иерархии. Ангелы Рая рядом с ними – как полотна Рембрандта рядом с беспомощной мазней пятилетнего ребенка.
Вместе с Беатриче пилигрим достиг девятого, Кристального, неба. Четвертый стих Песни двадцать восьмой гласит: «<…> как, узрев в зеркальной глубине / Огонь свечи, зажженный где-то рядом, / Для глаз и дум нагаданный вполне, / И обратясь, чтобы проверить взглядом / Согласованье правды и стекла, / Мы видим слитность их, как песни с ладом» – так Данте видит свет, отраженный в прекрасных глазах Беатриче. Обернувшись, он зрит Точку, блеск которой столь ярок, что слепит глаза. Точка эта бесконечно мала. В сравнении с нею звезда покажется огромной, как луна. Вокруг Точки вращается огненный круг, да так быстро, что даже Кристальное небо не может тягаться с ним скоростью вращения. Этот круг опоясан еще несколькими кругами, общим числом их девять. Вот как пишет сам Данте:
Увидел Точку, лившую такой Острейший свет, что вынести нет мочи Глазам, ожженным этой остротой. Звезда, чью малость еле видят очи, Казалась бы луной, соседя с ней, Как со звездой звезда в просторах ночи. Как невдали обвит кольцом лучей Небесный свет, его изобразивший, Когда несущий пар всего плотней, Так Точку обнял круг огня, круживший Столь быстро, что одолевался им Быстрейший бег, вселенную обвивший. А этот опоясан был другим, Тот – третьим, третий в свой черед – четвертым, Четвертый – пятым, пятый, вновь, шестым. Седьмой был вширь уже настоль простертым, Что никогда б его не охватил Гонец Юноны круговым развертом. Восьмой кружил в девятом; каждый плыл Тем более замедленно, чем дале По счету он от единицы был. Чем ближе к чистой Искре, тем пылали Они ясней, должно быть, оттого, Что истину ее полней вбирали. При виде колебанья моего: «От этой Точки, – молвил мой вожатый, — Зависят небеса и естество. Всмотрись в тот круг, всех ближе к ней прижатый: Он потому так быстро устремлен, Что кружит, стратью пламенной объятый». (XXVIII, 16–45)Цитата типична для той деловитости, что отличает «Комедию». Едва ли не ждешь, что автор оставит стихи и примется вычерчивать план или диаграмму. Примечательно, что Данте с его страстью к математической точности сохранил столько сентиментальности и патетики. Он суров, точен и, казалось бы, должен отринуть бурные проявления чувств и профессионально-«поэтическое».
Пилигрим, изучавший девять концентрических кругов, отмечает, что движутся они противоположно зримому миру. Бог сотворил Землю посредине, и небеса сферами возносятся вокруг нее. Эмпирей, где пребывает Бог, объемлет весь мир, а девятое небо, самое просторное и огромное, вращается с величайшей быстротою, движимое стремлением соединиться с Богом. В круговой системе, зримой пилигриму теперь, центр образует срединная Точка, «чистая Искра» (la favilla рига). Ближайший к ней огненный круг движется быстрее всех и соответствует, таким образом, Кристальному небу, Primum Mobile, Перводвигателю, которого пилигрим и достиг в этой песни «Рая».
Беатриче разъясняет ему мнимое противоречие. В материальном мире большему объему сферы соответствует и большая энергия. Поэтому небеса движутся тем быстрее, чем выше мы поднимаемся и чем больше их окружность. Но в чисто духовном мире – а пилигрим именно там и находится – обстоит наоборот. Дух не имеет протяженности. Для него нет лучшего символа, чем точка бесконечного света.
Данте видел не что иное, как девять ангельских чинов, описанных великим автором поздней Античности Дионисием Ареопагитом[51], который в этой песни назван по имени (XXVIII, 130) и в Средние века пользуется поистине непререкаемым авторитетом. Фома Аквинский и Майстер Экхарт цитируют его едва ли не с таким же благоговением, как Библию. С его учением об ангелах я познакомился через работы Хуго Балля[52] (Hugo Ball) и Маццео, к которым и отсылаю читателя. По мысли Дионисия, иерархия есть учение о разных степенях света в ангелах и духовенстве. Ангелы – чисто духовные силы, интеллигенции. Они являют собой разные ступени духа на пути меж человеком и Богом. Материальной формы у них нет. Лишь в нашем представлении они принимают некий облик. На самом деле описать их невозможно, ибо они суть священное знание и священное служение. Дионисиеву ангельскую иерархию можно назвать небесной лестницей, воздвигшейся во сне Иакова меж землею и небом. Сияющая, живая иерархия одновременно являет нам образ самого Бога, который манифестируется именно в этой духовно-священной череде откровений.
Ангелы Дионисия, стало быть, не имеют ничего общего с ангелами Сведенборга[53]. Когда Библия ведет речь об ангелах в образе небесных тел или крылатых существ, когда Откровение говорит об ангеле ветров и огня, когда апостол Павел в Посланиях Ефесянам и Колоссянам делит ангелов на чины, происходит это лишь оттого, что наша способность к пониманию весьма ограниченна и нуждается в таких образах. Однако ж никак нельзя смешивать образы с чисто духовными силами, каковые они символизируют. «Мы должны показать, – пишет Дионисий, – в какие священные формы облечены в Писании священные изображения небесных иерархий и до каких вышних сфер должно подняться в сих образах, дабы не разделять профанного представления толпы, что небесные и богоподобные духи суть существа многоногие и многоликие; что созданы они по образцу животных и сходны с быками или же хищными львами; что по образцу орлов у них крючковатые клювы или, как у иных птиц, мохнатые перья в крыльях. Негоже нам, говорю я, и воображать себе, будто по небу катятся этакие пылающие колеса, или будто там есть престолы наподобие земных, к которым первобожество может прислониться, или будто есть там пегие кони и потрясающие копьями воители и вообще что-либо из того, что изображено в Писании со священной пластичностью и огромным богатством знаменательных образов. Само собою разумеется, что Откровение, говоря о духах, не обладающих формою, прибегло к иерархическим фикциям, ибо, как упомянуто выше, оно учитывало нашу способность восприятия и стремилось вести нас ввысь путем, оной соответствующим и для оной естественным».
Стало быть, приступая к рассмотрению ангельских феноменов, о которых Данте повествует в Песни двадцать восьмой, мы должны брать в рассуждение бестелесную природу ангелов. Ангельский круг, ближайший к чистой Искре, самый священный – Серафимы. Слово это означает «возжигающие», или «сжигающие». Серафимы суть любовь, целиком и полностью. Они неотрывно зрят в свет Бога и понимают Бога, не нуждаясь ни в каком образе для Него. Они представляют собою чистое созерцание, блаженное безумство. С непостижимой быстротою эти ангелы устремляются к Богу. Потому-то их огненный круг движется быстрее всего и вся в бытии. За Серафимами следуют Херувимы, за Херувимами – Престолы. Те и другие отображают разные уровни знания о вечном. Следующие три ангельских круга – Господства, Силы и Власти. Если Херувимы и Престолы вкушают излияние Божие, не испытывая затруднений от несовершенства фантазии или дееспособности, неколебимо стойки по сути своей и черпают пищу непосредственно из вечной красоты, то низшие ангельские чины получают свое знание через прямой контакт с ближайшим вышерасположенным ангельским кругом. Эта триада знаменует неодолимое стремление достичь света. Последние три чина – Начала, Архангелы и обычные Ангелы. Только теперь мы нисходим к духовности, которая, как можно помыслить, проявляет интерес к земным делам. Начала дают советы царям. Архангелы помогают нациям. Ангелы вмешиваются в жизнь обычных людей.
Весь сотворенный мир, где странствовал пилигрим, повсюду обнаруживая иерархический план, управляется этим ангельским воинством. Кристальным небом властвуют Серафимы, небом Звезд – Херувимы. Остальные семь ангельских чинов соответствуют семи нижеследующим небесам. Чистилище, отвечающее жизни на земле, и Ад, царство осужденных, на самом деле суть отражения ангельских иерархий в иной форме жизни. Ниже ангельских чинов расположена иерархия церковная с папой, архиепископами, иерархами, священниками и монахами. В Аду мы находим тот же армейский порядок и среди падших ангелов. Вся средневековая картина мира отмечена страстью к порядку. Одно из определений Бога гласит, что Он – порядок, а зло – беспорядок, отсутствие гармонии, составляющей сущность Бога.
Иерархическое мышление коренится отчасти в учении платонизма о постепенном восхождении к праидее, а отчасти в высказываниях апостола Павла о разных ангельских чинах и о нашем здешнем, земном знании, которое всего-навсего отрывочно, неполно по сравнению с прямым постижением, к какому мы однажды придем. В «Комедии», однако, принципиальная иерархическая схема заимствована в первую очередь у Дионисия. Пилигрим переходит из класса в класс великой ангельской школы в полном согласии с Дионисиевым учением.
Что же такое ангелы на внутреннем, сокровенном уровне? Хуго Балль говорит, что учение об ангелах – это учение христиан о сверхчеловеке. Ангелы – богочеловек и его восхождение через пространства. Ангелы – знание об экстазе, который только и может достичь окончательного знания о Боге. Дела ангелов – мистерия, доступная лишь чувству. Различия чинов в их мире тоже обусловлены чувством. Ангельская иерархия – это шкала духовных состояний, граничащих друг с другом и переходящих друг в друга. Как писал в стихотворении «Жизнь ангелов» Яльмар Гулльберг[54], тоже черпавший вдохновение у Дионисия, ангелы суть «связующая нить меж Богом и людьми».
Главная идея в том, что, поднимаясь от низшего круга к высшему, душа полностью сохраняет знание о низшей ступени. Каждая более высокая форма включает все функции и озарения всех более низких уровней. Эту же мысль высказывал в своей биологии Аристотель: всякая форма жизни включает все функции низших форм плюс функцию, свойственную только ей самой. Животные обладают всеми функциями растений, а кроме того – сознанием. Человек обладает всеми функциями растений и животных, а кроме того – разумом. Серафим же обладает всеми озарениями и знаниями, которыми владеют все человеческие и божественные иерархии, а кроме того – собственной способностью безобразного созерцания. Этому закону подчинено и развитие пилигрима. Предшествующие ступени его жизненного пути всегда, каждое мгновение с ним. Даже на высочайших небесах мы слышим отзвуки Ада, видим промельки земли, картины величия и упадка Флоренции. Экстаз и расширение сознания, к которому приближается пилигрим, не отдаляют его от земной его жизни. Всё присутствует здесь и сейчас. К такой целостности Данте пришел благодаря иерархическому мировоззрению. В этом развитии пилигрим являет нам и образ самого Бога, объемлющего собою все сотворенное, все небеса и землю вместе с Адом. Бог всеведущ и вездесущ, но обладает еще и тем, что свойственно Ему одному, – абсолютной любовью.
Сделаю новую попытку: ангелы суть воплощения духа. Свет – образ Бога и одновременно любовь, благо и справедливость. Серафимы – образ любви, которая, заглянув однажды в глаза любимого, уже не в силах отвести взор. Ангелы – постижение способности человеческой души возвыситься, обрести более благородный свет, больший авторитет, более совершенную преданность тому единственному, что имеет значение. Ангелы – сила, пребывающая в движении к лучшему.
Мысли Серафимов не дробятся. Их созерцание не прерывается, и оттого нет у них ни памяти, ни сознания. Они живут в блеске вечного света. И путь пилигрима ведет именно туда. В Песни двадцать девятой Беатриче рассказывает пилигриму об этой блаженной жизни. Своим рассказом она подготавливает его к последнему великому переживанию. В Песни тридцатой видение ангелов исчезает. «По мере приближения прекрасной / Служанки солнца меркнет глубина / От славы к славе, вплоть до самой ясной» (XXX, 7–9), – точно так же меркнут ангельские воинства перед чистым светом Бога, к которому приблизился Данте. В течение одной головокружительной секунды он прозревает жизнь Серафимов, не выразимую словами. Мы прошли все ступени. И теперь нам легче понять, почему Данте постоянно нуждался в вожде. Ведь на всем протяжении долгого странствия он никогда не был одинок. Сначала рядом с ним находился Вергилий, затем – Беатриче. В последних песнях его наставляет Бернард Клервоский. Сущность Бога – вечное нис– и восхождение, истечение света, стремящегося воротиться к своему началу. Христианин должен упорно подниматься по ступеням. Таков путь любви, завершающийся в любви к Богу, не потому, что Он благ, исполнен любви и справедлив, не потому, что Он даритель всех благих даров, а потому, что Он – Бог и сам по себе достоин любви.
Касаются ли эти слова только христианина, того, кто верит в ипостасного Бога? О нет! Реальность, здесь изображенную, может понять в первую очередь тот, кто не станет объяснять божественное и облекать его в образы, но распознает в последних песнях «Комедии» картину высочайшего духовного состояния, какое способны представить себе наши чувства. Свет, любовь, безмолвие, справедливость суть лишь образы невыразимого.
«Комедия» как драма свободы
«Во все времена и во всех областях искусства работать по образцам полагали весьма похвальным, ибо это шло на пользу конечной цели, а конечная цель была – средствами искусства действовать подобно природе. В литературе наших дней такое недопустимо, поскольку – особенно в небольших обществах – подстерегает опасность, что образец будет узнан и персонажи, задуманные автором как типические, станут вполне определенными лицами, вызывающими новый, неприятный интерес к произведению, на который автор совершенно не рассчитывал… Принято считать, что фантазия творит, т. е. создает из ничего, но она есть всего лишь дар организации, приводящий в порядок большие или меньшие богатства впечатлений и опыта и расставляющий их по местам, где их светильники смогут освещать дорогу мысли… Величайшие в мире писатели были реалистами. Данте в своей “Божественной Комедии” даже более чем реалист, ибо он не маскирует своих персонажей».
Эти слова принадлежат Стриндбергу[55]. Он записал их в разгар ожесточенной полемики, вызванной «Новым царством»[56], где он под прикрытием весьма прозрачных личин выставляет на посмешище множество представителей официальной Швеции. Данте, которым здесь прикрывается Стриндберг, тоже имел все основания размышлять о неприятном интересе, какой пробуждала его поэма из-за поименно упомянутых в ней лиц. Встретив на небе воителей за веру своего предка Каччагвиду, пилигрим Данте просит у него совета. Не будет ли у меня, говорит он, неприятностей, когда я вернусь на землю и в своей поэме открою, каких людей встречал в весьма нелестных местах? Предок призывает Данте ничего не утаивать. Заявляет, что у Бога есть особый замысел, когда он дозволяет пилигриму в его странствии через царства умерших встречаться исключительно с теми, чья слава всем известна. Мало толку обличать порок общими фразами или изображать злодеев, которых никто не знает. Дантов рассказ, полагает Каччагвида, будет действен, только если для примера укажет лиц, всем знакомых.
Вследствие педагогического метода, изложенного Дантовым предком, «Комедия» стала изображением высшего общества. Куда ни глянь – сплошь князья, известные всему миру поэты, святые, политические и религиозные лидеры, рыцари, основатели религиозных орденов. Гражданин наших дней, обладающий чувством социальной ответственности, может подумать, что «Комедия» отражает не слишком привлекательное равнодушие к безымянным судьбам, к слугам, батракам, подневольным работникам процветающих флорентийских мануфактур. Хотелось бы видеть не только благородную Пиккарду Донати, вознагражденную Раем, но и какую-нибудь избитую до синяков коровницу или замерзшего в канаве бродягу. Данте живет в аристократическом обществе, где классы и сословия разделены так же четко, как ангельские чины. Но художнический гений Данте и неизменный его такт инстинктивно защищаются и против такой критики поздних эпох. Словно чувствуя, что его поэме недостает социального баланса, в своих подробных сопоставлениях он обращается к безымянным судьбам, образующим благотворный контраст множеству высоких властителей и знатных дам. Крестьянин в предвешнюю пору стоит в дверях и с грустью смотрит на блестки инея в траве. Он думает, что вернулась зима и что его скотине и ему самому придется голодать. Он плачет и сетует, но утешается, когда выходит солнце и иней тает. С радостью в сердце он выгоняет животных на пастбище… Пастух ложится спать подле стада, в горах, под открытым небом. Работники «в венецианском арсенале» варят в огромных котлах тягучую смолу и мажут «обветшавшие» суда (1, XXI, 7 слл.).
Как и Стриндберг, Данте хочет «средствами искусства действовать подобно природе». Называя имена своих персонажей, он поступает в согласии с той этико-эстетической теорией, какой придерживается, а не из жажды мести и не из стремления к скандалу. Разумеется, это не исключает, что определенную роль могли сыграть и личные мотивы и, к примеру, многократные выпады против папы Бонифация VIII коренились не только в убежденности Данте, что этот понтифик унизил папский престол, но и в том, что личные беды Данте отчасти обусловлены действиями Бонифация VIII. Однако, вне всякого сомнения, уроки, какие Данте хочет преподать читателю, производят особенно сильное впечатление, оттого что каждый грех и каждая добродетель соединены со знаменитой личностью. Здесь Данте сознательно шел по стопам ветхозаветных пророков. Ведь их сила в том, что они действовали невзирая на лица и не боялись говорить правду сильным мира сего прямо в глаза.
Но это не дает нам права утверждать, будто Данте претендовал на то, что ему известно конечное предназначение людей, которых он в своей поэме помещает в Ад. Подобно Стриндбергу он мог сказать, что изображал типаж, а не конкретное лицо. Он клеймил порок, падение нравов, раскол в Италии и в мире. Конкретные примеры были зажженными светильниками, освещавшими путь мысли и фантазии.
Верил ли Данте, что может знать, как складывалась посмертная жизнь персонажей «Комедии», нет ли, – так или иначе остается проблема совести, не затронутая в беседе пилигрима и Каччагвиды. Стриндбергу было достаточно легко убедить себя в собственной правоте, и он без особого труда выносил страдания своих жертв. Конечно, в Ад он их не помещал, однако определил в некое инферно позора, которое будет существовать, пока читаются его книги, и ускользнуть из которого узникам невозможно.
Едва ли Данте верил, что те, кого он поместил в Аду своей поэмы, в «действительности» тоже терзались в подземном мире. Но он безусловно знал, что, поименно называя своих современников как осужденных мукам в разных кругах Ада, он причиняет страдания родным и друзьям. Не мог он оставаться равнодушным и к последствиям того, что, изображая Ад в столь жутких красках, увеличивает в мире страх. Ведь таким образом он признавал, что справедливость соединима с вечными карами.
«Комедия», как я неоднократно подчеркивал, – это рассказ о том, как пилигрим Данте в своем странствии овладевает все более глубоким знанием. В Аду он нередко сострадает грешникам, а стало быть, бунтует против Божия суда. Но в Аду он не только гость, он и сам часть этой юдоли наказаний и мук. Ад – внутри его существа. Оттого-то мысли его и чувства порой путаются, оттого-то он пятнает себя ненавистью и впадает в упрощенчество. Глядя на иных узников, считает их наказание справедливым и держится мрачно и сурово. Перед лицом самых страшных мук его сочувствие умирает.
В Чистилище это смятение чувств утихает. Там открыто вырывается на свет тема, в Аду лишь намеченная. Существует ли вообще Ад? Когда пилигрим и Вергилий прибывают к подножию горы Чистилища, навстречу им выходит Катон.
«Кто вы и кто темницу вам открыл, Чтобы к слепому выйти водопаду? — Колебля оперенье, он спросил. — Кто вывел вас? Где взяли вы лампаду, Чтоб выбраться из глубины земли Сквозь черноту, разлитую по Аду? Вы ль над законом бездны возмогли Иль новое решилось в горней сени, Что падшие к скале моей пришли?» (I, 40–48)Слова Катона пробуждают надежду, которая сохраняется на всем протяжении песней «Чистилища».
Композиция поэмы действительно предполагает, что в этот миг вспыхивает надежда. Пилигрим, как некогда Христос, поднялся из подземного мира. Поэт Данте энергично подчеркнул эту параллель, приурочив прибытие в Чистилище, то бишь в новую жизнь, к пасхальному утру. В христианской страстной мистерии вот-вот будет отвален камень от Гроба в Иерусалиме. Печать смерти сломана, и чудо спасения свершилось. Одновременно читатель знает, что лишь верующие в Христа и умершие в примирении с Ним будут спасены. Если он случайно об этом забыл, то, странствуя через Ад, получил наглядное разъяснение данного важнейшего тезиса христианства. В «Монархии» Данте писал, что «никто, как бы он ни был совершенным в моральных и интеллектуальных добродетелях, как по своему характеру, так и по своему поведению, не может спастись без веры; предполагается, что он никогда ничего не слышал о Христе, ибо разум человеческий сам по себе неспособен усмотреть справедливость этого, однако с помощью веры может»[57]. Но Дантово стремление разобраться с этой проблемой без ущерба для своего чувства справедливости слишком велико, чтобы он удовольствовался рассуждениями, которые развивает в «Монархии» и с которыми христианину, ищущему не только покорности веры, но справедливости и чистой совести, трудно примириться. Его вынуждают признать, что люди несут наказание лишь за то, что никогда не слышали о Христе. Вдобавок он должен одобрить и карательный устав, который нормальное человеческое чувство справедливости принять не может. Он понимает, что христианское учение о спасении, возможном лишь одним-единственным путем, ведет – если трактовать его буквально – к чудовищным последствиям. Коль скоро существуют реальный Ад и реальный Рай, всё на земле должно подчиняться этой идее спасения. Здесь заложен корень нетерпимости и кровавых избиений еретиков, о чем так много свидетельств в истории Средневековья.
Данте назвал свою поэму «Комедией», так как вычитал у Аристотеля, что поэтическое произведение, начинающееся печально, но имеющее счастливый конец, следует называть именно так. Трагедии же, напротив, произведения, начатые в счастье, а конец имеющие печальный. Учитывая эти дефиниции, можно сказать, что «Божественная Комедия» оправдывает свое название. Дантова поэма – драма освобождения, и ее герой после боли и очищения переживает высшее счастье. Однако «Комедия» есть драма освобождения и в другом смысле: она борется с представлением о всемогуществе зла и, пожалуй, побеждает.
Уже в Песни четвертой «Комедии», когда пилигрим только-толь-ко вошел в Ад, он задумывается о проблеме спасения – при встрече с язычниками в Лимбе. И спрашивает Вергилия, был ли кто когда-нибудь спасен из Ада благодаря собственным или чужим заслугам: «Взошел ли кто отсюда в свет блаженный, / Своей иль чьей-то правдой искуплен?» – О per suo merto о per altrui (IV, 49–50). Вергилий, тотчас разумеющий скрытый смысл вопроса, рассказывает, что Христос после смерти сошел в подземный мир и взял с собою в Рай великих протагонистов Ветхого Завета – Адама, Авеля, Ноя, Моисея, царя Давида, Авраама, Рахиль и многих других. Вергилий не говорит, спасены ли они в силу их собственных заслуг или в силу милости, а стало быть, ответа на вопрос Данте не получает. Но мысль, что многие, хотя и жившие до Христа, обрели спасение, все же утешает. В Чистилище эта проблема возникает вновь уже при встрече пилигрима с одним из тех, кому полагалось бы находиться в Лимбе, – с Катоном. Катон спрашивает, не упразднены ли законы Ада, ведь он видит перед собою язычника Вергилия и пилигрима Данте, еще не распростившегося с земною жизнью. Озадаченность Катона может удивить, поскольку он сам – пример спасения вопреки канонам христианства. Если рассматривать «Комедию» как судебный протокол, то Катон – преступник втройне. Во-первых, он был язычником. Во-вторых, противником Цезаря, которого сам Бог избрал даровать миру мир. А в-третьих, Катон совершил самоубийство. Совсем недавно в самой глубине Ада пилигрим видел Брута и Кассия, дерзнувших восстать на орудие Божие – Цезаря. В лесу самоубийц он встретил благородного канцлера Фридриха II, и единственным преступлением этого человека было то, что он наложил на себя руки.
Но Катон, писал Данте в «Пире», жил не для себя, а для человечества. Он посвятил свою жизнь справедливости и был глубоко нравствен в своем сердце. Этот человек следует велению совести, пусть даже наперекор богам. Встретив Катона, пилигрим действительно получил ответ на вопрос, поставленный в Песни четвертой «Ада»: мог ли кто спастись, искупленный своей правдой?
Если может спастись такой человек, как Катон, то нет ли спасения и для Франчески, для Брунетто Латини и благородного партийного вождя Фаринаты? Разве не обладали и они благородством сердца? Разве не действовали по велению своей совести? Не пустеют ли в этот миг все девять кругов Ада? Остается ли там вообще хоть одно существо? Ведь если говорить о совести и разуме каждого из них, то освободить нужно всех. Не только великих личностей, которые, подобно Улиссу, следовали своей звезде и до позднего вечера жизни искали доблести и знанья, но и всех остальных, в том числе воров, лицемеров, чревоугодников, прорицателей, насильников и предателей. Если внять человеческому разуму и человеческой справедливости, нет такого греха, что заслуживал бы вечной кары.
На небе Юпитера пребывают души справедливых правителей, являющихся пилигриму в образе орла. Орел не просто символ Рима и справедливой власти, но, разумеется, еще и образ величайшего из властителей, Бога, чья сущность не только любовь, но и справедливость. Стоя перед этой имперской и божественной птицей, Данте признается в сомнениях, какие испытывал всю жизнь. Если человек рожден на берегу Инда и ни от кого не слышал и не читал о Христе, но живет праведно, без греха в жизни и помыслах, справедливо ли предать его после смерти проклятию (XIX, 70–78)? Как можно считать его преступником потому только, что в таких обстоятельствах он не веровал? Этот же вопрос Данте ставил и в «Монархии». Орел дает ему суровый ответ. Как земные черви, то бишь люди, не видящие вперед дальше пяди, могут брать на себя роль судей? Бог, говорит орел, всегда справедлив и благ, и все исходящее от Него справедливо. Данте, слыша этот ответ, сравнивает себя с аистенком, который, поев, смотрит на мать, еще несколько времени парящую над гнездом. Примечательно, однако, что поэма продолжается, будто этого ответа недостаточно. Орел, остающийся перед Данте и читателем на протяжении нескольких песней, рассказывает в Песни двадцатой, что глаз его сплетен из образов шести благороднейших земных правителей: Давида, Траяна, Езекии, Константина, Гульельмо II и Рифея. С полным основанием внимание Данте привлекает присутствие троянца Рифея среди упомянутых совершенных избранников. Рифей жил задолго до христианства, и орел говорит о нем, что в Раю он постиг, что многого в милости Божией миру осмыслить не дано. Иными словами, Данте получил ответ на свой вопрос, когда среди блаженных властителей встретил праведного язычника. Однако сомнение в груди побуждает его попросить разъяснения. Орел отвечает, что Рифей спасен, ибо всю свою любовь отдал справедливости, которая открыла ему грядущее искупление. А заканчивает он свои речи так:
Ваш суд есть слово судей самозванных, О смертные! И мы, хоть Бога зрим, Еще не знаем сами всех избранных. Мы счастливы неведеньем своим; Всех наших благ превыше это благо — Что то, что хочет Бог, и мы хотим. (XX, 133–138)В особенно сильном волнении Данте всегда прибегает к образам птиц. Здесь, в царстве справедливых властителей, он обращается к трем образам, и все они отражают ту свободу и спокойствие совести, каких он наконец достиг. Образ аистенка в гнезде я уже упоминал. Второй птичий образ – сокол, освобожденный от клобучка, он вытягивает шею и расправляет крылья. Третий – жаворонок, который высоко над землей вдруг умолкает, словно завороженный красотою собственной песни. Орел, как гласит поэма, подал пилигриму «целительную влагу» – soave medicina. И его близорукость превратилась в ясновидение.
Стало быть, Данте словно бы хочет сказать, что справедливость по природе своей есть качество, ведущее к Христу и триединому Богу, даже если человек не слышал проповедей христианства. Это и есть целительная влага, дарованная пилигриму в Раю. Читатель переживает это развитие как драму освобождения. Но разыгрывается она не только в вымышленной реальности. Параллельно драма свободы идет на другой, большей сцене. Там тоже вершится движение к свободе. Ад пустеет сразу двояко. Поэма – об этом нельзя забывать – мыслится одновременно на четырех уровнях. Девять кругов Ада, горящие гробы еретиков, позолоченные куколи из свинца, в которые облачены лицемеры, а равно уступы Чистилища и световые феномены Рая можно рассматривать лишь как образы и символы, как жуткие или прекрасные одежды, облекающие правду чисто духовной природы.
В Песни четвертой «Рая» Беатриче рассказывала пилигриму, что блаженные являются ему на разных небесах, дабы он уразумел степень их блаженства. Она добавила, что Библия говорит с людьми таким же способом. Писание ведет речь о «Божией деснице», хоть и имеет в виду нечто иное. Церковь изображает Гавриила и Михаила в облике людей, хотя в буквальном смысле это, конечно же, не так. Здесь Беатриче, а с нею и пилигрим выступают как ученики Дионисия Ареопагита. Но не только в Раю переживаемое и осознаваемое человеком суть всего лишь образы. Все вещи – знаки. В каждом человеке и в каждом слове сквозит иная реальность.
Когда мысли и чувства человека восходят по шкале ценностей, он несет с собою знания обо всех пройденных ступенях. Вот почему и в Раю в нем живы Ад и Чистилище. Но, становясь частью высшей сферы, они преображаются, дематериализуются. Три мистических смысловых уровня выступают на передний план. Ад оборачивается просто аллегорией. Зло – отрицанием, отсутствием света, но даже в этой своей недостаточности оно организовано в соответствии с ангельскими иерархиями. Да, Бог сотворил мир и Библию на четырех уровнях, однако, по замыслу Его, всё живущее когда-нибудь войдет в вечность и реальным, истинным станет в конце концов один уровень – свершение в Раю. Так же и «Комедия», приближаясь к концу, как бы упраздняет себя на буквальном плане. И в этом она – составная часть движения в тогдашнем христианстве, стремящегося достичь свободы от иносказательности, дематериализовать учение, побороть множество вульгарных и суеверных тенденций.
Зримым монументом высится над этим движением готический собор. Камень воздвигается в пространство, растворяясь в кружеве резьбы, в шпилях и фиалах. Высокие стрельчатые окна поглощают стены, вбирают внутрь весь небесный свет. Церковный неф-корабль полон пересекающихся солнечных лучей, отблесков и отражений. Этот храм выстроен ради света, да-да, готический собор – изваянный свет, и все, что не есть свет, нереально. Церковь стремится упразднить самое себя и стать одним лишь светом. Чудовища, придавленные грузом колонн, сказочные крылатые звери, что скорчившись сидят на шпилях, вихри красок в розетках окон – все это создает ощущение близкой метаморфозы. «Божественная Комедия» – часть того же порыва. Один-единственный смысловой уровень разрывает свой кокон и расправляет крылья на более высоком плане.
Слово «средневековье» звучит скверно и в представлении многих людей связано с такими понятиями, как суеверие, косность, фанатизм. У нас в Швеции закреплению подобного взгляда весьма способствовал Виктор Рюдберг[58]. Однако что касается христианства, то в эти столетия ему свойствен порыв к освобождению. В эпоху Данте оно еще допускало свободное творчество. Учение не мертво, оно не сундук с бесценными, некогда созданными для всех сокровищами. Оно растет, ломает давние формы, ищет свободы от образов, стремящихся материализоваться вокруг и поработить его. Люди, участвующие в этом процессе творения, не рабы религии, а ее хозяева.
Если б Данте спросили, он бы, несомненно, заявил, что откровение, наитие имеет преимущество перед разумом. Но вместе с тем он полагал, что когда-нибудь разум полностью постигнет и признает истины веры. Вергилий в Лимбе сознает, что христианство представляет собой более высокую истину, точно так же, как Ньютон в
Лимбе современной математики сознавал бы, что Эйнштейн продвинулся дальше него. В этом плане Дантова картина мира оптимистична; она не усматривала пропасти меж верой и разумом. Вера была, так сказать, более высоким уровнем разума.
Но Данте еще и человек, для которого главенствующую роль играет справедливость. Ему трудно принять то, что собственный его разум одобрить не может. Недаром «Комедия» насыщена взрывной энергией, действующей изнутри. Мы привыкли рассматривать Ренессанс как пробуждение. Как начало фантастической экспансии, строительство цивилизации, которая ныне готова покорять другие планеты. Но меж тем как мощный новый свет направляют на внешнюю реальность и всю власть отдают Улиссу, проникающему обок с Колумбом, Коперником, Галилеем, Ньютоном и Эйнштейном в ранее запретные миры, гаснет свет на той сцене, где разыгрывалась драма человеческой души. Век XIII рассматривает человека как центр мира. Вокруг него высятся десять небес, в конечном счете существующих лишь в его собственном представлении. Природа и история – творения Бога, который объединяет всё могучей силой Своей любви, а представления об этом Боге, действующем во времени и пространстве, по сути, всего лишь проекции собственных мыслей и чувств человека. Великие исследовательские экспедиции отряжаются в человеческую душу. И одна из них – Дантово странствие через три царства смерти. Обретенное там знание о человеческих способностях к злу и к добру и о религии, которая являет собою не музейный экспонат и не урок в воскресной школе, а рост, развитие, – это знание таково, что Данте, пожалуй, до сих пор находится в передовом отряде человечества. Я был бы безмерно счастлив, если б когда-нибудь сумел догнать этот отряд.
Библиография
Произведения Данте
La Divina Commedia. Testo Critico della Societa Dantesca Italiana. Комментарии Скартаццини и Ванделли. Изд. 17-е, 1958.
Божественная Комедия/ Перевод М.Л. Лозинского. Примечания И.Н. Голенищева-Кутузова и МЛ. Лозинского. М., 1968 («Литературные памятники»).
Новая Жизнь/ Перевод И.Н. Голенищева-Кутузова. Примечания И.Н. Голенищева-Кутузова. // Данте. Малые произведения. М., 1968 («Литературные памятники»),
О народном красноречии/ Перевод Ф.А. Петровского. Примечания И.Н. Голенищева-Кутузова. Там же.
Пир/ Перевод прозы А.Г. Габричевского, канцон – И.Н. Голенищева-Кутузова. Примечания И.Н. Голенищева-Кутузова// Там же.
Монархия/ Перевод В.П. Зубова. Примечания И.Н. Голенищева-Кутузова/ / Там же.
Письма/ Перевод И.Н. Голенищева-Кутузова и Е.М. Солоновича. Примечания И.Н. Голенищева-Кутузова// Там же.
Стихотворения// Там же.
О Данте и его «Комедии»
Erich Auerbach. Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendlandischen Literatur. A. Franke AG Verlag, Bern 1946
Michele Barbi. Life of Dante. Translated and Edited by Paul G. Ruggiers. University of California Press 1960
William Blake. Illustrations to the Divine Comedy of Dante. 1922
Hugo Ball. Dionysios Areopagita. 1958
Johan Chydenius. The Typological Problem in Dante, a Study in the History of Medieval Ideas. Helsingfors 1958
Concordance. Существует несколько дантовских конкордансов. Автор пользовался книгой: Concordance of the Divina Commedia, ed. Edward Allen Fay. The Dante Society, Cambridge, Massachusetts 1888
Umberto Cosmo. A Handbook to Dante Studies. Translated by David Moore. Basil Blackwell, Oxford 1950
Benedetto Croce. Dantes Dichtung, ubersetzt von Julius Schlosser, 1921
Ernst Robert Curtius. Europaische Literatur und Lateinisches Mittelalter. Bern 1948
Charles Till Davis. Dante and the Idea of Rome. Oxford 1957
Dante i Sverige. 1965
T.S. Eliot. Dante, London 1965
T.S. Eliot. Om poesi, oversattn. Per Erik Wahlund, 1958
A.P. d’Entreves. Dante as a Political Thinker, London 1952
Erik Falk. Dantes uppfattning av stat och kyrka, Stockholm 1917
Karl Federn. Dante und seine Zeit, Leipzig 1899
Francis Fergusson. Dante’s Drama of the Mind. A Modern Reading of the Purgatorio. Princeton University Press 1953
Gustav Freden. Dante, 1965
Etienne Gilson. Dante and Philosophy, First Harper Torchbook Edition 1963
C.H. Grandgent. Dante, London 1920
Romano Guardini. Der Engel in Dantes Gottlicher Komodie, Leipzig 1937,
München 1951 Romano Guardini. Das Licht bei Dante, 1956
C.G. Hardie. Dante’s Comedy as Self-Analysis on Integration. 1959
Franz Xaver Kraus. Dante, sein Leben und sein Werk, sein Verhaltnis zur Kunst und zur Politik. Berlin 1897
Nancy Lenkeith. Dante and the Legend of Rome, London 1952
Kurt Leonhard. Der gegenwartige Dante. 1950
Edvard Lidforss. Dante. Stockholm 1907
Joseph Antony Mazzeo. Structure and Thought in the Paradiso, Cornell University Press 1958
Joseph A. Mazzeo. Medieval Cultural Tradition in Dante’s Comedy, Cornell University Press 1960
Edward Moore. Studies in Dante. First Series. Oxford 1896
Mystik og Mystikere. En antologi ved Aage Marcus. Forord av Vilh. Gronbech. 1964
Arnold Norlind. Dante, 1925 Arnold Norlind. Skapande liv. Bonniers, 1929
Anders Nygren. Den kristna karlekstanken genom tiderna. Eros och Agape, II. 1966
Leonardo Olschki. The Myth of Felt. Berkeley and Los Angeles 1949
Giovanni Papini. Dante Vivo. Translated by Eleanor Hammond Broadus and Anna Benedetti. London 1934
Ezra Pound. The Spirit of Romance. Peter Owen, London 1960
Viktor Rydberg. Medeltidens magi. 1864
Dorothy Sayers. Introductory Papers on Dante, London 1958
Bernard Stambler. Dante’s Other World. London 1958
E.N. Tigerstedt. Dante: Tiden – Mannen – Verket. 1967
Paget Toynbee. A Dictionary of Proper Names and Notable Matters in the Works of Dante. The Clarendon Press 1898
Paget Toynbee. Dante Alighieri, his Life and Works. New York 1910
Wolfgang Schone. Uber das Licht in der Malerei. Berlin 1954
Charles S. Singleton. An Essay on the Vita Nuova. 1949
Charles S. Singleton. Dante Studies I. Commedia Elements of Structure. 1954
W.B. Stanford. The Ulysses Theme. A Study in the Adaptability of a Traditional Nero. 2nd ed. Basil Blackwell, Oxford 1963
Geo Widengren. Kungar, profeter och harlekiner, 1961
Philip H. Wicksteed. Early Lives of Dante and of his Poetical Correspondence with Giovanni del Virgilio. 1898
Charles Williams. The Figure of Beatrice. London 1943
Karl Vossler. Medieval Culture, an Introduction to Dante and his Times, I and II. New York 1958
W.B. Yeats. Ideas of Good and Evil. London 1903
Улоф Лагеркранц
От Ада до Рая
5 -89826 -220 -2
Примечания
1
В русском издании всюду цитируется стихотворный перевод М.Л. Лозинского. Здесь и далее прим. перев.
(обратно)2
Герой романа шведского писателя Харри Мартинсона «Дорога в Царство Колоколов».
(обратно)3
Бедье Жозеф (1864–1938) – французский филолог-медиевист, автор стилизованно-го переложения средневекового романа «Тристан и Изольда» (1906).
(обратно)4
Экелунд Вильгельм (1880–1949) – шведский поэт и эссеист.
(обратно)5
Пьеса ирландского драматурга С. Беккета, написанная в 1961 г. (русский перевод Л. Беспаловой).
(обратно)6
Бельман Карл Микаэль (1740–1795) – знаменитый шведский поэт. Русские переводы его «Посланий, песен и завещаний Фредмана» выпущены издательством Чернышева (СПб) в 1995 Г.
(обратно)7
Карлфельдт Эрик Аксель (1864–1931) – шведский поэт.
(обратно)8
Крусеншерна Агнес фон (1894–1940) – шведская писательница.
(обратно)9
Дагерман Стиг (1923–1954) – шведский писатель, ведущий прозаик 40-х гг. XX в.
(обратно)10
Теннисон Альфред (1809–1892) – английский поэт-сентименталист.
(обратно)11
Здесь и далее письмо к Кан Гранде делла Скала цитируется в переводе И.Н. Голенищева-Кутузова и Е.М. Солоновича.
(обратно)12
Один из героев «Сказаний прапорщика Столля» шведского поэта Юхана Людвика Рунеберга (1804–1877).
(обратно)13
Стагнелиус Эрик Юхан (1793–1823) – шведский поэт-скальд.
(обратно)14
Линдегрен Эрик (1910–1968) – шведский поэт и критик; член Шведской академии.
(обратно)15
Перевод Э. Линецкой.
(обратно)16
Имеется в виду римский поэт Публий Папиний Стаций (ок. 40—ок. 95), автор «Фиваиды» и незаконченной «Ахиллеиды».
(обратно)17
Перевод Э. Линецкой.
(обратно)18
Буркхардт Якоб (1818–1896) – швейцарский историк и философ культуры, искусствовед, зачинатель так называемой культурно-исторической школы в историографии; автор трудов по истории культуры Италии в эпоху Возрождения.
(обратно)19
Дрейк Фрэнсис (1540?—1596) – английский мореплаватель, вице-адмирал, пират; в 1588 г. фактически командовал английским флотом при разгроме испанской Непобедимой Армады.
(обратно)20
Бруни Леонардо (из Ареццо) (1369–1444) – государственный секретарь Флорентийской республики, писатель, автор биографии Данте.
(обратно)21
Пир, IV, XIV. Здесь и далее данный трактат цитируется в переводе А.Г. Габричевского.
(обратно)22
Хорнборг Эйрик (1879–1965) – финский историк и писатель.
(обратно)23
Пир, I, III.
(обратно)24
О народном красноречии, II, VI. Перевод Ф.А. Петровского.
(обратно)25
Черчилль Уинстон (1874–1965) – британский премьер-министр в 1940–1945, 1951–1955 гг., политик-консерватор, публицист, лауреат Нобелевской премии мира (1953).
(обратно)26
Дизраэли Бенджамин (1804–1881) – английский государственный деятель, оратор и писатель; премьер-министр Великобритании в 1868, 1874–1880 гг.
(обратно)27
Пальме У\оф (1927–1986) – шведский политик от Социал-демократической рабочей партии; премьер-министр в 1969–1976 гг.; убит.
(обратно)28
Брантинг Карл Яльмар (1860–1925) – шведский политик, один из основателей Социал-демократической рабочей партии Швеции, премьер-министр в 1917–1918 гг.; лауреат Нобелевской премии мира (1921).
(обратно)29
Хаммаршельд Даг (1905–1961) – шведский политик; Генеральный секретарь ООН с 1953 г.; лауреат Нобелевской премии мира (1961; посмертно).
(обратно)30
Яльмарссон Ярл (1904–1993) – шведский политик; лидер Правой партии (1950–1961).
(обратно)31
Веннерстрём Стиг (род. 1906) – полковник шведских ВВС, в послевоенные годы работавший на советскую разведку; в 1963 г. был разоблачен и приговорен к пожизненному заключению, но в 1973 г. выпущен на свободу.
(обратно)32
Правителям и народам Италии. Перевод И.Н. Голенищева-Кутузова и Е.М. Солоновича.
(обратно)33
Флорентийцам. Перевод И.Н. Голенищева-Кутузова и Е.М. Солоновича.
(обратно)34
Здесь и далее «Письмо к Генриху VII, императору» цитируется в переводе И.Н. Голенищева-Кутузова и Е.М. Солоновича.
(обратно)35
Там же.
(обратно)36
Там же.
(обратно)37
О народном красноречии, I, VI.
(обратно)38
Письмо флорентийскому другу. Перевод И.Н. Голенищева-Кутузова и Е.М. Солоновича.
(обратно)39
Новая Жизнь, II. Здесь и далее цитируется в переводе И.Н. Голенищева-Кутузова.
(обратно)40
Новая Жизнь, XLII.
(обратно)41
Там же, XXVI.
(обратно)42
Там же, XXIX.
(обратно)43
Имеется в виду комическая опера Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена».
(обратно)44
Персонажи «Посланий, песен и завещаний Фредмана».
(обратно)45
Имеется в виду Мирадж – вознесение пророка Мухаммеда.
(обратно)46
Город на северо-западе Испании.
(обратно)47
Пир, IV, XII.
(обратно)48
Ангелус Силезиус (наст, имя Иоганн Шеффлер; 1624–1677) – силезский поэт, представитель немецкого барокко.
(обратно)49
Гёльдерлин Иоганн Кристиан Фридрих (1770–1843) – немецкий поэт.
(обратно)50
Рильке Райнер Мария (1875–1926) – австрийский поэт и прозаик.
(обратно)51
Дионисий Ареопагит (Псевдо-Дионисий) – христианский философ-неоплатоник.
(обратно)52
Балль Хуго (1886–1927) – немецкий писатель и публицист.
(обратно)53
Сведенборг Эмануэль (1688–1742) – шведский ученый и теософ-мистик.
(обратно)54
Гулльберг Яльмар (1898–1961) – шведский поэт-мистик.
(обратно)55
Стриндберг Август (1849–1912) – шведский писатель и драматург.
(обратно)56
Имеется в виду памфлет А. Стриндберга, злая сатира на официальную чиновничью Швецию.
(обратно)57
Монархия, II, VII. Перевод В.П. Зубова
(обратно)58
Рюдберг Виктор (1828–1895) – шведский писатель, историк культуры.
(обратно)

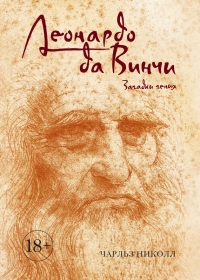

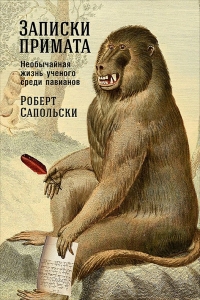
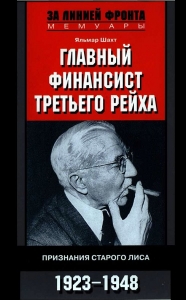


Комментарии к книге «От Ада до Рая. Книга о Данте и его комедии», Улоф Лагеркранц
Всего 0 комментариев