Константин Николаевич Леонтьев Сдача Керчи в 55-м году (Воспоминания военного врача)
I
Наши войска отступили из Керчи и сдали ее без боя союзникам 12 мая в 55-м году.
Я пишу на память, нигде и ни о чем не справляясь; но я уверен, что не ошибся, что это случилось именно 12 мая.
Есть вещи, которые до того поражают нас, что мы их забыть не можем, если бы даже и хотели. Поражают они радостью или горем; торжеством или страданием – все равно; забыть их невозможно!
Я люблю говорить правду. Или вовсе не писать своих воспоминаний, или говорить искренно. Для меня этот день военной неудачи нашей был одним из самых веселых дней моей жизни.
Мне было тогда 23 года; я жил личной жизнью воображения и сердца, искал во всем поэзии, и не только искал, но и находил ее! Я желал и приключений, и труда, и наслаждений, и опасностей, и энергической борьбы, и поэтической лени.
Когда я еще студентом в Москве читал стихи Огарева:
Чего хочу? Всего со всею полнотою…– мне казалось, что Огарев угадан мои чувства, что я почти сам написал эти прекрасные стихи.
Упорного, или, как нынче говорят, «честного», труда за зиму у меня было перед этим достаточно; нынче, кроме того, особенно любят и хвалят «темный» труд, полезный и непритязательный, где-нибудь в дали, в глуши и неизвестности. Мой труд от сентября до мая, всю осень и всю зиму перед этим, был именно таким трудом, по мере сил и знания добросовестным, однообразным, ежедневным. Иногда он был очень неблагодарен и тяжел: в военной больнице, на 20 рублях жалованья, в глуши и неизвестности, в небольшой крепости Еникале, на унылом и безлесном берегу Киммерийского Босфора, в стране «Киммерийского мрака», как выражались древние и, кажется, сам Геродот. В иные месяцы у меня было до 200 больных в день; в их числе было и много раненых из Севастополя. Общество, окружавшее меня в этой печальной и почти забытой крепости, было очень простое, в дурном смысле этого слова, «серое» общество, вовсе неизящное, ни в каком смысле не поэтическое, ни в светском, ни в каком-нибудь диком и оригинальном. Военные доктора, интенданты, самые скромные пехотные офицеры, греческие торговцы рыбой, не рыбаки простые, которые борются с волной морской и опасностями; нет, а просто торговцы рыбой в «немецком платье».
С моим «внутренним» миром, с моими идеалами (в то время скорей всего Жорж-Зандовскими) все эти сослуживцы, сожители и соседи не имели ничего общего; я был для них «младший ординатор», товарищ, неопытный в делах житейских, но уживчивый юноша в форменном долгополом вицмундире с красным кантиком, который ни во что не мешается; сам с подрядчика Гринберга денег не берет, но другим брать не мешает; вообще малый «сносный», лекарь Леонтьев и больше ничего. В Москве студентом я жил в кругу богатых родных, в обществе весьма тонко образованном и светском и ученом; бывал часто у графини С<альяс>, встречал у нее в гостиной Грановского, Кудрявцева, Щербину, П.М. Леонтьева, граф. Ростопчину, Сухово-Кобылина, Тургенева. С Тургеневым я был давно в дружеской переписке и печатал уже в журналах небольшие повести, не подписывая имени.
Мои сослуживцы ничего этого не знали, и мне это очень нравилось. Я сам хотел быть тогда хорошим или, по крайней мере, хоть сносным военным лекарем, и пока (разумеется – пока) больше ничего! Тем лучше! Как прекрасно! Здорово! (я был тогда помешан на «здоровье»!) «Да! здорово и таинственно! Полезно и вовсе ново, не испытано…» Правда, я скучат иногда или, скорее, идеально грустил в течение этой трудовой зимы, иногда, но очень редко. Скорее я был счастлив; я был бодр и деятелен в этой «серой» среде, вблизи от этой великой исторической драмы, которой отзывы беспрестанно доходили и до нас; в беспрестанном ожидании, что вот-вот и мы все здешние – керченские – будем вовлечены в поток этой кровавой борьбы… Когда мне становилось на минуту тяжело и скучно, я с ужасом (именно с ужасом) вспоминал, как я пять лет подряд в Москве все грустил, все раздирался, все анализировал и себя, и других, и, содрогаясь, все подозревал, что и меня другие анализируют с «язвительной улыбкой»; все учился и нестерпимо мыслил; мыслил и учился; все ходил или ездил на извозчике с Пречистенки, от Троицы-Зубова, все по прямым линиям или на Рождественку в клинику, или на Моховую в анатомический театр… Болезненно любил, болезненно мыслил, беспокойно страдал, все высокими и тонкими страданиями… Я вспомнил об этом с ужасом и почти со стыдом (недовольные собой и расстроенные герои Тургенева и других наших литераторов стали мне уже в Москве давно ненавистны)!.. Я вспоминал обо всем этом с отвращением, гляделся в зеркало, видел, до чего эта простая, грубая и деятельная жизнь даже телесно переродила меня: здесь я стал свеж, румян и даже помолодел в лице до того, что мне давали все не больше 20-ти, а иные даже не больше 19 лет… И я был от этого в восторге и начинал почти любить даже и взяточников, сослуживцев моих, которые ничего «тонкого» и «возвышенного» не знают и знать не хотят!.. На радостях я находил в них много «человеческого» и ничуть не враждовал с ними… Я трудился, я нуждался, я уставал телом, но блаженно отдыхал в этой глуши и сердцем, и умом.
Самолюбие мое здесь было покойно; в среде этой, в этой жизни, отчасти похожей на жизнь в крепости, описанной Пушкиным в «Капитанской дочке», отчасти на жизнь «Ревизора» и «Мертвых душ», я считал себя, если не орлом или королевским соколом (этого я, кажется, не думал), то уж наверное какой-то «райской птицей». Эта райская птица по своей собственной воле дала остричь себе крылья и снисходительно живет пока. на заднем дворе и не боится никого, и сама никого не трогает. Это она пока!.. Она притворилась только на время «младшим ординатором и больше ничего». Она поэт; она мыслитель и художник, миру пока неизвестный… она, кроме того, «charmant garcon»[1], который нравится (кому следует)… и, наконец, калужский помещик, у матери которого в саду, в прелестном Кудинове…
Вблизи шиповник алый цвел, Стояла темных лип аллея…Думать так было, может быть, и глупо, но зато очень приятно!
Всю зиму я трудился; лечил, как умел, и перевязывал солдат; резал ноги, руки, вскрывал нарывы; налагал крахмальные сотеновские повязки; вставал иногда (не всегда – каюсь!) середи ночи в дежурные дни для приема новых больных: вскрывал трупы для того, чтобы еще учиться и проверять свою диагностику, и часто по длинным зимним вечерам, в то время, когда смотритель, комиссар, аптекарь и другие играли по соседству в карты, я запирался в своей комнате и перечитывал то Андраля Clinique medicale, то Гуфеланда, то Гризоля, то хирургию Видаля де Касси, то литографированные лекции московского хирурга Басова и петербургского профессора Экка. Затруднений и мелких неудобств было много, но я с удовольствием их преодолевал… Литературу, которой я так много занимался в Москве, совсем здесь оставил. Совесть не позволяла мне тут заниматься ею; при виде стольких терпеливых страдальцев, порученных мне судьбою, я желал одного: делать как можно меньше ошибок в диагностике и лечении. В палатах я проводил каждый день от 8 или 9 часов утра до 2-х и более; едва успевая все сделать, что нужно, и усталый, но бодрый и здоровый, спешил жадно съесть очень простой и очень грубый обед у смотрителя, которому я платил за это всего три руб. сер. в месяц.
Книг, кроме медицинских, у меня, слава Богу, с собой не было никаких. И у других сослуживцев моих тоже редко бывали книги и газеты.
Чтобы узнать подробнее о том, что делается в Севастополе, надо было съездить за 12 верст в Керчь. Не знаю, как решить теперь, хорошо ли это было или худо, что мы так мало входили в дела, до нас прямо не касательные? Я думаю, что была тут, как и во всем, и доля хорошего: мы полагались по чувству доверия и по привычке на высшее начальство, без больших и часто бестолковых рассуждений; и кто хуже, а кто лучше, но занимались каждый своим ближайшим делом, каждый своими личными интересами – идеальными или практическими, все равно. Изо всех живших и служивших в этой унылой крепости русских я еще был самый либеральный и даже слегка «политикующий» человек, но именно потому, что политические… не то чтобы убеждения, а скорее, какие-то смутные подобия политических мнений моих были тогда несколько либерального оттенка, я находил более благоразумным класть «дверь ограждения на уста». Я сказал: изо всех русских в окружавшем меня обществе… Поляки, сослуживцы наши, те гораздо больше нас занимались политикой: одни в духе довольно даже смелой оппозиции; другие, напротив того, в духе самого исступленного и монархического патриотизма; особенно один молодой артиллерист, о котором мне еще придется говорить, быть может, и не раз.
Когда-нибудь я расскажу гораздо подробнее об этой трудовой зиме моей и обо всех порядках тогдашних; теперь же довольно об этом!
Весна наступила, как наступает она на юге, почти вдруг, без той тяжелой борьбы со стужей, которая бывает у нас, без тающих глыб снега, без шумных потоков, без внезапных возвратов вьюг и снега. Вдруг все стало веселее, теплее, светлее.
Пролив растаял и прошел… Небо стало чистое; степь зеленая. Больные наши, и те повеселели… И меня стало манить куда-то на волю, и мне захотелось иной деятельности, иной жизни, иной борьбы, не труда честного, а боевой опасности: захотелось в лагерь, в поле, в полк куда-нибудь; в самый Севастополь, если можно.
Года три подряд в Москве, еще до войны, я все думал о Крыме, о Южном береге, об этой самой Керчи. («Где закололся Митридат…») Думал я также и вообще об войне, я ужасно боялся, что при моей жизни не будет никакой большой и тяжелой войны. И на мое счастье, пришлось увидать разом и то и другое совместно – и Крым, и войну. Так как я не был казенным студентом и поэтому пользовался в глазах начальства некоторым правом выбирать себе место службы, то еще прежде высадки союзников в Крым, летом 54-го года, я, в прошениях моих и личных разговорах с медицинскими властями, прямо указывал на Севастополь и Керчь как на места, в которых я служить желаю, именно потому, что там можно ожидать военных действий. В Севастополь мне тогда (то есть летом, до высадки) отказали за неимением вакансий, а назначили в керчь-еникальский военный госпиталь. Итак, хоть степную и восточную часть Крыма я увидал; но никакого даже подобия военных действий до сих пор вблизи не вижу. Мне хоть бы подобие, одно подобие! Что делать? Проситься в Севастополь – это бы лучше всего. Там уж не подобие. Там и докторов убивают!..
Но приезжий именно оттуда к нам недавно молодой врач сказал мне, что в то время, когда я прошлым летом просился в Севастополь, вакансии все были там действительно заняты, и так как, по-видимому, скорого и решительного десанта союзников у нас не слишком ожидали, то врачей сначала, во время Альминского сражения, например, было уж слишком мало; а теперь их наехало туда так много, что тут, вероятно, откажут и возразят, что и здесь, в Восточной части Крыма, нельзя без докторов; нельзя тем более, что много раненых нам же сюда привозят из Севастополя и главной армии…
Что ж мне было делать?.. Я недолго думал и решился проситься в какой-нибудь полк. Я надел вицмундир, надел шпагу и каску и поехал в Керчь. Там жил со штабом своим генерал Врангель, командующий войсками в Восточной части Крыма; тот самый, который взял город Баязид в прошедшем году в Малой Азии.
Генерал Врангель был рослый, плотный и даже довольно толстый мужчина, белокурый с небольшой проседью, с приятным и спокойным немецким лицом. Он мне понравился еще прежде, когда приезжал в Еникале осматривать нашу крепость, наши пушки и наши больничные порядки, и мы все в мундирах и на вытяжку встречали и провожали его.
Он принял меня вежливо и просто.
– Я, ваше превосх-во, лекарь Леонтьев, младший ординатор…
– Помню; что вам угодно?
– Мне бы, ваше превосх-во, очень хотелось в полк, особенно если здесь откроются военные действия.
– Не знаю, есть ли теперь при полках вакансии. Посмотрю. Впрочем, если вы так желаете быть ближе к военным действиям, то я подумаю об этом. В случае чего-нибудь вас можно будет тотчас прикомандировать хоть к казачьему полку. Хорошо; я не забуду.
Я поблагодарил и возвратился опять в свою крепость, не говоря никому ни слова об этом.
Предчувствия мои, хотя немного, но оправдались.
Вскоре после этого ночью, не помню, какого числа апреля, явился внезапно перед входом в керченскую бухту и в пролив союзный флот. У нас в Еникале поднялась тревога. Что делали другие, не помню; помню только о том, что касалось ближе моего дела. По распоряжению начальства, был прислан в нашу крепость командир одного военного корабля, чтобы немедленно, пока неприятель еще не ворвался в бухту и пролив, перевезти как можно больше больных из Еникале через пролив в Тамань. Командир, плотный, плечистый моряк, ходил по палатам с нашим главным доктором В.Г.С., а я как дежурный – за ними.
Главный доктор выбирал и назначал, которых больных можно перевозить; он очень был сердит и все бранился. Я изредка делал при этом свои замечания; моряк считал, сколько будет народу. Больше ничего почти не помню. Помню, что ночь была довольно светла и тепла; что беготни и хлопот было много, но испуга ни малейшего; все, кроме главного доктора, который чем-то расстроился, были очень веселы и бодры. И только. Тревога наша на этот раз была напрасна; союзный флот постоял и ушел. Помню, что в газетах, которые как-то в одну из моих редких поездок в «цивилизованную» Керчь я читал, над союзниками много по этому поводу смеялись. «Пришли, постояли и ушли!»
Наступил май. Все шло по-прежнему, правильно и тихо. Одиннадцатого мая поутру меня позвали в канцелярию и показали бумагу, по которой я должен был собираться в путь. Генерал Врангель не забыл своего обещания и прикомандировал меня к Донскому Казачьему № 45 полку. Без всякого сожаления, а напротив того, с большою радостью, велел я своему кривоногому и кривому денщику Трофимову укладываться и нанять лошадь, чтобы на завтрашнее утро нам отправиться в Керчь. Нанялся еврей Ицка, с которым и прежде я не разъезжал. Все медицинские книги и тетради я заколотил в особый большой ящик, и чтобы не обременять себя на лагерном положении лишней и тяжелой поклажей, поручил их нашему еникальскому аптекарю, с просьбой хранить ящик до тех пор, пока я за ним не пошлю. Я вовсе даже и не знал, где стоит этот 45-й Донской полк и как мне при нем придется жить. Я понимал только, что об серьезных и последовательных медицинских занятиях в лагере думать нечего; что там нужна будет только первая помощь и больных придется все равно отправлять в госпитали, и потому взял с собою только известный (очень полезный молодым врачам) «Энхиридион» Гуфеланда и что-то еще из хирургии. Остальное все поручил аптекарю. Сдал свои палаты другому ординатору, молодому пруссаку Бутлеру, и весь остаток дня одиннадцатого мая провел в той спокойной и мечтательной лени, которая так приятна после нескольких месяцев однообразной и трудовой жизни. Здесь обязанности кончились; там еще не начинались… Да и какие еще там, в степи, будут обязанности до тех пор, пока не грянут выстрелы? Быть может, никаких. А весна так хороша! И небо, и море, и степь так теперь веселы и ясны! И я буду там, с казаками, на коне! С этими мечтами и приятными мыслями я крепко заснул.
Я думал выехать часов в 10 утра, не спеша. Куда спешить! Но было еще очень рано, когда дверь моя вдруг шумно растворилась и Трофимов разбудил меня криком: «Вставайте, ваше благородие… англичанин пришел!»
Я спрыгнул с кровати и вышел на крыльцо.
Крепость наша была построена на крутом и неровном скате берега к морю; больничные строения и жилища служащих были рассеяны там и сям по этому склону, внутри старинных каменных зубчатых стен, и потому одно строение не заслоняло другому вид. Мое жилище было на полгоре, и с крылечка моего был свободный и прекрасный вид на пролив. Я часто в часы отдыха сидел, бывало, на нем и подолгу глядел, мечтая, на синюю полосу кавказского берега. Я знал, что там и жалкая Тамань, прославленная Лермонтовым. И мало ли о чем я думал, бывало, сидя дома на этом крыльце! Керчи из Еникале не видно вовсе; она скрыта за изворотами берега. Но в стороне Керчи, направо от наших дверей, вдали была всегда заметна небольшая полоса открытого моря, между двумя более темными, синими очертаниями двух концов земли, и от Кавказа на левую руку, и от Керчи на правую. Обыкновенно таи ничего не было; но теперь именно в этом светлом промежутке виднелось несколько черных каких-то точек или мушек, не знаю, как бы вернее назвать. Это были суда союзного флота.
В крепости опять поднялась суета. Я поспешил проститься с моими сослуживцами. Смотритель, расчетливый К. Д-ч, был очень расстроен. Главный доктор В.Г.С., напротив того, почему-то на этот раз был очень весел, смеялся, глядел в бинокль и мне давал его, смеялся, чуть не прыгал. Не знаю, чему приписать его веселость. Думаю, что его, так же как и меня, приятно поразили неожиданность и серьезность этого приключения. Он прожил тринадцать лет подряд в этой крепости. И вдруг такая катастрофа! Союзные армии и, быть может, битва. А он был грубый человек и «себе на уме» до наивности; но уж вовсе не трус, а скорей молодец.
Я простился с ним и с другими, кого успел второпях отыскать, и тронулся в путь на дрогах с Ицкой, с денщиком и с поклажей. При выезде из ворот крепости на небольшую улицу греческого рыбачьего городка, я встретил коменданта и артиллерийского подпоручика Це-ча, который начальствовал в Еникале крепостными орудиями, обращенными к морю. И тут также разница: комендант, армейский отрядный подполковник (или майор, не помню) был очень смущен и мрачен; а юноша Це-ч так и сиял от радости, что будут дела и что он или отличится не хуже Щеголева в Одессе, или погибнет. Он и зимой все с жаром говорил мне, что жив отсюда он не выйдет, и что если не в силах будет прогнать неприятеля, то взорвет и себя, и больных, и нас всех. «К черту! к черту, и вас всех взорву!» – кричал он и стучал кулаком по столу. И теперь на румяном юношеском лице его виден был такой искренний восторг, такая веселая отвага, что я, прощаясь с ним, подумал: «Однако он и в самом деле на это способен!» Он выразительно и молча взглянул еще раз на меня, крепко пожал мне руку, и мы расстались. Я сел на дроги, и мы выехали в степь.
II
До Керчи, сказал я прежде, от Еникале около 12 верст. Конечно, одиночкой, на дрогах и втроем с поклажей, мы ехали долго мимо пролива и мимо разведенных на крутом его берегу виноградных садов. Ехали, я думаю, часа два, если не больше.
И пока мы ехали, почти не спуская глаз с того светлого места, где и прежде, из крепости, были видны черные мушки; пока мы доехали до Керчи; пока этот выход в Черное море не скрылся опять за изгибами берега, – этих мушек становилось все больше и больше. Под конец мы насчитали их, кажется, около двадцати. Иные из них были очень велики, гораздо больше других.
Итак – война! И у нас – война!
И я был рад, подобно старому доктору нашему с биноклем в руках и молодому артиллеристу Ц-чу, так и сиявшему от восхищения, что «можно в крайности и всех вас к черту взорвать!»
Да! И я рад!.. И не только рад чему-то… Я даже торжественно счастлив на моих жидовских дрогах!
Наконец мы въехали в керченское предместье…
Неприятельского флота уже не было видно; он скрылся за высокими берегами… Все казалось мирно и тихо… Ни выстрелов, ни шуму, ни каких-либо криков. Знакомые домики, веселые, опрятные, в линию по обеим сторонам; куры ходят и клюют, как всегда… Никакого движения, людей даже не видно вовсе. Я помню особенно один небольшой дом из темно-коричневого, хорошего камня. Около него росли акации, и мимо этого дома и этих акаций шел в это время, посвистывая и заложив обе руки в карманы панталон, юноша лет 17 или 18, не больше. Мы обогнали его, и он не обратил, кажется, на нас никакого внимания. Одет он был странно: на нем была куртка, и куртка эта, и панталоны были желтого цвета с черными полосками. Обыкновенная старая суконная фуражка была надета назад, на затылок; шел он себе тоже так беззаботно и равнодушно, посвистывая, как будто ничего не случилось. Меня все это спокойствие очень поразило. Я ожидал смятения, шума, воплей и увидал пустую, безмолвную, безлюдную улицу, на которой даже никого, кроме этого босого и толстогубого свистуна в полосатой одежде, не встретил. Почему это так было, до сих пор не понимаю. Не понимаю тем более, что это предместье должно было прежде всех частей города подвергнуться действию ядер в случае насильственного вторжения неприятельского флота в Керченскую бухту. Быть может, впрочем, так всегда и бывает в подобных случаях. Я в первый раз в жизни видел город, ожидающий бомбардировки с минуты на минуту. Быть может, жители этого предместья замерли от страха за свою жизнь и собственность и притихли в своих жилищах в покорном ожидании того, что будет.
Но надо было подумать и позаботиться о самом себе и о своих вещах. Куда же мне ехать? Где остановиться? Где оставить пока денщика с чемоданом и разными узлами? Как ни легкомысленно смотрел я тогда на жизнь, как ни глубоко и несокрушимо было в то время в сердце моем убеждение, что важнее всего поэзия… (то есть не стихи, конечно, а та реальная поэзия жизни, та восхитительная действительность, которую стоит выражать хорошими стихами), как ни идеален был я в то время, но я, хотя и довольно смутно, помнил же все-таки, что у меня в одном узле офицерская ваточная шинель с капюшоном и старым бобровым воротником, весьма полезная при случае для сохранения моего идеалистического тела; в другом узле что-то тоже нужное; в чемодане дюжина очень недурных настоящих голландских рубашек с мелкими (модными тогда) складками на груди (на той груди, где бьется еще юное сердце будущего, – не знаю какого, право, но все-таки какого-то, какого-то… очень дорогого мне человека!). И наконец, сверх ваточной шинели, сверх незаменимых здесь московских непромокаемых сапог, работы г-на Брюно, сверх голландских рубашек с мелкими складками и нежными воротничками, которые придавали мне (в моих собственных глазах) вид Аполлона, смиренно пасущего стада у царя Адмета, особенно в тех случаях, когда они, эти воротнички, виднелись из-под грубой, серой, толстой солдатской шинели с молодецким перехватом в талии, – сверх всего этого в багаже моем на длинных Ицкиных дрогах были и другие, даже более всего этого идеальные и дорогие мне вещи. Были мои рукописи: начало романа «Булавинский завод», начало, года за три до того одобренное «самим» Тургеневым (для меня уже и тогда он был «сам»; для большинства читателей он стал таким гораздо позднее); был еще один отрывок – описание безлюдной и красивой усадьбы русской в зимнее утро… «Девственный снег, выпавший за ночь, на котором виден мелкий и аккуратный след хищной ласочки, ходившей на добычу этою ночью»… «Розовый дом с зелеными ставнями, осененный двумя огромными елями, вечно зелеными и вечно мрачными великанами»… Когда я прочел это в Москве, в доме одной графини, она воскликнула: «Quel magnifique tableau de genre!»[2]
Как же мне было тогда, в 23 года, не беречь этих бумаг, этих неоконченных и еще в то время столь любимых, а впоследствии жестоко ненавистных мне сочинений?
Кроме рукописей и нужных мне даже и в лагере для справок медицинских книг, были и еще заветные для души моей вещи: была дедовская шкатулка из карельской березы для чая и сахара – шкатулка, которую я помнил с тех пор, как стал сам себя помнить; была большая прекрасная фотография матери; был даже семейный, родовой, золотой ковчежец с мощами; он имел вид четырехугольного небольшого образа; частицы мощей были вложены под отверстия очень красивой формы правильными рядами и покрыты слюдою. Матушка, отпуская меня на войну, зашила этот образ в синий бархат и просила меня, не тяготясь его размером, надевать его на себя всегда, когда будет предстоять опасность. На этот раз я почему-то не подумал его надеть; но позднее, в лагере, когда неприятель был от нас то в 40, то в 20 всего верстах в течение лета, я не расставался с ним. С радостью и даже, пожалуй, с некоторым оттенком гордости я теперь вспоминаю, как я благоговейно относился даже и тогда к этой церковной и родовой святыне. Видно, «бессознательное» во мне тогда было лучше, благороднее, умнее «сознательного», испорченного дешевым материализмом медицинского воспитания!
Куда ж мне все это укрыть, пока я сам поспешу к начальству и узнаю, что мне делать и куда мне ехать прикажут?
Я решил, что лучше всего отвезти эти вещи на квартиру приятеля, жившего в Керчи, молодого лекаря Л-на. Он состоял при штабе генерала Врангеля, и если он еще дома, то я обо всем, что мне нужно, от него узнаю тотчас же. Он жил на ближнем конце города, у выезда на Феодосийскую дорогу, у самых ворот, где на каменных столбах сурово глядели друг на друга два зеленовато-бронзовых грифона с поднятыми крыльями и грозными, загнутыми клювами. Еще недавно я ночевал в его опрятной и просторной квартире, провел несколько часов в приятной с ним беседе и, вышедши случайно в сад, в первый раз в жизни увидал цветущий на воздухе розовыми цветами персик. Меня это восхитило. «Кто видел край, где роскошью природы оживлены дубравы и луга? Где весело синея, блещут воды, роскошные лаская берега?» Я не видал еще Южного берега, и для меня тогда и Керчь казалась «роскошным югом», и мне воображалось, что и в самом деле здесь «луна светлее блещет в сладкий час вечерней мглы!»
Подъехали… Все тихо… Ворота заперты. Стучимся…
«Доктора нет; уехал давно к генералу!»
Что делать?
Плачу Ицке по договору полтора рубля. Он недоволен; я даю еще двугривенный на чай не без досады, потому что денег у меня очень мало, и те заняты у смотрителя. Приказываю денщику Трофимову остаться тут на дворе и ждать, пока будет от меня весть и приказание, куда везти вещи, и сам спешу… Правда, спешу, но куда? В штаб? К генералу?.. Бегу искать, где мой Донской Казачий № 45 полковника Попова полк?.. Ах, признаюсь, что нет… Я спешу в гостиницу Дмитраки; я проголодался на радостях, что пахнет хоть немного войной…
Для дел великих отдых нужен, Спокойный сон и добрый ужин…Положим, утром не ужинают; но утром зато пьют у Дмитраки в гостинице хороший кофей с превосходными сливками и свежим «францолем» (т. е. белым хлебом, по-нашему).
К тому же гостиница Дмитраки гораздо ближе к той стороне, откуда идут союзники, и в случае бомбардировки я хочу быть в опасности, а не избегать ее… Мне бы нужно только поесть и выкурить сигару… А там пусть летят ядра и бомбы… Я их что-то не очень боюсь.
Наконец, и штаб, и генерал, все это недалеко от Дмитраки, два шага: я мигом напьюсь, наемся, накурюсь, и к делу!..
Перевязки и даже ампутации мне не новинка и к теплой человеческой крови я уж привык. Не ей напугать меня! Скука и проза – вот что пугало меня в то время в жизни людской, а не ядра, не раны, не кровь… В Еникале однажды, во время ампутации голени, по неосторожности фельдшера, слишком вдруг ослабившего турникет на ляжке больного, артериальная горячая кровь брызнула фонтаном мне прямо в лицо и попала в рот… Я выплюнул только и продолжал операцию…
Вот мы как! Ну, а голод не тетка, кофею хочется!.. – К Дмитраки!
Дмитраки – патриот… Что он в самом деле, не знаю – грек он, итальянец или серб какой-то… Сам низенький, сухой, живой, любезный, хитрый; лицо, как на иных карикатурах, несообразно с телом, большое, длинное, носатое… Зовут его, кроме Дмитраки (потому что он Дмитрий Иванович), еще и Гвариори; еще сверх того зовут Молчанович… и говорят в городе, что он то-то и то-то… А я знаю только, что со мной он очень обходителен и всегда мне рад; что гостиница его чиста, пища вкусна, и еще знаю, что давно уже должен ему 13 руб. сер., которых теперь я не в силах отдать… (Как отдать 13 из 5-ти с полтиной, которые у меня в кошельке?) Еще за кофей заплатить нужно будет… Посмотрим!
Дмитраки встречает меня с отверстыми объятиями. Лицо его радостно. Он по-домашнему – в коричневой, знакомой мне альмавиве, прямо на чистую рубашку. Он не спешит одеваться и с презрением и смехом говорит о союзниках.
– Десант, говорят, будто они затеяли, дураки! Да куда им!.. – восклицает он.
– Десант?! Десант – в Камыш-Буруне?! В 15 верстах от города?..
Меня это поразило, и весь порядок мыслей моих вдруг изменился… Я тотчас же понял, что в случае десанта я должен быть при том казацком № 45 Донском полку, к которому прикомандировал меня по моему желанию генерал Врангель. Я чувствовал, что мне приличнее и приятнее было бы остаться в городе, если бы его бомбардировали с флота, ворвавшегося в бухту. О собственной смерти я совсем не думал; мне было для этого слишком весело, и какой-то не победимый рассудком инстинкт постоянно говорил мне, что я рано не умру, потому что назначен в жизни что-то еще сделать (что именно, я и сам еще не знал). О собственной смерти я не думал, но я думал о других людях, об раненых; я знал, что в Керчи врачей немного, и стоит мне только показаться в штабе или отыскать моего товарища доктора Л., чтоб меня оставили в городе с радостью для перевязки и ампутаций, которые я делал уже смело и хорошо. Но если десант, если войско союзников идет к Керчи с сухого пути, то может случиться (почем я знаю!), что Донской № 45 полк будет действовать в поле, и тогда и долг, и самолюбие, и жажда сильных ощущений – все призывало меня туда, все заставляло меня желать быть при полку. Сколько войска в нашем отряде, будем ли мы сражаться, можно ли дать сраженье в степи перед открытым с сухого пути городом – я этого не знал и не разбирал тогда, не помнил…
Я знал одно: во-первых, что я ужасно голоден, и, во-вторых, что, насытившись, надо спешить в штаб…
И я стал поскорее пить у Дмитраки прекрасный кофей с густыми сливками и есть белый хлеб.
Дмитраки все был весел и не унывал. Он ходил в своей коричневой альмавиве из столовой на открытый балкон и с балкона опять в столовую, курил спокойно сигару, смеялся над союзниками, отрицал возможность десанта; говорил, что это «у страха глаза велики», твердил: «они не посмеют! они и под Севастополем все напрасно с самой прошлой осени бьются и мрут».
– Положим, француз храбр, – говорил он между прочим, – положим, он очень ловок… Он два раза успеет ударить штыком; но русский ударит только раз и наповал.
И он, распахнув альмавиву, представлял и француза, и русского…
Однако я слышал – шум на улице возрастал…
Экипажи чаще и чаще гремели мимо гостиницы…
Проскакал отряд кавалерии…
Я хотел кинуться на балкон, но Дмитраки взял маленький столик и стул, внес их на балкон, поставил и приказал своей помощнице, молодой гречанке, подать мне еще кофею.
– Не спешите, – сказал он мне спокойно и любезно. – Выкушайте с сигарочкой, я вам хорошую дам… Поверьте, что они с сухого пути не придут сюда… Это, вероятно, ложный слух в город… Ну, а начнется здесь пальба с судов, вы сейчас к генералу и скажите: «Ваше превосх-во, я здесь и готов служить».
Мне, все еще голодному, самому очень хотелось допить как следует, второй стакан превосходного кофею с этой хорошей сигарой, и я согласился с мнением хозяина. При первой бомбе, при первом выстреле я встаю со стула, я бегу и говорю начальнику: я здесь!
И я сел на балкон перед столом и, как барин, закурил сигару.
Позаботился только об одном: жаль нового вицмундира, не в нем же перевязывать раненых и окровавленных людей; я снял его и надел солдатскую форменную шинель. (Многим, может быть, неизвестно, что в то время, по примеру и по приказу самого Государя Николая Павловича, все офицеры, все врачи и все гражданские чиновники военного ведомства носили солдатские шинели из толстого серого сукна; это было очень удобно, экономно и красиво.)
Переоделся и сел, блаженствуя, на балкон гостиницы. Но блаженствовал я недолго.
Пока от времени до времени мчались мимо меня по улице куда-то пролетки, тянулись телеги, скакали изредка казаки, я продолжал не спеша пить мой кофе и курить, мечтая даже о том, как бы это было хорошо, если бы сейчас начали падать около гостиницы этой гранаты, бомбы и ядра, а я бы имел право, как частный человек и художник, смотреть с балкона на весь этот трагизм, взирать, ничуть и сам не избегая опасности, на эту внезапно развернувшуюся на интересном месте страницу из современной истории. Присутствовать безмолвно и философски созерцать… Прекрасная страница! Не только из истории человечества, но и из истории моей собственной жизни. Бомбы летят, а я смотрю!
Сижу и думаю – философ! Не боюсь – стоик! Курю – эпикуреец!..
Но блаженствовал я недолго.
Раздался слева по улице опять громкий стук колес. Скакала почти во весь опор перекладная тройка. За ней другая.
В первой перекладной сидел сам генерал Врангель; за ним мчались его адъютанты… За ними – отряд казаков.
Я едва успел вскочить на своем балконе и отдать честь. Генерал взглянул на меня снизу вверх и отдал мне поклон. Я успел заметить, что полное, круглое лицо его было совершенно спокойно.
Куда это?.. В телеге – тройкой?! За город… Зачем?! не десант ли в самом деле… Нет, это не шутка!
Я бросил недопитый кофе. Дмитраки побежал вниз на улицу и мигом от кого-то узнал правду. Когда он вернулся наверх, лицо его изменилось: оно стало серьезным и озабоченным.
– Правда, десант, – сказал он коротко. – Черт бы их взял! Генерал поехал, говорят, на Павловскую батарею.
Я решил, что надо скорее разыскать кого-нибудь из начальства или, по крайней мере, достать лошадь во что бы то ни стало и ехать к своему Донскому полку.
Я оставил свой новый вицмундир на попечение Дмитраки и сказал ему, что поеду искать доктора Л. или кого-нибудь еще из штабных, а потом забегу и возьму вицмундир или пришлю за ним денщика. На всякий случай я простился с ним и сказал:
– А что ж мы будем делать с 13 руб., которые я вам должен?
– Покажите ваш кошелек, – сказал Дмитраки. Я раскрыл кошелек; там было 5 р. и мелочь.
– Ну, что ж делать, – воскликнул великодушно Дмитраки, – в такую минуту вам самим необходимы деньги… Ничего!
Не беспокойтесь, Бог даст, свидимся… (И действительно, мы года через полтора встретились и сочлись.)
Я поблагодарил его, и мы простились. Как только я вышел из гостиницы, мне попался хороший извозчик; я вскочил на него и помчался опять к Феодосийским воротам, на квартиру доктора Л., от которого я мог получить все нужные сведения.
Прежде всего, мне необходимо было знать, что мне делать, где мне быть, куда зовет меня служба.
К тому ж и денщик с вещами остался там, у доктора.
С той минуты, как я сел на этого извозчика и поехал, в памяти моей какой-то пробел. Нет той связи в воспоминаниях, которая была до сих пор.
Я помню, например, что я скачу на пролетке обратно от доктора Л. Помню, что я не застал его, но не помню уже ни денщика, ни вещей своих… Скачем мы с извозчиком куда-то обратно по улице, гремим! На улице опять тихо, безмолвно, безлюдно.
Гремим… Выстрелов никаких не слышно. Вдруг раздается ужасный гром… как сильный подземный удар.
Я хочу остановить извозчика.
– Стой! Что это такое?!
Мы остановились… Все было опять тихо, и мы опять помчались.
После я узнал, что это был взрыв Павловской батареи, которая защищала вход из Черного моря в Керченскую бухту.
Ее взорвали наши, чтобы союзное войско, которое действительно высадилось в это утро в 15 верстах от города в прибрежном имении г. Олив, Камыш-Буруне, не воспользовалось пушками.
Вот куда скакал на перекладной генерал Врангель под балконом гостиницы, на котором я так независимо и мечтательно расположился со столиком, сигарой и кофеем!
Генерал, взглянувший на меня, казалось, только мельком, припомнил, однако, мне этот случай позднее. В июне я приехал просить его выдать мне из казенных сумм в счет жалованья вперед 50 руб. сер. на обмундировку.
– У меня, ваше превосх-во, вицмундир новый остался в Керчи в день выступления…
Генерал перебил меня и сказал, впрочем, ничуть не гневаясь:
– Вот-то и дело… и вицмундир был бы цел, когда бы вы кофей не пили на балконе.
И обратясь к штабному офицеру, бывшему при этом, прибавил:
– Вообразите, в городе все вверх дном… Я еду на Павловскую батарею, а он сидит с сигарой на балконе и барином пьет кофей! Вот и потерял платье.
Однако деньги выдать велел. А я все-таки вицмундира нового не сшил, а истратил деньги на какие-то воображаемые, юношеские потребности и всю остальную кампанию проходил и прослужил в солдатской шинели.
Пуще всего меня в этот день удивило то, что, проезжая так быстро внизу по улице, генерал разобрал, должно быть по цвету, что у меня на балконе второго этажа был в стакане именно кофей со сливками, а не чай, не пиво, не вино какое-нибудь.
Он прямо так сказал: «пьет себе барином кофей!»
Но все это говорилось месяца два позднее. А теперь что?
III
Раздался мгновенный гром и утих. Мы куда-то гремели с извозчиком по мостовой. Куда – не знаю, не помню. Но помню, что я был все так же возбужден и все так же торжественно покоен и на все готов.
Я мчался на быстром коне,
И кроткая жалость молчала во мне.
Потом этот быстрый конь, этот лихач-извозчик исчез, пропал, как во сне. Когда я расплатился с ним, почему я сошел с него посреди большой и торговой улицы, совсем не помню. Я стою посреди улицы с двумя знакомыми штатскими: с толстым Ильиным и с бронзовым мальтийцем доктором Крокко.
Ильин этот был тот самый несчастный Ильин, который несколько лет позднее погиб на Кавказе от кинжала убийцы-черкеса в ту минуту, когда он бросился защитить начальника своего, князя Гагарина. Князь Гагарин тоже был смертельно ранен.
Я не помню, чем был Ильин в Керчи; кажется, чиновником по особым поручениям при градоначальнике, я с ним познакомился зимою в один из моих редких приездов в Керчь и очень полюбил его за умную беседу в клубе.
Должно быть, я оттого и отпустил своего извозчика, что увидал Ильина и обрадовался ему.
Но толстый собеседник мой был теперь ужасно расстроен и с жаром разводил руками перед доктором Крокко, который, скрестив на груди руки и выставив вперед свой бритый и энергический подбородок, молча стоял перед ним.
От них я узнал о том, что Павловскую батарею взорвали, что войска десанта движутся от Камыш-Буруна, что флот с минуты на минуту вступит в бухту, и что им обоим, точно так же как и мне, не на чем уехать из Керчи.
Они сказали мне еще, что у неприятеля, должно быть, тысяч пятнадцать хорошего войска, а у нас так скоро и четырех из окрестностей нельзя было собрать; что известие из главной квартиры об отправке союзного десанта получено было поздно и т. д.
– Мы-то, мы-то все хороши теперь! – кричал Ильин, весь красный от волнения. – Куда мы денемся? Хоть пешком беги, хоть в плен отдавайся… я разорен!.. Все мои вещи должны пропасть здесь… Это ужасно… – говорил он с отчаянием и гневом.
А доктор Крокко отвечал ему, все так же скрестив на груди руки и все так же важно глядя то на него, то на меня:
– Et moi? Et moi? Je suis Maltais! Anglais me pendrons… Ils me pendrons. Soyez sur, qu'ils me pendrons!..[3].
Однако добрый Ильин вошел и в мое положение… Я сказал им так:
– Господа, вы оба все-таки штатские, и у вас в такую минуту уже нет никаких обязанностей. А я ведь военный врач, я должен быть при полку, при Донском № 45 полку. По совести я должен спешить к нему, а не из самосохранения только… Где он, я не знаю… Я вчера только получил предписание. Конечно, он где-нибудь в степи за Керчью. Только на чем же я до него доеду…
– Это правда, – сказал Ильин, – подите скорее в канцелярию градоначальника; может быть, для вас найдутся почтовые… Едва ли, впрочем, едва ли…
– Bah! Des chevaux de poste![4] – воскликнул Крокко. – Ou sont – ils – ces chevaux de poste… maintenant?.. Voyons, courage jeune homme! Courage![5].
Я распростился с ними и почти побежал в канцелярию градоначальника, которая была недалеко.
Там я пробыл очень недолго. Разумеется, Крокко был прав: какие тут были лошади! Какие прогоны! Какие подорожные!.. Все было вверх дном. Я увидал кипы бумаг на столах; увидал чиновников, которые бегали туда и сюда с испуганными лицами. Не успел я, кажется, еще ничего спросить, как вошел полковник Антонович, исправлявший должность градоначальника (за отсутствием больного князя Гагарина, отца нынешнего товарища министра внутренних дел).
Вид полковника Антоновича поразил меня чрезвычайно. Мы знали друг друга прежде; он приезжал однажды и в Еникале осматривать наши больничные палаты и очень понравился мне своим лицом: и тонким, и энергическим, и приятным. Понравился также и тем, что один из всех посещавших наш гошпиталь военных начальников читал не хуже нас, докторов, латинские надписи на дощечках солдатских кроватей: «Pneumonia», «Hydrops»[6]… и т. д.
Но тогда у него выражение этого симпатичного мне лица было веселое, а теперь?… Теперь оно было до того печально и расстроено, что я даже изумился…
Изумился я потому, что сам был так весел и покоен и на все, как ужасное, так и приятное, как бы восторженно и тихо готов и помню очень хорошо, что я именно удивился: «Что это с ним? Не притворился ли он? Почему он, такой умный и образованный военный, не радуется, подобно мне, что жизнь наша вышла из обычного правильного порядка и русла своего!.. Ведь это такое блаженство!.. Странно!..»
Конечно, странного тут ничего не было.
Хорошо было мне, когда у меня не было ни семьи, ни имущества в Керчи; ни даже никакой ответственности, ни архива, ни власти в городе…
Я мог сказать в эту минуту: «Omnia mecum porto!»[7]. Даже и по службе своей я в этот день ни к чему не принадлежал; в Еникале моя роль со вчерашнего дня была кончена; в Донском полку еще не наступала…
Можно ли было сравнить мое положение с положением градоначальника, застигнутого нашествием врасплох? Теперь, в 50 лет, я понимаю, что тогда чувствовал г. Антонович; а тогда я даже подосадовал на него в сердце, зачем он не в таком же безмолвно лирическом восхищении, в каком был я.
Для очищения совести я спросил его, однако, что мне делать и как мне уехать из Керчи к своему Казачьему полку. В глубине же души, признаюсь, мне, я думаю, было все равно, что нагнать полк свой, что не нагнать его и остаться в Керчи.
Г. Антонович сказал мне то же, что сказали Ильин и Крокко: «Где мы вам возьмем лошадей?.. Хотите подорожную, мы ее дадим… А лошади ни одной почтовой теперь не найдете!»
Я ушел без подорожной и в раздумье вернулся на ту же главную улицу, на которой только что говорил с Ильиным и Крокко. Их уже не было на прежнем месте, и вообще, улица, помню, была уже совсем почти пуста. Лавки все были заперты. Я начал уже спрашивать себя: «Не возвратиться ли мне пешком в Еникале? Больных там много; докторов без меня всего трое. Быть может, проникнув в Керченскую бухту, союзные суда поплывут дальше и по Киммерийскому проливу, захотят бомбардировать Еникале, и наша крепость с предместьями своими, с виду степь унылая и глухая, как бы всем светом забытая дотоле и по образцу жизни обитателей своих столь прозаическая и будничная, – внезапно озарится праздником славы! Будет страшно и весело; будет отвага и боязнь, будет кровь и самоотвержение, будет скромно – великие подвиги.
Идти в крепость пешком? Всего двенадцать верст, знакомых мне так коротко. Я ходил уже не раз. Почти все время вдоль по берегу пролива; налево будет степь, направо у моря виноградные сады. Это совсем не то, что искать Донской полк по ту сторону Керчи, в степи безбрежной, вовсе мне неизвестной, без всяких знакомых примет…»
В ту минуту, когда я стал думать об этом, я вдруг увидал перед собой еще знакомца. Это был князь Хамзаев, черкес, офицер русской службы. Я знал его в детстве. Мы с ним были в начале 40-х годов кадетами в Петербурге, в Дворянском полку, но меня скоро взяли оттуда; а князь Хамзаев кончил там весь курс и теперь состоял при гусарском Саксен-Веймарском полку, который точно так же, как и мой Донской 45-й, был где-то там, за городом в большой степи, по дороге к Феодосии. Хамзаев носил форменное черкесское платье и папаху. На выразительном, сухом, немного рябоватом, весьма строгом и в то же время приятном лице его был с одной стороны большой шрам от сабельного удара. Удар этот нанес ему в одном из сражений под Севастополем не вражеский воин, а свой русский кавалерист по ошибке. Хамзаев закричал ему: «Стой! чего ты!? Я свой, я русский».
– Знаем мы вас, русских! – ответил солдат и ударил его саблей по лицу.
Хамзаев видел себя уже вынужденным защищаться; но в это время подскочили другие однополчане увлекшегося кавалериста и остановили его. Окровавленного князя отвели на перевязочный пункт, а на другой день ранивший его солдат пришел просить у него прощения. Он старался извинить себя только тем, что плохо еще знает разные «формы», и еще тем, «что слышно, у них много есть народу, которые по-русски знают». Князь, конечно, простил и охотно потом рассказывал эту историю своего шрама.
Расстались мы с Хамзаевым в Петербурге мальчиками по 13–14 лет, а встретились только здесь, в Керчи, на другом конце России молодыми людьми и военными деятелями – врачом и офицером.
Хамзаев мне очень нравился, и я с радостью кинулся ему навстречу, объясняя ему безвыходность моего положения: все дело было в одной верховой лошади. Об имуществе моем, о денщике на дворе доктора Л., о новом вицмундире в гостинице Дмитраки, обо всем этом я при виде общего смятения, сменившегося вдруг поразительным безмолвием, вовсе забыл!
– Лошадь? Вам нужно верховую лошадь. Постойте, голубчик, сейчас. Себе я достал кой-как. Я тоже здесь случайно, в таком же положении был, как и вы. Погодите, попробую.
И он тотчас же подвел меня к каким-то большим воротам в стене. Здания не помню. Только и помню, что стену и крепкие ворота.
Хамзаев постучался.
Из ворот вдруг вышли два почтенных татарина, духовные лица, в темно-коричневой одежде и белых чалмах. Они поговорили две минуты с князем и князь, протягивая мне дружески руку, с участием сказал: «Нет у них больше ни одной свободной лошади… они бы дали. Последнюю мне отдают, что ж делать, доктор, не моя вина. Спасайтесь, как знаете, а мне самому пора убираться отсюда».
Я видел, как Хамзаев пошел опять к воротам между двумя этими белыми чалмами и… делать нечего… опять я остался один из серьезном раздумье, но сердцем все-таки счастливый. Я пошел к морю. Набережная была близко. Я стал на тротуаре у самой воды, глядел на голубую бухту, на корабли, сбитые в кучу налево, на знакомый пролив, который широкой полосой уходил вдаль к Еникале.
Все было тихо и красиво. Майское солнце сияло, море было гладко.
Налево были видны вдоль загибающегося берега строения карантина и домики того опрятного предместья, через которое я давеча въезжал на дрогах Ицки с своей (теперь забытой) поклажей.
Я стоял перед этой тихой, голубой и, казалось, столь мирной бухтой и думал.
О чем же я думал?
Я думал, впрочем, помню это хорошо – без напряжения мысли, без всякого мрачного оттенка, без всякой тревоги. Мне было все так же хорошо, – нет! мне было еще лучше, чем прежде, теперь «гражданская» совесть моя была покойнее. «Лошади нет, и я дороги к полку не знаю».
Если я пойду сейчас в Еникале назад, то все равно могу не избегнуть плена. Где неприятель теперь? Где эта деревня г-на Олив Камыш-Бурун, в которой десант?.. И что такое 15 верст для войска – я почем знаю. Может быть, это для войска очень мало! Не все ли равно. А день так прекрасен! А море так сияет, так мирно и празднично сияет. И отчего бы на «казенный» французский, турецкий или английский счет не съездить за границу? Вероятно, особого зла мне не сделают; быть может, еще и работу где-нибудь как врачу дадут. Я, так и быть, так и быть, уж постараюсь быть любезным и понравиться им. Увижу две столицы, о которых я могу иначе (по недостатку средств) лишь мечтать и в книгах читать; увижу даром и при исключительных условиях Царьград, священный город мусульманства, увижу, быть может, Париж – la capitale du monde[8], увижу великие памятники прошлого, Notre-Dame, С.-Жерменское предместье увижу, Jardin des Plantes[9], с обезьянами, которых я так люблю. Боже мой! Да это прекрасно! Все к лучшему! И, наконец, разве я строевой офицер, которому без крайности стыдно отдаться в плен… Я ведь не от робости остаюсь… Быть может, и пленному будет грозить опасность… Я доктор военный… Офицеры необходимее для отчизны… Они полезнее в такое время; убивать и быть убитым вернее, гораздо вернее, чем лечить и спасать. В битве нет иллюзии; чем больше у нас своих храбрых воинов, тем больше мы убьем и прогоним чужого народа; а медицина? Я исполнял свой долг в больнице, как умел, но я мало верил в серьезный результат наших тогдашних докторских трудов. И статьи Н.И. Пирогова в «Военно-медиц. сборнике» мне очень нравились тем, что в них часто заметен был значительный скептицизм. Он, видимо, любил науку; но не верил в нее слепо и безусловно… И если он, Пирогов, великий хирург, так думает, то что же значит наша доля пользы. Что значит один молодой и малоопытный военный врач… Таких, как я, врачей довольно… Но во мне есть другое, я будущий романист… Я останусь в плену и потом напишу большой роман: «Война и Юг»… Мой герой будет юноша. Белокурый? Нет «chatain»[10], такой, как я… Только не военный лекарь… Фи! черный с красным кантом длиннополый вицмундир и треуголка…
Нет, он будет гусар… Молоденький гусар; «chatain», в голубой венгерке… Немного женоподобный и даже боязливый сначала от самолюбия… А в деле окажется храбр… Его берут!!. Да. конечно… Это хорошо!.. Но честь службы требует бежать, хотя бы и пешком отсюда… Честь, честь!.. А роман?.. А сам Гете, великий Гете где-то, кажется, сказал… «Если ты деньги (или состояние) потерял, ты еще ничего не терял.
Если ты честь утратил – приобрети славу, и все простится.
Но если ты мужество, дух потерял, ты все утратил»… Да где же лошадь!.. Где лошадь?.. Но вот что важно – мать!
Я мать свою очень любил, очень жалел и уважал.
Весть о взятии Керчи и Еникале разнесется быстро у нас. Жив ли я? Где я? Как скорее послать ей письмо, что жив, здоров и даже безумно счастлив, оттого что приключения…
Пойти сказать какому-нибудь бравому французскому генералу: «Mon general, j' ai une bien bonne mere en Russie… Une mere bien noble et bien tendre[11]. Позвольте послать ей через наши аванпосты письмо»… Но согласится ли генерал для одного моего письма посылать парламентера?
И я вспомнил, как я осуждал жестоко одного из старших братьев моих, весьма тоже матерью любимого, за то, что он никогда не заботился извещать о себе, а писал ей тогда, когда нуждался в ней, в ее помощи, в деньгах и т. д. Это ужасно! Я из крепости писал ей аккуратно, нередко и принуждая себя…
А теперь, если я не убегу и останусь в плену, сколько она перестрадает до первого письма. Даже и невольно быть похожим на этого брата, на этого ничтожного и глупого брата – мне больно и стыдно… Теперь начало мая; у нас в Кудинове еще свежо, быть может; она теперь, быть может, в саду, в черной своей турецкой шали с зонтиком…
Я видел из-за тысячи с лишком верст ее кисейное серое с черными цветочками летнее платье, ее благородный и суровый профиль, ее большой нос с горбиной, ее круглую родинку с левой стороны на подбородке, ее величавую походку и задумчивый вид.
Вот что ужасно!
И эта мысль о матери, только эта одна жестокая мысль и смутила мое светлое настроение во все это странное утро.
Смутила на мгновенье… Да… Но солнце сияло все так весело в чуть заметных струйках тихого залива, и пролив знакомый так, неподвижно синея, уходил в знакомую даль – и звуков я не помню даже никаких. Быть может, они и были, но я их не помню.
Я весь был раздумье и созерцание.
Вдруг за мной раздался звон конских копыт по мостовой. Я оглянулся; за мной остановился донской казак; худой, некрасивый, с рыжими усами, без пики, с одной только шашкой. Он вел в поводу за собою другую лошадь без седока и даже без подушки на седле, а только с одним деревянным остовом седла, с одним «арчаком», как они, казаки, помнится, называют это.
Судьба!.. Да, судьба. На погонах его был номер… Номер этот был 45.
Пораженный этим случаем, я поспешно обратился к нему и спросил: «Так ты 45-го полковника Попова полка… Откуда ж ты с этой лишней лошадью?»
– Из Еникале, – отвечал казак, – вчера с вечера отвез из лагеря больного товарища… У него лихорадка; ночевал там, теперь веду его лошадь назад в полк.
– А подушка с седла где?
– Он себе ее оставил.
Я хотел что-то еще сказать; но вдруг слева, с карантинной батареи раздался сильный пушечный выстрел; за ним другой, и одно ядро, за ним другое, перелетев с полбухты, ударились в море, подымая большие всплески.
Батарея дымилась, и мы оба молча глядели… И вот справа, с противоположной стороны, прямо напротив карантина, из-за высокого обрыва, где выход в открытое море, тихо и величаво вступил первый неприятельский пароход. Он был невелик. На мачте веял великобританский пестрый флаг.
– Вот и англичанин, ваше благородие, вошел! – сказал мой казак покойно.
С батареи нашей раздался еще выстрел, еще один… Ядра не долетели…
«Англичанин» не удостоил ответить. Он пустил клубы белого пара и остановился, не стреляя. Вслед за ним показалось другое огромное, великолепное боевое судно… Наша батарея смолкла.
Я стоял, как очарованный, и пожирал глазами и душою эти английские суда, с которых, быть может, на меня же смотрят оттуда какие-нибудь эти Джемсы, Джонсы, Вальтеры, которые были мне так дороги, так милы и так близки по романам Диккенса и Вальтер-Скотта.
Быть может, они в красных мундирах… и такие красивые; молодые, как я… влюблены…
И… О, что за глупость моя!.. Сказать ли? Я даже был невыразимо благодарен им, что они доставили мне все эти сильные ощущения… Однако долг, однако честь и мать!..
– Послушай ты, казак, – дай мне эту пустую лошадь… Я прикомандирован доктором к вашему Попова 45-му полку… Я с тобой доеду…
– Да как же, ваше благородие, лошадь не моя, товарища… Сотенный командир что скажет?..
– Он скажет тебе спасибо, что ты доктора им привез; будь покоен… А я тебе рублик…
Он согласился, и я вскочил мигом на деревянный «арчак»… Мы направились с ним прямо в ту сторону, откуда должен был вступить сухим путем неприятель. Я спросил у него:
– Куда ж мы? Разве не в те ворота?..
– Нет, – отвечал он, – там дальше: до нашего отряда здесь ближе.
И мы поехали по городу прямо навстречу союзникам.
Очень скоро нагнал нас рысью другой казак того же полка и присоединился к нам. Этот был при всей форме и с пикой.
Других людей, народу, прохожих, проезжих кроме нас троих ни около набережной, ни на улицах, ни у выезда вовсе не было. Или, быть может, что и было, но я никого не помню. Если и были люди, то я до того мало обратил на них внимания в моем умоисступлении, что никого из них не заметил.
Бухты уже не было видно за домами, и скоро мы выехали в широкую, открытую и зеленую степь.
Теперь, когда и совесть уже не могла укорять меня, мне оставалось только блаженствовать.
И я блаженствовал особого рода блаженством, дотоле мне незнакомым. Все московские и все другие, прежние мои радости были хуже этого!!
IV
Сколько времени мы ехали по степи прямо в сторону неприятельского десанта – не помню. Налево, очень недалеко от нас – крутой берег Черного моря; горизонт с этой стороны был как бы отрезан, и, кроме неба, за этим близким от нас краем ничего не было бы видно, если бы в это самое время не двигались с безмолвной выразительностью нам навстречу вершины больших мачт неприятельских военных судов.
Уверенные в безопасном успехе, двигались союзные боевые суда, не стреляя, за этим краем, так близко от нас; но нам не было видно ни самих кораблей, ни синих французов и красных англичан, которые были в эту минуту на них, а только – вершины самых больших мачт.
Мы считали их, и сколько сочли – не помню.
Я был в упоении… Нет, я не так говорю!.. Я был теперь еще в несравненно большем упоении, чем давеча в городе!..
Направо от нас тянулась бесконечно вдаль холмистая зеленая-презеленая степь… На синем небе не было ни облачка… Крымские жаворонки пели и пели, пели и пели, взлетая все выше и выше… Их было множество, а трава на степи была очень свежа, майская трава, еще ничуть от жары не желтеющая, – высокая, душистая, густая…
Природа и война! Степь и казацкий конь верховой! Молодость моя, моя молодость и чистое небо!..
Жаворонки, эти жаворонки, – о, Боже! И, быть может, еще впереди – опасность и подвиги!..
Нет! это был какой-то апофеоз блаженства. Я и сам теперь не пойму, что такое…
Мачт уже не было видно налево…
Мы все ехали большим шагом, не спеша и все прямо в ту же сторону; но казаки мои не были, по-видимому, так покойны, как я… Они внимательно и молча всматривались перед собою вдаль… И, наконец, один из них сказал другому:
– Смотри – а ведь это пехота ихняя…
– Да, – отвечал другой, – пехота…
Я тоже глядел вперед перед собой, туда, куда они указывали, прямо в сторону Камыш-Буруна, и мне казалось, что кроме зелени, травы и травы – ничего там нет… Но я понимал, что мои «студенческие», штатские глаза и не могут равняться с зоркими очами сынов «воинственного Дона»! Надо было им верить, что там, где-то перед нами, быть может, верстах в десяти, положим, а может быть, и ближе, – движется вражеская пехота…
Наконец, не знаю, в самом ли деле я увидал что-нибудь по их указанию, или мне вообразилось только, что я вижу что-то, но как будто остались у меня теперь смутно в памяти как бы узкие темные две-три полоски на дальней зеленой степи…
Казаки уверяли, что это неприятельские колонны, движущиеся от Камыш-Буруна к Керчи.
Наконец, один из казаков (тот не вполне вооруженный, который уступил мне лишнюю лошадь), сказал: «Надо прибавить рыси теперь».
– Бери правее, – сказал другой. – Может быть, у них и кавалерия есть. Кто ж их знает!
– Да ведь далеко, – заметил я, – разве поймают?
(У меня уже опять было мелькнула мысль о путешествии на казенный счет в Константинополь и Францию. Теперь уже и совесть молчала: с казаками вместе, без всякого самовольного романтизма, попался в плен. Чем же я виноват? Может быть, даже слегка и ранят в погоне, слегка, слегка, конечно!.. Бог милостив! И честь соблюдена, и все!)
– Разве поймают? – сказал я.
– Припустят человек десять – двадцать на хороших конях, так и поймают или убьют, – ответил казак и прибавил, обращаясь к товарищу: «Ну, эй! прибавь рыси!»
Я должен был покориться, и мы вдруг «побежали» очень шибко рысью, все забирая правее и правее в степь от берега и приближаясь к тому пути, по которому должны были отступать все наши войска к Феодосии.
Бежали мы, бежали на рысях, – сколько, уже не помню; край неба у близкого берега давно исчез из глаз за нами, и давно уже мы были окружены морем степной зелени со всех сторон.
Казаки тоже успокоились и даже захотели дать отдохнуть лошадям и сошли с них; сошел и я, отдал и свою лошадь казаку, а сам лег на землю.
Травы тут были все высокие, густые, все душистые, как лекарственные, и все больше кустиками, а между этими кустиками были пустые места, покрытые какой-то мелкой травкой; вот на такое местечко я лег и полежал немного. Я даже не помню наверное, курил ли я. (Может быть, я тогда забыл от восторга моего, что я курю, может быть, теперь не помню.) Но я очень хорошо помню, например, что я лежа рвал около себя душистые травы и, растирая их в руках, старался по виду и запаху припомнить – не знакомое ли это мне какое-нибудь полезное растение; это я помню.
Помню также очень ясно, о чем я именно в это время думал. Тут-то, во время первого отдыха моего, я в первый раз в это утро слегка и без усилия занялся «рефлексом», сознал свои чувства с полной ясностью!..
– О, как я рад! – говорил я сам себе: природа и военная жизнь!.. Чего же лучше!.. И неужели это я? Я, тот болезненный и бледный студент, всегда чем-то смущенный и расстроенный, которого я знал столько лет в Москве? Этот вечно что-то мыслящий юноша, такой больной, и душой и нервами, что даже любовь (настоящая, сильная любовь, давняя по времени и счастливая) – и та никогда не давала мне таких светлых и вполне чистых по радостному спокойствию минут!..
Вот где именно кстати вспомнить слова Карамзина: «Я помню восторги (в Москве), но не помню счастья!» Здесь, в этом удалении от всех своих, в удалении от книг, литературы, от Москвы, от родины (почему-то милой, однако), в этой простой, здоровой, первобытной жизни я буду счастлив; я уже счастлив и теперь до райского спокойствия. И самая боль от деревянного седла без подушки, на котором я ехал сейчас рысью, только усиливает мое тихое счастье. И я могу хоть сколько-нибудь равняться с этими сынами степей, с этими донскими центаврами. Они оба даже на подушках, а я без подушки. Я ли? Я ли это? И как я этого даже, дивлюсь, удостоился… Боже мой!
Так я веселился, лежа на траве, и жаворонки все так же бились в чистом небе и так же громко пели, и только мне все казалось другим напевом, не нашим, не калужским. Так мне казалось.
Однако надо было спешить, и мы скоро опять поехали. Здесь я остановлюсь немного на одном психологическом вопросе, который меня интересует. Отчего я с той самой минуты, как меня встретил Дмитраки Молчанович в своей гостинице в альмавиве и с насмешками над союзниками, которые «дураки, не посмеют сделать десанта!», и до конца этого первого короткого отдыха в степи довольно все последовательно помню; а после этого и до самого захождения солнца в этот день последовательность и ясность моих анамнестических (если можно так выразиться) представлений теряется и меркнет. Все отрывки, все отрывки… Промежутки между памятными картинами и чувствами пусты до самого вечера, до того самого времени, когда мы с казаками устраивались ночевать на аванпостах в степи.
Эти сборы снова поразили меня и остались в памяти лучше многого другого.
(Приглашаю моего друга-психолога П.Е. Астафьева прочесть, что за этим следует, и объяснить: «почему это так?»… У него на все подобное есть готовые ответы, которые я люблю выслушать, и хотя половины не понимаю, но возлагаю всегда упование «на словеса учителя!»)
Когда мы сели, как мы поехали, – не помню, и вообще обоих спутников моих с этой минуты около себя не помню. Лиц и фигур их больше не вижу. А вижу вот что: нас уж не трое, а больше двадцати человек казаков, все моего 45-го полка, едут шагом по степи все на запад и на запад; и я с ними. Над ними начальствует молодой донской офицер; у него небольшие темные усы и довольно хитрое и приятное выражение лица. Мы едем; нам идет навстречу огромное стадо прекрасных крымских овец… с ним пастух
Кто-то спрашивает: «Чье стадо?»
Кто-то отвечает: «Багера».
А я знал еще прежде, что Багер – испанский консул ad honores в Керчи, человек, кажется, торгующий и богатый. У него где-то здесь недалеко имение…
– Какие хорошие овцы, – говорю я, – и как их много у него… Вот бы взять одну с собой да изжарить. О сю пору уж есть хочется… А что мы будем в степи этой целый день есть?..
Это все я же говорю… Казаки молчат, офицер ни слова… Стадо жмется около наших лошадей.
Тогда я, одушевленный мыслью, что теперь война и это все защитники, а я голодный врач этих защитников, восклицаю, повелительно обращаясь к ближнему из всадников наших с такими словами:
– Ну, что смотришь, брат! Бери, чего зевать! У Багера много… Теперь война. Ведь нам тоже есть надо…
Молодой офицер, не осмелившийся сам на подобное распоряжение, стыдливо, но сочувственно улыбнулся и плутовски взглянул на меня, не возражая ни слова…
Казак тотчас же соскочил с коня, схватил овцу и устроил ее бережно перед собою на седле.
Татарин-пастух не позволил себе сказать ни слова.
Московская «цивилизация», в лице вдохновенного «военным положением» доктора, взяла верх над тщетно и давно прививаемой донским войскам правильной дисциплиной…
Мы немного позднее съели часть этой овцы с сотником 1-й сотни И-м и др. офицерами, а другую часть оставили казакам.
Казацкие офицеры, хотя и ели похищенную мною у испанского консула овцу, но очень смеялись тому, что я вообразил, будто «теперь нам можно брать пищу у достаточных людей даром, когда нужно… и кончено!».
Я – признаюсь в своей глупости и наивности с этой стороны – в самом деле вообразил, что брать можно без денег, и что это совсем не грабеж, когда нам, военным, есть хочется, а денег мало.
Сотник И-в особенно много смеялся и радовался на мою простоту, говоря: «Эх, батюшка, хорошо, кабы так-то… Да не велят!»
Тут, после этого похищения овцы, у меня опять промежуток в памяти: какие-то непроницаемые завесы… Когда и где я встретился и познакомился с сотником И-м, с казначеем нашего полка П-м, с войсковым старшиной Ш-ковым – решительно не помню. Только знаю, что в этот день. Знаю, что мы вместе еще до вечера ели эту овцу, но тоже где, совсем забыл.
Помню голод и нестерпимую жажду; помню соленую дурную воду каких-то ручьев, палящий зной; помню, что в одной татарской деревне я сижу в тени за каменной стеной и ем ложкой в первый раз в жизни густое и сладкое овечье молоко, в которое я покрошил черный хлеб… Помню иногда нестерпимую, тяжкую боль от седельной деревяшки; знаю, что говорили мне: «Как же не болеть: вы проехали от Керчи больше 25 верст, почти не слезая, да и еще много на рысях… Это и у нас заболит… А вы еще, право, терпеливы!»
Это, конечно, мне было очень приятно слышать от донцов; но ни лиц в эти минуты, ни времени не помню и не могу вообразить…
А вот что я помню и вижу отлично и теперь… Чье-то имение. Дома барского я не вижу, но знаю, что он был. Я помню только, что жажда у меня ужасная, помню и вижу как сейчас перед собой скомканную на дне кувшина грязную тряпку, которой был кувшин заткнут, и она туда провалилась… Тряпка гадкая, но вода хороша, из колодезя, и я ее пью, пью с наслаждением…
Вижу еще (и до сих пор вижу) какой-то погреб в этом самом имении и человек десять рядовых казаков перед его толстой и крепко запертой дверью. Эти казаки были из того самого небольшого отряда, при котором я был, когда «распорядился» насчет овцы. Им, видно, понравился «дух» моей команды, и они тоже, умирая теперь от жажды, предпочли обратиться к моему «нравственному» авторитету, чем к своим законным властям.
– Ваше благородие, – сказал один мне весело, – вот тут в барском погребе много, говорят, простокваши. Просили, просили приказчика – не дает.
– Вот глупости! – сказал я. – Как он смеет, дурак, усталым войскам не давать! Ломи, ребята! И я выпью!
Казаки налегли – и мигом дверь затрещала… Простоквашу вынесли… И я выпил прямо из горлача очень много этой холодной простокваши, и со мной ничего не случилось…
Тотчас же я был опять на коне, и мы поехали дальше от этого места… Все спахталось — во славу русского оружия и моего в этот день вдохновения!.. (Где ты, где ты, больной студент, боявшийся в Москве всякой неосторожности, – и основательно боявшийся ее, ибо ничто тебе там не сходило с рук?.. Где ты?.. О, как я рад, что я теперь – не ты!..)
Впрочем, и этот «грабеж» мой я произвел прежде, чем офицеры растолковали мне, что… все-таки – так нельзя… То есть – оно «конечно, можно, но – не велят».
Куда мы еще ехали, и сколько ехали, и с кем – не знаю; только уж стало почти вечереть, когда мы приехали уж с довольно большим отрядом казаков в какое-то еще новое селение и там нашли штаб.
Там я встретил и командира нашего полка полковника Попова, и начальника штаба, полковника К., и знакомого мне доктора Л-на, и многих других людей…
И тут я только в первый раз не без огорчения вспомнил, что у меня в этой погибшей для нас Керчи остались все мои вещи, и новый вицмундир, и все, все!..
V
Я помню, что уже вечерело, когда мы присоединились к штабу, в каком-то селении. Но самого места вовсе не помню.
Только что я сошел с лошади, разминая ноги, жестоко заболевшие от долгой езды на деревянном остове казацкого седла, как увидал перед собою нового и ближайшего начальника моего, полковника Попова, командира Донского № 45 полка. Ему уже сказали, что я тот самый «доктор», которого генерал Врангель прикомандировал к его полку.
Полковник пожал мне руку, сказал, что очень мне рад, и похвалил того рыжего казака, который согласился уступить мне в Керчи лошадь больного товарища.
Я с своей стороны тут же исполнил обещание и дал этому казаку рубль из бедных моих пяти с чем-то рублей.
Полковник Попов мне понравился с виду; лицо у него было солдатское, как бы испытанное трудами – бури боевой, худое, строгое, выразительное; усы седые, и сам он был сухой и довольно стройный мужчина, на вид лет пятидесяти. Он казался теперь очень серьезным, да и для всех, конечно, минуты были тогда серьезны: мы еще не знали наверное, сколько у неприятеля войск; ходили только слухи, что 15 000; не знали, есть ли у союзников с собой кавалерия, и обязаны были с осторожностью с часу на час ожидать преследования и нападения в открытом поле. У нас войска было очень мало.
Понятно, что полковник казался озабоченным. Но впоследствии, поживши с ним подольше, я узнал, что он был большой гуляка и балагур.
Пока мы с ним разговаривали, и я сожалел о вещах моих, оставленных в Керчи, вдруг в стороне этой самой Керчи (мы стояли лицом к той стороне), в одном месте необъятного степного горизонта мгновенно поднялся высокий и широкий столб дыма. Поднялся, как черный сноп, расширившись к верху. Поднялся и исчез.
– Еникале взорвали!.. Еникале! Кто взорвал? Наши? Или случайно неприятель?
Я вспомнил молодое лицо спорщика Це-ча и его обещание все уничтожить. Быть может, и себя. Вспомнил также знакомые лица некоторых своих больных, особенно хронических, которых я давно уже знал и помнил; двоих, которых я еще недавно счастливо ампутировал. И мне стало немного жалко. Я говорю немного. Именно немного, не стану лицемерить. Кроме того, что я в этот день был слишком весел и возбужден, чтобы чувствовать что-либо печальное (возбужден я был до того приятно и как-то спокойно, что даже и сильная боль в ляжках моих доставляла мне истинное удовольствие). Кроме этого временного настроения чувств, самые идеи мои, мои еще прежде из долгих московских размышлений выведенные заключения не располагали меня ничуть видеть в войне только бедствие. Напротив того, поэзия войны, ее возвышающий сердце и помыслы трагизм совершенно заставляли меня забывать об этих бедствиях, о которых нынче до отвратительной пошлости твердят даже и люди, до смерти сами желающие повоевать, победить и отличиться. Или, вернее сказать, не то чтобы мыслью забывать; как же забыть мыслью о тысячи смертей, о свойственном всякому, даже и самому бесстрашному человеку, ужасе гибели в иные несчастные минуты! Как забыть о горе близких, о жестоких болях при некоторых боевых поражениях?.. Забыть умом нельзя, но можно, при сохранении того правильного, векового взгляда на войну как на дело славное и высокое – именно потому, что ей весь этот трагизм присущ – можно даже любить все эти страшные возможности… и шансы… XIX век (благодаря многим причинам, о которых здесь говорить было бы долго и некстати) до того изолгался, что очень немногие решаются говорить прямо и открыто хвалить то, что им самим в душе нравится!..
Я говорю, что был на мгновение тронут воспоминанием о моих больных и об отважном Ц-че, и мгновение это, видно, было такое летучее, что я об этой легкости моего чувства сохранил самую точную память!
– Остался бы я случайно там – и меня бы взорвало… И кончено – чего тут долго об том думать!..
Но несколько минут спустя, за этим дальним и беззвучным, но столь выразительным в самом беззвучии своем взрывом, прошел другой слух, гораздо более страшный и жестокий… Кто-то из офицеров подошел и сказал: «Сейчас проехали жители из Керчи… Успели бежать. Говорят, в Еникале высадились турки и режут греков нещадно!»
Этот слух ужаснул меня гораздо больше, чем взрыв Еникале… С тем быстрым, как молния, и часто бессознательным оборотом на самого себя, который свойствен всем людям в таких случаях, я почувствовал, что иное дело было бы и для меня взлететь вместе с Ц-чем, обломками крепости и больными на воздух, – взлететь или вовсе неожиданно, или самовольно и сознательно, в отважном напряжении всех душевных сил; и совсем другое дело, чтобы тебя взяли, положили и холодным оружием распороли бы тебе живот или вскрыли бы горло, беззащитному, подавленному болью и холодным ужасом смерти! Нет, вот это ужасно!.. Ведь и казнь несравненно страшнее поединка и даже мирная «гражданская», так сказать, смерть от острого воспаления кишок и брюшины гораздо ужаснее внезапного ушиба при взрыве.
Бедные еникальские купцы-греки и гречанки их! Бедные! Нет, это вот в самом деле страшно! И я помню, как сейчас же представились тогда некоторые из знакомых мне этих рыбных торговцев, которые «ходили по-немецки» и жили в просторных двухэтажных каменных домах: Мапираки, Маринаки, Стефанаки, Василаки!..
Вот стоит около меня у обедни, Великим постом, в церкви mademoiselle Мапираки; очень красивая, стройная девушка, лет 20, брюнетка, дочь купца, одна из лучших невест скромного и глухого городка. Она одета очень недурно и прилично, шляпка на ней темная, зимняя, модная, как следует, с лиловым чем-то. Цветы ли, или ленты – не припомню. Вот она оглянулась на меня; черты тонкие и нежные, глаза черные, нос с небольшой горбинкой, лицо продолговатое – настоящее хорошее греческое лицо. (Я позднее на островах Средиземного моря и в Царьграде много таких видал.) Она оглянулась; черты довольно строгие, а взгляд почти детски невинный. Неужели и ее убьют или… оскорбят нещадно?
Вспомнился мне также внезапно и еще один грек, с которым я никогда и слова не сказал и которого имени даже не знал. Он был средних лет, не более тридцати, казалось, небольшого роста, черный-пречерный и неприятно волосатый, – из тех брюнетов, у которых чуть не из-под самых глаз начинают по всему лицу расти черные волоса… На голове его была огромная шапка также черных-пречерных, курчавых, длинных волос. Незадолго до катастрофы, предавшей в руки неприятеля все керченское прибрежье и пролив, мы шли куда-то воскресным днем по единственной улице нашего рыбачьего городка с Бутлером (тоже младшим ординатором, одним из тех пруссаков, которые приехали к нам служить и лечить в действующую армию). Мы проходили мимо какой-то открытой по-восточному лавочки или булочной, не помню. Перед лавкой была небольшая толпа, а посредине ее русский, белокурый, стройный и плечистый молодой человек, в сером сюртучке (чей-то офицерский денщик), держал этого самого грека руками за его густые волосы, нагнув его перед собою, и тряс туда и сюда. Никто не заступался – все смотрели… Остановились и мы с Бутлером, молча… Денщик скоро выпустил его. Но косматый грек, с лицом, искаженным жалобной и бессильной злостью, кинулся тотчас же опять на него и схватил его за грудь. Русский блондин почти без усилий, каким-то ловким и косым (я помню) ударом плеча кинул его на открытый прилавок и подмял его под себя. Тогда народ стал разнимать их; денщика схватили за плечи и оторвали прочь. Косматый и побежденный грек был в малиновой с черными большими клетками короткой жакетке тогдашнего модного фасона и принадлежал, как оказалось потом, к семье торговой и весьма достаточной.
Лицо белокурого денщика, его выразительные и острые серые глаза во все время борьбы, казалось, были спокойны и только слегка суровы. Он мне понравился. Бедный греческий франт казался мне ожесточенно несчастным. Мне стало его что-то очень жалко, – гораздо жальче, чем было бы, если бы он рядом со мной упал, сраженный неприятельским ядром, или если бы он лежал передо мною на операционном столе с испуганным выражением лица при виде наших, действительно страшных, докторских ножей, ножниц, пил и крючков. Вот объясните эту разницу!
Бойцов розняли люди, и мы ушли. Вечером в тот же день мы все с тем же Бутлером вышли опять погулять на взморье и по улице. Вечер был лунный и прекрасный. Вдруг к нам подошел пожилой, почтенного вида еникальский грек и попросил к себе в дом посмотреть одну больную, с которой сейчас только сделалось очень дурно. Мы пошли, конечно. Дом был хороший, комната, в которой лежала на диване больная, была просторная, пол некрашеный, но очень чистый; убранство простое, старинное, но все отзывалось довольством и порядком и произвело на меня приятное «хозяйственное» впечатление… Больная, я говорю, лежала на диване, в шелковом платье, по-праздничному – получше одетая; она была еще молода, недурна, но и не особенно красива и очень бледна. Нам сказали родные, что она замужняя, а не девица.
Мы исследовали ее вместе с Бутлером внимательно, беременной она не была, и по всем признакам с ней случилась только простая, но очень сильная истерика, вероятно, от какого-нибудь душевного потрясения. Мы посоветовались по-немецки, и я прописал ей тут же tinct. valerian aether. и больше, кажется, ничего. Пока мы занимались с молодой пациенткой, в комнату вошел кто-то еще, кроме отца и матери. Мы оглянулись и увидали того самого косматого грека в малиновой клетчатой жакетке, которого поутру так легко победил ловкий денщик. Он был почти как дома, прохаживался туда и сюда около больной, заложив руки в карманы, и наконец сел около ее дивана, ни слова не говоря.
Когда мы с пруссаком выходили из этого дома, у нас обоих мелькнула, может быть, и совершенно ложная, но очень естественная и одновременная мысль: «Нет ли какой-нибудь связи между утренней дракой и этой истерикой?»
Первый выразил это мечтательное подозрение Бутлер: – Что это, муж или брат ей? А может быть, это одна случайность, без всякой связи, – эта драка и эта истерика.
Вся эта незначительная история, впрочем, так мгновенно мелькнула в нашей с Бутлером жизни, что мы – ни тот, ни другой – и не справлялись даже, брат ли или муж или еще какой родственник этот грек этой гречанке, и есть ли связь между «истерикой» и «дракой»?
Ничего тут важного не было и в том, что красивая m-lle Мапираки, случайно стоя рядом с ним в церкви, случайно взглянула на меня таким, как я сказал, невинным и стыдливым взором, и только… Никогда я с ней не говорил – ни прежде, ни после этого пустого случая. Правда, признаюсь, я помню и теперь, что она была первая из крымских гречанок, об которой я подумал, живя в Еникале: «Вот она годится в героини романа из крымской жизни!»
Но ведь это такой вздор! одно мгновенье… Одно ничтожное, еще более этого ничтожное мгновение – и та мысль о «чужом романе», которая так, казалось бы, бесследно мелькнула в уме у меня в одно время с Бутлером… И мы оба о ней забыли тотчас же… Да, оба, казалось, забыли. Я забыл и не подумал даже и справиться: кто он такой именно – эта бедная и словно глупая косматая голова в малиновой жакетке…
Однако вот теперь, стоя задумчиво лицом к востоку, в сторону Керчи и той покинутой мною с радостью глухой крепости, в которой я так много и усердно потрудился за всю эту зиму, глядя через темнеющую степь все туда, где за минуту перед этим поднялся вдали так безмолвно и многозначительно черный, огромный столб дыма, – я всех их, этих греков и гречанок, вспомнил с большим чувством и ужаснулся за них!..
Однако что же делать?!.
Житейские заботы берут свою дань!.. Мои вещи пропали… Жалко образа с мощами, жалко теплой офицерской шинели, жалко белья, книг, вицмундира, сапог непромокаемых (простуды ног я ведь больше боюсь, думал я, чем пуль и гранат… Пули и гранаты – это благородно; а простуда ног и кашель и какая-нибудь еще туберкулезная чахотка, как у других небогатых молодых ученых и писателей бывает, – что за надоевшая издавна городская проза! Это хуже всего)…
А между тем делать нечего!.. Надо и на эту гнусность быть готовым… Грустно!.. Вечереет, сыро, холодеет в воздухе…
Вдруг я вижу – идет ко мне по улице селения навстречу небольшого роста человек в военной фуражке и в русского покроя (как бывают дубленки) гранатовой бархатной прекрасной шубке на хорошем меху… У него толстые губы, круглый приятный нос и очень хитрые глаза. Он идет и зовет меня по имени. Это штабный доктор Л-н, – тот самый, у которого в Керчи я оставил мои вещи, и у которого в хозяйском саду в первый раз в жизни я увидал цветущий на воздухе розовый цвет персика.
Он что-то очень расстроен и надут, несмотря на восхитительную и теплую шубу.
Мы здороваемся, и я сразу говорю ему:
– Знаете, Василий Владимирович, все мои вещи у вас на квартире остались и пропали… И не знаю даже, что сталось с моим денщиком…
Но каково же было мое радостное удивление… Василий Владимирович мрачно отвечает мне:
– Не ваши вещи пропали, а мои… Ваши все целы, и денщик ваш дальше, при штабном обозе! Завтра вы можете его разыскать.
– Как же это случилось? – воскликнул я, вероятно, очень плохо скрывая мою радость.
– Я поручил все мое добро хозяйке, когда утром поехал в штаб… Сказал ей, что пришлю за ним… Потом уж, при отступлении, выпросил в штабе один фургон и послал поскорее за вещами. Через те ворота с грифонами, знаете… Посланный спрашивает: «Тут вещи доктора?., давай скорей», а ваш денщик говорит: «Тут!», положил ваши вещи в фургон и приехал сюда…
Я спросил у него, откуда же у него такая прекрасная шубка?.. Он сказал, что это ему дал начальник штаба, полковник К-ский, жалея его и опасаясь, что он простудится…
Сказавши все это, доктор Л-н, все с тем же огорченным и мрачным видом, удалился от меня, а я был очень рад, конечно, тому, что вещи мои так неожиданно спаслись. Впрочем, сознаюсь, что к этой позволительной и, пожалуй, безгрешной радости присоединялась в сердце моем и другая еще, нехорошая, грешная маленькая радость…
Я был представитель «идеализма», «романтизма» и т. п.; доктор (или, вернее, просто «лекарь», такой же младший ординатор, как и я) Л-н был, напротив того, представитель ловкости практической, очень хитрый молодой человек, с гораздо большими, чем я, медицинскими познаниями, но несравненно менее меня литературно образованный. И пока я то наслаждался «честным» и неблагодарным госпитальным трудом всю зиму, то искал и находил себе новую и еще гораздо более «первобытную» среду при этом казацком полку (где даже и палаток не полагалось), – Л-н заводил себе как раз связи при штабе, имел откуда-то постоянно деньги и вдобавок еще зимой наскучал мне то тем, что глядел мне в лицо с добродушно-насмешливой улыбкой и хитрыми глазами, то тем, что говорил слишком часто: «Что делать, батюшка (это я-то «батюшка!» – ну какой же я «батюшка!!» как это скверно – «батюшка!»). Что делать – нынче век скептический, практический, материалистический!..»
Ну и прекрасно! Вот тебе и практический век… Ходи теперь в чужой шубе, а у меня все цело и на твоих же лошадях привезли! Совсем даже и не жалко мне тебя…
Это я все помню очень хорошо…
Помню еще кой-какие мелочи. Помню, что ко мне подошел тут же фельдшер нашего 45-го полка и рекомендовался мне.
Он был казак молодой, с чуть пробивающимися усами, очень приятной и смышленной наружности… От него я узнал, что у него в сумках есть все необходимое для первой перевязки ран. И у меня в боковом кармане шинели был портфель с хорошим хирургическим снарядом… Итак, с этой стороны также все было в порядке.
Помню еще, что полковник К-ский, начальник нашего отрядного штаба, главный помощник генерала Врангеля, сидел долго, отдыхая у какой-то стены; а около него также сидел худощавый, бледный мужчина, лет 30 с небольшим, так же как и мы все, в длинной солдатской шинели, но у него черный суконный воротник на этой шинели был не стоячий, как у всех других, а широкий отложной, как на штатском пальто, и высокие, острые накрахмаленные, стоячие по тогдашней моде, воротнички щегольской рубашки. Это уж было совсем не по форме. Неподалеку от него и К-ского стоял навьюченный разными вещами осел и громко кричал.
Наши казацкие офицеры сказали мне, что ослов близко от неприятеля держать по-настоящему не полагается, потому что их крик слишком пронзителен и может легко быть услышан издали.
Я узнал, что этот как бы привилегированный владелец осла и не по форме одетый франт был недавно приехавший служить в наш Восточный отряд богатый помещик Мартынов (кажется, родной или двоюродный брат тому Мартынову, который убил на дуэли Лермонтова).
Они сидели, потом куда-то исчезли; исчез и доктор Л-н, к которому совсем даже не шла изящная бархатная шубка полковника К. Исчезли из глаз все – до самого захождения солнца…
Когда же солнце село и настали поздние летние сумерки, тут началось нечто иное, – очень серьезное, торжественно-таинственное и несколько даже страшное…
Начались у нас, в казачьем полку, приготовления к боевому ночлегу в открытой степи.
Две сотни 45-го Донского полка были назначены простоять около одного кургана всю эту первую ночь и принять на себя первые удары неприятельской кавалерии, если бы союзникам вздумалось захватить нас в эту ночь врасплох. Позднее должна была еще подъехать черноморская легкая батарея (не знаю, во сколько пушек)… За нами недалеко, в нескольких верстах, стояли саксен-веймарские гусары, и еще подальше – весь остальной отряд, пехота, артиллерия и еще казаки. Отряды черноморских казаков, так же, как и наши донские сотни, охраняли другие пункты на аванпостах… Пикеты были, конечно, еще ближе к Керчи расставлены там и сям на высотах.
Я в первый раз тут наглядно понял их важное значение.
Эти сторожевые всадники должны были заранее успеть известить нас о приближении врага.
Итак, все остальные силы ушли пока дальше, и нас две сотни всего человек осталось без близкой помощи в темнеющей степи.
Полковник обратился к начальнику 1-й сотни, сотнику Исаеву, с вопросом, кто у него из людей самый надежный, бесстрашный, чтобы поручить ему знамя полка?
Я с величайшим любопытством ждал. Какой казак будет избран? Какой будет вид у этого примерного воина, которому доверяется священный символ полковой чести?
Сотник Исаев вызвал тотчас же молодого урядника, юношу лет 20 с небольшим. У него даже и следа усов еще не было. Фамилии его я не помню. Он был роста низкого, довольно плечист, смугл, круглолиц, тих, медлен и даже как будто кроток с виду, но темно-серые глаза его имели в выражении своем нечто глубокое: томное, малоподвижное и несколько хитрое. Я почти всегда замечал, что у людей, имеющих такие глаза, много такта, спокойствия и твердости. Я даже скажу, между прочим, что такие глаза, без злости хитрые (прошу верить моей психологической статистике!) – истинное сокровище и для семейной, и для товарищеской жизни. Я после короче познакомился с этим донским героем, – и действительно он был очень ровного, приятного характера, добрый, твердый и осторожный юноша.
Вызвали его из кучи спешившихся казаков и принесли знамя. Само знамя сняли с древка; велели и уряднику снять с себя чекмень; потом сам полковник вдвоем с сотенным командиром стали обматывать знамя вокруг тела молодого человека; когда обмотали и укрепили, он надел опять чекмень свой и аккуратно застегнулся, а сверх чекменя надел и тоже застегнул плотно серую шинель. Полковник еще раз осмотрел его внимательно и сказал:
«Теперь ты сам выбери четырех товарищей, – таких, на которых ты больше надеешься, и чтобы они всю ночь не отходили от тебя, а в случае тревоги, чтобы они за тебя отвечали. Понял? Ну, иди с Богом!»
В речи полковника было что-то ласковое, милостивое, как бы сочувствующее, при всей повелительности тона, и меня это сильно тронуло.
Все продолжали быть молчаливы и серьезны.
Пустое древко с пустым клеенчатым чехлом наверху воткнули на вершине кургана.
Я никогда не читал нигде и никогда не слыхал о такого рода воинской хитрости. Значение всех этих предосторожностей, как я понял, было, конечно, следующее. В случае ночного нападения, самого внезапного, в случае исхода схватки самого для нас несчастного, – неприятель легко мог завладеть пустым древком, а самое знамя досталось бы ему только в случае смерти или плена молодого избранника. И смерть, и пленение это, сверх того, могли бы быть только совершенно случайными, потому что никто из неприятельских людей не мог знать, на чьей именно груди сохраняется эта «честь» нашего отряда… И «надежность», которой требовал полковник, значит, имела самый общий смысл: и не теряться, и не увлекаться, – помнить только о сохранении знамени… И в этом смысле, конечно, лучше, в крайности, бежать, чем быть убитым и потерять знамя.
Так, по крайней мере, я понял все то, что делалось вокруг меня.
Курган, на котором водрузили знамя, был широк и высок, а за ним земля вдобавок еще понижалась небольшой ложбинкой.
Поэтому всех казаков, человек двести, тесной кучей с лошадьми поместили за этим курганом. Позволено было двоим спать, не снимая с себя ничего, а третьему держать по три лошади в поводу.
Через несколько времени должна была произойти смена.
Все делалось необыкновенно тихо; даже лошади как будто понимали, что делается, и не ржали, и совсем почти ничем не шумели и не стучали.
Куда скрылись офицеры, не знаю, должно быть, и они легли спать с казаками за курганом.
Перед курганом, на котором в темноте еще все-таки виднелось древко знамени, ближе, так сказать, всех к неприятелю остался один седой полковник наш. Он велел подать себе кожаную подушку с своего седла, перекрестился и молча лег на траву один впереди у подножия кургана.
«Лягу и я около него», – подумал я, лег без подушки на эту сырую траву и попробовал вместо подушки подложить себе под голову вытянутую руку.
Я, разумеется, за весь этот день был утомлен движением и, вероятно, заснул бы и так, если бы не зяб нестерпимо… Все казаки были одеты теплее меня. Я не вытерпел, встал и полусонный стал ходить взад и вперед около отряда по дороге. Вскоре, однако, молодой фельдшер наш, который давеча на привале представился мне, рассмотрел меня как-то в темноте и, подойдя, спросил заботливо, отчего я не сплю? Я сказал, что очень зябну, и он предложил мне запасную свою фланелевую курточку на выпоротковом меху; она была у него во вьюках, и он мне тотчас же ее принес.
Этого было достаточно; когда я надел эту курточку под шинель и лег спать, около полковника на траву и на руку, я скоро согрелся и стал уже крепко засыпать, как вдруг… послышался какой-то легкий шум, лязганье чего-то звонкого и лошадиный шаг… впереди нас… Полковник вскочил, и я проснулся.
В темноте перед нами явился внезапно всадник, за ним другой… Это были веймарские гусары – офицер и его рядовой спутник… Офицер спросил, где полковник Попов, и когда полковник отозвался, то офицер сказал ему, что он послан начальником аванпостов генералом Сухотиным осмотреть пикеты и просил себе в провожатые казака, чтобы не сбиться… Казака гусару дали и потом некоторые из наших офицеров (они все тоже во время этого разговора встали и подошли к нам) тотчас же по удалении его стали немного подтрунивать над ним, за то, что уезжая он спросил: «А что, там не опасно?»
– Хочет осматривать пикеты по направлению к неприятелю и спрашивает, опасно ли? Кабы не было опасно, зачем бы его послали?
Кто-то заступился, говоря: «Еще неопытен, верно… Что ж за беда, что у нас спросил»… И мы опять все полегли, но ненадолго. Опять послышался какой-то шум, и опять с каким-то будто бы звоном. Но в этот раз уже позади нас, за курганом. Подъехала шагом легкая Черноморская батарея и остановилась на керченской дороге за нами. Все делалось по возможности тихо и беззвучно… Вся эта тишина и осторожность доказывали мне, новичку и «гражданскому чиновнику военного ведомства», и опытность войск, и серьезное значение этой ночи, при той почти полной неизвестности сил и средств неприятеля, в которой мы находились…
Но и этим появлением артиллерии нам на помощь и под наше прикрытие для защиты главной дороги наши небольшие тревоги еще не ограничились…
Еще немного погодя опять сзади послышалось какое-то движение – стук копыт, шепот наших, потом громкий, густой голос: «Полковник Попов здесь?!»
Это был генерал Сухотин, начальник всех аванпостов под Керчью.
Он сошел с коня и стал на дороге. Лицо его я рассмотреть издали, конечно, не мог, но черный силуэт его плечистой и приземистой фигуры был хорошо виден мне. (На другой день я увидал, что генерал очень красивый мужчина.) Полковник наш поспешил к нему, и генерал тотчас же стал «распекать» его нещадно за то, что пикеты по направлению к Керчи не хорошо расставлены.
– Как вам не стыдно! Вы старый служака, казацкий полковник – и не умеете расставлять пикеты. Вы подвергаете весь отряд бесполезной опасности. Стыдно! Вы не знаете службы. Извольте сейчас… И т. д., и т. д.
В чем была ошибка старого полковника нашего, я не знаю; как будто смутно мне помнится, что он расставил пикеты слишком близко от отряда и слишком далеко от Керчи. А впрочем, может, и это смутное воспоминание ложно… может быть, ошибка полковника была совсем не та.
Покричавши сердито и сделавши нужные распоряжения, генерал Сухотин уехал; а мне стало очень жалко нашего усатого и бравого старика. Он не оправдывался даже и все почти время по-солдатски молчал, пока его так строго при всех нас судили. Я очень был тронут опять, я думаю, если бы этого самого полковника нашего рядом со мной убили наскочившие вдруг французы или турки, я бы гораздо меньше был тронут. Но мне очень было обидно с непривычки за самолюбие этого сурового и заслуженного воина.
Однако пришлось скоро успокоиться и с этой стороны. Полковник, исполнив тотчас же все приказанное ему генералом, лег опять на свое прежнее место на траве и весело сказал мне:
– Вот еще какого нового назначили! Бакенбарды во какие густые! Я его прежде не видал.
И ни слова не сказавши более, утих, положив голову на седельную подушку. Я догадался, что для него это не новость и не слишком уж важно.
И я скоро забылся около него даже и без подушки, а на вытянутой под голову руке. Это было очень неловко, но я все-таки заснул.
Так кончился этот первый день выступления из Керчи, – этот день, исполненный для меня таким множеством новых, сильных и вовсе непривычных впечатлений, телесно утомительных, но чрезвычайно приятных для сердца и ума!
Примечания
1
прелестный мальчик (фр.)
(обратно)2
Какой замечательный рисунок жанра! (фр.)
(обратно)3
А я? А я? Я мальтиец! Англичане меня повесят … Они меня повесят. Будьте уверены, они меня повесят! (фр.)
(обратно)4
Ба! Почтовые лошади! (фр.)
(обратно)5
Или – они – эти лошади сейчас … теперь?.. Ну, мужество, молодой человек! Держись! (фр.)
(обратно)6
«Пневмония», «Водянка» (лат.)
(обратно)7
«Все мое ношу с собой!» (лат.)
(обратно)8
столицей мира (фр.)
(обратно)9
Ботанический сад (фр.)
(обратно)10
каштановый <цвет волос> (фр.)
(обратно)11
Мой генерал, у меня очень хорошая прислуга в России … Очень благородная и нежная (фр.)
(обратно)


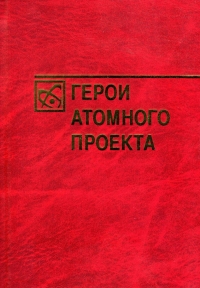

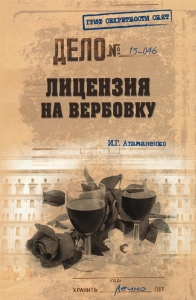

Комментарии к книге «Сдача Керчи в 55-м году», Константин Николаевич Леонтьев
Всего 0 комментариев