А. М. Достоевский Воспоминания
Вступительное слово
Андрей Михайлович Достоевский — родной брат писателя Федора Михайловича, гражданский инженер, всю жизнь работавший по своей специальности, сначала на юге — в Елисаветграде, Симферополе, Екатеринославе, а потом на севере — в Ярославле. Здесь он в 1887 году овдовел, все дети его вели уже самостоятельную жизнь в Петербурге, и он, выйдя в 1890 г. в отставку, жил совершенно одиноко. К составлению своих воспоминаний он приступал несколько раз, причем одна часть их, а именно воспоминания о детстве, частично была предоставлена автором в 1883 году О. Ф. Миллеру для составлявшейся им тогда биографии Федора Михайловича.
Воспоминания Андрея Михайловича охватывают время с 1825 по 1871 год и были написаны за 8 месяцев с 14 ноября 1895 г. по 16 июля 1896 г. Осенью этого года он заболел, писать уже не мог, переселился в Петербург в семью своей старшей дочери Евгении Андреевны Рыкачевой и 7 марта 1897 года, окруженный заботами дочери, зятя и внуков, скончался от рака.
Благородная личность этого скромного деятеля, добрейшего из добрейших людей, легко представится каждому, кто прочитает настоящую книгу.
Воспоминания Андрея Михайловича не претендуют на художественно-литературное изложение, не затрагивают широких политических или общественных вопросов, а представляют собою простой бесхитростный рассказ сначала о семье, в которой он вырос, затем о школе, где учился, и, наконец, о впечатлениях и наблюдениях в провинции, куда его забросила жизнь.
Но воспоминания Андрея Михайловича Достоевского о детстве своем дают яркую картину той обстановки, в которой вырос его брат, писатель Федор Михайлович. Андрей Михайлович принадлежал к старшей группе детей штаб-лекаря Михаила Андреевича Достоевского и рос и воспитывался вместе со своим знаменитым братом, хотя был и моложе его почти на 3,5 года.
Описание патриархальной семейной жизни в родительском доме и отношений между родителями и детьми, воспоминания о многочисленных родственниках, тесно связанных с семьей Достоевских, и о небольшом круге знакомых, бывавших в семье, описание детских игр и поездок в деревню, рассказы про прислугу, воспоминания о пансионе, где обучались все дети, и пр. — все это является первоисточником для суждения о том, что могло влиять в детских годах на психику будущего писателя.
Старшие братья, Михаил и Федор, как погодки, большею частью держались вместе и были дружнее между собою, чем с братом Андреем, на которого они, как на младшего, совершенно по-детски смотрели несколько свысока.
Эта некоторая обособленность Андрея Михайловича, чисто возрастная в детских годах и затем в зрелом возрасте, когда жизненные пути братьев уже разошлись, — эта обособленность давала ему возможность наблюдать брата Федора Михайловича вполне объективно, что особенно интересно в его рассказах о тех годах, когда они встречались с братом Федором уже изредка. Несмотря на совершенно различно сложившиеся обстоятельства жизни у Федора и Андрея Михайловичей, их братски-родственные отношения никогда не прерывались, и Андрей Михайлович всю свою жизнь преклонялся перед гением Федора Михайловича и благоговел перед его памятью.
Таким образом, воспоминания Андрея Михайловича, особенно в первой своей части, представляют несомненный историко-литературный интерес, так как дают обильный материал для биографии Федора Михайловича.
Вторая часть воспоминаний заключает в себе описание уже самостоятельной жизни автора, отдельной от родных братьев и сестер. Тотчас по окончании курса строительного училища в 1849 году Андрей Михайлович переселился на службу в провинцию, в Елисаветград, и с тех пор прожил вообще на юге до половины 60-х годов.
Эта южная жизнь автора в воспоминаниях его отразилась в виде характеристик тамошних административных деятелей, в описании различных эпизодов, как служебных, так и житейских, в рассказах про обывательскую чиновничью жизнь, в анекдотах и пр. Эти живые впечатления молодого культурного человека, почти со школьной скамьи погрузившегося в провинциальную тину, представляют яркую иллюстрацию к эпохе 50-х годов, с ее военными поселениями, с самоуправством местных властителей и пр.
К сожалению, по условиям издания, мы должны были особенно сильно сократить именно эту часть воспоминаний, но и в таком, урезанном, виде они дают много интересного в бытовом отношении для характеристики одной из наименее еще исследованных эпох русской жизни.
Нам представляется уместным остановиться здесь несколько на первой части записок, и именно с той их стороны, где они дают сведения об отце Федора Михайловича.
Обыкновенно принято считать, что характер Федора Михайловича, все направление его мышления, вся мрачность его литературного таланта объясняются главнейшим образом влиянием на него свойств его отца и той исключительно тяжелой, созданной отцом, семейной обстановкой, в которой протекало детство писателя.
…Объяснять характер Федора Михайловича Достоевского наследственностью и первыми тяжелыми впечатлениями детства совершенно естественно и очень легко, но для этого у нас нет никаких конкретных материалов, а все основывается на каких-то преданиях, неизвестно откуда идущих. Биографы принимают на веру эти предания, сгущают около личности Михаила Андреевича темные краски, приписывают ему чуть ли не демоническую мрачность, болезненную скупость, дефективную жестокость. Дело дошло до того, что представители психоаналитического метода, как, например, немецкий исследователь Нейфельд, придавая огромное значение отрицательным свойствам отца в характере Федора Михайловича, приписывают последнему не только вражду и ненависть к отцу, но даже безотчетное стремление к его убийству.
Нас в данном случае интересует не личность самого Михаила Андреевича. Нами руководит отнюдь не желание реабилитировать никогда невиданного нами предка, нас интересует лишь чисто теоретический вопрос: были ли у Михаила Андреевича те резко отрицательные свойства, которыми будто бы объясняется все направление творчества Федора Михайловича.
Воспоминания Андрея Михайловича рисуют патриархальный быт семьи, где главенствует отец, а мать — добрейшее существо — является лицом, примиряющим детское свободолюбие со строгими правилами уклада домашней жизни. Андрей Михайлович рисует своего отца как человека доброго и только лишь очень вспыльчивого. Отец строг, но отнюдь не внушает детям панического страха перед собой. Они охотно, без всякого стеснения, делятся с ним своими детскими впечатлениями и наблюдениями и абсолютно ничего не скрывают от него. В юношеском возрасте они относятся к нему, как к другу, и в письмах своих беседуют с ним совершенно откровенно на разные темы, их волнующие. Старший сын Михаил Михайлович даже пересылает ему для одобрения образцы своих юношеских литературных упражнений, и это именно дружеское отношение к отцу, а не какое-либо неприязненное или даже просто официальное проглядывает и в письмах старших братьев между собою (см. письмо Ф. М. к брату Мих. Мих. от 31 октября 1838 г. в изд. «Достоевский. Письма», т. I, стр. 52 и от 16 августа 1839 г., т. II, стр. 549).
Андрей Михайлович, хорошо помнивший отца и любивший его горячо, протестует против той характеристики, которую дал ему О. Ф. Миллер в составленной им биографии Федора Михайловича, где отец назван угрюмым, нервным, подозрительным без всяких оснований, а лишь по свидетельству каких-то родственников, как говорит Андрей Михайлович (см. стр. 94).
Сам Федор Михайлович от себя лично нигде не говорит о своих тяжелых детских годах, а в «Воспоминаниях Анны Григорьевны» отмечено, что Федор Мих. в беседах с нею охотно вспоминал о счастливом безмятежном детстве (см. «Воспом. А. Гр.» Госизд., стр. 56).
Как Федор Мих. уважал своего отца, видно из рассказа Андрея Михайловича (см. стр. 94) и из письма к нему же Ф-ра Мих.
Не могло бы этого ничего быть, если бы отец действительно обладал такими отрицательными свойствами, какие ему без всяких фактических оснований приписываются.
Покойная дочь писателя, Любовь Федоровна, в своей известной книге об отце много погрешила против истины, изобразив своего деда каким-то исчадием рода человеческого. Она такой характеристики от своего отца не слыхала и не могла слышать уже по той простой причине, что, когда Федор Мих. скончался, ей было всего лишь 11 лет и едва ли Фед. Мих. мог рассказывать ребенку о таких ужасах об ее деде, которых на самом деле и не было.
Здесь кстати заметить, что вообще более чем странная книга Любови Федоровны могла бы быть приемлема только в тех страницах, где автор передает свои личные детские воспоминания о Федоре Михайловиче, но, к сожалению, ее сочиненными показаниями (по всем вероятиям, искаженными рассказами матери) часто пользуются как фактическим материалом для характеристики Федора Михайловича.
Михаила Андреевича, отца Достоевских, называют болезненно скупым и, приводя фразу из письма Федора Мих. к нему: «Уважая Вашу нужду, не буду пить чаю», обвиняют его в том, что он, по своей скупости, заставляет сына голодать.
Федор Мих. в письме от 10 мая 1839 г. подробно излагает свои лагерные нужды и просит отца выслать ему 25 руб. В ответ на это (см. стр. 88) отец посылает ему 35 р. и припоминает, что немного раньше, на его просьбу о 10 р., он послал ему 75 р., думая, что этого на первое время будет достаточно. Едва ли скупой человек мог бы так таровато отзываться на материальные нужды сына, а отцу приходилось еще помогать и старшему сын в Ревеле. Нет никаких оснований не верить отцу, что он не может высылать больше при тех крайне стеснительных обстоятельствах жизни, в которых он сам находился (см. письмо отца, стр. 88). Все жалобы Федора Мих. на недостаток в деньгах надо относить не к скупости отца, а к его собственному юношескому ложному стыду показаться беднее товарищей. В этом и сам Федор Михайлович проговаривается: «Волей или неволей, а я должен сообразоваться вполне с уставами моего теперешнего общества. К чему же делать исключение собою? Подобные исключения подвергают иногда ужасным неприятностям» (письмо от 10 мая 1839 г. Долинин. «Достоевский. Письма», т. I, стр. 52).
Настоящей, действительной нужды во время лагерной жизни у Федора Мих. не было, так как все необходимое отпускалось из казны и многие юноши жили в лагере на гораздо меньшие средства, чем Федор Мих. На этом обстоятельстве особенно настаивает П. П. Семенов Тян-Шанский, говоря в своих воспоминаниях о Федоре Михайловиче (см. его «Детство и юность», Птгр., 1917, стр. 203, а вообще о нуждаемости Фед. Мих. в деньгах см. письмо докт. Яновского в сборнике Долинина «Достоевский», т. II, стр. 393).
Михаилу Андреевичу приписывают какую-то необычайную жестокость. На это также нет никаких доказательств, но так как такое мнение существует, то надо во что бы то ни стало найти ему подкрепление. И вот что из этого происходит.
В семье Достоевских была няня, всеми любимая и уважаемая Алена Фроловна, умершая в глубокой старости (см. стр. 108). Она была очень полна и грузна, и Михаил Андр. часто сам «отворял ей кровь», после чего ей всегда становилось легче, и она говорила, что от этой операции она вся «исчезает». Над ее полнотой и «исчезанием» добродушно подтрунивала вся семья. Ее между собою в шутку называли 45-пудовой гирей, «45-пудовая гиря свидетельствует тебе свое почтение, — пишет Марья Федоровна из деревни Михаилу Андреевичу, — детям поручает сказать то же, прибавляя, что она исчезает. У ней кашель, а она думает, что это чахотка» (см. стр. 91). Мих. Андр. в ответном письме благодарит няню за память и не без юмора в виде остроумной шутки выражает свое удовольствие, что у нее «чахотка», так как от этого обстоятельства груза в ней убавится и перевозить ее из деревни в Москву будет легче, хотя еще и останется: «42 пуда. Страшно сказать!» (Из переписки, хранящейся в Истор. музее в Москве. Письмо от 9 мая 1835 г.)
Этот добродушный комический эпизод в быту семьи Достоевских получает следующее освещение у Л. Гроссмана («Путь Достоевского». Лгрд., 1924 г, стр. 22).
«Предания о его (т. е. отца) жестокости подтверждаются одним поистине потрясающим штрихом его переписки. В семье Достоевских долгие годы жила нянюшка Алена Фроловна, предложившая однажды в трудную минуту своим господам все свои сбережения. На службе у Достоевских эта кроткая женщина заболела чахоткой. В письмах к матери четырнадцатилетний Федор Мих. с чувством живейшей боли говорит о страданиях нянюшки: „Жалко Алену Фроловну, она так страдает, бедная, скоро вся исчезнет от чахотки, которая к ней пристала…“ И вот отец семейства, в придачу врач и культурный человек, пишет по этому поводу жене в деревню: „Няньку поблагодари за память, очень жаль, что у ней чахотка, но из этого я усматриваю немаловажную пользу, ибо до поездки в Москву весу у ней убавится до 3 пудов…“»
Из немногочисленных дошедших до нас писем Михаила Андреевича и его жены нельзя усмотреть признаков какой-либо особой мрачности, болезненной скупости или жестокости его характера. Напротив, в них скорей видны свойства как раз противоположные этим отрицательным, ему приписываемым качествам. Так, например, судя по письмам, он первый всегда волнуется тем, что кто-нибудь из близких нуждается в деньгах; когда надо получать деньги с крестьян, он подходит к этому очень деликатно и пишет жене 23 августа 1834 г. (см. стр. 349): «Поговори, милая, мужикам, не уплатят ли хотя некоторые из них хоть сколько-нибудь денег»; в письме 6 августа 1833 года (стр. 87) описывается аллегорически какая-то комическая история, участником которой он был сам, что совершенно не свойственно было бы человеку от природы мрачному и угрюмому.
Михаил Андреевич был человек хозяйственный, зорко следивший за всем происходящим в доме, расчетливый и, по всем вероятиям, прижимистый, но не во вред делу, настойчивый и упорный в проведении своих целей придерживавшийся старых укладов жизни. У него было только одно свойство, которого дети, да и все вообще в доме побаивались, — это его повышенная вспыльчивость. Эта-то вспыльчивость, как объясняет Андрей Михайлович, может быть, даже, прибавим от себя, иногда сопровождавшаяся недозволительными, с нашей точки зрения, действиями по отношению к крестьянам, и привела его к катастрофе, т. е. к его убийству.
Но вспыльчивость — это нервное проявление, как скоро возникает, так же скоро и проходит. Мы остановились на характере Михаила Андреевича для того, чтобы показать, что тех ужасных основных свойств, которые ему приписываются и которые будто бы исключительным образом влияли на характер писателя и весь склад его творчества, таких свойств у Михаила Андреевича не было, по крайней мере, нет на то никаких фактических указаний. И если действительно общее направление творчества Федора Михайловича зарождалось уже в его детских годах, то объяснений этого надо искать не в личных свойствах отца, наследственно к нему перешедших, а в тяжелых социальных условиях жизни того времени, необычайно чутко воспринимавшихся будущим писателем.
Возвращаясь к воспоминаниям Андрея Михайловича, мы должны указать на некоторые характерные свойства автора, а именно: на его кристальную честность, правдивость, аккуратность и точность. Эти свойства Андрея Михайловича, отразившиеся и в его воспоминаниях, делают их особенно ценными для установления различных фактических данных в историко-литературных и бытовых исследовательских работах.
В «Приложениях» к настоящему изданию мы даем ряд неизданных еще писем Федора Михайловича и его родителей, которые автор почему-либо не ввел в свой текст или не использовал их, так как не успел довести своих воспоминаний до конца.
Достоевский Андрей Андреевич
Воспоминания
ЧТО-ТО ВРОДЕ ВВЕДЕНИЯ ИЛИ ВСТУПЛЕНИЯ
В минувшем июле месяце сего 1875 года мы с женою отпраздновали свою серебряную свадьбу в кругу наших милых и добрых детей, каковых я желал бы иметь всем отцам семейств. Семейное торжество это происходило в городе Ярославле, где мы, вот уже 10 лет, живем безвыездно. К этому дню нарочно приезжала наша старшая дочь Евгения, по мужу Рыкачева{1}, вместе с своим добрым и хорошим мужем, а также и со своею двухмесячною дочкою, а нашею внучкою Сашуркою. Из этих немногих строк видно, что мы с женою, ежели не совершенные старики, то люди уже очень пожилые; и действительно, мне идет 51-й год и столько же и моей дорогой жене.
Проведя самое лучшее время лета, с 15-го по 25-е июля, в отдыхе (я брал на это время отпуск от служебных занятий) в кругу своего семейства, я вообще был настроен самым счастливым образом, и, глядя на своих взрослых уже детей, я поневоле вспоминал свою юность и даже свое младенчество… И, господи!.. какую разницу я находил между ними и собою, когда я был в их летах!.. И разницу эту я всецело отношу к тому обстоятельству, что дети наши гораздо лучше и счастливее меня собственно потому, что они, не расставаясь почти ни на один день, жили постоянно сперва под надзором, а впоследствии в сообществе с нами, своими родителями, тогда как я по 10 году был уже оторван от родного семейного гнезда, 12-ти лет лишился матери, а 14-ти — и отца и сделался, как говорят, круглым сиротою…
Эти мысли мои навели меня тогда же как-то на заявление, что я хочу написать свои записки, в которых помещу все, что помню о своем младенчестве и юности, а также и все обстоятельства последующей моей жизни. Женни, старшая дочь моя, услышав это, начала просить меня исполнить эту мысль, а также и жена моя отнеслась к этой моей затее очень сочувственно: и я тогда же решился написать все, что помню.
Конечно, эти записки мои будут иметь интерес только для близких мне, т. е. для жены и детей, но ни для кого больше, потому что могу, наверное, сказать (хотя и не знаю еще, чем они пополнятся), что содержание их будет самое незатейливое, а именно описание моей скромной жизни.
Еще прежде, помышляя об изложении некоторых эпизодов моей жизни, я находил сильное затруднение в том, что, не имея никаких письменных заметок, мне трудно будет сохранить хронологическую точность описываемых происшествий. Но при этом мне вспала на ум мысль, которая показалась мне и довольно оригинальною, и довольно счастливою, а именно: разгруппировать описание всей своей жизни по квартирам. При такой разгруппировке мне удобнее будет припоминать многие эпизоды, которые могли бы ускользнуть из памяти, и легче будет не сбиться с хронологического порядка. Даже если бы и случилось поместить одно происшествие прежде другого, то все-таки сохранена будет местность происшествия.
Итак, приступая к началу своих записок, я подразделяю их на квартиры. Хорошо это или дурно — покажет время, то есть успешно ли будут писаться эти записки при такой разгруппировке. Знаю только одно и предчувствую, что это доставит мне большое удовольствие. И в самом деле, я помню себя уже более 45 лет!.. Проследить эти 45 лет с самого начала — это все равно, что вкратце пережить всю жизнь снова!.. В особенности приятно это будет тогда, когда я дойду до эпохи своей самостоятельной жизни, жизни взрослого человека, мужа и отца.
Итак, да здравствуют мои квартиры! Дай Бог с успехом довести их до конца (то есть до сего 1875 года). — В этом году, конечно, они не будут кончены, но во всяком случае, с тех пор как они будут кончены, я доведу ежедневный журнал всего того, что случилось в нашем семействе.
* * *
Так начал я свои записки в 1875 году. Обстоятельства сложились так, что мои квартиры не подвинулись вперед, и записки до сего времени, то есть до ноября месяца 1895 года, остались только начатыми. Они с лишком 20 лет покоились в папке.
Нынешним летом (т. е. 1895 г.) у меня был сын Андрей{2} и гостил в Ярославле около двух недель. При разговоре со мною он несколько раз просил меня возобновить записки. После отъезда его я начал излагать мои воспоминания про жизнь свою в Елисаветграде и на днях, то есть 13 ноября (1895 г.), закончил их. Затем я положил написать историю своего детства и юности. Разыскал свои начатые записки в 1875 году, прочел их… и в результате мне стало очень жалко переиначивать их начало; а потому я решил начало своих записок о детстве сохранить то же самое и переписать их, а потом далее продолжать записки в том же виде и в том же порядке.
КВАРТИРА ПЕРВАЯ
РОЖДЕНИЕ, МЛАДЕНЧЕСТВО И ОТРОЧЕСТВО, ПРОВЕДЕННЫЕ В СЕМЕЙСТВЕ ОТЦА (Московская Мариинская больница)
«Сретенского Сорока{3}, Церкви Петра и Павла, что при больнице для Бедных, Тысяча восемьсот двадцать пятого года Марта пятнадцатого родился у штаб-лекаря Михаила Андреевича Достоевского сын Андрей. Молитвовал священник Василий Ильин, при нем был дьячок Герасим Иванов, крещен того же месяца шестнадцатого. Восприемниками были: Московский купец Федор Тимофеев Нечаев и Московского Именитого Гражданина Александра Алексеева сына Куманина жена Александра Федорова. Крещение совершал священник Василий Ильин с причтом».
Вот что гласит моя метрика о водворении моем на первую мою квартиру, в правом уличном флигеле Московской Мариинской больницы. Год, месяц и число приведены с точностью в этой метрике; к этому могу прибавить только то, что 15 марта 1825 года приходилось на воскресенье. Следовательно, день моего рождения было воскресенье, а крестин — понедельник, и притом, что в этот 1825 год 15 число марта было в воскресенье шестой недели Великого поста, то есть за две недели до Пасхи, которая тогда приходилась на 29 марта.
Это, так сказать, официальные сведения о моем рождении. В частности же могу присовокупить слышанное мною впоследствии об обстоятельствах, его сопровождавших. Появления моего на свет Божий вовсе не ожидали так скоро, как оно совершилось. Это могло произойти или потому, что ошиблись в счете (что всего вероятнее), или потому, что я действительно поторопился (как и всегда во всем при своем живом характере), то есть был несколько недоношен, — каковая версия имеет подтверждение и в том, что я в момент своего появления на свет был очень слаб, что заставило окрестить меня на другой день, 16 марта, несмотря на приходившийся понедельник (день тяжелый). Какие бы причины ни были, но дело было в том, что знакомая акушерка, хотя и была приглашена, но не была еще водворена в доме; отец тоже не ожидал так скоро кризиса… продолжал спокойно выезжать к многочисленным своим больным. — Вот именно 15 марта и случилось то, что отец был в отсутствии, когда мать мгновенно почувствовала приближение родов; акушерка жила очень далеко, и мать чувствовала, что уже некогда было посылать за ней. В таковом критическом положении, к счастью, мать вспомнила, что в больнице имеется доктор Гавриил Лукьянович Малахов, который по специальности был гинеколог и акушер, она сейчас же послала за ним, и только что он явился, как и я появился на свет Божий. Когда часа через полтора возвратился отец, то все было уже покончено и тогда только послали за акушеркой.
Впоследствии, когда я уже начинал себя помнить и с нянюшкою совершал свои прогулки по больничному саду или лужку, то няня Алена Фроловна, встречая доктора Гавриила Лукьяновича Малахова, кланялась ему и всегда говорила мне: «Смотри, вот идет твой бабушка!», и я никак не мог понять и сообразить, почему он, мужчина, Гавриил Лукьянович Малахов, приходится мне бабушкой, а не дедушкой.
После рождения каждый автобиограф, конечно, начинает историю своего младенчества с тех пор, как он начал чувствовать и помнить, что он живет. Но я, прежде нежели обращусь к этому, хочу сказать все то, что знаю о своих родителях, а также и вырисовать ту, так сказать, среду, в которой я начал себя помнить. Но, к сожалению, я очень мало знаю подробностей о своих родителях. Вероятно, это произошло потому, что не только я остался слишком юн после их смерти, но и старшие мои братья и сестры тоже не могли быть допущены к серьезным разговорам с родителями о их прошедшем. — Впрочем, это относится только до сведений об отце, о матери же я впоследствии мог собрать очень подробные сведения от ее сестры, а моей тетки — Александры Федоровны Куманиной.
Отец мой, Михаил Андреевич Достоевский, окончив свою общественную деятельность, был коллежский советник и кавалер трех орденов. Он был уроженец Каменец-Подольской губернии. Фамилия Достоевских принадлежит к числу очень древних дворянских фамилий, по крайней мере в родословной книге кн. Долгорукова дворянская фамилия эта отнесена к существовавшим ранее 1600 года литовским фамилиям; однофамильцев же у нас не имелось и не имеется{4}. Я слышал, что и по настоящее время в Каменец-Подольской губернии есть местечко Достоево{5}, принадлежавшее когда-то нашим предкам. Из некоторых бумаг покойного отца, случайно перешедших ко мне, видно, что отец моего отца, то есть мой дед Андрей, по батюшке, кажется, Михайлович, был священник. Про мать же свою мой отец, сколько я могу упомнить, отзывался с особенным уважением, представляя ее женщиной не только умною, но и влиятельною в своем крае по своему родству; девической фамилии ее, впрочем, я не знаю.
Так как дед мой непременно хотел, чтобы его сын, а мой отец, пошел по его же стопам, т. е. сделался священником, и так как отец мой не чувствовал к этой профессии призвания, то он, с согласия и благословения матери своей, удалился из отческого дома в Москву, где и поступил в Московскую Медико-Хирургическую Академию{6} студентом. По окончании курса наук в Академии, он в 1812 году был командирован на службу лекарем первоначально в Головинский и Касимовский военные госпитали, а затем в Бородинский пехотный полк, где получил звание штаб-лекаря. Из Бородинского полка был переведен ординатором в Московский военный госпиталь в 1818 году. Затем был уволен из военной службы и назначен лекарем в Московскую Мариинскую больницу{7}, со званием штаб-лекаря, в марте месяце 1821 года, где я и родился и где отец мой, покончив свою служебную деятельность в 1837 году, прослужил все 25 лет. Из разговоров отца с матерью я усвоил себе то, что у отца моего в Каменец-Подольской губернии, кроме родителей его, остались брат, очень слабого здоровья, и несколько сестер; что после окончания курса науки вообще, сделавшись уже человеком и общественным деятелем, отец мой неоднократно писал на родину и вызывал оставшихся родных на отклик и даже, как кажется, прибегал к печатным о себе объявлениям, но никаких известий не получал от своих родных. В заключение к сведениям об отце я могу добавить следующее: хотя, как выше я высказал, дворянский род наш один из древних, но или вследствие того, что отец мой, оставив родину, скрылся из дома своих родителей, не имев при себе всех документов о своем происхождении, или по другим каким причинам он, дослужившись до чина коллежского асессора и получив орден (что давало тогда право на потомственное дворянство), зачислил себя и всех сыновей к дворянству Московской губернии и был записан в 3 часть родословной книги. Помню то, что когда ему говорили, зачем он не хлопотал о доказательствах своего древнего дворянского происхождения, то он с улыбкой отвечал, что он не принадлежит к породе Гусей{8} (басня Крылова «Гуси» тогда была в большой моде). Но, собственно-то, он не хлопотал оттого, что это стоило бы больших денег.
Теперь расскажу все, что я знаю о происхождении и родстве моей матери.
Мать моя — Марья Федоровна, урожденная Нечаева. Родители ее были купеческого звания. Отец ее Федор Тимофеевич Нечаев{9}, которого я еще помню в своем детстве как дорогого и любимого баловника-дедушку, до 1812 года, т. е. до Отечественной войны, был очень богатый человек и считался, т. е. имел тогдашнее звание именитого гражданина. Во время войны он потерял все свое состояние, но, однако, не сделался банкротом, а уплатил все свои долги до копейки. Помню как сквозь сон рассказы моей матери, как она, бывши девочкой 12 лет, в сопровождении своего отца и всего его семейства, выбралась из Москвы только за несколько дней до занятия ее французами; как отец ее, собравши, сколько мог, свои деньги, которые, как у коммерческого человека, находились в различных оборотах, вез их при себе; что все эти капиталы были в бумажных деньгах (ассигнациях); что, проезжая вброд через какую-то речку, карета их чуть не утонула со всеми пассажирами и лошадьми и что они все спаслись каким-то чудом, выпрыгнувши или быв вытащенными из экипажа посторонними людьми; что, вследствие того, что карета долгое время оставалась в воде, все ассигнации до того промокли, что оказались вовсе потерянными; что, приехав на место, они долгое время старались сколь возможно отделять ассигнации друг от друга и просушивать их на подушках, но что из этого ничего не вышло. Таким образом, весь наличный капитал деда был тоже потерян.
Так как в продолжение всего описания моей жизни я часто буду упоминать о своих родных со стороны матери, то, чтобы яснее показать это родство, я изображу его здесь в таблице.
Из таблицы этой видно, что дед моей матери, а мой прадед, был Михаил Федорович Котельницкий (1). Он принадлежал к дворянскому роду и в год замужества своей дочери Варвары Михайловны (моей бабушки), в 1795 году, был коллежским регистратором и занимал должность корректора при Московской духовной типографии[1]; по всей вероятности, личность эта была недюжинная.
Это можно заключить из того, во-первых, что по должности своей он должен был знать в совершенстве русский язык и, по всем вероятиям, находился в близких сношениях со всеми тогдашними литераторами (так как типографий тогда было немного), а судя по времени, мог быть в сношениях и со знаменитым в то время Новиковым. Во-вторых, косвенным образом об его развитости можно заключить и из того, что своего сына, Василия Михайловича, он повел так, что тот получил высшее образование и впоследствии был не только доктором, но и профессором Московского университета по одной из кафедр медицинского факультета{10}. К сведениям о прадеде моем могу присовокупить, что портрет этой личности имеется у меня. Это — изящная по отделке миниатюра, рисованная на слоновой кости. Кстати, сообщу здесь, как приобретен мною этот портрет. В 1865 году, когда я был в Москве, то тетка моя Александра Федоровна Куманина, не потерявшая еще тогда совершенно памяти, повела меня в свою спальню и, порывшись в своих комодах, вынула две миниатюры (вторая миниатюра была портретом моей бабушки Варвары Михайловны (4), которая тоже в настоящее время находится у меня) и сказала: «Возьми это себе; это портреты моего дедушки и моей матери; передаю их тебе, потому что ты умеешь беречь и ценишь вещи, особенно относящиеся до своих родных…»
У Михаила Федоровича Котельницкого был сын Василий (2), как выше упомянуто, — профессор Московского университета; он был женат на Надежде Андреевне (3), следовательно, Василий Михайлович был родным дядей маменьки, а мне приходился дедом. Они были бездетны; личности эти я знал и очень хорошо помню. Были дочери: Варвара Михайловна, моя бабка (4), которая была в замужестве за купцом Федором Тимофеевичем Нечаевым (5), моим дедом, которого я тоже помню, и NN Михайловна (6) (кажется, Анна), которая была в замужестве за Андреем Тихомировым (7). Этих двух личностей я не застал и не знаю, но застал и помню их детей: Василия Андреевича Тихомирова (8) двоюродного брата моей матери, и Настасью Андреевну, по мужу Маслович (9 и 10), двоюродную сестру моей маменьки.
От брака Федора Тимофеевича с Варварой Михайловной (это был первый брак Федора Тимофеевича) был один только сын Михаил Федорович (15), оставшийся холостым, и две дочери: Александра Федоровна (16), в замужестве за Александром Алексеевичем Куманиным (17), то есть моя тетка, и Марья Федоровна (18) — моя мать.
После смерти бабки моей Варвары Михайловны в 1813 г., дед мой Федор Тимофеевич женился вторым браком на девице Ольге Яковлевне Антиповой (31) в 1814 году. От этого брака было много детей, но в живых остались только две дочери — Ольга Федоровна (32), впоследствии замужем за Дмитрием Александровичем Шером (33), и Екатерина Федоровна (34), впоследствии в замужестве за Дмитрием Ивановичем Ставровским (35).
Итак, во время моего малолетства у нас были следующие родные со стороны матери: 1) отец ее Федор Тимофеевич Нечаев; 2) брат Михаил Федорович Нечаев; 3) сестра родная Александра Федоровна Куманина и ее муж Александр Алексеевич Куманин; 4) мачеха Ольга Яковлевна Нечаева; 5) сестра единокровная Ольга Федоровна; 6) таковая же Екатерина Федоровна; 7) родной дядя Василий Михайлович Котельницкий и его жена Надежда Андреевна; 8) сестра двоюродная Настасья Андреевна Маслович и ее муж Григорий Павлович; 9) двоюродный брат Василий Андреевич Тихомиров. — Все эти личности были родственно знакомы с нашим семейством и бывали в нашем доме, а потому я почти обо всех их не раз буду еще упоминать в своих воспоминаниях.
Рассказавши все, что знаю об отце и матери, их происхождении и родстве, я должен сообщить то же самое и о нашем семействе. Отец мой женился на моей матери в 1819 году. До рождения моего у родителей моих было трое детей, следовательно, я был четвертым. В 1820 году октября 13 родился мой старший брат Михаил{11}; 1821 года октября 30 родился брат Федор; 1822 года декабря 5 родилась сестра Варвара{12}. После меня у родителей моих было еще четверо детей, а именно: сестры Вера и Любовь родились 22 июля 1829 года близнятами{13}; брат Николай родился 13 декабря 1831 года{14} и сестра Александра, родившаяся 25 июля 1835 года{15}.
Сестра Любочка жила только несколько дней и скончалась; и вообще эти две близнятки были очень слабы здоровьем, и все предполагали, что они будут недолговечны, а между тем, благодаря Богу, сестра Вера Михайловна и теперь (1895 г.) еще здравствует, достигнув седьмого десятка лет. Здесь я отмечу, кстати, то обстоятельство, что смерть сестры Любочки я помню совершенно ясно, хотя мне было тогда с небольшим четыре года. Помню очень хорошо, как отвезли маленький гробик в коляске, в которой сидел и я, и похоронили на Лазаревском кладбище, в ногах у бабушки нашей Варвары Михайловны Нечаевой.
Все мы родились в правом (при выходе из двора) трехъэтажном каменном флигеле, состоящем при Московской Мариинской больнице, исключая старшего брата Михаила, родившегося в здании Военного Госпиталя, где отец служил до марта 1821 года, брата Федора, который родился в левом трехъэтажном флигеле Московской Мариинской больницы, в котором отец первоначально имел квартиру, и сестры Александры, которая родилась в нашей деревне Даровой в Тульской губернии Каширского уезда.
Окончив, таким образом, описание лиц, окружавших мое младенчество и мое детство, я невольно обращаюсь к местной обстановке и жилищу моего детства.
Квартира, занимаемая отцом во время моего рождения и младенчества, как выше помянуто, была в правом (при выходе из двора) каменном трехъэтажном флигеле Московской Мариинской больницы, в нижнем этаже. Сравнивая теперешние помещения служащих лиц в казенных квартирах, невольно обратишь внимание на то, что в старину давались эти помещения гораздо экономнее. И в самом деле: отец наш уже семейный человек, имевший в то время 4–5 человек детей, пользуясь штаб-офицерским чином, занимал квартиру, состоящую собственно из двух чистых комнат, кроме передней и кухни. При входе из холодных сеней, как обыкновенно бывает, помещалась передняя в одно окно (на чистый двор). В задней части этой довольно глубокой передней отделялось с помощью дощатой столярной перегородки, не доходящей до потолка, полутемное помещение для детской. Далее следовал зал — довольно поместительная комната о двух окнах на улицу и трех на чистый двор. Потом гостиная в два окна на улицу, от которой тоже столярною дощатою перегородкою отделялось полусветлое помещение для спальни родителей. Вот и вся квартира! Впоследствии, уже в 30-х годах, когда семейство родителей еще увеличилось, была прибавлена к этой квартире еще одна комната с тремя окнами на задний двор, так что образовался и другой черный выход из квартиры, которого прежде не было. Кухня, довольно большая, была расположена особо, через холодные чистые сени; в ней помещалась громадная русская печь и были устроены полати; что же касается до кухонного очага с плитою, то об нем и помину не было. Тогда умудрялись даже повара готовить и без плиты вкусные и деликатные кушанья. В холодных чистых сенях, частью под парадною лестницею, была расположена большая кладовая. Вот все помещение и удобства нашей квартиры.
Обстановка квартиры тоже была очень скромная: передняя с детской были окрашены темно-перловою клеевою краскою, зал — желто-канареечным цветом, а гостиная со спальной — темно-кобальтовым цветом. Обоев бумажных тогда еще в употреблении не было. Три голландские печи были громадных размеров и сложены из так называемого ленточного изразца (с синими каемками). Обмеблировка была тоже очень простая. В зале стояли два ломберных стола (между окнами), хотя в карты у нас в доме никогда не игрывали. Помню, что такое беззаконие у нас случилось на моей памяти раза два, в дни именин моего отца. Далее помещались обеденный стол на средине залы и дюжины полторы стульев березового дерева под светлою политурою и с мягкими подушками из зеленого сафьяна (клеенки для обивки мебели тогда еще не было; обивали же мебель или сафьяном, или волосяною материею). В гостиной помещались диван, несколько кресел, туалет маменьки, шифоньер и книжный шкаф. В спальне же размещались кровати родителей, рукомойник и два громадных сундука с гардеробом маменьки. Я сказал, что стулья и кресла были с мягкими подушками, но это вовсе не значит, что они были с пружинами, совсем нет — тогда пружин еще не знали. Подушки же у стульев, кресел и диванов набивались просто чистым волосом, отчего при долгом употреблении на мебели этой образовывались впадины. Стулья и кресла, по тогдашней моде, были громадных размеров, так что ежели сдвинуть два кресла, то на них легко мог улечься взрослый человек. Что же касается до диванов, то любой из них мог служить двухспальной кроватью. Вследствие этого, сидя на стульях, креслах или диванах, никоим образом нельзя было облокотиться на спинку, а надо было всегда сидеть, как с проглоченным аршином. Гардин на окнах и портьер на дверях, конечно, не было; на окнах же были прилажены простые белые коленкоровые шторы без всяких украшений.
Ясное дело, что при такой небольшой квартире не все члены семейства имели удобное помещение. В полутемной детской, которая расположена была позади передней, помещались только старшие братья. Сестра Варя спала ночью в гостиной на диване. Что же касается до меня, а позднее до сестры Верочки, то мы, как младенцы, спали в люльках в спальне родителей. Няня же и кормилицы спали в темной комнатке, имевшейся при спальной родителей. Упомянув о кормилицах, я должен отметить, что маменька сама кормила только первого ребенка, то есть старшего брата Мишу. Всех же остальных кормили кормилицы, потому что, верно, и тогда уже была обозначена у маменьки слабогрудость, впоследствии обратившаяся в чахотку.
Говоря о нашем семействе, я не могу не упомянуть об личности, которая входила в него всею своею жизнью, всеми своими интересами. Это была няня, Алена Фроловна. — Алена Фроловна была, действительно, замечательная личность, и, как я начинаю себя помнить, не только была в уважении у родителей моих, но даже считалась как бы членом нашего дома, нашей семьи. Она не была нашею крепостною, но была московская мещанка и званием этим очень гордилась, говоря, что она не из простых. Поступила она к нам в няни еще к сестре Вареньке, следовательно, до моего рождения, и потом вынянчила всех нас. Нянчить или смотреть за нами она начинала не со дня нашего рождения, но с отнятием нас от груди от кормилицы. Меня Алена Фроловна считала почему-то первым и настоящим своим пестуном, игнорируя в этом отношении сестру Варю, и это служило предметам частых наших детских споров. С того времени, как я начинаю ее помнить, ей было уже лет под пятьдесят. Она была для женщины довольно высокого роста и притом очень толста, так что живот ее почти висел до колен. Ела она страшно много, но только два раза в день: чай же пила без хлеба вприкуску. Кроме обязанности няни, и то только чистой няни, так как стирка детского белья ею не производилась, она занимала еще обязанность ключницы, которую приняла на себя добровольно и постепенно, чтобы помочь маменьке по хозяйству. Она заведывала кладовою и отчасти погребом, выдавая кухарке всю провизию, а также и всеми закусками и десертом. Мы все называли ее нянюшкою и говорили ей «ты», но зато и она всем нам говорила тоже «ты» не только во время нашего детства, но и впоследствии, когда мы были уже совершенно взрослыми. Отец и мать называли ее всегда Аленой Фроловной, а она их (единственная из прислуг) называла по имени и отчеству, т. е. Михаилом Андреевичем и Марией Федоровной. Все же прочие прислуги называли их барином и барыней. Алена Фроловна как поступила в дом наш на жалованье в 5 рублей ассигнациями (ныне 1 р. 43 к.), так и оставила наше семейство после смерти родителей, прожив более 15 лет, получая то же жалование. Но, впрочем, собственно говоря, она не получала его, говоря, что у родителей оно будет сохраннее; и зато после смерти их опека должна была уплатить Алене Фроловне до 200 рублей серебром. Она была девицей и называла себя «Христовой невестой». Никогда и никто не помнил, чтобы она засиживалась в кухне, объясняя это тем, что в кухне бывают различные разговоры, которые ей, как девице, слушать непристойно. Родители улыбались, слушая это, но сами были очень довольны такими поступками Алены Фроловны. Обедала и ужинала она всегда в детской, куда ей приносили все кушанья прямо со стола нашего.
Мы, дети, допускались к общему столу с тех пор, когда начинали уметь есть сами, без посторонней помощи, то есть владеть ложкою, вилкою и ножом. До приобретения же этих способностей мы обедали постоянно с нянюшкой в детской; но, чтобы она не обкормила нас, маменька сама накладывала на тарелку для нас кушанье, сколько каждому было нужно, что всегда возмущало няню. Обучение и наставления ее по искусству владеть столовыми инструментами, вероятно, были успешны, потому что между 3–4 годами я помню себя за общим столом, хотя и на высоком стуле, но обедающим без всякой посторонней помощи. Постов Алена Фроловна очень строго не придерживалась, говоря, что она человек подневольный и что с нее за это не взыщется, но зато она почитала страшным грехом есть что-нибудь без хлеба. По ее мнению, только кашу, и то гречневую, да пироги можно есть без хлеба; но при этом прибавляла, что греха большого не будет, ежели ошибкою поешь каши и пирога с хлебом. «Ты, батюшка, откуси сперва хлебца, а потом возьми в рот кушанье… так Бог велел!» — Это было всегдашнее ее поучение. Помню, что я, бывши уже почти готовым к общему столу, евши суп или щи, заявил ей свое мнение, что я покрошу хлеб в суп и буду так есть. На это она сказала: «Ты покрошить-то покроши, оно вкусно будет; а в ручку-то все-таки возьми хлеба и употребляй, как всегда, а то грешно будет, значит, ты пренебрегаешь хлебом…»
Одну слабость имела нянюшка, и эта слабость была причиною еженедельных трат ее на целый пятачок!.. Она нюхала табак. К ней, я помню, всякую неделю, в один и тот же день, ходил табачник, у которого она приобретала недельный запас табаку. Табачник этот, как теперь помню, был очень невзрачный и неопрятный старикашка, но, производя у него покупку, няня всегда вступала с ним в разговоры, и это послужило поводом к тому, что папенька в шутку называл его женихом Фроловны. «Тьфу, Господи прости! — возражала она на это, — мой жених — Христос, царь небесный, а не какой-нибудь табачник!» Но, впрочем, за эту шутку няня на папеньку не сердилась, и он продолжал называть табачника женихом ее.
Как теперь помню один эпизод, случившийся по этому поводу: как-то я бегал в зале и, кажется, мешал отцу заниматься, и он спросил: «Да где же Фроловна?.. Пускай возьмет Андрюшу». — «Да к ним жених-с пришел», — ответила ему горничная. В это время вошла в залу няня и слышала последние слова горничной. Ничего не сказав, увела меня няня в детскую и была очень рассержена. Наконец, вечером явилась к маменьке и объявила следующий ультиматум: «Или меня рассчитайте, или горничную, я вместе с ней не могу жить у вас». Это наделало больших хлопот маменьке; однако, ей удалось заставить горничную в тот же день попросить прощения у нянюшки. Та, как добрая и хорошая девушка, сказавшая пагубное выражение не с целью обиды, исполнила желание маменьки и попросила прощения. — Долго ничего не говорила нянюшка на все извинения горничной, но, наконец, начала читать ей нотацию, продолжавшуюся чуть ли не полчаса, и в конце концов смилостивилась и простила; причем они обе поцеловались, и мир не был нарушен.
Со двора, т. е. в гости, Фроловна почти никогда не ходила. Раз в год или в полтора года она получала известие о приезде в Москву родной сестры своей Натальи Фроловны, которая была монахиней в Коломенском женском монастыре, и во время приездов своих в Москву останавливалась в каком-нибудь московском монастыре. Тогда нянюшка с раннего утра наряжалась и ехала к сестре в гости на целый день до вечера, и маменька в то время бывала (как говаривала сама) как бы без рук. Через несколько дней сестра отплачивала няне визит, также проводя целый день в нашем доме. И этим и кончались все выезды и приемы нашей Алены Фроловны. Одевалась Фроловна всегда очень чисто и ежедневно была в белых кисейных чепцах и тюлевых нагрудниках. Отличались эти чепцы громадными оборками: бывало, как она идет несколько скорее обыкновенного, то оборки эти так и поднимаются вверх.
Время от времени с няней по ночам случались оказии — она во сне начинала кричать. Не знаю, как и выразиться, — это не был крик, а был какой-то неистовый вой. И тогда-то отец должен был сам вставать с постели, и насилу-насилу удавалось ему привести в сознание Фроловну. На другой день всегда, бывало, отец спрашивает: «Что это опять случилось с тобою ночью, Фроловна?» — «Да что, Михайло Андреевич, опять домовой душил, такой страшный, с рогами» и т. д. «Да ты бы, Фроловна, поменьше ела за ужином», — говорил папенька. «Пробовала, по вашему совету, батюшка, — отвечала она, — да еще хуже… все цыгане снятся, и всю ночь не спится… более все ходишь». — «Ну, уж как себе хочешь, — отвечал папенька, — но предупреждаю тебя, ежели опять ты завоешь, я велю выпустить из тебя фунта три крови!» И, действительно, почти ежегодно ей кидали кровь, и день, в который это совершалось, был самым постным для Фроловны днем, потому что в этот день сам папенька следил за питанием Фроловны, и после этого она всегда говаривала, что она исчезает, желая высказать этим, что она похудела и отощала. Выражение это впоследствии сделалось обычным ответом на вопрос о здоровье. «Что, Фроловна, как поживаешь,» — спросит ее кто-нибудь из гостей. «Да что, батюшка (или матушка), — отвечала она всегда, — совсем исчезаю!» И при этом начинала смеяться, колыхаясь всем своим грузным телом.
Я описал, как умел, личность Фроловны, которая занимала видное место в нашем семействе во время нашего детства; о дальнейшей судьбе ее расскажу впоследствии в своем месте; теперь, кстати, скажу и о нашей прочей прислуге, чтобы впоследствии (в этом описании) обращаться с ними как с лицами вполне знакомыми.
Собственно в доме у нас, кроме нянюшки и кормилицы, ежели время совпадало с кормлением кого-нибудь из новорожденных, были только одни прислуги — горничные. Они были наемные, но жили у нас очень по долгому времени; из них одну я помню хорошо, это Веру; она жила у нас несколько лет, лета два ездила с нами в деревню и вообще очень обжилась у нас; но, увы, в конце концов отошла от нас со скандалом, о котором расскажу тоже в своем месте. Теперь же скажу только, что она была дочь хорошего столяра, который с женою своею, как говорится, души не слышали в своей Верочке. После же нее наемных горничных у нас более не было, потому что маменька взяла из деревни трех сирот девочек, которые исполняли все обязанности горничных, двух из них я помню — это Ариша и Катя. Первая, т. е. Арина, впоследствии Арина Архиповна, была очень скромная девочка, постоянно сидевшая за пяльцами или другою какою работою. Вторая же, Катя, была огонь-девчонка. Об них, однако, упомяну впоследствии.
Кухонную нашу прислугу составляли четыре личности, а именно: а) кучер Давид Савельев, или, как его называли, Дав-вид; он был, собственно, прислугою отца. Кроме своей четверки лошадей, Давид ничего не знал и не имел более никаких занятий; да, впрочем, выездов было много, а потому и работы ему было достаточно; он был крепостным еще до женитьбы отца и жил у нас бессменно по день смерти папеньки, а потом числился дворовым при нашей деревне, к которой, впрочем, не принадлежал родом. Личность эту папенька особенно любил и уважал против прочей кухонной прислуги; б) лакей Федор Савельев, брат кучера. Я не понимаю, почему он назывался лакеем. По самому расположению нашей квартиры, он не мог быть в горницах и исполнять лакейских обязанностей. Он, скорее, мог называться дворником, и обязанности его состояли в том, чтобы наколоть дров, разнести их по печкам и наблюдать за самою топкою печей; наносить воды, которая, собственно для чая, была ежедневно им приносима в количестве двух ведер с фонтана от Сухаревой башни. Это по-московскому хотя и считалось близко, но, собственно, была даль порядочная (от Божедомки, где Московская Мариинская больница, до Сухаревой башни по плану города не менее 2 верст, следовательно, в два конца 4 версты). И только изредка, в том случае, когда маменька выходила одна пешком в город, Федор облекался в ливрею и треугольную шляпу, сопровождал ее, шествуя гордо на несколько шагов сзади. Или когда маменька выезжала одна, без отца, то Федор, тоже в ливрее, стоял на запятках экипажа. Это было непременным условием тогдашнего московского этикета.
Обе эти личности, как кучер Давид, так и Федор, были родными братьями и были малороссами. Не знаю, как они сделались крепостными отца, но знаю только, что это было еще до женитьбы его. Но ведь в то время крепостных можно было приобретать и без земли. К счастью, они были бобылями и никогда не вспоминали и не жалели о своей родине; в) кухарка Анна. Обязанности ее ясны по самому названию ее профессии. Она тоже была крепостною с давних пор, то есть еще до покупки деревни, и была отличная кухарка и уже истинно могла заменять повара; г) прачка Василиса. Обязанности ее состояли в том, чтобы каждую неделю первые три дня стоять за корытом, а последние три дня — за катанием и утюгом. Василиса тоже была крепостная, но впоследствии скрылась, или, говоря проще, — сбежала. Этот побег был чувствителен для родителей моих не столько в материальном отношении, сколько в нравственном, потому что бросал тень на худое житье у нас крепостным людям, между тем как жизнь у нас для них была очень хороша. Но, впрочем, в тогдашнее время, когда крепостных приобретали без земли, подобные побеги случались нередко, что объяснялось, конечно, для некоторых личностей тоскою по родине.
Описав весь штат прислуги, бывшей в доме родителей, я не могу удержаться, чтобы не сопоставить потребностей жизни прежней (в начале 30-х годов) с моею жизнью в начале 70-х годов. Семейство отца, по крайней мере до 30-х годов, было не более семейства моего, жил он тоже не лучше и не роскошнее, чем я, а должен был держать семерых прислуг, впоследствии и более; тогда как у меня не было их никогда более трех, да и три-то прислуги бывали тогда, когда бывали грудные дети; проживал же отец, по-видимому, менее, чем проживаю я! Этим сопоставлением объясняется, во-первых, потребность прежних времен иметь большое количество прислуги, а во-вторых, дешевое содержание ее.
Знакомые наши, т. е. знакомые моих родителей, были очень немногочисленны, некоторые из них были знакомы только на поклонах, а другие были знакомы и по домам. Все служащие в Московской Мариинской больнице были, конечно, нам знакомы — с них я и начну.
Из них припоминаю Кузьму Алексеевича Щировского, это был старейший врач в больнице, ему было тогда лет под 70, и он уже более 35 лет состоял на службе. Он бывал у нас только по утрам, а в именины отца — вечером, но зато его семья женского пола часто бывала у маменьки; она состояла из жены его Аграфены Степановны, свояченицы Марьи Степановны и пожилой уже дочери Лизаветы Кузьминичны. Эти три личности очень часто бывали у маменьки по утрам на чашку кофе; придут, бывало, часу в 11 утра и просидят до 1 часу. Предметами разговора были базарные цены на говядину, телятину, рафинад и т. п., а далее про ситцы и другие материи и про покрой платьев. В то старое, патриархальное время дамы среднего состояния и даже высшего, но незначительно богатые, шили и кроили все платья, даже и дорогие шелковые, визитные, своими собственными руками, а швейных машин не было и в помине. Выдавать же платье на пошитье портнихам считалось даже зазорным. Я всегда, бывало, присутствовал при этих разговорах, и они крепко запали мне в память. Маменька в свою очередь часто хаживала на такую же чашку кофе к Щировским и каждый раз брала меня с собою. Прием и беседы были те же самые. Лизавете Кузьминичне было уже лет под 40, и она нюхала табак.
Священник при больнице — Иоанн Баршев. Сам отец Иоанн бывал у нас только официально со Святом, что же касается до супруги его, то она изредка бывала у маменьки и маменька у нее. Имени и отчества ее не помню, потому что маменька, да и все прочие знакомые постоянно называли ее, как жену священника, «матушкой». У этого отца Иоанна были два сына — Сергей Иванович и Яков Иванович Баршевы{16}. Они после блестяще оконченного курса в Московском университете были оба посланы на казенный счет за границу и, возвратившись в Москву, к отцу своему, были у нас с визитом. Я чуть помню этот их визит, но очень помню, что папенька говаривал после их посещения: «Ежели бы мне, не говорю уже дождаться, но быть только уверенным, что мои сыновья так же хорошо пойдут, как Баршевы, то я бы умер покойно!» Эти слова папеньки у меня сильно врезались в память. Впоследствии эти Баршевы были известные профессора в Петербургском и Московском университетах по кафедре уголовного права. Между студентами-юристами 40-х и 60-х годов сохранилось предание, что московский Баршев (Сергей Иванович) в одной из своих лекций всенепременнейше говорил фразу: «Россия на поприще уголовной юриспруденции породила и воспитала два цветка: это брата Яшу в Петербурге и меня в Москве». Петербургский же Баршев (Яков Иванович) в свою очередь говорил: «Россия на поприще уголовной юриспруденции породила и воспитала два цветка — это брата Сережу в Москве и меня в Петербурге». Так их и окрестили: братом Сережей и братом Яшей.
Часто бывал у нас Федор Антонович Маркус с женой его Анной Григорьевной. Он был экономом, и квартира его была в том же каменном флигеле как раз над нашею квартирою и такого же самого расположения. Это был родной брат Михаила Антоновича Маркуса, известного впоследствии лейб-медика. Как ближайший сосед наш, он хаживал к нам и часто проводил вечера, разговаривая с папенькой и маменькой. Говорил он отлично, и я, бывало, уставлю на него глаза, только и смотрю, как он говорит, и слушаю его. Вообще он оставил в моем детстве самое отрадное впечатление. Когда умерла маменька, то Федор Антонович, по просьбе отца, был главным распорядителем похорон, и после похорон почти ежедневно навещал папеньку, развлекая его своими разговорами и в это время еще более сблизился с нами. Когда отец после смерти маменьки, подав в отставку, уехал в деревню, то Федор Антонович Маркус неоднократно брал меня из пансиона Чермака к себе на праздники.
Упомяну еще об Аркадии Алексеевиче Альфонском и жене его Екатерине Алексеевне, рожденной Гарднер. Этих двух лиц я помню чуть-чуть, потому что они оставили больницу чуть ли не в конце 20-х годов. Екатерина Алексеевна Альфонская была настоящим другом моей маменьки, и, по рассказам последней, они чуть не ежедневно видались. Эта Екатерина Алексеевна умерла, и Альфонский женился на 2-й жене, какой-то знатной барыне. Аркадий Алексеевич Альфонский из больницы перешел в профессора Московского университета по медицинскому факультету и был впоследствии деканом факультета. Замечательно, что маменька похоронена возле бывшего своего друга Екатерины Алексеевны на Лазаревском кладбище.
В дополнение к сообщенному мною о наших родных со стороны матери, я расскажу про них в отдельности о каждом как о наших гостях.
Первое место между ними, конечно, занимает дедушка Федор Тимофеевич Нечаев{17}. В то время, когда я начал его помнить, это был уже старичок лет 65. Первым браком он женился июля 29 числа 1795 года на нашей бабушке Варваре Михайловне, и после смерти ее (8 июня 1813 года) дедушка женился второй раз 18 мая 1814 года на Ольге Яковлевне. Сперва дедушка с женою и семейством жили в наемной квартире где-то на Басманной улице, но впоследствии переселились к старшему зятю Александру Алексеевичу Куманину. Это переселение состоялось после выхода в замужество моей матери, так что маменька выходила замуж еще из дома отца своего, а не из дома Куманиных. Дедушка всякую неделю приходил к нам к обеду и, кажется, всегда в один и тот же день, ежели не ошибаюсь, в четверг. По праздникам же он всегда обедал у старшего зятя своего Куманина. В этот день мы, дети, еще задолго до прихода его, беспрестанно выглядывали в окно, и как только, бывало, завидим идущего с палочкою дедушку, то поднимался такой крик, что хоть образа выноси из дома… Но вот он входит в переднюю, тихонько раздевается… Маменька встречает его, и он, перецеловав всех нас, оделяет нас гостинцами; а потом садится в гостиной и ведет разговор с маменькой. Он постоянно носил коричневый сюртук (и другого костюма его я не помню), в петличке которого висела медаль на аннинской ленте, с надписью: «Не нам, не нам, а имени твоему». Это все, что осталось у него после 1812 года! Через несколько времени возвращается с практики папенька, любовно и радушно здоровается с тестем, и мы садимся за обед, который в этот день у нас бывал несколько изысканнее, хотя, впрочем, к слову сказать, обеды у нас всегда были сытными и вкусными. После обеда дедушка, посидев недолго, собирался домой и уходил, и мы не видели его до следующего четверга. Я не помню никогда, чтобы дедушка бывал у нас вместе с женой своей Ольгой Яковлевной. Вероятно, он чувствовал, что маменька не слишком была расположена к своей мачехе, а может быть, и потому, чтобы предоставить себе возможность поговорить с глазу на глаз со своей дочерью… Таковые посещения деда продолжались аккуратно до начала 1832 года, когда он слег в постель. Он долгое уже время страдал грудною водянкой и в начале 1832 года скончался. Помню, что маменька несколько дней сряду не ночевала дома, а была у одра умирающего отца. Наконец, в один день утром приезжает маменька домой вся в слезах и сообщает нам, что у нас нет более дедушки и что он скончался. Похороны были пышные из дома Куманиных. Мне сшили черную рубашечку с плерезами, и я был на одной из панихид. Это был первый покойник, которого я видел вблизи в своем семилетием возрасте. Правда, я видел умершую сестру Любочку, но это было в 1828 году, и тогда я меньше понимал.
Про второго из родственников я сообщу о дяде Михаиле Федоровиче Нечаеве. Он был одним годом моложе моей маменьки, следовательно, вероятно, родился в 1801 или в 1802 г. Маменька рассказывала, что они в детстве с братом были очень дружны. Эта дружба сохранилась и впоследствии. Он приходил к нам постоянно по воскресеньям, потому что в будние дни был занят, служа главным приказчиком в одном богатом суконном магазине и получая очень хорошее содержание. Его приход тоже бывал радостью для нас, детей, и большею частью сопровождался маленьким домашним концертом. Дело в том, что маменька порядочно играла на гитаре, дядя же Михаил Федорович играл на гитаре артистически, и одна из его гитар всегда находилась у нас. И вот, бывало, после обеда маменька брала свою гитару, а дядя — свою, и начиналась игра. Сперва разыгрывались серьезные вещи по нотам, впоследствии переходили на заунывные мелодии, а в конце концов игрались веселые песни, причем дядя иногда подтягивал голосом… И было весело, и очень веселю. Папенька тоже всегда был очень радушен с дядей, хотя и негодовал на него, в особенности в последнее время, за то, что дядя стал покучивать и много пить, в чем, кажется, папенька и выговаривал ему неоднократно. Но все это было ничто, и дядя всегда был нашим дорогим гостем. Как вдруг случился казус, вследствие которого дядя вовсе перестал бывать у нас. Казусу этому я частью был сам свидетелем, а частью в подробностях слышал, когда был уже взрослым от тетушки Александры Федоровны. Вот в чем было дело. У нас жила горничная Вера, о которой я уже упоминал выше; она была очень красивая молодая девушка, и дядя Михаил Федорович завел с нею шашни, а она, как оказалось, этому не противилась. Маменька давно замечала что-то неладное и наконец была свидетельницею передачи из рук в руки записки. Маменька вырвала от Веры записку, в которой назначалось свидание… Родители пригласили дядю в гостиную, а я остался в зале. В гостиной, по словам тетушки, произошло следующее: маменька стала выговаривать брату, что он решился в семейном доме своей сестры делать скандал с ее прислугой, и проч., и проч.; а дядя, долго не рассуждая, обозвал ее дурой. За это разгоряченный отец ударил дядю, кажется, по лицу. Растворилась дверь гостиной, и дядя, весь красный и взволнованный, вышел из нашего дома и больше не появлялся в нем. Это было в 1834 году. Конечно, отец нехорошо поступил, ударив дядю, он должен был помнить, что сказал дерзость его жене не кто иной, как ее родной брат. Но дело было сделано, и дядя у нас более не бывал. Но и то правда, что подобный поступок и теперь бы показался неприглядным, но с лишком 60 лет тому назад он был из рук вон скандальным. Конечно, горничная Вера была в тот же день рассчитана и от нас уволена. Чтобы покончить рассказ о дяде, скажу здесь, что после похорон маменьки, когда он бывал у нас на панихидах, я увидал дядю уже в 1838 году, когда он раза два или три приезжал от тетки в пансион Чермака, чтобы взять меня на какой-нибудь праздник. При этом замечу, что дядя жил тогда у дяди Александра Алексеевича, занимая одну комнатку в верхнем этаже дома, и что в этой же комнатке я имел свой ночлег в редкие пребывания свои у тетки. Пагубную страсть свою к вину дядя не только не оставил, но даже усиливал, от чего преждевременно и скончался в рождественские праздники с 1838 на 1839 год, когда и я на праздниках находился у дяди. Похороны были довольно скромные, но из дома дяди.
Изредка, раза два в месяц, скромная улица Божедомки оглашалась криком форейтора «Пади! Пади! Пади!..», и в чистый двор Мариинской больницы въезжала двуместная карета цугом в четыре лошади и с лакеем на запятках и останавливалась около крыльца нашей квартиры; это приезжали: тетенька Александра Федоровна и бабенька Ольга Яковлевна.
Об них я теперь и поведу свою речь. Не было случая, как я запомню, чтобы тетенька приехала к нам одна, без сопровождения бабушки Ольги Яковлевны, так что, если бы сестры и хотели поговорить с собою по душам с глазу на глаз, то не могли, ввиду присутствия третьего лица, несимпатичного, кажется, обеим им.
Начну с тетеньки. Тетенька Александра Федоровна Куманина была родною сестрою моей маменьки и, родившись 15 апреля 1796 года, была только четырьмя годами старше моей маменьки. Она вышла замуж за Александра Алексеевича Куманина 15 мая 1813 года, т. е. еще тогда, когда жива была ее мать, моя бабушка Варвара Михайловна Нечаева (которая, впрочем, умерла через несколько дней после свадьбы тетушки, а именно 8 июня 1813 года). Хотя я сказал, что тетенька Александра Федоровна была только 4-мя годами старше маменьки, но должен прибавить, что моя маменька считала свою сестру более за мать, чем за сестру, она любила и уважала ее донельзя и эту свою любовь умела вселить и во всех нас. Тетенька Александра Федоровна была крестною матерью всех нас детей без исключения. В детстве своем я любил бессознательно тетеньку, а впоследствии, когда сделался взрослым, я благоговел перед этою личностью, удивлялся ее истинно великому практическому уму и уважал и любил ее как мать. Я буду часто и много раз говорить о тетеньке в дальнейших своих воспоминаниях, а теперь только прибавлю, что и в младенчестве, и в детстве нашем приезд тетки был особенно радостным, потому что сопровождался привозом гостинцев в виде различных фруктов, смотря по сезону.
Про бабушку Ольгу Яковлевну могу сообщить, что она вышла замуж за моего деда (женившегося вторым браком) 18 мая 1814 года, то есть уже тогда, когда тетенька была замужем за Куманиным. Следовательно, маменька была тогда девочкою 14-ти лет и с лишком пять лет до своего замужества с моим отцом проживала под надзором своей мачехи. Они жили тогда на Новой Басманной улице, в приходе Петра и Павла, но впоследствии, уже после выхода замуж моей маменьки, переехали на жительство к Александру Алексеевичу Куманину. Про бабушку я сообщу теперь только то, что мы, дети, не особенно любили ее, потому что она при всяком свидании умела или взглядом или словом сделать какое-нибудь замечание, не любезное к нам, детям. Впоследствии же я слышал, да и сам убедился, что эта женщина была хитра и без сомнения умна, но с умом, направленным не на одно доброе. Не знаю, как при деде, но по смерти деда бабушка заведывала хозяйством всего жившего на большую ногу куманинского дома. То есть она заведывала закупкою всех запасов для стола и десерта, заведывала погребом; одним словом, была тем, чем в больших домах бывают экономки.
Симпатичного дядю Александра Алексеевича Куманина{18}, мужа родной тетки Александры Федоровны, я помню с самого раннего своего младенчества, когда он бывал у нас очень часто совершенно по-родственному. Но вдруг посещения его прекратились. Дело в том, что по какому-то незначительному случаю мой отец и дядя наговорили друг другу колкостей и окончательно разошлись. Первоначально, по рассказам маменьки и тетки, они жили душа в душу. Папенька был домовым врачом семейства Куманиных и Нечаевых, живших уже тогда в верхнем этаже куманинского дома. При одной очень опасной болезни дяди, сей последний ни к кому более не обратился за советом, как к отцу, и папеньке удалось поставить его на ноги. Братья Куманины (их было двое: Константин Алексеевич и Валентин Алексеевич, и оба, кстати сказать, были московскими городскими головами) и все остальные родные покачивали головами по поводу такой доверчивости Александра Алексеевича Куманина к своему свояку-доктору; но зато после того, как отцу удалось окончательно излечить очень серьезную болезнь дяди, папенька приобрел большую практику у московского купечества и сделался домовым врачом у обоих Куманиных. И после подобной приязни — свояки совершенно разошлись. Оба они были слишком горды и честолюбивы, и ни один из них не хотел сделать первого шага к примирению. Папенька перестал лечить в доме своего свояка Куманина, хотя и ездил по-прежнему наверх к Нечаевым, то есть к своему тестю. Так продолжалось до начала 1832 года, то есть до смерти деда Федора Тимофеевича. Он, бывши уже в агонии, увидев у своего одра обоих зятьев, соединил их руки и просил исполнить его предсмертное желание — позабыть взаимные обиды и быть по-прежнему в дружеских отношениях. Зятья обещались исполнить это желание, пожали друг другу руки и поцеловались; тогда дедушка плюнул, велел одной из дочерей растереть ногою этот плевок и сказал: «Пусть так же разотрется и уничтожится ваша ничтожная вражда, как растерт и уничтожен этот плевок вашего умирающего отца!» Причем обе жены примирившихся плакали навзрыд. Этот эпизод был мною неоднократно слышан как от маменьки, так и от тетки. Свояки примирились и по официальным дням бывали друг у друга, но прежней дружбы и симпатии в их отношениях уже не существовало. Дядя начал часто бывать у нас, но всегда как-то бывал по утрам, когда отец мой бывал в разъездах по больным («на практике», как мы говорили). Бывало, приедет или придет (чаще приходил пешком) и усядется на диване, и на вопрос маменьки: «Чем угощать вас, братец?» — всегда говаривал: «Велите подать мне сахарной воды, сестрица». И вот подавали графин с водой, стакан и сахарницу, и он, положив в стакан 3–4 куска сахару, наливал себе холодной воды, и когда сахар растаивал, то маленькою ложечкою он выпивал весь стакан, которого ему ставало на час или на полтора. Во время своего визита он не переставал разговаривать с маменькою очень дружелюбно и, посидев часа два, уходил от нас до следующего посещения, которые обыкновенно бывали ежемесячно, а иногда и чаще. Об этой светлой и во всех отношениях уважаемой личности я буду упоминать еще не раз в последующих своих воспоминаниях. Теперь же закончу тем, что дядя Александр Алексеевич сделал очень много добра нашему семейству, а по смерти папеньки он приютил нас, пятерых сирот (два старших брата были уже в Петербурге), и сделался навеки нашим благодетелем, в особенности трех сестер, которым при замужестве их дал большие приданые; но об этом сообщу в свое время и в своем месте.
Очень хорошо помню дедушку Василия Михайловича Котельницкого и его жену Надежду Андреевну.
Первый из них, то есть дедушка Василий Михайлович Котельницкий {19}, был родным дядей моей маменьки, он был доктором и профессором Московского университета по медицинскому факультету, не знаю только, по какой кафедре. Это в начале 30-х годов был уже глубокий старик, очень уважаемый как моим отцом, так, кажется, и всем тогдашним медицинским миром. В день его именин (1-го января) в маленьком деревянном домике его «под Новинским» перебывает, бывало, весь университет, как профессора, так и студенты-медики. Целая корзина визитных карточек и целая тетрадь с расписками были результатами этого дня. Старик в этот день никого не принимал, но зато следующий день бывал занят сортировкою визитных карточек и прочитыванием расписавшихся, которых фамилии он большею частью позабывал, но зато верно помнила его супруга, бабушка Надежда Андреевна, которая вообще была главою дома. Замечательно, что, быв доктором, он, по его собственным словам, не написал в свою жизнь ни одного рецепта, по причине своей мнительности и боязни ошибиться. А потому, при самом пустячном недуге своем или жены своей, он обращался за советом к папеньке, который и лечил как его, так и Надежду Андреевну. Он ежегодно, раз пять в год, бывал со своей супругой у нас. Приезжали они всегда к вечернему чаю и всегда в коляске с лакеем, проводили у нас в разговорах часа 2–3 и уезжали. Помню, что дедушка всякий раз сажал меня к себе на колени и, оттопырив два пальца правой руки (указательный и мизинец), бодал меня ими, приговаривая: «Идет коза рогатая… забодает Андрюшу, забодает!..» Господи, как боялся я тогда этой козы рогатой!! Только стыд удерживал меня от крика и плача. Мы, впрочем, любили дедушку, и он, как бездетный, тоже любил нас очень. — Родители, отдавая им визит, конечно, ездили к ним одни; только один раз я помню, что маменька, поехав к ним одна, т. е. без папеньки, взяла и меня с собою. Но зато каждую Пасху, мы, трое старших братьев, в заранее назначенный дедушкою день обязаны были являться к нему на обед. Родители без боязни отпускали нас, зная, что дедушка хорошо досмотрит за нами, и вот, после раннего обеда, часу во втором дня, дедушка, забрав нас, отправлялся в балаганы. Праздничные балаганы в то время постоянно устраивались «под Новинским» напротив окон дедушкиного дома. Обойдя все балаганы и показав нам различных паяцев, клоунов, силачей и прочих балагановых Петрушек и комедиантов, дедушка, усталый, возвращался с нами домой; там нас дожидалась уже коляска от родителей, и мы, распростившись с дедушкой, отъезжали домой, полные самых разнообразных впечатлений, и долгое время, подражая комедиантам, представляли по-своему различные комедии. В половине 30-х годов дедушка должен был выйти в отставку; но он долгое время не мог покинуть совершенно университета и ежедневно, бывало, хаживал в университетскую библиотеку, чтобы почитать газеты и повидаться с бывшими своими коллегами-профессорами. Конечно, все с удовольствием принимали старика. В заключение сообщу следующее: много лет спустя, уже в 60-х годах, когда я служил губернским архитектором в Екатеринославе, я познакомился с доктором Иваном Петровичем Успенским, бывшим слушателем Василия Михайловича; он рассказывал, между прочим, что Василий Михайлович читал свои лекции по книжке, причем добавлял, что книжка для него была только, так сказать, гидом, но что в большинстве случаев старик говорил сам от себя много дельного и интересного. Вот как-то студенты, у которых он оставил свою книжку, захотели сошкольничать и переместили сделанную профессором закладку на целую лекцию назад. Приходит Василий Михайлович на первую затем лекцию, открывает книгу по сделанной заметке и начинает читать… Через несколько времени старик останавливается и говорит: «Да об этом, кажется, я читал вам уже, господа!» — «Нет, господин профессор… Мы первый раз еще слушаем эту интересную лекцию». — «Гм, гм… как, однако же… того, память начинает, того, изменять мне!.. Ведь я, того, думал, что я читал уже вам об этом, а выходит, что я читал это в прошлом году вашим предшественникам!.. Да, того, память начинает изменять!» При этом Успенский сообщил мне, что Василий Михайлович Котельницкий был очень любим и уважаем всеми студентами вообще, потому что он был всегдашним защитником и ходатаем за всех студентов в совете университета.
Как наших гостей помню с самого раннего детства отдаленных родственников наших, супругов Масловичей. Григорий Павлович Маслович был муж двоюродной моей тетки Настасьи Андреевны Маслович, рожденной Тихомировой; он был доктор и служил в Московском военном госпитале и, по словам маменьки, был, так сказать, сватом моего отца. Служа с отцом вместе в Московском военном госпитале и узнав его за доброго и хорошего человека, Григорий Павлович познакомил его с домом моего деда Федора Тимофеевича Нечаева, с которым по жене своей Настасье Андреевне был в родстве. Следовательно, Григорий Павлович был, так сказать, поводом и причиною первого знакомства моего отца и матери. Помню, что он бывал у нас в своем мундире военного врача (тогда еще без эполет и погонов), помню его по странному, совершенно нерусскому выговору. Кажется, он был из сербов. Но затем он перестал бывать у нас, так как был разбит параличом и был прикован к постели, с которой не вставал до своей смерти. Впоследствии я видал его, ходя к ним в дом из пансиона Чермака в учебный 1837/1838 год на праздничные дни. Он был все так же прикован к постели. Умер он в осеннее время 1840 года.
Свою двоюродную или, лучше сказать, троюродную тетку, Настасью Андреевну Маслович, я помню очень хорошо как гостью наших родителей до самой смерти маменьки. Она обыкновенно приходила к нам почти каждое воскресенье к обеду, побывав предварительно в Екатерининском институте, где все три дочери ее преемственно получили образование; в последнее время, более мне памятное, она ходила туда к дочери своей Машеньке (Марье Григорьевне). Это была пожилая уже дама, вечно страдающая зубными болями и флюсами и вечно подвязанная белым платком. Особенного про нее нечего сказать, разве только то, что она постоянно курила трубку, вероятно, как помощь от зубной боли, но впоследствии и привыкла к табаку. Курила она, конечно, табак американский (турецкий тогда не был в употреблении) или фабрики Фалера, или фабрики Жукова. Мне очень тогда казалось странным, что дама курит. Она курила всегда из папенькиного чубука, который, т. е. папенька, а не чубук, тоже временами, и то изредка, выкуривал по одной трубке после обеда. Еще одну странность помню у тетеньки Настасьи Андреевны. У нее была очень дурная привычка долго оставаться в передней. Бывало, уже наговорится досыта и последнее время уже молчит, но как только попрощается и наденет в передней салоп, то всегда у нее явится новая интересная тема для разговора и она держит провожающих ее в передней в стоячем положении по целому часу. Папеньку и маменьку всегда это возмущало; сперва маменька, бывало, садилась на деревянный коник, бывший в передней, а папенька приносил стул; но, увлеченная своим говором, гостья этого не замечала; тогда папенька просто-напросто, бывало, скажет: «Вы бы, сестрица, скинули салоп и пожаловали опять в залу». — «Нет, братец, я спешу и сейчас ухожу». И действительно, после этого минут через пять, окончательно простившись, уходит.
Были у нас еще родственники: Шеры — Ольга Федоровна и ее муж Дмитрий Александрович. Ольга Федоровна была единокровной сестрой моей матери от второй жены нашего деда, Ольги Яковлевны, до осени 1832 г. я помню ее еще девицею, проживающею при своих родителях в доме дяди Александра Алексеевича. Муж ее был художник и назывался то техником, то архитектором. Доброты он был необыкновенной. Про него, в противоположность к супруге, можно было сказать, как говаривала одна московская кумушка-старушка: «Он такой добрый… такой добрый… совершенно безнравственный».
В той же степени родства, как Шеры, находились с нами и Ставровские: Екатерина Федоровна и ее муж Дмитрий Иванович. Екатерина Федоровна, урожденная Нечаева, была вторая единокровная сестра маменьки от второго брака деда с Ольгою Яковлевною. Я помню ее девочкой, почти товаркой мне по летам. До самого ее замужества я называл ее просто Катенькой, а она меня — Андрюшенькой. В детстве она была очень красивенькой девочкой, а когда подросла, стала просто красавицей. Не потаю греха, что в юности своей я был влюблен в нее без памяти. Ее муж был доктор-акушер. Супружество это было не из счастливых, и сама она умерла трагическою смертью 22 мая 1855 г., о чем скажу в свое время. Один из сыновей их, именно Максимилиан Дмитриевич Ставровский, инженер путей сообщения, был женат на родной моей племяннице Марии Николаевне Голеновской.
Должен упомянуть, наконец, о Тимофее Ивановиче и Елисавете Егоровне Неофитовых. У Ольги Федоровны Нечаевой, впоследствии Шер, была подруга в доме дяди Александра Алексеевича, а именно двоюродная племянница дяди Елисавета Егоровна Куманина. Эта молодая девушка вскоре после свадьбы Шеров тоже была выдана замуж (в тогдашнее время девицы замуж не выходили, а были выдаваемы) за Тимофея Ивановича Неофитова. Это супружество вовсе уже не состояло с нами в родстве, но я упоминаю о нем, как о наших знакомых и родственниках наших родных.
Тимофей Иванович, по самой своей фамилии, несомненно, происходил из духовного звания, что и было ясно отпечатано на всей его физиономии и во всех его действиях живо проглядывало и высказывалось, что, дескать, я — семинарист!.. Это был человек довольно массивный, всегда гладко причесанный, с хохолком, и большой франт. Помню, что почти всегда он приезжал к нам во фраке светло-коричневого или кофейного цвета с металлическими золочеными пуговицами. Подобные фраки тогда только входили в моду, и я только не мог решить вопроса, какой фрак красивее и моднее: светло-коричневый ли Неофитова или светло-синий (почти голубой) тоже с золочеными пуговицами, в котором приезжал к нам иногда Шер. Тут, кстати, замечу, что папенька никогда не носил подобных фраков, и это происходило не от скупости или нежелания следовать моде, но от особого пуританизма, существовавшего тогда в одежде доктора. По тогдашнему мнению, доктор не мог делать визиты к больным ни в каком другом костюме, как только в черном фраке, белом жилете и белом галстуке. Допускался также мундирный (тоже черный) фрак, но тоже с белым жилетом и галстуком. До начала 30-х годов я едва-едва, но помню, что еще носили черные шелковые чулки при коротких брюках с пряжками у колен, с лакированными башмаками; но с начала 30-х годов чулки и башмаки заменились просто сапогами. Хотя папенька в молодых годах и не прочь был пофрантить, но я не помню у него никакого другого костюма, кроме черного или мундирного (тоже черного) фрака с белым жилетом и галстуком, причем всегда с орденом. Когда же отец, вышедши в отставку, надел черный сюртук, то его не узнавали.
Заканчивая галерею лиц, родственных и знакомых в доме родителей, я не могу не упомянуть о некоторых, которых я знал очень мало или которых вовсе не знал, но только слышал о них, а именно: а) Попов — был в каком-то свойстве с нашею маменькою. Это был художник, и его карандашу принадлежат портреты родителей, писанные им в сентябре 1823 года пастелью. Портреты эти всегда висели в доме родителей в гостиной, в золоченых рамах. После смерти родителей портреты эти перешли во владение сестры Варвары Михайловны Карепиной и у нее во время пожара, бывшего в ее квартире в 80-х годах, сгорели. Но, к счастью, я озаботился еще ранее, а именно 21-го июля 1866 года, бывши в Москве, снятием с портретов этих фотографических копий. Так что ныне (1895 г.) копии эти есть единственные портреты моих родителей, и я их очень берегу{20}; б) помню какую-то Евлампию Николаевну, которая, кажется, была в родстве с Поповым и была вхожа в наш дом; в) помню каких-то Фоминых, которых я видел, но про которых ничего не знаю, в каких отношениях они были к родителям, и, наконец, помню некую Ольгу Дмитриевну Умнову, которая с сыном своим Ванечкой (Иван Гаврилович) часто хаживала к нам.
* * *
Теперь приступлю к описанию своего детства.
С самого младенчества, как я начинаю вспоминать свою детскую жизнь, мне всегда рисуются следующие члены семейства: отец, мать, старший брат Миша, брат Федя, сестра Варя и я. Мною кончается, так сказать, первая, старшая серия нас, детей. Хотя за мною и следовали еще сестра Верочка, брат Николя и сестра Саша, но они были еще так малы, что не могли принимать участия ни в наших занятиях, ни в наших играх, и росли как бы отдельною от нас жизнью. Мы же четверо постоянно бывали вместе и наши интересы, наши занятия и наши игры имели много общего. Я начал хорошо себя помнить, когда мне было 3 ½ года. Тогда брату Мише было 8 лет, брату Феде 7 лет и сестре Варе 5 ¾ лет.
Сестра, как единственная в то время из детей девочка, постоянно почти была с маменькой и сидела в гостиной, занимаясь или уроками, или каким-либо детским рукоделием. Мы же, мальчики, не имея отдельных комнат, постоянно находились в зале, все вместе. Упоминаю это для того, чтобы показать, что вся детская жизнь двух старших братьев, до поступления их в пансион Чермака, была на моих глазах. Все их занятия и все их разговоры были при мне; они не стеснялись моим присутствием и разве только в редких случаях отгоняли меня от себя, называя меня своим «хвостиком». Оба старшие брата были погодки, росли вместе и были чрезвычайно дружны между собою. Дружба эта сохранилась и впоследствии, до конца жизни старшего брата. Но, несмотря на эту дружбу, они были совершенно различных характеров. Старший брат Михаил был и в детстве менее резв, менее энергичен и менее горяч в разговорах, чем брат Федор, который был во всех проявлениях своих настоящий огонь, как выражались наши родители.
Выше я упомянул, что хорошо помню рождение сестры Верочки, но оговорюсь, собственно обстоятельств рождения ее я не помню, но помню смерть сестры Любочки, близнятки сестры Верочки, умершей через несколько дней после рождения, а также и то, как Верочку кормила грудью кормилица. Эту кормилицу, Дарью, как теперь вижу. Она была высокая, дородная, еще молодая женщина и, ежели можно так выразиться, была очень обильна на молоко. Бывало, как я и сестра Варенька придем смотреть, как питается грудью наша новорожденная сестренка, то кормилица Дарья вынет свои две массивные груди и начнет, как из брандспойтов, обливать нас своим молоком, и мы мгновенно разбегались в разные стороны. Эта кормилица Дарья постоянно, бывало, говорила, что ее муж «унтр» пошел со своим полком в Анапу[2]. Оттуда она во время пребывания у нас и получила два письма от мужа. Это, конечно, было первое географическое название, которое я усвоил себе в свой 3 ½-годовалый возраст. Упомянув о кормилице Дарье, я невольно вспоминаю и двух других кормилиц: Варину, которую звали Катериной, и свою кормилицу — Лукерью. Конечно, этих двух женщин я помню не тогда, когда они жили у нас, но в более позднейшее время, когда уже они приходили к нам в гости. Эти две бывшие кормилицы ежегодно (по преимуществу зимою) приходили к нам в гости раза по два. Приход их для нас, детей, был настоящим праздником. Они приходили из ближайших деревень всегда на довольно долгое время и гащивали у нас дня по два, по три. Как теперь, рисуется в моих воспоминаниях следующая картина: одним зимним утром является к маменьке в гостиную няня Алена Фроловна и докладывает: «Кормилица Лукерья пришла». Мы, мальчики, из залы вбегаем в гостиную и бьем в ладоши от радости. «Зови ее», — говорит маменька. И вот является лапотница Лукерья. Первым делом помолится иконам и поздоровается с маменькой; потом перецелует всех нас; мы же буквально повиснем у нее на шее; потом обделит нас всех деревенскими гостинцами в виде лепешек, испеченных на пахтанье; но вслед затем удаляется опять в кухню: детям некогда, они должны утром учиться. Но вот настают сумерки, приходит вечер. Маменька занимается в гостиной, папенька тоже в гостиной занят выпискою рецептов в скорбные листы (по больнице), которые ежедневно приносились ему массами, — а мы, дети, ожидаем уже в темной (неосвещенной) зале прихода кормилицы. Она является, усаживаемся все в темноте на стулья, и тут-то начинается рассказывание сказок. Это удовольствие продолжается часа по три, по четыре, рассказы передавались почти шепотом, чтобы не мешать родителям. Тишина такая, что слышен скрип отцовского пера. И каких только сказок мы не слыхивали, и названий теперь всех не припомню; тут были и про «Жар-птицу», и про «Алешу Поповича», и про «Синюю Бороду», и про многое другое. Помню только, что некоторые сказки казались для нас очень страшными. К рассказчицам этим мы относились и критически, замечая, например, что Варина кормилица, хотя и больше знает сказок, но рассказывает их хуже, чем Андрюшина, или что-то в этом роде.
Кстати, о сказках. В наше время, то есть во время нашего детства, были очень распространены так называемые лубочные издания сказок: про «Бову-королевича», «Еруслана Лазаревича» и т. п. Это были тетради в четвертушку, на серой бумаге напечатанные лубочным способом или славянскими или русскими буквами, с лубочными картинками вверху каждой страницы. Таковые тетрадки и у нас в доме не переводились. Теперь же подобных изданий что-то не видать в продаже даже и на сельских ярмарках. Правда, теперь есть изящное издание былин, но это уже книга не детская, а ежели и детская, то для детей более зрелого возраста{21}; малюток эта книга не привлечет к себе даже одним своим видом — форматом. Упомянув об этих лубочных сказках, я вспоминаю теперь, когда пишу эти строки (1895 г.), сообщенное мне по поводу их братом Федором Михайловичем уже в позднейшее время, а именно в конце сороковых годов, когда он занимался уже литературою, следующее: один из тогдашних писателей (кажется, покойный Полевой) намеревался сделать подделку под язык и сочинить несколько новых подобных сказок и выпустить их в свет таким же лубочным изданием. По тогдашнему мнению брата Федора Михайловича, спекуляция эта могла бы, при осуществлении, принести большую денежную выгоду предпринимателю. Но, вероятно, затея эта и осталась только затеею.
* * *
День проходил в нашем семействе по раз заведенному порядку, один, как другой, очень однообразно. Вставали утром рано, часов в шесть. В восьмом часу отец выходил в больницу, или в Палату, как у нас говорилось. В это время шла уборка комнат, топка печей по зимам и проч. В девять часов утра отец, возвратившись из больницы, ехал сейчас же в объезд своих довольно многочисленных городских пациентов, или, как у нас говорилось, «на практику». В его отсутствие мы, дети, занимались уроками. В более же позднее время два старших брата бывали в пансионе. Возвращался отец часов около 12-ти, а в первом часу дня мы всегда обедали. Исключения были только в дни масленицы, когда в 10-м часу утра накрывали стол, и к приходу отца из Палаты подавались блины, и после них отец уже ехал на практику. В эти дни обед бывал часу в 4-м дня и состоял только из рыбного. Блины на масленице елись ежедневно, не так, как теперь, ибо считались какою-то непременно принадлежностью масленицы. Сейчас же после обеда папенька уходил в гостиную, двери из залы затворялись, и он ложился на диван в халате заснуть после обеда. Этот отдых его продолжался часа полтора-два, и в это время в зале, где сидело все семейство, была тишина невозмутимая, говорили мало и шепотом, чтобы не разбудить папеньку; и это, с одной стороны, было самое скучное время дня, а с другой стороны, оно было и приятно, так как все семейство, кроме папеньки, было в одной комнате, в зале. В дни же летние, когда свирепствовали мухи, мое положение в часы отдыха папеньки было еще худшее. Я должен был липовою веткою, ежедневно срываемою в саду, отгонять мух от папеньки, сидя на кресле возле дивана, где он спал. Эти полтора-два часа были мучительны для меня, так как, уединенный от всех, я должен был проводить это время в абсолютном безмолвии и сидя без всякого движения на одном месте. К тому же, боже сохрани, ежели, бывало, прозеваешь муху и дашь ей укусить спящего… А из залы слышишь шепотливые разговоры, сдерживаемые смехи. Как, казалось, было там весело. Но, наконец, папенька вставал, и я покидал свое уединение.
В четыре часа дня пили вечерний чай, после которого отец вторично шел в Палату к больным. — Вечера проводились в гостиной, освещенной двумя сальными свечами. Стеариновых свечей тогда еще не было и в помине; восковые же жглись только при гостях и в торжественные семейные праздники. Ламп у нас не было, отец не любил их, а у кого они и были, то освещались постным маслом, издававшим неприятный запах. Керосину и других гарных масел тогда не было еще и в помине. Ежели папенька не был занят скорбными листами, то по вечерам читали вслух; о чтениях этих скажу подробнее ниже. В праздничные же дни, в особенности в святки, в той же гостиной иногда игрывали при участии родителей в карты. И это было такое удовольствие, такой праздник, что не забывалось об этом долго. Упомяну здесь, кстати, что в Пасху практиковалась особая игра — катание яиц. В зале раскладывались ковры или, попросту, ватные одеяла, и по ним с особых лубков катались яйца. Иногда к нам, детям, присоединялись и взрослые, посторонние, так что играющих было человек до 10, следовательно, на кону яиц было гораздо больше. В 9 часов вечера, ни раньше ни позже, накрывался обыкновенно ужинный стол, и, поужинав, мы, мальчики, становились перед образом, прочитывали молитвы и, простившись с родителями, отходили ко сну. — Подобное препровождение времени повторялось ежедневно. Посторонние, или так называемые гости, у нас появлялись очень редко, в особенности по вечерам. Все знакомство родителей ограничивалось большей частью утренними визитами. Впрочем, в более позднее время, когда я оставался с родителями один (братья и сестры были уже в пансионе), по вечерам очень часто хаживал Федор Антонович Маркус, о чем я уже упоминал выше. Я постоянно при этом торчал в гостиной и слушал разговоры их. Когда же, изредка, случалось, что и родители выедут из дому вечером в гости, то наши детские игры делались более шумными и разнообразными. Это случалось вовсе не оттого, что мы, дети, стеснялись в своих играх присутствием родителей, но оттого, что прислуга наша, конечно, стеснялась ими. С отъездом же родителей начиналось пение песен, затем начинались хороводы, игры в жмурки, в горелки и тому подобные увеселения, каковым способствовала наша большая зала и каковых при родителях не бывало. Но, впрочем, отсутствие родителей никогда не бывало продолжительным; в 9–10 часов вечера они непременно уже возвращались. Мы же постоянно на другой день сообщали маменьке, с которою, конечно, были более откровенны, о вчерашних играх во время их отсутствия; и я помню, что маменька всегда, бывало, говаривала, уезжая: «Уж ты, Алена Фроловна, позаботься, чтобы дети повеселились».
Дни семейных праздников, в особенности дни именин отца, всегда были для нас очень знаменательны. Начать с того, что старшие братья, а впоследствии и сестра Варенька, обязательно должны были приготовить утреннее приветствие имениннику. Приветствие это было всегда на французском языке, тщательно переписанное на почтовой бумаге, свернутое в трубочку, подавалось отцу и говорилось наизусть. Помню даже, что один раз было что-то сказано из «Генриады» {22} (единый Бог знает, для какой причины). Отец умилялся и горячо целовал приветствующих. В этот день бывало всегда много гостей, преимущественно на обед; впоследствии же, когда мы, дети, подросли, то помню, что раза два устраивались и вечерние приемы гостей на танцы. Но сколько запомню, ни один из нас, мальчиков, не танцевал охотно, а был выдвигаем как на какую-то необходимую и тяжелую работу.
В летнюю пору в домашнем препровождении времени появлялись некоторые разнообразия, а именно совершались вечерние семейные прогулки. Дом Московской Мариинской больницы находился на Божедомке, между зданиями двух женских институтов: Екатерининского и Александровского, и в недальнем расстоянии от Марьиной рощи. Эта роща была всегдашнею целью наших летних прогулок. Часу в седьмом вечера, когда палящая жара уже спадет, мы все, дети с родителями и по большей части с другими обитателями Мариинской больницы (преимущественно Щировскими), отправлялись на эту прогулку. Проходя мимо часового, стоявшего неизвестно для каких причин при ружье и в полной солдатской форме у ворот Александровского института, принято было за непременную обязанность подавать этому часовому грош или копейку. Но подача эта делалась не в руку, а просто бросалась под ноги. Часовой находил удобный случай нагнуться и поднять копейку. Это вообще было в обычае у москвичей того времени. Прогулки происходили весьма чинно, и дети даже за городом, в Марьиной роще, не позволяли себе поразвлечься, побегать. Это считалось неприличным и допускалось только в домашнем саду. В прогулках этих отец всегда разговаривал с нами, детьми, о предметах, могущих развить нас. Так, помню неоднократные наглядные толкования его о геометрических началах, об острых, прямых и тупых углах, кривых и ломаных линиях, что в московских кварталах случалось почти на каждом шагу.
К числу летних разнообразий нужно отнести также ежегодные посещения Троицкой лавры. Но это должно быть отнесено к самому раннему моему детству, так как с покупкой родителями в 1831 году своего имения поездки к Троице прекратились. Я помню только одно такое путешествие к Троице, в котором участвовал и я. Эти путешествия были, конечно, для нас важными происшествиями и, так сказать, эпохами в жизни. Ездили обыкновенно на долгих и останавливались по целым часам почти на тех же местах, где ныне поезда жел. дороги останавливаются на 2–3 минуты. У Троицы проводили дня два, посещали все церковные службы и, накупив игрушек, тем же порядком возвращались домой, употребив на все путешествие дней 5–6. Отец по служебным занятиям в этих путешествиях не участвовал, а мы ездили только с маменькой и с кем-нибудь из знакомых.
В театрах родители наши бывали очень и очень редко, и я помню всего один или два раза, когда на масленицу или большие праздники, преимущественно на дневные спектакли (а не вечерние), бралась ложа в театре и мы, четверо старших детей с родителями, ездили в театр; но при этом пьесы выбирались с большим разбором. Помню, что один раз мы видели пьесу «Жако или бразильская обезьяна»{23}. Не совсем помню сюжет этой пьесы, но в памяти моей сохранилось только то, что артист, игравший обезьяну, был отлично костюмирован (настоящая обезьяна!) и был замечательным эквилибристом. — Но ежели мы редко бывали в театрах, то зато в балаганах московских (у так называемых Петрушек) мы всегда бывали по праздникам и на масленице с дедушкой Василием Михайловичем Котельницким, о чем я уже упоминал выше.
Родители наши были люди весьма религиозные, в особенности маменька. Всякое воскресенье и большой праздник мы обязательно ходили в церковь к обедне, а накануне — ко всенощной. Исполнять это нам было весьма удобно, так как при больнице была очень большая и хорошенькая церковь.
При больнице находился большой и красивый сад, с многочисленными липовыми аллеями и отлично содержавшимися широкими дорожками. Этот-то сад и был почти нашим жилищем в летнее время. Там мы или чинно прогуливались с нянею или, усевшись на скамейках, проводили целые часы, делая различные «кушанья» из песку, смоченного водою. Играть же позволялось только в лошадки. Игры же в мяч, и в особенности при помощи палок, как, например, в лапту, строго воспрещались, как игры «опасные и неприличные». В больнице, кроме нас, было много жильцов, т. е. докторов и прочих служащих. Но замечательно, что детей, нам сверстников, ни у кого не было, кроме Петеньки Рихтера, которого в больничный сад гулять не пускали. А потому мы поневоле должны были довольствоваться только играми между собою, которые и были очень однообразны. Раз нам удалось видеть на каком-то гулянье — бегуна, который за деньги показывал свое искусство бегать; причем, бегая, он во рту держал конец платка, напитанного каким-то спиртным веществом. И вот, подражая ему, мы все начали бегать по аллеям сада, держа во рту тоже концы своих носовых платков. И это долгое время служило нам как игрою.
В саду этом также прогуливались и больные в суконных верблюжьего цвета халатах или в тиковых летних, смотря по погоде, но всегда в белых, как снег, колпаках, вместо фуражек, и в башмаках или туфлях без задников, так что они должны были шмыгать, а не шагать. Но, впрочем, присутствие больных нисколько не стесняло наших прогулок, так как больные вели себя очень чинно. Нам же, равно как и няне, строго было запрещено приближаться к ним и вступать с ними в какие-либо разговоры.
* * *
Родители мои давно уже приискивали для покупки подходящее именьице не в дальнем расстоянии от Москвы. С 1830 же года желание это усугубилось, и я очень хорошо помню, как к нам являлись различные факторы, или, как они назывались тогда в Москве, — сводчики, которые помогали продавцам и покупателям входить в сношения. Много различных предложений делали эти сводчики, наконец одно из них, сделанное в летнее время 1831 года, обратило внимание папеньки. Продавалось имение Ивана Петровича Хотяинцева в Тульской губернии Каширского уезда, в 150 верстах от Москвы. Как по цене, так и по хозяйственному инвентарю именьице это обратило внимание отца, и он решился поехать сам на место для личного осмотра этого именьица. И вот, как теперь, помню, после нашего обеда, часу в 4-м дня, к нашей квартире подъехала крытая циновкой повозка или кибитка, запряженная тройкою лошадей с бубенчиками. Папенька, простившись с маменькой и перецеловав всех нас, сел в эту кибитку и уехал из дому чуть не на неделю. Это было, кажется, первое расставание на несколько дней моих родителей. Но не прошло и двух часов, когда еще мы сидели за чайным столом и продолжали пить чай, как увидели подъезжающую кибитку с бубенчиками и в ней сидящего отца. Папенька мгновенно выскочил из кибитки и вошел в квартиру, а с маменькой сделалось что-то вроде обморока; она сильно испугалась внезапному и неожиданному возвращению отца. К тому же тогда она была беременна братом Николею. Отец кое-как успокоил маменьку. Оказалось, что он позабыл дома свой вид, или подорожную, и что, подъехав к Рогожской заставе, не был пропущен через нее за неимением вида. Не правда ли, что в настоящее время это пахнет чем-то диким!.. А 64 года тому назад никого не пропускали без вида через заставы, разве только городские экипажи, следующие на загородные прогулки. Взяв с собою документы и успокоив маменьку, отец опять уехал и на этот раз не возвращался домой дней 5–6. Эпизод этот, то есть внезапное возвращение отца, часто вспоминался в нашем доме в том смысле, что это худой признак и что покупаемая деревня счастья нам не принесет. Ежели сопоставить последующие обстоятельства, то, пожалуй, примета эта в сем данном случае и окажется справедливою, как увидим впоследствии.
Осмотр отцом деревни был поводом к тому, что родители наши приобрели покупкою это именьице в то же лето и сделались помещиками. Покупка имения ознаменовалась тем, как помню, что родители поехали к Иверской Божьей матери и отслужили благодарственный молебен.
В декабре месяце (13-го) 1831 года родился брат Николенька{24}. Помню, что нас, детей, на ночь удалили подальше от спальни и расположили на ночлег в зале на перинах, постланных на полу. Сказав нас, я подразумеваю себя и сестру Варю. Старшие же братья оставались на своем месте, в детской около передней. Часов в шесть утра папенька пришел разбудить нас и, поцеловав меня, сказал, что у меня есть еще маленький братец Николенька. В это утро папенька сам напоил нас и чаем. И к моему удивлению, маменька не наливала нам чаю и даже отсутствовала. Часов в 9 утра нас повели поздороваться с маменькой. Ее мы застали в спальне лежащею на кровати; она поцеловала всех нас и позволила поцеловать и маленького братца Николеньку. Как в этот, так и в последующие дни меня очень удивляло то, что маменька все лежит в кровати и не встает, чтобы посидеть с нами в зале. Но наконец маменька встала, и все опять пошло своим чередом.
Не успела маменька хорошенько оправиться от родов, как ее постигло горе. Дед наш Федор Тимофеевич Нечаев, после долгой болезни, умер в начале 1832 года. Маменька облеклась в глубокий траур, и это опять слишком занимало мой детский ум. После похорон, на которых присутствовали и мы, дети, в нашем семействе начали приготовляться к чему-то важному, вскоре предстоящему. Дело в том, что между родителями решено было, что каждое лето с ранней весны маменька будет ездить в деревню и там лично хозяйничать, так как папеньке нельзя было оставлять своей службы. Решено было, что на этот раз вскоре после Пасхи (тогда она была довольно поздняя, 10 апреля) за маменькой приедут свои деревенские лошади, запряженные в большую кибитку (нарочно для сих путешествий купленную), что с маменькой поедут трое старших сыновей, т. е. Миша, Федя и я; что сестра Варенька на это время, то есть все лето, прогостит у тетеньки Александры Федоровны{25}, и что сестра Верочка и новорожденный Николенька останутся в Москве с папенькой, няней Фроловной и кормилицей. Николину кормилицу, кстати сказать, я вовсе почти не помню, она была какая-то бесцветная личность и не оставила во мне никакого воспоминания.
Но вот, наконец, настал и желанный день; кибитка с тройкой хороших пегих лошадей приехала в Москву с крестьянином Семеном Широким, считавшимся опытным наездником и любителем и знатоком лошадей. Кибитку подвезли к крыльцу и уложили в нее всю поклажу. Оказалось, что это был целый дом — так она была вместительна. Куплена она была у купцов, ездивших на ней к Макарию{26}. — Вот все готово! Приходит отец Иоанн Баршев и служит напутственный молебен; затем настает прощанье, мы все усаживаемся в кибитку, кроме маменьки, которая едет с папенькой, провожавшим нас в коляске. Но вот и Рогожская застава! Папенька окончательно прощается с нами, маменька, в слезах, усаживается в кибитку, Семен Широкий отвязывает укрепленный к дуге колокольчик, и мы трогаемся, долго махая платками оставшемуся в Москве папеньке. Колокольчик звенит, бубенчики позвякивают, и мы по легкой дороге, тогда, конечно, еще не шоссированной, едем, любуясь деревенскою обстановкою. Не одно это первое путешествие в деревню, но и все последующие туда поездки приводили меня всегда в какое-то восторженное состояние… Впоследствии, много лет спустя, когда я первый раз читал поэму великого Гоголя «Мертвые души», VI глава поэмы, начинающаяся словами: «Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства…», всегда заставляла меня вспоминать свои первые путешествия в деревню, и всегда мне казалось, что я думал и испытывал то же самое, что описано на первых двух страницах этой главы!..
О впечатлениях своих во время неоднократных детских поездок из Москвы в деревню и обратно я этим и закончу. Теперь, прежде чем нам водвориться в деревню, я сообщу кое-что, что знаю и помню об этом хорошеньком местечке, очень памятном мне по летним в нем пребываниям в течение шести лет, а именно в 1832, 1833, 1834, 1835, 1836 и 1838 годах.
Название деревеньки, которую приобрели наши родители, было сельцо Даровое{27}. Куплено оно было, как выше упомянуто, у помещика Ивана Петровича Хотяинцева. Это сельцо Даровое составляло одну малую частичку целого гнезда селений, принадлежавших родоначальнику Хотяинцевых, вероятно, весьма богатому человеку. Так, в двух верстах в одну сторону от с. Дарового находилось село Моногарово, принадлежавшее, кажется, старшему в роде Хотяинцевых, отставному майору Павлу Петровичу Хотяинцеву; а в 1 ½ верстах в другую сторону от с. Дарового находилась деревня Черемошня, принадлежавшая NN Хотяинцеву. Эта последняя деревня Черемошня продавалась, о чем не знали наши родители, покупая сельцо Даровое.
К несчастью, случилось так, что вскоре по водворении нашем в деревне, маменька принуждена была начать судебный иск о выселении из нашего сельца двух-трех крестьянских дворов, принадлежавших селу Моногарову, то есть Павлу Петровичу Хотяинцеву. Конечно, судебный иск со стороны маменьки возымел только тогда место, когда все личные словесные заявления маменьки были отвергнуты Хотяинцевым. Иск маменьки взбесил окончательно Хотяинцева, и он начал похваляться, что купит имение двоюродного брата, деревню Черемошню, и тогда будет держать в тисках Достоевских. Эти похвальбы, конечно, дошли до сведения моих родителей и очень встревожили их, потому что действительно угроза Хотяинцева могла осуществиться, так как все земли соседних имений не были размежеваны, а все были так называемые чересполосные. Покамест Хотяинцев собирался, папенька успел достать нужную сумму денег, заложив Даровое и прихватив у частных лиц, и ему удалось купить деревню Черемошню не далее как в этом же 1832 году. Не знаю, сколько заплачено было за деревню Черемошню, но знаю по документам, что обе деревни, т. е. сельцо Даровое и деревня Черемошня, стоили родителям сорок две тысячи рублей ассигнациями или 12 тысяч серебром. В обоих имениях числилось сто душ крестьян (по 8-й ревизии, бывшей в 1833 году) и свыше пятисот десятин земли. Таким образом, угрозы П. П. Хотяинцева потеряли свою силу, и он сделался хорошим соседом нашим, не уводя, впрочем, принадлежавших ему крестьянских дворов из нашего имения вплоть до пожара, случившегося в 1833 году.
Это путешествие наше, равно как и все последующие, совершались каждый раз в течение двух суток с лишком. Каждые 30–35 верст мы останавливались на отдых и кормежку лошадей, а проехавши две станции, останавливались на ночлег. Вспоминаю станции: Люберцы, Чулково, Бронницы, Ульянино, Коломна, Злобино и Зарайск. От Зарайска наше имение находилось только в 10-ти верстах. Впрочем, Семен Широкий останавливался на кормежку лошадей не во всех поименованных станциях, а строго наблюдал, чтобы всякий переезд был не менее 30 или 35 верст. Проехав гор. Коломну, мы переезжали р. Оку на пароме; в разлив она была довольно широка. Переправы этой мы всегда боялись и пригоняли так, чтобы совершать ее в утреннее время, а никак не вечером. — Но вот, наконец, на третий день мы приближались к нашей деревне. За Зарайском мы едва-едва сидели на месте, беспрестанно выглядывая из кибитки и спрашивая у Семена Широкого, скоро ли приедем. Наконец мы своротили с большой дороги и поехали по проселку и через несколько минут были в своем Даровом.
Местность в нашей деревне была очень приятная и живописная. Маленький плетневый, связанный глиною на манер южных построек, флигелек для нашего приезда состоял из трех небольших комнаток и был расположен в липовой роще, довольно большой и тенистой. Роща эта через небольшое поле примыкала к березовому леску, очень густому и с довольно мрачною и дикою местностью, изрытою оврагами. Лесок этот назывался Брыково. С другой стороны помянутого поля был расположен большой фруктовый сад десятинах на пяти. Вход в этот сад был тоже из липовой рощи. Сад был кругом огорожен глубоким рвом, по насыпям которого густо были рассажены кусты крыжовника. Задняя часть этого сада примыкала тоже к березовому лесочку Брыково[3]. Эти три местности: липовая роща, сад и Брыково были самыми ближайшими местами к нашему домику, а потому и составляли место нашего постоянного пребывания и гулянья. Около помянутого выше нашего домика, который был крыт соломою, были расположены два кургана или две небольшие насыпи, на которых росло по четыре столетних липы, так что курганы эти, защищенные каждый четырьмя вековыми липами, были лучше всяких беседок и служили нам во все лето столовыми, где мы постоянно обедали и пили утренний и вечерний чай. Лесок Брыково с самого начала очень полюбился брату Феде, так что впоследствии в семействе нашем он назывался Фединою рощею. Впрочем, маменька неохотно дозволяла нам гулять в этом леску, так как ходили слухи, что в тамошних оврагах попадаются змеи и забегают часто волки. Позади фруктового сада и лесочка Брыково находилась громадная ложбина, простирающаяся вдаль на несколько верст. Эта ложбина представляла собою как будто ложе бывшей когда-то здесь реки. В ложбине этой находились и ключи. Это обстоятельство подало повод вырыть в этой ложбине пруд, которого в деревне не имелось. В первое же лето маменька распорядилась вырытием довольно большого пруда и запрудить его близ проезжей усадебной улицы, и в конце же лета образовался пруд довольно глубокий, с очень хорошею водою. Крестьяне были очень довольны этим, потому что прежний затруднительный водопой скота очень этим упростился. В ту же осень папенька прислал из Москвы боченок с живыми маленькими карасиками, и карасики эти были пущены в новый пруд. Чтобы не было преждевременной ловли и истребления вновь насаженных карасей в пруду, староста Савин Макаров посоветовал маменьке заказать пруд. Это значило обойти пруд крестным ходом с духовенством, хоругвями и образами, что и было исполнено. В последующие годы в пруду этом была устроена купальня, и мы летом ежедневно по три, по четыре раза купались. Одним словом, летние пребывания наши в деревне были очень гигиеничны для нас, детей; мы, как дети природы, жили все время на воздухе и в воде. В этом же пруду в последующие годы мы часто лавливали удочкою рыбу, но все попадались небольшие карасики и гольцы; откуда взялись последние — решительно недоумеваю! Года через два, от большого паводка немного прорвало и повредило плотину нашего пруда, и мы увидели, что в воде, переброшенной через плотину, было много золотистых карасей громадного размера. Это подало повод маменьке распорядиться закинуть невод (который был уже давно изготовлен). И можно себе представить нашу радость, когда неводом вытащили громадную массу карасей и все золотистых. Маменька велела отобрать несколько рыб для себя, сотню или более велела распределить между крестьянами, а остальную рыбу велела пустить опять в пруд. С этого времени мы начали усердно заниматься ловлею на удочки. Рыбы попадались иногда очень большие, и это занятие было тоже одно из любимых нами. Но при этом ловля на удочку производилась всегда с раннего утра, так часу в 5-м и не позже пяти; у каждого из нас были для этого занятия по своему адъютанту, то есть крестьянскому мальчику, который должен был нарыть в земле червяков и насаживать их на удочный крючок… Одним словом, барство было препротивное!
В липовой роще, с перебегами через поле в Брыково, происходили все наши детские игры. Из них опишу некоторые. Брат Федя, тогда уже много читавший, вероятно, ознакомился с описанием жизни дикарей. «Игра в диких» и была любимою нашею игрою. Она состояла в том, что, выбравши в липовой роще место более густое, мы строили там шалаш, укрывали хворостом и листьями и делали ход в него незаметным. Шалаш этот делался главным местопребыванием диких племен; раздевались донага и расписывали себе тело красками на манер татуировки, делали себе поясные и головные украшения из листьев и выкрашенных гусиных перьев и, вооружившись самодельными луками и стрелами, производили воображаемые набеги на Брыково, где, конечно, были находимы нарочно помещенные там крестьянские мальчики и девочки. Их забирали в плен и держали, до приличного выкупа, в шалаше. Конечно, брат Федор, как выдумавший эту игру, был всегда главным предводителем племен. Брат Миша редко участвовал непосредственно в этой игре, она была не в его характере; но он, как начинавший в то время рисовать и имевший краски, был нашим костюмером и разрисовывал нас. Особый интерес в этой игре был тот, чтобы за нами, «дикими», не было присмотра старших и чтобы, таким образом, совершенно уединиться от всего обычного — не дикого. Раз, помню, что в отличную сухую погоду, маменька, желая продлить нашу игру и наше удовольствие, решилась не звать нас к обеду и велела отнести дикарям обед на воздух в особой посуде и поставить его где-нибудь под кустами. Это доставило нам большое удовольствие, и мы съели обед без помощи вилок и ножей, а просто руками, как приличествовало диким. Но по пословице: «ежели мед, так ложка», когда мы преднамеревались было провести и ночь в диком состоянии, то этого нам не позволили и, обмывши нас, уложили спать по обыкновению.
Другая игра, тоже выдуманная братом Федором, была игра в Робинзона. В эту игру мы играли с братом вдвоем; и конечно, брат Федор был Робинзоном, а мне приходилось изображать Пятницу. Мы усиливались воспроизвести в нашей липовой роще все те лишения, которые испытывал Робинзон на необитаемом острове.
Практиковалась также и простая игра в лошадки; но мы умудрялись делать ее более интересной. У каждого из нас была своя тройка лошадей, состоящая из крестьянских мальчиков и пристяжными из девочек, которые, как кобылки, были допускаемы к упряжке в пристяжку. Эти тройки были всегдашнею нашею заботою, состоявшею в том, чтобы получше и посытнее накормить их. А потому всякий день во время обеда мы оставляли большую часть порций различных блюд каждый для своей тройки и после обеда отправлялись в свои конюшни, под каким-нибудь кустом, и выкармливали приносимое. Езда на этих тройках происходила уже не в липовой роще, а по дороге из нашей деревни в деревню Черемошню, и часто бывали устраиваемы пари с каким-нибудь призом для обогнавшей тройки. При этом мы, наглядевшись в г. Зарайске, куда часто ездили на ярмарки и большие базары, как барышники продавали своих лошадей, устраивали и у себя продажу и мену их со всеми приемами барышников, т. е. смотрели воображаемым лошадям в зубы, поднимали ноги и рассматривали воображаемые копыта и т. д.
Вспоминаю еще игру, а скорее, непростительную шалость. За липовой рощей было кладбище, и вблизи его стояла ветхая деревянная часовня, в которой на полках помещались иконы. Дверь в эту часовню никогда не запиралась. Гуляя однажды в сопровождении горничной Веры, которая была очень веселой и разбитной девушкой, мы зашли в эту часовню и долго не думая подняли образа и с пением различных церковных стихов и песен, под предводительством Веры, начали обход по полю. Эта непростительная проделка удалась нам раза два три, но кто-то сообщил об этом маменьке, и нам досталось за это порядком.
Маменька каждую неделю два раза посылала в Зарайск как за письмами (из Москвы от папеньки), так и за покупками. Часто Вера вызывалась на исполнение этой порученности. Все лошади, понятно, были заняты на полевых работах, а потому посылаемые в Зарайск делали это путешествие пешком; конечно, не было исключения и для горничной Веры. Часто с Верой хаживал в Зарайск пешком и я. С ходьбою в городе этот променад составлял 23–24 версты; и я, бывало, пробегал это пространство, очень мало уставая. На середине дороги, в небольшом лесочке, мы отдыхали и кое-чем закусывали. Выходили, бывало, из дому часов в пять утра, а часам к двум-трем дня были уж дома. Раз как-то, отдыхая под кустиком в сказанном лесочке, мы заметили очень маленький грибок и обозначили его кругом воткнутыми в землю палочками. Возвращаясь назад и отдыхая на том же месте, мы увидели свой грибок уже очень солидных размеров и распирающим те палочки, которыми был огорожен. Тут я воочию убедился в том, что грибы растут очень быстро.
В деревне, как и сказано выше, мы постоянно были на воздухе и, кроме игр, проводили целые дни на полях, присутствуя и приглядываясь к трудным полевым работам. Все крестьяне, в особенности женщины, нас очень любили и, не стесняясь нисколько, вступали с нами в разговоры. Мы с своей стороны старались тоже угодить им всевозможными средствами. Так, однажды брат Федя, увидев, что одна крестьянка пролила запасную воду, вследствие чего ей нечем было напоить ребенка, немедленно побежал версты за две домой и принес воды, чем заслужил большую благодарность бедной матери.
Да, крестьяне нас любили! Сцена, с таким талантом описанная впоследствии братом Федором Михайловичем в «Дневнике Писателя» с крестьянином Мареем, достаточно рисует эту любовь{28}. Кстати, о Марее (вероятно, Марке); это лицо не вымышленное, а действительно существовавшее. Это был красивый мужик, выше средних лет, брюнет с солидною черною бородою, в которую пробивалась уже седина. Он считался в деревне большим знатоком рогатого скота, и когда приходилось покупать на ярмарке коров, то никогда не обходилось без Марея. При воспоминании о Марее мне всегда припоминается одно происшествие, ясно рисующее, до какой степени детски-наивны были тогда крестьяне в нашей местности. Они, не стесняясь, называли вещи своими названиями, хотя таковые всеми другими почитаются неприличными и невежливыми. Раз как-то на ярмарке в Зарайске, уже в более поздние годы, маменька вместе с Мареем смотрела коров, которых нужно было купить. Я тоже был с маменькой. Маменьке очень понравилась одна корова своею красивостью, но, к несчастью, у нее был короткий хвост; долго маменька смотрела на нее, Марей же не обращал на нее никакого внимания, верно зная, что она негодная. На выраженное желание маменьки купить эту корову, Марей ответил: «Что вы, матушка, Марья Федоровна, какая эта корова… она для нас не подойдет! Что это за корова, ей и мух от… отогнать нечем!» Другой подобный случай припоминаю со старостою Савином Макаровым. Ясно, что в обоих этих случаях даже самый взыскательный господин не заподозрит и тени умышленной неприличности или невежливости. Выражались же крестьяне так, как дети природы.
Я выше уже упоминал, что вслед за покупкой первой деревни, Даровой, была куплена и деревня Черемошня. В эту деревню мы очень часто хаживали по вечерам с маменькой всем семейством. Сверх того, в Черемошне[4] была небольшая баня, каковой в Даровой не было, и вот в эту-то баню мы почти каждую субботу хаживали всем семейством уже по утрам.
Упомянул я также вскользь о пожаре, бывшем в деревне. Теперь же сообщу об этом несчастии несколько подробнее. Это случилось ранней весною, то есть на Страстной неделе Великого поста в 1833 году, узнали же мы в Москве об этом на 3-й день Пасхи.
Как теперь помню, что мы проводили день по-праздничному, за несколько запоздавшими визитами обедали несколько позже и только что встали из-за стола. Папенька с маменькой разговаривали о предстоящей маменькиной поездке в деревню, и мы заранее испытывали удовольствие дальнего путешествия и пребывания в деревне. Вдруг докладывают родителям, что в кухню пришел из Даровой приказчик, Григорий Васильев. Это, собственно, был просто дворовый человек и занимать место приказчика был неспособен. Но он был грамотный и, как единственный письменный человек в деревне, носил кличку приказчика. Собственно же он, по неспособности своей, ничем не распоряжался, а распоряжался всем староста Савин Макаров.
Сейчас же велели позвать пришедшего, и праздничное настроение, как бы в ожидании какого-либо несчастия, сменилось в тревогу. Через несколько минут в переднюю является Григорий, в лаптях (хотя дворовые у нас никогда в лаптях не ходили), в разорванной и заплатанной свитке, с небритою бородою и с мрачным лицом. Казалось, он нарочно старался загримироваться, чтобы сделать свой вид более печальным.
— Зачем ты пришел, Григорий?.. Что случилось в деревне?..
— Несчастие… вотчина сгорела! — ответил гробовым голосом Григорий.
Первое впечатление было ужасно! Помню, что родители пали на колени и долго молились перед иконами в гостиной, а потом поехали молиться к Иверской Божьей матери. Мы же, дети, все в слезах остались дома.
Из дальнейших расспросов оказалось, что пожар случился от того, что один крестьянин, Архип, вздумал в Страстную пятницу палить кабана у себя на дворе. Ветер был страшный. Загорелся его дом, а от него сгорела и вся усадьба. В довершение несчастия сгорел и сам виновник беды, Архип, который побежал в горевшую свою избу что-то спасать и там и остался!
Но, собственно говоря, обдумав все более хладнокровно, родители убедились, что это еще не очень большое несчастие, так как вся наша крестьянская усадьба была слишком ветха и рано или поздно ее надобно было возобновлять. Григория отправили назад с обещанием от родителей, что они последнюю рубашку свою поделят с крестьянами. Это, помню, были слова папеньки, которые он несколько раз повторял Григорию, велев передать их крестьянам.
Кажется, в этом несчастий помог родителям тоже добрейший дядя, Александр Алексеевич.
Дней через десять приехал за нами тот же Семен Широкий в кибитке, запряженной тройкой пегих лошадей, и мы с маменькой отправились в деревню. Вся усадьба представлялась пустырем, кое-где торчали обгоревшие столбы. Несколько вековых лип около сгоревшего скотного двора тоже обгорели. Картина была непривлекательная. В довершение ко всему наша старая собака Жучка встретила нас махая хвостиком, но сильно воя.
Через неделю же закипела работа, и крестьяне все повеселели. Маменька каждому хозяину выдала на усадьбу по 50 рублей. Тогда это деньги были очень большие. Свой скотный двор тоже поставили новый и при нем людскую избу, и небольшой флигелек для нашего пребывания. Плетневая наша мазанка, окруженная двумя курганами, была защищена вековыми липами и не сгорела, но в ней всем нам помещаться было тесно.
Дочь сгоревшего крестьянина Архипа, Аришу, маменька очень полюбила и взяла к себе в комнаты, а потом она сделалась дворовою и была у нас постоянной прислугою в горницах в Москве.
К концу лета деревня наша была обстроена с иголочки, и о пожаре не было и помину. Помню, что, давая вспоможение крестьянам, маменька каждому говорила, что дает помощь ему взаймы и чтобы крестьяне, когда найдут возможным, уплатили бы этот долг. Но, конечно, это были только слова. Долгу с крестьян никто никогда не требовал.
Все, что я описал выше про наше времяпровождение в деревне, относится, конечно, не к одному первому году нашего в ней пребывания, но и к последующим. Я еще раза два-три в дальнейших своих воспоминаниях буду возвращаться к деревне, теперь же, чтобы покончить с нею на этот раз, сообщу о наших деревенских соседях и знакомых.
Я уже упомянул выше о Павле Петровиче Хотяинцеве. Он с женою, кажется, Феодосьею Яковлевною, жил в своем селе Моногарове. Большой деревянный дом его находился возле самой церкви, и мы с маменькой, бывая всякое воскресенье в церкви, каждый раз были приглашаемы из церкви на чашку кофе. Но вместо кофе тут бывал целый завтрак с аппетитным пирогом с начинкою из яиц, зеленого луку и молодых цыплят. Кроме взрослого сына, который служил где-то юнкером, у них был 4-летний сынок, родившийся после 12-летнего перерыва, и в этом сынке родители не слышали и души. Любимою игрою мальчика было рядиться в священника, а потому у него было полное священническое облачение, и он постоянно что-нибудь служил. Хотяинцевы изредка бывали и у нас.
Вторая соседка была старушка Небольсина; ее деревенька тоже принадлежала когда-то отцу Хотяинцева и находилась по пути от нас к церкви. Старушка часто зазывала нас с маменькой к себе отдохнуть, но у нас она никогда не бывала, — по крайней мере, я не припомню, — вероятно, по своей старости.
Третьи соседи были помещики Еропкины. Эта семья представителей древнего дворянского рода состояла из мужа и жены, уже пожилых, двух дочерей, уже невест, и одного сына. Сами родители были едва-едва грамотны, дочери грамоте не обучались; сынок же, уже лет 17–18, ограничился обучением у дьячка. Это семейство раза три в лето бывало у нас, и столько же раз и мы у них. У них были хорошие оранжереи и парники, и они, приезжая, всегда привозили нам то дыню, то арбуз.
Вот и все соседи… И вообще говоря, мы в деревне коротких знакомств не заводили, а ограничивались только визитами.
Кроме этих соседей к нам иногда являлось приходское священство, состоявшее из священника, дьякона, у которого было 12 взрослых дочерей и ни одного сына, и дьячка. Все эти лица немного отличались от простых крестьян, и то только своим полуобразованием, в отношении же жизни они были те же крестьяне и столь же много работали своеручно, не имея у себя ни одного наемного рабочего. С дьячком Иваном Федоровичем я даже покумился, потому что, бывши ребенком, крестил у него новорожденного. Лет 8 тому назад, т. е. летом 1887 года, я был в Даровой у сестры Веры Михайловны, о чем сообщу подробнее в своем месте, и, конечно, был в Моногарове, чтобы отслужить панихиду по папеньке. Служащий нынче настоятелем Моногаровского прихода отец Преферансов (породнившийся с сестрою Верочкою) показался мне совершенным джентльменом в сравнении с прежним священником. Ну, да это и хорошо{29}.
В заключение кратких своих воспоминаний о деревне я не могу не упомянуть о дурочке Аграфене. В деревне у нас была дурочка, не принадлежавшая ни к какой семье; она все время проводила шляясь по полям, и только в сильные морозы зимой ее насильно приючивали к какой-либо избе. Ей уже было тогда лет 20–25; говорила она очень мало, неохотно, непонятно и несвязно; можно было только понять, что она вспоминает постоянно о ребенке, похороненном на кладбище. Она, кажется, была дурочкой от рождения и, несмотря на свое таковое состояние, претерпела над собою насилие и сделалась матерью ребенка, который вскоре и умер. Читая впоследствии в романе брата, Федора Михайловича, «Братья Карамазовы» историю Лизаветы Смердящей, я невольно вспоминал нашу дурочку Аграфену.
* * *
Приступлю теперь к воспоминаниям о нашем первоначальном домашнем обучении. Первоначальным обучением всех нас грамоте, то есть азбуке, занималась наша маменька. Азбуку учили не по-нынешнему, выговаривая буквы а, б, в, г и т. д., а выговаривали по-старинному, то есть: аз, буки, веди, глаголь и т. д. и, дойдя до ижицы, всегда приговаривали известную присказку. После букв следовали склады двойные, тройные, четверные и чуть ли не пятерные, вроде: багра, вздра и т. п., которые часто и выговаривать было трудно. Когда премудрость эта уже постигалась, тогда приступали к постепенному чтению. Конечно, я не помню, как учились азбуке старшие братья, и эти воспоминания относятся ко мне лично. Но так как наша учительница была одна (наша маменька) и даже руководство, или азбука, преемственно перешла от старших братьев ко мне, то я имею основание предполагать, что и братья начинали учение тем же способом. Первая книга для чтения была у всех нас одна. Это Священная история Ветхого и Нового завета на русском языке (кажется, переведенная с немецкого сочинения Гибнера). Она называлась, собственно, «Сто четыре священных истории Ветхого и Нового завета»{30}. При ней было несколько довольно плохих литографий: Сотворения мира, Пребывания Адама и Евы в раю, Потопа и прочих главных священных фактов. Помню, как в недавнее уже время, а именно в 70-х годах, я, разговаривая с братом Федором Михайловичем про наше детство, упомянул об этой книге; и с каким он восторгом объявил мне, что ему удалось разыскать этот же самый экземпляр книги (т. е. наш детский) и что он бережет его как святыню.
Я уже упомянул выше, что не мог быть свидетелем первоначального обучения старших братьев азбуке. Как я начинаю себя помнить, я застал уже братьев умевшими читать и писать и приготовляющимися к поступлению в пансион. Домашнее их пребывание без выездов в пансион я помню непродолжительное время — год, много полтора. В это время к нам ходили на дом два учителя. Первый — это дьякон, преподававший закон божий. Дьякон этот чуть ли не служил в Екатерининском институте; по крайней мере, наверное, знаю, что он там был учителем. К его приходу в зале всегда раскладывали ломберный стол, и мы четверо детей помещались за этим столом вместе с преподавателем. Маменька всегда садилась сбоку, в стороне, занимаясь какой-нибудь работой. Многих впоследствии имел я законоучителей, но такого, как отец дьякон, не припомню. Он имел отличный дар слова, и весь урок, продолжавшийся по-старинному часа 1 ½ — 2, проводил в рассказах, или, как у нас говорилось, в толковании Св. писания. Бывало, придет, употребит несколько минут на спрос уроков и сейчас же приступит к рассказам — о потопе, о приключениях Иосифа. О Рождестве Христове он говорил особенно хорошо, так что бывало и маменька, оставив свою работу, начинает не только слушать, но и глядеть на воодушевляющегося преподавателя. Положительно могу сказать, что он своими уроками и своими рассказами умилял наши детские сердца. Даже я, тогда 6-летний мальчик, с удовольствием слушал эти рассказы, нисколько не утомляясь их продолжительностью. Очень жалею я, что не помню ни имени, ни фамилии этого почтенного преподавателя, мы просто звали его отцом дьяконом. Несмотря на все это, уроки он требовал учить буквально по руководству, не выпуская ни одного слова, то есть, как говорится, «вдолбежку», потому что тогда при приемных экзаменах всюду это требовалось. Руководством же служили известные «Начатки» митрополита Филарета, начинавшиеся так «Един Бог, во святой Троице поклоняемый есть вечен, то есть не имеет ни начала, ни конца своего бытия, но всегда был, есть и будет…» и т. д. Это скорее философское сочинение, нежели руководство для детей. Но так как руководство это обязательно было принято во всех учебных заведениях, то понятно, что и сам отец дьякон придерживался ему.
Другой учитель, ходивший к нам в это время, был Николай Иванович Сушард; он был преподавателем французского языка в Екатерининском институте и ходил к нам давать уроки также французского языка. Он был француз, но горячо желал сделаться чисто русским. Я помню рассказ папеньки, что, в одно из посещений Екатерининского института императором Николаем, Николай Иванович Сушард просил у государя, как милости, позволения, вывернув свою фамилию, прибавить к ней окончание «ов», что ему и было дозволено, вследствие чего он впоследствии и назывался Драшусов (Сушард — Драшус — Драшусов). Так как я был в это время еще слишком мал для французского языка, то я ничего и не могу сказать про его преподавание, хотя я обязательно и должен был садиться за тот же ломберный стол и сидеть смирно в продолжение всего урока. Помню только, что приветствия отцу ко дню его именин всегда составлялись Николаем Ивановичем и выучивались под его руководством.
Время для старших братьев начало уже подходить такое, что по возрасту их пора уже было отдавать куда-либо в пансион с гимназическим курсом и одного чтения и письма, а равно закона Божия и французского языка было далеко недостаточно. Для подготовления к такому пансиону двух старших братьев отдали на полупансион к тому же Николаю Ивановичу Драшусову, куда они и ездили, кажется, в продолжение целого года или даже более ежедневно по утрам и возвращались к обеду. У Драшусова был маленький пансион для приходящих, он сам занимался французским языком, два взрослых сына его занимались преподаванием математики и словесных предметов, и даже жена его, Евгения Петровна, кажется, что-то преподавала. Но в этом скромном пансионе некому было заниматься латинским языком, а потому подготовление старших братьев по этому предмету принял на себя сам папенька. Помню даже утро, в которое он, ездивши на практику, купил латинскую грамматику Бантышева и отдал ее братьям (книга эта преемственно досталась впоследствии и мне). И вот с этого времени каждый вечер папенька начал заниматься с братьями латынью. Разница между отцом-учителем и посторонними учителями, к нам ходившими, была та, что у последних ученики сидели в продолжение всего урока вместе с учителем; у отца же братья, занимаясь нередко по часу и более, не смели не только сесть, но даже облокотиться на стол. Стоят, бывало, как истуканчики, склоняя по очереди: mensa, mensae, mensae и т. д. или спрягая: amo, amas, amat. Братья очень боялись этих уроков, происходивших всегда по вечерам. Отец, при всей своей доброте, был чрезвычайно взыскателен и нетерпелив, а главное, очень вспыльчив. Бывало, чуть какой-либо со стороны братьев промах, так сейчас разразится крик. Замечу тут, кстати, что, несмотря на вспыльчивость отца, в семействе нашем принято было обходиться с детьми очень гуманно, и, несмотря на известную присказку к ижице, нас не только не наказывали телесно — никогда и никого, — но даже я не помню, чтобы когда-либо старших братьев ставили на колени или в угол. Главнейшим для нас было то, что отец вспылит. Так и при латинских уроках, при малейшем промахе со стороны братьев, отец всегда рассердится, вспылит, обзовет их лентяями, тупицами: в крайних же, более редких случаях даже бросит занятия, не докончив урока, что считалось уже хуже всякого наказания. Бывало, при этих случаях помню, что маменька только посматривает на меня и дает мне знаками намеки, что вот, мол, и тебе то же будет!.. Но увы, хотя грамматика Бантышева преемственно и перешла ко мне, но начало латинской премудрости мне суждено было узнать не из уроков папеньки, а в пансионе Чермака.
Вероятно, это гуманное отношение к нам, детям, со стороны родителей и было поводом к тому, что при жизни своей они не решались поместить нас в гимназию, хотя это стоило бы гораздо дешевле. Гимназии не пользовались в то время хорошею репутациею, и в них существовало обычное и заурядное, за всякую малейшую провинность, наказание телесное. Вследствие чего и были предпочтены частные пансионы. Наконец, подготовление братьев было окончено, и они поступили в пансион Леонтия Ивановича Чермака, с начала учебного курса в 1834 году.
В это же время и сестра Варенька была отдана родителями в пансион или школу при лютеранской церкви Петра и Павла. Школа эта, с давних времен существовавшая, пользовалась в Москве заслуженною славою. Она находилась возле самого дома дяди Александра Алексеевича Куманина, в Козьма-Демьяновском переулке, — это было причиною тому, что часто сестра не приезжала по субботам в родительский дом, в особенности в зимние трескучие морозы, а была брата тетушкою Александрою Федоровною к себе на дом. Братья тоже были отданы к Чермаку на полный пансион и приезжали домой только по субботам к обеду, а в понедельник утром уезжали опять на целую неделю. Следовательно, дома из старших подростков оставался только я.
Относительно меня папенька сделал следующее распоряжение. Он поручил старшим братьям и сестре заведывать моим обучением и задавать на целую неделю уроки, которые я и должен был сдавать в субботу. А в воскресенье обязан был вновь выслушивать объяснения братьев и сестры на счет заданий на следующую неделю. Предметы были распределены следующим образом: брат Миша взял на себя арифметику и географию; брат Федя — историю и русскую грамматику, а сестра Варя — закон Божий и языки французский и немецкий.
С этих пор моя жизнь в родительском доме пошла гораздо скучнее. В доме сделалось гораздо тише, и я, понукаемый родителями, должен был по целым дням сидеть в зале за книгою, хотя мысли иногда порхали далеко от книги. Мне был уже десятый год, а сестре Верочке едва-едва шесть; следовательно, она не могла сделаться моею товаркою, тем более что я привык иметь товарищами старших себя. Зато весело было дожидаться субботы, и хотя день этот и был для меня днем расплаты, днем экзаменов, но я мало страшился их, а помышлял только о том, что целых 1 ½ дня пробуду с братьями и сестрою. Учительские отношения ко мне братьев и сестры нисколько не изменили наших братских доселе существовавших отношений. В субботу с утра чувствовалось уже прибытие всей семьи в родной кров. И родители делались несколько веселее, и к столу прибавлялось кое-что лишнее, — одним словом, пахло чем-то праздничным. В этот день и неизменяемый час обеда (т. е. 12 час.) поневоле изменялся. Покуда лошади поедут с Божедомки в Новую Басманную, покуда соберутся братья, покуда приедут, проходило добрых 1 ½ — 2 часа, так что обед подавался в этот день к двум часам. За сестрой ездили большей частью по вечерам, уже в сумерки. Но вот приехали братья, не успели поздороваться, как и горячее уже на столе. Садились обедать, и тут же, не удовлетворивши первому аппетиту, братья начинают рассказывать о всем случившемся в продолжение недели. Во-первых, отрапортуют правдиво о всех полученных в продолжение недели по различным предметам баллах, а потом и начнутся рассказы про учителей, про различные детские, а иногда и не совсем приличные шалости товарищей. За рассказами и разговорами и обед в этот день продолжается гораздо долее. Родители самодовольно слушали и молчали, давая высказаться приезжим. Можно сказать, что откровенность в рассказах была полная. Вспоминаю, что отец ни разу не давал наставлений сыновьям при повествованиях о различных шалостях, случившихся в классе; отец только приговаривал: «Ишь ты, шалун, ишь разбойник, ишь негодяй!» и т. п., смотря по степени шалости, но ни разу не говорил: «Смотрите, не поступайте-де и вы так!» Этим давалось, кажется, знать, что отец и ожидать не может от них подобных шалостей.
Пообедав и поговорив еще несколько, братья отбирали от меня с грехом пополам недельный отчет; затем они садились за свои ломберные столы и предавались чтению; так же проводилось и воскресенье. Помню только то, что я редко видал, чтобы по субботам и воскресеньям братья занимались приготовлением уроков и привозили с собою учебники. Зато книг для чтения привозилось достаточно, так что братья постоянно проводили домашнее время за чтением. — Такие субботы повторялись еженедельно, а потому я не буду на них долго останавливаться, тем более что за давностью лет и не могу припомнить особо выдающихся суббот. Замечу лишь то, что в последние годы, т. е. около 36-го года, братья с особенным воодушевлением рассказывали про своего учителя русского языка, он просто сделался их идолом, так как на каждом шагу был ими вспоминаем. Вероятно, это был учитель незаурядный, а вроде нашего почтенного отца дьякона. Братья отзывались о нем не только как о хорошем учителе, но в некотором отношении как о джентльмене. Очень жаль, что я не помню теперь его фамилии, но в мое пребывание у Чермака учителя этого, кажется, уже не было и в высших классах.
Выше я упомянул о семейных чтениях, происходивших в гостиной. Чтения эти существовали, кажется, постоянно в кругу родителей. С тех пор как я начинаю себя помнить, они уже происходили. Читали попеременно вслух или папенька, или маменька. Я помню, что при чтениях этих всегда находились и старшие братья, еще до поступления их в пансион; впоследствии и они начали читать вслух, когда уставали родители{31}. Читались по преимуществу произведения исторические: «История Государства Российского» Карамзина (у нас был свой экземпляр), из которой чаще читались последние темы — IX, X, XI и XII, так что из истории Годунова и Самозванцев нечто осталось и у меня в памяти от этих чтений; биография Мих. Вас. Ломоносова соч. Ксенофонта Полевого и многие другие. Из чисто литературно-беллетристических произведений, помню, читали Державина (в особенности оду «Бог»), Жуковского и его переводные статьи в прозе; Карамзина — «Письма русского путешественника» и повести: «Бедную Лизу», «Марфу Посадницу», и проч., Пушкина — преимущественно прозу. Впоследствии начали читать и романы «Юрий Милославский», «Ледяной дом», «Стрельцы» и сентиментальный роман «Семейство Холмских». Читались также сказки и казака Луганского. Все эти произведения остались у меня в памяти не по одному названию, а потому, что чтения эти часто прерывались рассуждениями родителей, которые и были мне более памятны. Перечитывая впоследствии все эти произведения, я всегда вспоминал наши семейные чтения в гостиной дома родительского. Выше я говорил уже, что старшие братья читали во всякое свободное время. В руках брата Феди я чаще всего видал Вальтер Скотта{32}: «Квентина Дорварда» и «Ваверлея»; у них были собственные экземпляры, и вот их-то он перечитывал неоднократно, несмотря на тяжелый и старинный перевод. Такому же чтению и перечитыванию подвергались и все произведения Пушкина. Любил также брат Федор и повести Нарежного{33}, из которых «Бурсака» перечитывал неоднократно. Не помню наверное, читал ли он тогда что-нибудь из Гоголя, а потому не могу об этом говорить. Помню только, что он тогда восхищался романом Вельтмана{34} «Сердце и Думка», «История» же Карамзина была его настольною книгою, и он читал ее всегда, когда не было чего-либо новенького. Я потому перечисляю названия некоторых литературных произведений, читавшихся тогда братьями (хотя далеко и не все), что с этими названиями и именами их авторов мне пришлось еще ребенком познакомиться со слов братьев. Появлялись в нашем доме и книжки издававшейся в то время «Библиотеки для Чтения»{35}. Как теперь помню эти книжки, менявшие ежемесячно цвет своих обложек, на которых изображался загнутый верхний уголок с именами литераторов, поместивших статьи в этой книжке. Эти книги уже были исключительным достоянием братьев. Родители их не читали.
Вообще брат Федя более читал сочинения исторические, серьезные, а также и попадавшиеся романы. Брат же Михаил любил поэзию и сам пописывал стихи, бывши в старшем классе пансиона (чем брат Федор не занимался). Но на Пушкине они мирились, и оба, кажется, и тогда чуть не всего знали наизусть, конечно, только то, что попадалось им в руки, так как полного собрания сочинений Пушкина тогда еще не было. Надо припомнить, что Пушкин тогда был еще современник. Об нем, как о современном поэте, мало говорилось еще с кафедры; произведения его еще не заучивались наизусть по требованию преподавателей. Авторитетность Пушкина как поэта была тогда менее авторитетности Жуковского даже между преподавателями словесности; она была менее и во мнении наших родителей, что вызывало неоднократные горячие протесты со стороны обоих братьев. Помню, что братья как-то одновременно выучили наизусть два стихотворения: старший брат «Графа Габсбургского», а брат Федор, как бы в параллель тому, — «Смерть Олега». Когда эти стихотворения были произнесены ими в присутствии родителей, то предпочтение было отдано первому, вероятно, вследствие большей авторитетности сочинителя. Маменька наша очень полюбила два эти произведения и часто просила братьев произносить их; помню, что даже во время своей болезни, уже лежа в постели, она с удовольствием прислушивалась к ним.
Не могу не припомнить здесь одного случившегося у нас эпизода. Из товарищей к братьям не ходил никто. Раз только к старшему брату приезжал из пансионских товарищей некто Кудрявцев. Брату позволено было отдать ему визит, но тем знакомство и кончилось. Зато в дом наш был вхож один мальчик, Ванечка Умнов (сын О. Д. Умновой, о которой я упоминал выше как о нашей знакомой). Этот юноша учился в гимназии и был несколько старше моих братьев. Этому-то гимназисту удалось где-то достать ходившую тогда в рукописи сатиру Воейкова «Дом сумасшедших»{36} и заучить на память. Со слов его, братья тоже выучили несколько строф этой сатиры и сказали их в присутствии отца. Выслушав их, отец остался очень недоволен и высказал предположение, что это, вероятно, произведение и проделки гимназистов; но когда его уверили, что это сочинение Воейкова, то он все-таки высказал, что оно неприлично, потому что в нем помещены дерзкие выражения против высокопоставленных лиц и известных литераторов, а в особенности против Жуковского. Несколько строф этой сатиры были так часто повторяемы братьями, что они сильно врезались и мне в память и сделались для меня как бы чем-то родственно-приятным.
По рассказам того же Ванечки Умнова, мы познакомились со сказкою Ершова «Конек-Горбунок» и выучили ее всю наизусть{37}.
Отец наш был чрезвычайно внимателен в наблюдении за нравственностью детей, и в особенности относительно старших братьев, когда они сделались уже юношами. Я не помню ни одного случая, когда бы братья вышли куда-нибудь одни; это считалось отцом за неприличное, между тем как к концу пребывания братьев в родительском доме старшему было почти уже 17, а брату Федору — почти 16. В пансион они всегда ездили на своих лошадях и точно так же и возвращались. Родители наши были отнюдь не скупы, скорее, даже тароваты; но, вероятно, по тогдашним понятиям считалось тоже за неприличное, чтобы молодые люди имели свои хотя бы маленькие карманные деньги. Я не помню такого случая, и, вероятно, они ознакомились с деньгами только тогда, когда отец оставил их в Петербурге.
Я упоминал выше, что отец не любил делать нравоучений и наставлений; но у него была одна, как мне кажется теперь, слабая сторона. Он очень часто повторял, что он человек бедный, что дети его, в особенности мальчики, должны готовиться пробивать себе сами дорогу, что со смертью его они останутся нищими и т. п. Все это рисовало мрачную картину. Я припоминаю еще и другие слова отца, которые служили не нравоучением, а скорее остановкою и предостережением. Я уже говорил неоднократно, что брат Федор был слишком горяч, энергично отстаивал свои убеждения и вообще был довольно резок на слова. При таких проявлениях со стороны брата папенька неоднократно говаривал: «Эй, Федя, уймись, не сдобровать тебе… быть тебе под красной шапкой!». Я привожу слова эти, вовсе не ставя их за пророческие, — пророчество есть следствие предвидения; отец же никогда предположить не хотел и не мог, чтобы дети его учинили что-нибудь худое, так как он был в детях своих уверен. Привел же я слова эти в удостоверение пылкости братнина характера во время его юности.
Зима 1834–1835 годов прошла для меня в тех же раз установленных занятиях, о которых говорилось выше, т. е. братья и сестра задавали мне уроки на целую неделю, а в субботу делали экзамен. Один выдающийся случай, которому я был свидетелем, сделал на меня сильное впечатление, и я никогда не забывал его и теперь помню очень хорошо, с лишком через 60 лет! Дело было так.
Раз вечером, в зале, родители ходили вместе и о чем-то серьезно разговаривали. Маменька что-то сообщила отцу, и он сделался, видимо, очень удивлен и опечален. Потом маменька разразилась сильным истерическим плачем, и папеньке едва-едва удалось ее успокоить. Эта картина при вечерней обстановке, в полумрачной зале, оставила сильное во мне впечатление. И я недоумевал, почему после спокойных разговоров родителей произошла беспричинно такая сцена.
Потом, со временем, когда я сделался взрослым и вспоминал эту сцену, то, сопоставив последующие обстоятельства, разгадал причину этой сцены. Дело, вероятно, было так: родители разговаривали и делали предположения на будущее лето о поездке в деревню, причем, вероятно, маменька заметила, что нельзя наверно рассчитывать, а сообщила папеньке, что она подозревает, что ее постигла вновь беременность. Услышав это, папенька, вероятно, неосторожно высказал свое неудовольствие, что и вызвало со стороны маменьки истерический плач. Эта моя разгадка подтверждается тем фактом, что, действительно, в лето 1835 года родилась моя сестра Саша.
Весною, после Пасхи, поездка маменьки в деревню состоялась, как и в прежние годы, но только при другой уже обстановке. Папенька не решился отпустить ее одну и притом в бричке. Поездка состоялась в двух экипажах, то есть в рессорной городской двуместной коляске, запряженной парою городских наших лошадей, управляемой кучером Давидом; ехали родители без всякой клади. Второй экипаж наш — троечная бричка, запряженная тройкой наших пегих даровских лошадей и управляемая Семеном Широким, везла меня с нашею прислугою и всею кладью и чемоданами. Старшие братья и сестра оставались в пансионе, а сестра Верочка и брат Николя на попечении няни Алены Фроловны оставались в Москве. Поездка совершилась благополучно, и папенька, пожив в деревне дня два-три, уехал обратно в Москву, а мы остались в деревне, то есть маменька и я. Младших сестру и брата, как видно, не брали в деревню потому, что помещение в деревне было очень маленькое, а ввиду ожидаемого прибавления семейства всякое свободное помещение делалось еще более необходимо.
Лето проведено благополучно. В начале июля папенька опять приехал в деревню вместе со старшими братьями, которые освободились из пансиона Чермака на начавшиеся каникулы. Сестра Варенька на каникулы осталась у тетеньки Александры Федоровны Куманиной. А вслед за папенькою приехала и новая гостья в деревню, а именно акушерка. На этот раз была не старая, бывавшая всегда у маменьки акушерка, но молоденькая девушка, только что вышедшая из повивального института и рекомендованная отцу как настоящая ученая акушерка. Помню, что прогулки маменьки в последние дни были затруднительны, и ее постоянно водили под руки папенька с одним из старших братьев. Помню, как в конце июля (25-го) всех нас не допускали целый день во вновь отстроенный флигелек, и мы все находились в мазанковом домике. Наконец явился туда же папенька и сообщил нам, что Бог послал нам маленькую сестричку. В тот же день приказчик Григорий Васильев отправлен был в Москву с известием об этом радостном событии к тетушке Александре Федоровне, которая обещалась, по благоприятном исходе, сама приехать к нам в деревню навестить маменьку и вместе с тем и окрестить новорожденную.
И, действительно, не больше как через неделю ожидание наше исполнилось, и мы издали увидели, как спускался с пригорка в нашу деревню грузный экипаж с двумя дамами. Это были тетенька Александра Федоровна, с неизменной спутницей своей бабушкой Ольгой Яковлевной. Как случается часто, что иные детские воспоминания сохраняются долго и явственно, а другие вовсе исчезают бесследно из памяти, так случилось и с моими воспоминаниями по этому предмету. Приезд тетеньки и бабушки я очень хорошо и явственно помню, но время пребывания их в продолжение дней до пяти совершенно не оставило в моей памяти никаких воспоминаний. Помню только, что высокая дорожная коляска их стояла все время в липовой роще, так как в усадьбе нашей, после пожара, экипажных сараев устроено не было. И помню также, что я с большим удовольствием откидывал ступеньки высокой коляски, по нескольку раз в день влезал в нее и опять вылезал. Наконец, после крестин, тетенька с бабушкой уехали от нас, а вслед за ними уехала и акушерка. В начале августа уехали из деревни и папенька со старшими братьями, а вероятно, в половине сентября и маменька со мной и новорожденной сестрой переехала в Москву. Только обстоятельства этого переезда я теперь совершенно не помню.
С осени 1835 года со мной случилась важная перемена. Меня отдали в пансион, и притом не на полупансион, как сперва отдавали братьев, а прямо, оторвав от всего родного, поместили на полный пансион к Кистеру{38}. Это случилось внезапно. Вероятно, папенька был приглашен в пансион Кистера годовым врачом, и, не желая получать гонорара, он предложил свои услуги взамен того, чтобы я был принят в пансион полным пансионером, без всякого подготовления в научном отношении к приемному экзамену (которого, впрочем, и не было). Мне сшили два костюмчика, и в один из вторников маменька сама отвезла меня в пансион и, посидевши несколько у m-me Кистер, оставила меня там до субботы; впрочем, папенька почти ежедневно бывал (как врач) в пансионе, но вызывал меня для свидания редко, вероятно, не желая нарушать моих серьезных научных занятий…
Федор Иванович Кистер имел ученую степень доктора и был лектором немецкого и, кажется, даже и французского языка при московском университете. Он содержал пансион для мальчиков в Москве, и слава, или известность, его пансиона чуть ли не превосходила известности пансиона Чермака. И в самом деле, наружная его обстановка была виднее, показистее обстановки чермаковской. Пансион Кистера помещался в центре города, на Большой Дмитровке, в доме, который, кажется, принадлежит благородному собранию. Но главная суть состояла в том, что д-р Федор Иванович Кистер смотрел на свой пансион как на что-то придаточное, а не главное. Еще старшие классы, из которых поступали в университет, обращали на себя его внимание. Что же касается до младших и низших классов, то те были решительно предоставлены на произвол судьбы без всякого надзора. Отсутствие всякой заботы об низших классах, с одной стороны, а с другой стороны, страшная скупость и расчетливость — были причиною тому что в младших классах никогда не было своих гувернеров или надзирателей. Двадцать пять или тридцать мальчиков загонялись в класс и там оставались без присмотра, гувернеры же уходили для показа в старшие классы. В младший (мой) класс редко ходили и учителя, только посещал священник для преподавания закона Божия и сам Ф. Ив. Кистер для преподавания французского и немецкого языков. Других же учителей, по другим предметам, я что-то не припоминаю. И вот, значит, 9–10-летние мальчики, собранные из различных семейств и из различных слоев общества, соединялись вместе и оставлялись на большую часть дня без всякого присмотра. Понятно, что из этого могло произойти. Нет тех гадостей, нет того гнусного порока, которому бы не были научены вновь поступившие из отчего дома невинные мальчики.
Еженедельно по субботам я являлся в родительский дом и имел истинное удовольствие, после недельного заточения во враждебном для меня пансионе, провести полтора дня в нашем святом семейном кругу…
Явится вопрос, почему же я не был так откровенен, как братья, и не поведал родителям про порядки, существовавшие в моем пансионе, имея пример в братьях, которые ничего не скрывали от родителей?.. На это отвечу: что, во-первых, как я ни был мал и неразумен, но все-таки я соображал, что порядки, практикуемые в низшем классе пансиона Кистера, суть нехорошие порядки. А мне так хотелось подражать братьям и, в свою очередь, выставлять свой пансион в отличном виде, — ведь хвастовство присуще детям и не может быть поставлено на ряду с пороком обмана. А, во-вторых, про те дебоши, которые совершались между запертыми без всякого присмотра мальчишками, мне даже стыдно и совестно было рассказывать не только родителям, но даже и старшим братьям.
Весь учебный 1835/1836 год я провел как в чаду. Имея столь впечатлительный для своих лет характер, я не вынес в своей памяти ни одного приятного впечатления; да и вообще все то, что было со мною в этот год, я решительно позабыл, все происшествия как будто заволоклись туманом, тогда как более ранние впечатления рисуются в моей памяти очень рельефно. Я не помню за весь год, чтобы на меня было обращено хоть какое-нибудь внимание, чтобы хоть один из учителей задал урок собственно мне или спросил меня выученное. Ежели я что-либо приобрел за этот год, то это во французском и немецком языках. Эти предметы, как я выше упомянул, преподавал сам Кистер и преподавал очень хорошо. Тогда только что вошла в употребление метода с картинками: на печатных раскрашенных картинах, наклеенных на картонные листы, изображались различные предметы, а равно животные и птицы, и к ним принадлежали печатные рассказы на французском, немецком и русском языках, различные признаки и свойства нарисованных на картинах предметов. Эти признаки и свойства разнообразились и дополнялись самим преподавателем, и мы прямо в классе, без всякого урока и приготовления, занимались практическими рассказами про различные предметы на французском и немецком языках и заучивали это наизусть. Вот это только и осталось у меня в памяти.
Но год скоро прошел, наступила весна. У Кистера в Сокольниках была своя большая дача, и он часто заставлял водить поочередно каждый класс на прогулку в Сокольники. Там, на даче, нам приготовляли ранний обед и чай, и избранный класс, погуляв в роще, пообедав и напившись чаю, возвращался в город. Помню, и я раза два-три участвовал в этих прогулках и вынес об них очень приятные впечатления.
Учебный год закончился в пансионе публичным актом. Экзаменов не было, по крайней мере в низшем классе, но на публичный акт задавалась на выучку какая-нибудь басня или стихотворение на русском, французском или немецком языках, и воспитанники вызывались поочередно и произносили заученное ими. В этом и состоял весь акт. Публики же, действительно, бывала масса, и публика преимущественно дамская, великосветская. На акте этом предлагали гостям чай, прохладительные напитки и мороженое. Конечно, я не был избранником, удостоившимся что-нибудь произнести на акте, но помню, что папенька на акте был. Не это ли было причиною неудовольствия папеньки, вследствие которого я следующий год не был уже в пансионе Кистера. Это ли или какое другое обстоятельство было причиною, но я взят был из пансиона Кистера окончательно и считал себя очень счастливым этим решением родителей.
После нашего акта скоро окончились экзамены и у старших братьев, и они были отпущены на каникулы. И мы все трое братьев в скором времени поехали вместе с папенькой в деревню. Эта поездка памятна для меня тем, что я первый раз ехал в деревню с папенькой и братьями, и мне казалось, что я еду не домой, а просто я гости к маменьке. Про пребывание свое в этом году в деревне я ничего не могу отметить особенного. Все воспоминания свои о деревне я сообщил уже выше и не могу подразделить, какие из них случились в какой год. Конечно, мы все уже подросли, и игры наши не могли быть столь детскими, как прежде. Помню, что мы пробыли в деревне, по обыкновению, до осени и осенью возвратились из деревни в Москву вместе с маменькой.
С возвращением нашим в Москву я поступил опять под ферулу братьев и сестры. Опять начались занятия недельные и отчеты в них по субботам. Но скажу откровенно, что занятия эти были для меня очень полезны, и я, право, под надзором братьев успевал гораздо более, нежели в пансионе Кистера.
С осени 36-го года в семействе нашем было очень печально. Маменька с начала осени начала сильно хворать. Отец, как доктор, конечно, сознавал ее болезнь, но, видимо, утешал себя надеждою на поддержание сил больной. Силы ее падали очень быстро, так что в скором времени она не могла расчесывать своих очень густых и длинных волос. Эта процедура начала ее сильно утомлять, а предоставить свою голову в чужие руки она считала неприличным, а потому и решила остричь свои волосы почти под гребенку. Вспоминаю об этом обстоятельстве потому, что оно сильно меня поразило. С начала нового 1837 г. состояние маменьки очень ухудшилось, она почти не вставала с постели, а с февраля месяца и совершенно слегла в постель.
В это время квартира наша сделалась как бы открытым домом: постоянно у нас бывали посетители. С 9 часов утра приходили доктора во главе с Александром Андреевичем Рихтером{39}. Из сочувствия к отцу, как своему товарищу, они, навещая маменьку, каждый день делали консилиум. Склянки с лекарствами и стаканы с различными извержениями загромождали все окна и ежедневно убирались, сменяясь новыми. С полудня приезжала тетенька Александра Федоровна (в эти разы, т. е. в сильную болезнь маменьки, она приезжала, впрочем, одна, без сопровождения бабушки) и оставалась до вечера, а иногда и на ночь. Часов около четырех съезжались родные и полуродные, ежели не для свидания с маменькой — к ней посторонние не допускались, — то для оказания сочувствия папеньке. Бывали Куманин Александр Алексеевич, Шер, Неофитов, Маслович Настасья Андреевна и многие другие. Вспоминаю, что посещения их не утешали, а только расстраивали папеньку, который должен был рассказывать каждому про течение болезни. Мне кажется, и сами визитеры очень хорошо это понимали, но все-таки ездили для исполнения приличий и принятых обычаев. — Вечером часов в 6 опять появлялись доктора для вечерних совещаний. Это было самое горькое время в детский период нашей жизни. И немудрено. Мы готовились ежеминутно потерять мать. Одним словом, в нашем семействе произошел полный переворот, заключенный кончиною маменьки. В конце февраля доктора заявили отцу, что их старания тщетны и что скоро произойдет печальный исход. Отец был убит окончательно. Помню ночь, предшествовавшую кончине маменьки, то есть с 26-го на 27-е февраля. Маменька перед смертною агонией пришла в совершенную память, потребовала икону Спасителя и сперва благословила всех нас, давая еле слышные благословения и наставления, а затем захотела благословить и отца. Картина была умилительная, и все мы рыдали. Вскоре после этого началась агония, и маменька впала в беспамятство, а в 7-м часу утра 27 февраля она скончалась на 37-м году своей жизни. Это было в субботу сырной недели. Все приготовления к похоронам, троекратные в день панихиды, шитье траура и проч. были очень прискорбны и утомительны, а в понедельник 1 марта, в первый день Великого поста, состоялись похороны.
Спустя несколько времени после смерти маменьки отец наш начал серьезно подумывать о поездке в Петербург (в котором ни разу еще не бывал), чтобы отвезти туда двух старших сыновей для помещения их в Инженерное училище.
Надо сказать, что еще гораздо ранее отец, через посредство главного доктора Мариинской больницы Александра Андреевича Рихтера, подавал докладную записку Виламову о принятии братьев в училище на казенный счет. Ответ Виламова, очень благоприятный{40}, был получен еще при жизни маменьки, и тогда же была решена поездка в Петербург. Осуществление этой поездки чуть-чуть было не замедлилось. Но прежде, нежели сообщу причину замедления, расскажу о том впечатлении, которое произвела на братьев смерть Пушкина.
Не знаю, вследствие каких причин, известие о смерти Пушкина дошло до нашего семейства уже после похорон маменьки. Вероятно, наше собственное горе и сидение всего семейства постоянно дома были причиною этому. Помню, что братья чуть с ума не сходили, услыхав об этой смерти и о всех подробностях ее. Брат Федор в разговорах с старшим братом несколько раз повторял, что, ежели бы у нас не было семейного траура, он просил бы позволения отца носить траур по Пушкину. Конечно, до нас не дошло еще тогда стихотворение Лермонтова на смерть Пушкина, но братья где-то достали другое стихотворение неизвестного мне автора. Они так часто произносили его, что я помню и теперь его наизусть. Вот оно:
Нет поэта, рок свершился, Опустел родной Парнас! Пушкин умер, Пушкин скрылся И навек покинул нас. Север, север, где твой гений? Где певец твоих чудес? Где виновник наслаждений? Где наш Пушкин? — Он исчез! Да, исчез он, дух могучий. И земле он изменил! Он вознесся выше тучей, Он взлетел туда, где жил!Причина, которая чуть не замедлила поездку отца в Петербург, была болезнь брата Федора. У него, без всякого видимого повода, открылась горловая болезнь, и он потерял голос, так что с большим напряжением говорил шепотом, и его трудно было расслышать. Болезнь была так упорна, что не поддавалась никакому лечению. Испытав все средства и не видя пользы, отец, сам строгий аллопат, решился испытать, по совету других, гомеопатию. И вот брат Федор был почти отделен от семейной жизни и даже обедал за отдельным столом, чтобы не обонять запаха от кушания, подаваемого нам, здоровым. Впрочем, и гомеопатия не приносила видимой пользы: то делалось лучше, то опять хуже. Наконец посторонние доктора посоветовали отцу пуститься в путь, не дожидаясь полного выздоровления брата, предполагая, что путешествие в хорошее время года должно помочь больному. Так и случилось. Но только мне кажется, что у брата Федора Михайловича остались на всю жизнь следы этой болезни. Кто помнит его голос и манеру говорить, тот согласится, что голос его был не совсем естественный — более грудной, нежели бы следовало.
К этому же времени относится и путешествие братьев к Троице. Тетенька Александра Федоровна, по обычаю, ежегодно весною ездила на богомолье в Троицкую лавру, и на этот год упросила папеньку отпустить с нею и двух старших сыновей для поклонения святыне перед отъездом их из отчего дома в Петербург. Впоследствии я часто слышал от тетеньки, что оба брата во время путешествия услаждали тетеньку постоянною декламациею стихотворений, которых они массу знали наизусть.
Папенька после смерти маменьки решился совсем переселиться в деревню (он подал уже в отставку), а потому до поездки в Петербург желал поставить памятник на могиле покойной. Избрание надписи на памятнике отец предоставил братьям. Они оба решили, чтобы обозначены было только имя, фамилия, день рождения и смерти, на заднюю же сторону памятника выбрали надпись из Карамзина: «Покойся, милый прах, до радостного утра»… И эта прекрасная надпись была исполнена{41}.
Наконец наступил день отъезда. Отец Иоанн Баршев отслужил напутственный молебен, и путешественники, усевшись в кибитку, двинулись в путь (ехали на сдаточных), о котором хотя и мельком, но так поэтично упомянул брат Федор Михайлович 40 лет спустя в одном из нумеров «Дневника Писателя». Я простился с братьями и не видался с ними вплоть до осени 1841 г.
По отъезде папеньки мы остались одни, под присмотром няни Алены Фроловны; но, впрочем, существовал и высший надзор. Главою семьи осталась сестра Варенька; ей в это время шел уже 15-й год, и она все время отсутствия папеньки занималась письменными переводами с немецкого языка на русский, как теперь помню, драматических произведений Коцебу{42}, которыми ее снабжал Федор Антонович Маркус. Сей последний ежедневно заходил в нашу квартиру, чтобы узнать, все ли благополучно, и чтобы посмотреть всех нас, детей. Он же, кажется, ежедневно выдавал деньги на провизию для нашего стола и вообще был хозяином квартиры. Я позабыл сказать, что все хлопоты по похоронам маменьки он тоже принял на себя и исполнил этот долг как истинно добрый человек. Кроме посещений его, очень часто навещала нас и тетенька Александра Федоровна вместе с бабушкой Ольгой Яковлевной. Тетушка при виде нас, и в особенности при виде Верочки, Николи и Сашеньки, всегда, бывало, горько расплачется. Прощаясь с нами, она, бывало всех нас, отдельно каждого, перекрестит, чего прежде, при жизни маменьки, не случалось; этим она хотела, видимо, заявить, что в отношении к нам принимает на себя все обязанности матери.
Отец пробыл в отсутствии с лишком полтора месяца и вернулся в Москву уже в июле месяце{43}.
Помню я восторженные рассказы папеньки про Петербург и пребывание в нем: про путешествие, про петербургские деревянные (торцовые) мостовые, про поездку в Царское Село по железной дороге, про воздвигающийся храм Исаакия и про многие другие впечатления.
С возвращением в Москву папенька не покинул своего намерения оставить службу и переселиться окончательно в деревню для ведения хозяйства{44}. Но покамест вышла отставка и пенсион, покамест он устраивал все дела, — наступил и август месяц. Для перевозки всего нашего скромного имущества приехали из деревни подводы. Сестра Варенька должна была ехать вместе с папенькой в деревню. Меня же решено было отдать в пансион Чермака, на место братьев. Не знаю, по какой причине, или тетенька Александра Федоровна считала для себя неудобным брать меня из пансиона Чермака по праздникам к себе, или сам папенька, не получая вызова со стороны Куманиных, не хотел их просить об этом, — только на счет меня было сделано распоряжение, чтобы троюродная тетка моя Настасья Андреевна Маслович брала меня по праздникам к себе. Мотивировано это было тем, что Масловичи будто бы ближе жили к пансиону, нежели Куманины. Две же мои младшие сестры, Верочка и Сашенька, равно как и брат Коля, конечно, тоже должны были переселиться вместе с отцом и неизменною нянею Аленою Фроловною в деревню.
Но вот настал и день разлуки. Папенька в одно утро отвез меня к Леонтию Ивановичу Чермаку и сдал меня на полный пансион.
Этим фактом кончается первый акт, или, как я принял называть в группировке своих воспоминаний, — первая квартира моей жизни. То есть кончилась жизнь моя в доме отчем, началась жизнь между чужими людьми, начались неизбежные жизненные заботы, которых прежде я не знал и не испытывал. Но прежде, нежели закончу этот период своей жизни, мне хочется более рельефно вырисовать личности моих родителей и их взаимные друг к другу отношения, равно как и отношения их к нам, своим детям. Этого я думаю достигнуть следующим образом. У меня каким-то образом сохранились четыре письма из переписки родителей во время их разлуки в летнее время, когда отец жил в Москве, а мать хозяйничала в деревне{45}. Письма эти, мне кажется, вполне вырисуют как их, так и их взаимные отношения, а потому я и решился их с полною точностью поместить здесь, в своих воспоминаниях. Тем более мне хочется это сделать, что в настоящее время некоторые из этих писем начали истлевать.
Вот эти письма{46}.
Письмо отца к матери из Москвы в с. Даровое
9-го июля [1833] года
Любезнейший друг мой Машенька!
Во-первых, я уведомляю тебя, милый друг мой, что мы все слава Создателю здоровы. Коленька[5] наш, слава Богу, поправляется, но очень худ и бледен. Вареньку я отвез на Покровку[6]. Новостей у нас никаких не имеется, выключая, великий князь Михаиле Павлович и великая княгиня Елена Павловна у нас в Москве. Дела мои по приезде[7] очень тихи. До сих пор ни одного больного. Что делать, скучно на старость лет при недостатке; но Бог для меня всегда был милостив, потерпим. Более всего меня угнетает дождливая погода. Здесь, в Москве, льют беспрестанные дожди; ежели и у вас такие же, то беда да и только. Ваза пропадает. Сено у тебя в Даровой хотя и скошено, но, наверное, говорю, что сгниет, а все оттого, что меня не послушались и не сложили в ригу. По приезде нашел, что нанятая моя услуга расстроилась, прачка без меня, взявши у няньки денег, пропадала целую неделю, а кухарка на другой же день сказалась больною — все время лежит и просит, чтобы ее отпустить; беда мне да и только! Старуха [8] дуется, собирается к своим, и, как я подозреваю, она-то и причиною вымышленной болезни кухарки. — Письма твоего ожидаю с нетерпением. Жаль, друг мой, что я у тебя погостил не так, как мне хотелось, все помехи, и я не только не повеселился с тобою, но даже не обласкал твоих певиц[9], кланяйся им от меня и поблагодари их. Поверишь ли, что бытность моя у тебя представляется мне как бы во сне; в Москве же встретили меня хлопоты и огорчения; сижу пригорюнившись да тоскую, головы негде приклонить, не говорю уже — горе разделить; все чужие и все равнодушно смотрят на меня; но Бог будет судить их за мои огорчения. Еще тебе скажу, что ямщик, который взялся доставить меня в Москву, при ряде отдал мне свой паспорт, но в Коломне при сдаче в суетах он, а равно и я об нем позабыли, и таким образом билет остался у меня; то ежели, как я и полагаю, он станет спрашивать, то скажи ему, что на следующей почте я пришлю его в страховом письме. Илья Киселев его знает, только подтверди, чтобы ему лично отдали, а без него никому бы и не отдавали; а всего лучше, ежели ты его возьмешь к себе, и, когда явится, сама ему вручи, только призови Илью и спроси, точно ли это тот самый ямщик. — Еще новость: в сегодняшних газетах напечатан манифест о ревизии, то ежели объявят тебе из Нижнего Земского Суда об этом, то, смотри, будь осторожна. Перепиши все семьи и поверь несколько раз, чтобы кого-нибудь не пропустить, равным образом и дворовых, в числе коих надобно переписать и наших московских, как-то: Давида, Федосия (Федора), Семена и Анну, также не пропусти старика дворового, который проживает у матери Хотяинцева. Сию перепись сперва сделай для себя, а подавать не торопись, ибо срок назначен до мая 1834 года, а до тех пор, может быть, кто-нибудь родится или умрет из числа стариков. Затем только посмотри поприлежнее, друг мой, чтобы перепись была самая верная, чтобы кого не пропустить или прибавить, потому что за это определен большой денежный штраф. — Для сведения твоего я постараюсь прислать экземпляр книги, как в таком случае руководствоваться. Насчет нашего дела с Хотяинцевым, поступай так, как между нами было условлено, а лучше ежели ты будешь сообразоваться с обстоятельствами и в нужде советоваться с опытными в сем деле людьми, для чего советую тебе посылать почаще в Каширу и проси совета у Дружинина …кова[10], которого ежели мои обстоятельства улучшатся, надобно также поблагодарить. Насчет же его мнимой седьмой части, будь покойна, ибо мать его не предъявила при вводе во владение, а во-вторых, пропустила срок и не просила; о сем напишу тебе пространнее в следующем письме, сие я имею от Набокова, который сказал мне, что Небольсина разделилась с Конновой и получила все земли во владение на законном основании, хотя и с приплатою сверх 38 тыс. рублей. Старушка Небольсина, не знаю где и каким образом, тебя знает, очень превозносит твое хозяйство и очень желает быть с тобою знакомою и просила Набокова, чтобы он ее с нами познакомил; то не худо, ежели ты с ними ознакомишься, ибо они могут нам быть полезны насчет дележа, которого они усердно желают. Вот тебе, милый друг мой, письмо о всякой всячине, о приятном и неприятном, но не сетуй на меня, горе одолевает, но Бог милостив, все поправится. Ты же сама меня просила, чтобы от тебя ничего не скрывать. Прощай, друг мой сердечный, будь здорова и, сколько можно, счастлива. Береги себя для моего спокойствия и счастия. Целую тебя до засосу. Детей наших за меня поцелуй, скажи от меня старшим, чтобы учились и не огорчали тебя; посылаю вам всем, милые моему сердцу, любовь мою и благословение. Кажется, что Черемошню нам надобно заложить в частные руки, известно тебе, по каким причинам. Прощайте, друзья мои, и не забывайте любящего вас всею душою и всем существом своим Михайлу Достоевского.
Извести меня, нет ли каких-либо слухов насчет исков Хотяинцева, также и насчет Черемошни, постарайся узнать обстоятельно в Кашире.
На всякий случай, ежели ты узнаешь что-нибудь неприятное для нас насчет Черемошни, то советую прислать ко мне как можно поскорее нарочного.
Вот и еще письмо от 6-го августа, год не обозначен, но, вероятно, того же 1833 года, потому что ведется речь о тех же материях{47}.
Августа 6-го дня [1833].
Здравствуй, любезнейшая моя, ангел мой!
Рад, бесценный друг мой, что ты и дети, хвала Всевышнему, здоровы. Молю его всещедрого, что он всеблагий хранит вас, мои милые! Дай Бог, чтобы вы и впредь были здоровы и благополучны. О себе уведомляю тебя, что я и дети также по благости Божией здоровы, и отчасти покоен.
Сестра А. Ф. тебя благодарит за письмо. Они все здоровы. Настасье Андреевне дал бог внучку от Аннушки. Котельницкие тебе также кланяются. У нас опять со вчерашнего дня пошли дожди и до сих пор льют. Боюсь, друг мой, что он тебе помешает как в уборке овса, так и в посеве, но пусть будет все по воле Божией, возложим все наше упование на него! В субботу утром я по обыкновению моему поспешил, во-первых, на почту, приезжаю, смотрю в реестр, нахожу 40 №, получаю письмо, сажусь в коляску, и, не прочитавши всего на конверте, разламываю его, и, во-первых, попадается на глаза «Любезная сестрица»… и проч…. Вот я стал в тупик и начал тебя прославлять и величать сиречь тако: «Ах она некоштная» — и так дале, и как нечего было делать, то повез письмо на Покровку, отдал письмо с извинением, что по ошибке распечатал их письмо. Сижу пригорюнившись. Вдруг пришла мне мысль в голову, что, может быть, есть ко мне письмо особое. Вот я встаю, прощаюсь и скачу на почту и наконец получаю твое письмо. Тут душа опять вскочила в свою перегородку, и я, разломавши конверт, начал алчными пробегать глазами. Жаль мне дочки[11], она бедная душою тоскует; постарайся, друг мой, приготовить питьеца поснадобнее и подушистее, авось либо поможет. Детей не торопись присылать, лучше устрой все надлежащим образом и тогда с Богом! Обо мне, друг мой, не беспокойся, я ожидал более, то и мене подожду. Я же полагаю, что этот мошенник[12] их без денег вперед не возьмет. На счет моей услуги не беспокойся, кухарка и прачка, кажется, обе порядочные, то есть, лучше сказать, смирные. Ежели Анна обещается вести себя получше, то мы ей, подтвердивши то же, можем прислать. Она же в деревне почти не нужна. Пишешь ты, что посылала в Каширу и получила все тот же ответ; между прочим, ничего не упоминаешь о 7-й части, или ты, друг мой, до объявления тебе Указа из Нижнего Земского Суда решилась не напоминать Д.[13] об сем деле, или что он забыл тебя об этом уведомить, напиши мне, друг мой. Пишешь ты, что соседка наша Небольсина вышла за князя Оболенского и что они свадьбу пировали у X.[14] теперь у него живут, следовательно, предполагаемое с ними знакомство не обещает ничего для нас хорошего; я говорю насчет дележа, но пусть будет все так, как Богу угодно, будем ожидать. В прошедшем письме я писал тебе коротко о 30 числе, по причине неприятностей, тебе известных, теперь же скажу тебе больше. Я таки, как быть водится, порядком начал трестировать нашего Геркулеса-доброхода. Во-первых, с тем намерением, чтобы ее поистощить, приказал ей пустить кровь с обеих рук, после через день начал ей давать кладь из глауберовой соли, сабура, скамониума, серы горючей, постного масла пополам с вином, разумеется, простым, начал ее выдерживать голодною диетою, назначив в день по 3 фунта мякиша хлеба, по порядочной миске картофельной похлебки, с крепким говяжьим наваром, порядочную чашку каши с молоком и наконец 50 блинцов или же тарелку макаронов, крепко поджаренных с маслом и с довольным количеством медку; ты, думаю, помнишь, что она до этого блюда охотница[15], и чтобы больше возбудить аппетит, то я посылал ее каждый день к Сухаревой башне за покупкою провианта, Марье же Ивановне[16] вина не давал и ставил перед нею штоф вина с намерением больше возбудить жажду к питию оного, и таким образом все было готово, а я в назначенный день, в сопровождении моих актрис, выступил с важностью, где уже зрителей было большое стечение; но для состязания было только двое, а именно старуха, подобная той, которую, помнишь, мальчишки дразнили жандармом, и один пьяный приказный с опухшею рожею. Слышал я, что было и более, но те, посмотрев на заготовленную провизию, стиснув плечами, удалились. Те же, кои остались двое, то больше для вина, и я начал было уже торжествовать, но вдруг, к несчастию, нашли тучи, грянул гром, и все рушилось. Так-то, друг мой, все наши замыслы обращаются ни во что. Старухи все приготовленное одним вечером порешили, и я ни больше ни меньше остался с пустым кошельком. За вареньице и за наливочку благодарю тебя, несравненная моя, медок с чайком кушай, друг мой, и поблагодари за меня старосту. — Прощай, душа моя, голубица моя, радость моя, жизненочек мой, целую тебя до упаду. Детей за меня поцелуй. Кажется, писать нечего, исполни только то, что в прошедших письмах было писано. Прощай, единственный друг мой, и помни навсегда, что я всегда есмь твой до гроба М. Достоевский.
Дождь у нас от субботы и до сих пор, т. е. до понедельника льет, беда да и только. Ежели и у вас то же, то горе нам. Прощай, прекрасная моя.
Сверх этих двух писем в собрании моих писем имеется еще письмо папеньки к брату Федору в Петербург. Не знаю, как письмо это попало ко мне, но оно тоже представляет для меня большой интерес, а потому я и это письмо целиком помещаю здесь. Замечательно только то, что письмо это писано из деревни 27 мая 1839 года, то есть за несколько дней до смерти его. Вот это письмо{48}.
27 мая 1839, с. Даровое.
Любезный друг Феденька!
Два письма в одном конверте я получил от тебя в прошедшую почту; а теперь, не теряя времени, спешу тебе отвечать. Пишешь ты, что терпишь и в лагерях будешь терпеть нужду в самых необходимейших вещах, как-то: в чае, сапогах и т. п., и даже изъявляешь на ближних твоих неудовольствие, в коем разряде, без сомнения, и я состою, в том, что они тебя забывают. Как ты несправедлив ко мне в сем отношении! Ты писал, что состоишь должным 50 р. и просил, чтобы прислать тебе для расплаты, а также и для себя хотя 10 р., вот твои слова. Я выслал тебе семьдесят пять рублей на имя Шидловского, что составляет с лажем 94 р. 50 к., я полагал, что сего на первый случай будет достаточно, ибо знаю, что и в Петербурге рубль ассигнации ходит выше своего значения. Теперь ты, выложивши математически свои надобности, требуешь еще 40 руб. Друг мой, роптать на отца за то, что он тебе прислал, сколько позволяли средства, предосудительно и даже грешно. Вспомни, что я писал третьего года к вам обоим, что урожай хлеба дурной, прошлого года писал тоже, что озимого хлеба совсем ничего не уродилось; теперь пишу тебе, что за нынешним летом последует решительное и конечное расстройство нашего состояния. Представь себе зиму, продолжавшуюся почти 8 месяцев, представь, что по дурным нашим полям мы и в хорошие годы всегда покупали не только сено, но и солому, то кольми паче теперь для спасения скота я должен был на сено и солому употребить от 500 до 600 руб. Снег лежал до мая месяца, следовательно, кормить скот чем-нибудь надобно было. Крыши все обнажены для корму. Но это ничто в сравнении с настоящим бедствием. С начала весны и до сих пор ни одной капли дождя, ни одной росы! Жара, ветры ужасные все погубили.
Озимые поля черны, как будто и не были сеяны; много нив перепахано и засеяно овсом, но это, по-видимому, не поможет, ибо от сильной засухи, хотя уже конец мая, но всходов еще не видно. Это угрожает не только разорением, но и совершенным голодом! После этого станешь ли роптать на отца за то, что тебе посылает мало. Я терплю ужаснейшую нужду в платье, ибо уже 4 года я себе решительно не сделал ни одного, старое же пришло в ветхость, не имею никогда собственно для себя ни одной копейки, но я подожду. Теперь посылаю тебе тридцать пять рублей ассигнациями, что по московскому курсу составляет 43 р. 75 к., расходуй их расчетливо, ибо повторяю, что я не скоро буду в состоянии тебе послать. Я, Николя и Саша, слава Богу, здоровы. От Вареньки получил недавно письмо, она пишет, что все здоровы. Брата за письмо не вини, я его в нескольких письмах разбранил, что он, ведя переписку с Шидловским, об тебе писал глухо, что ты здоров и не имеешь никаких неприятностей, не имея сам о тебе ни малейшего сведения; но я на него и сам сердит, что он употребляет время на пустое, на стихокорпание. Твой совет я ему передам. Андрюша, кажется, учится хорошо, но от него давно не получаю ни строчки. Вижу, друг мой, что вас солдаты служители совершенно грабят; посоветуйся с кем-нибудь, нельзя ли в лагерях устроить твои дела повыгоднее. Прощай, мой милый друг, да благословит тебя Господь Бог, чего желает тебе нежно любящий отец М. Достоевский.
P. S. Не скучает ли И. Николаевич нашими комиссиями[17].
А вот и два письма маменьки{49}. Оба они писаны в мае месяце 1835 года, то есть тогда, когда маменька была беременна сестрою Сашею.
1835 г. Мая 3-го дня
Здравствуй, бесценное сокровище мое, сердечный друг мой, здравствуй!
Милое письмецо твое я получила, за которое душевно тебя благодарю и посылаю бесчисленное множество поцелуев. Сердечно радуюсь и благодарю Бога, что вы, драгоценные мои, все здоровы и благополучны, а об нас не думай. Мы все, слава Создателю, здоровы, бока мои зажили, а кашля и следов не осталось. Напрасно ты себя беспокоишь такими мыслями; то правда, что в разлуке с милыми всего придумаешь, я это знаю по себе. Новостей у нас никаких нет, кроме того, что посев овса, благодаря Богу, вчера окончили; и сегодня и завтра крестьяне по одному брату на себя, а по другому кое-какие мелочные поделочки исправляют; а на будущей неделе примемся за что-нибудь посерьезнее, да надобно же и лошадям дать вздохнуть, ибо подножный корм еще плох, а в доме у них нет ни сенца, ни соломки. Но теперь есть надежда, что пойдет и травка; вчера и нынче у нас дождички прибесподобные и довольно-таки наделали грязи, и потеплело, только все ветрено. Я крайне трусила, что ржи наши опять засохнут, но теперь так все зазеленилось, что мило посмотреть. Подводу выслать не тороплюсь по тем же причинам, разве в конце будущей недели вышлю. Сегодня вздумалось мне пройтиться по грязи пешком в Черемошню, и что же, на дороге два раза мочил меня дождь, и там не удалось и на поля посмотреть, только и видела, что птиц, телят, да дошаталась по саду, да с тем и домой пришла. Еще та новость, что Левон и староста просят у тебя невесту, хорошеньку Ульяну. Я Михайлу[18] спрашивала одного и не добилась толку: за которого угодно вашей милости, да и только; клянется, что для него оба жениха хороши, а сам он никак не может решительно сказать, а за кого мы благословим. Я, друг мой, не могу сама собою сего устроить, а оставляю до твоего приезда, чтобы при тебе и свадьбу сыграть.
Черемошенским беднягам я поделила овса, остального после посева в Черемошне: Исаю дала три четверти, Андрею — три, Михайле — на новое тягло 2 ½ Матвею — одну четверть, всего 9 четвертей с половиною; что делать, не оставить же…[19] Даровские же покуда еще не являлись за овсом. Душевно рада я, что вы все, мои голубчики, воскресенье провели денек у родных, и от души благодарю их, что дали вам удовольствие быть всем вместе, я думаю, Варенька была вам очень рада, да к тому же и от меня весточка пришла кстати, как будто и я, мои милые, была с вами. А мне этот день очень было скучно, я все продумала об вас и, разумеется, не придумала ничего хорошего для своего утешения. Прощай, дружочек мой, не взыщи, что в письме моем нет ни складу, ни ладу, пишу все, что на ум попало. Дети целуют твои ручки и радуются, что обещаешь скоро к нам приехать. 45-пудовая гиря[20] свидетельствует тебе свое почтение и благодарит за память твою об ней, детям поручает сказать то же, прибавляя, что она исчезает. У ней кашель, и она думает, что это чахотка. Прощай, сокровище мое, поцелуй за меня детей, не скучай, мой милый, и будь здоров и спокоен, а я пребуду до гроба верная, без границ любящая тебя подруга твоя М. Достоевская.
Милые дети, благодарю вас за ваши письма; верьте, что всякая строчка ваша в разлуке моей с вами утешает меня несказанно. Целую вас, прощайте.
Скажи мой поклон Василисе[21], ежели она того стоит.
Не пригласить ли тебе, друг мой, Евлампию Н. к тебе погостить, тебе от скуки хоть было бы с кем слово сказать.
Вот второе письмо:
Мая 31-го дня 1835 года.
От всей души радуюсь, единственный милый друг мой, что Творец небесный хранит вас здоровыми. О себе скажу так же, что и мы все здоровы, в деревнях твоих все благополучно, нового и у нас ничего нет, а все старое.
До сих пор, милый друг мой, я утешала тебя, сколько могла, в душевной грусти твоей, а теперь не взыщи и на мне. Последнее письмо твое сразило меня совершенно; пишешь, что ты расстроен, растерзан душою так, что в жизни своей никогда не испытал такого терзания, а что так крушит тебя — ничего не пишешь. Неужели думаешь, что грусть твоя чужда моему сердцу, а ответы твои на письмо мое столь холодны и отрывисты, что я не знаю, отчего такая перемена. Насчет моих денег — не удивляйся и не сумневайся, мой друг, они суть остатки моей бережливости, а приобретать, и я скажу также, что не имею средств. Расходам своим я веду счет, и при свидании ты его от меня получишь и не будешь удивляться моему богатству; своих же я никогда не имела от тебя скрытных и даже одной копейки. В прошедшем письме твоем ты упрекнул меня изжогою, говоря, что в прежних беременностях я ее никогда не имела. Друг мой, соображая все сие, думаю, не терзают ли тебя те же гибельные для обоих нас и несправедливые подозрения в неверности моей к тебе, и ежели я не ошибаюсь, то клянусь тебе, друг мой, самим Богом, небом и землею, детьми моими и всем моим счастьем и жизнью моею, что никогда не была и не буду преступницею сердечной клятвы моей, данной тебе, другу милому, единственному моему пред святым алтарем в день нашего брака! Клянусь также, что и теперешняя моя беременность есть седьмой крепчайший узел взаимной любви нашей, со стороны моей — любви чистой, священной, непорочной и страстной, неизменяемой от самого брака нашего; довольно ли сей клятвы для тебя, которой я никогда еще не повторяла тебе, во-первых, потому, что стыдилась себя унизить клятвою в верности моей на шестнадцатом году нашего союза; во-вторых, что ты по предубеждению своему мало расположен был выслушать, а не только верить клятвам моим; теперь же клянусь тебе, щадя твое драгоценное спокойствие; к тому же и клятва моя, я полагаю, более имеет вероятности, судя по моему положению: ибо которая женщина в беременности своей дерзнет поклясться Богом, собираясь ежечасно предстать пред страшный и справедливый суд его! Итак, угодно ли тебе, дражайший мой, поверить клятве моей или нет, — но я пребуду навсегда в той сладкой надежде на провидение Божие, которое всегда было опорою моею и подкрепляло меня в горестном моем терпении! Рано или поздно Бог по милосердию своему услышит слезные мольбы мои и утешит меня в скорби моей, озарив тебя святою своею истиной, и откроет тебе всю непорочность души моей! Прощай, друг мой, не могу писать более и не соберу мыслей в голове моей; прости меня, друг мой, что не скрыла от тебя терзания души моей; не грусти, друг мой, побереги себя для любви моей; что касается до меня, — повелевай мною. Не только спокойствием, и жизнию моею жертвую для тебя. Прощай, поцелуй за меня детей. М. Достоевская.
Ради самого Создателя прошу тебя, друг мой, не крушись: уж не болен ли ты, голубчик мой? не предчувствие ли меня терзает? Боже мой, заступница милосердная, царица небесная, сохрани и помилуй тебя, милого моего друга. Ах, когда бы дождаться воскресенья, не получу ли я какой отрады от тебя, души моей! Обо мне не беспокойся, я совершенно здорова, только грустно, мочи нет, грустно!..
А вот еще приписка, написанная на отдельном листочке и приложенная к последующему письму (которого у меня нет), писанному, вероятно, вслед за приведенным выше, в начале июня 1835 года:
Прости меня, дражайший, милый друг мой, что я моею грустию наделала тебе столько горя, но посуди и обо мне, голубчик мой, каково и мне было?.. Ты знаешь, что для меня всегда было невыносимо горько видеть тебя в сей лютой и несправедливой горести, кольми же паче теперь, в разлуке, представлять тебя в своем воображении грустным, расстроенным даже до отчаяния, и отчего же?.. от ложного понятия, которое, Бог знает отчего, тебе приходит в голову. Не жалуйся, друг мой, чтоб я горячо приняла сие вдруг, судя односторонне, нет, друг мой, я, может быть, раз с 50 перечитала твое письмо, думала и передумывала, что бы такая за отчаянная грусть терзала тебя, которой ты в жизни своей не имел; наконец мелькнула сия гибельная догадка, как стрелой пронзила и легла на сердце. Горестное предчувствие утвердило меня в сей догадке, и, поверишь ли, друг мой, я света Божьего не взвидела; нигде не могла найти себе ни места, ни отрады. Три дня я ходила как помешанная. Ах, друг мой, ты не поверишь, как это мучительно! Еще ты пеняешь мне, что я неосторожно все доверила бумаге, что лежало на сердце. Но каково же бы было для меня оставить все на безотрадном моем сердце? Ты еще не испытал сего и потому так судишь. Я не сомневаюсь в любви твоей и чту твои чувствования, боготворю ангельские твои правила, — но сама, хотя и люблю еще более, люблю без всяких сомнений, с чистою, святою доверенностью… и любви моей не видят, не понимают чувств моих, смотрят на меня с низким под…, тогда как я дышу моею любовью. — Между тем, время и годы проходят, морщины и желчь разливаются по лицу; веселость природного характера обращается в грустную меланхолию, и вот удел мой, вот награда непорочной, страстной любви моей; и ежели бы не подкрепляла меня чистая моя совесть и надежда на провидение, то конец судьбы моей самый бы был плачевный. Прости мне, что пишу резкую истину чувств моих. Не кляну, не ненавижу, а люблю, боготворю тебя и делю с тобою, другом моим единственным, все, что имею на сердце, прости, дражайший мой друг. Пишу на лоскутке особенно, чтобы кроме тебя никто не мог читать сего, только заклинаю тебя твоею же любовью, не огорчайся и не сокрушайся обо мне, я давно уже покорилась судьбе моей и обтерпелась. — Целую тебя без счету.
Приведя здесь эти письма моих родителей, я вполне убежден, что, кому случится прочесть письма отца, тот верно не назовет его человеком угрюмым, нервным, подозрительным, как наименовал его покойный О. Ф. Миллер в Биографии Ф. М. Достоевского (см. стр. 20 первого тома, первого издания сочинений Ф. М. Достоевского. Изд. 1883 г.) со слов и воспоминаний будто каких-то родственников. Нет, отец наш, ежели и имел какие недостатки, то не был угрюмым и подозрительным, то есть каким букой. Напротив, он в семействе был всегда радушным, а подчас и веселым. Кто же прочтет письма маменьки, тот, конечно, скажет, что эта личность была незаурядная. В начале 30-х годов владеть так пером и излагать свои мысли не только красноречиво, но подчас и поэтично — явление незаурядное. Этак писать и нынешней высокообразованной светской даме не стыдно, а матушка моя была личность, получившая домашнее образование в 20-х годах текущего столетия в одном из скромных патриархальных московских купеческих семейств.
В заключение не могу не упомянуть о том мнении, какое брат Федор Михайлович высказал мне о наших родителях. Это было не так давно, а именно в конце 70-х годов; я как-то, бывши в Петербурге, разговорился с ним о нашем давно прошедшем и упомянул об отце. Брат мгновенно воодушевился, схватил меня за руку повыше локтя (обыкновенная его привычка, когда он говорил по душе) и горячо высказал: «Да, знаешь ли, брат, ведь это были люди передовые… и в настоящую минуту они были бы передовыми!.. А уж такими семьянинами, такими отцами… нам с тобою не быть, брат!..»{50}
Этим я и закончу свои воспоминания о детстве своем в доме родительском, т. е. первую квартиру своей жизни.
КВАРТИРА ВТОРАЯ
В ПАНСИОНЕ ЧЕРМАКА
Пансион Леонтия Ивановича Чермака был одним из старинных частных учебных заведений в Москве, по крайней мере в то уже время он существовал более 20 лет. Помещался он на Новой Басманной, в доме бывшем княгини Касаткиной, возле Басманной полицейской части, напротив Московского сиротского дома. В заведение это принимались дети большею частью на полный пансион, т. е. находились там в течение целой недели, возвращаясь домой (ежели было куда) на время праздников.
Подбор хороших преподавателей и строгое наблюдение за исправным и своевременным приходом их, и в то же время — присутствие характера семейственности, напоминающего детям хотя отчасти их дом и домашнюю жизнь, — вот, по-моему, идеал закрытого воспитательного заведения. Пансион Л. И. Чермака был близок к этому идеалу. Говорю только близок, потому что совершенства нет ни в чем. Преподавателями в пансион избирались только лица, зарекомендованные казенными инспекторами; таковыми инспекторами в мое время были Ив. Ив. Давыдов, Дм. Матв. Перевощиков и Брашман — все известные профессора Московского университета. В высших же классах даже и преподаватели были профессора университета, напр., Дм. М. Перевощиков по математике и Ив. Ив. Давыдов по русской словесности и другие. Уроки начинались ежедневно в 8 часов утра в следующем порядке: 1) от 8 до 10 час.; 2) от 10 до 12 час. После этого урока следовал обед. Послеобеденные классы были: 3) от 2-х до 4-х, 4) от 4-х до 6 час. вечера. Далее следовали чай и время для приготовления уроков. В 9 час. был ужин, после которого все шли в спальню. Сам Леонтий Иванович, человек уже преклонных лет, был мало или совсем необразован, но имел тот такт, которого часто недостает и директорам казенных учебных заведений. В начале каждого урока он обходил все классы якобы для того, чтобы приветствовать преподавателей, если же заставал класс без преподавателя, то оставался в нем до приезда запоздавшего учителя, которого и встречал добрейшей улыбкой, одною рукою здороваясь с ним, а другою вынимая свою золотую луковицу, как бы для справки. При таких порядках трудно было и манкировать! Но, главное, наш старик был человек с душою. Он входил сам в мельчайшие подробности нужд вверенных ему детей, в особенности тех, у которых не было в Москве родителей или родственников и которые жили у него безвыходно. Я сам испытал это в учебный 1838/1839 год, потому что отец тогда жил в деревне, к Масловичам я перестал ходить, а тетя Куманина брала меня очень редко. Отличных по успехам учеников, т. е. каждого получившего четыре балла (пятичная система баллов тогда еще не существовала), он очень серьезно зазывал к себе в кабинет и там вручал ему маленькую конфетку. Случалось иногда, что подобные награды давались и ученикам старших классов, но никогда ни один из них не принимал этого с насмешкой, потому что всякий знал, что Л. И. — старик добрый и что над ним смеяться грешно! Ежели кто в пансионе заболевал, Чермак мгновенно посылал его к своей жене, говоря: «Иди к Августе Францевне…», но при этом впопыхах так произносил это имя, что выходило к Капусте Францевне, вследствие чего мы, школьники, и называли старушку Капустой Францевной, но все любили и уважали ее. Она сейчас уложит заболевшего и примет первые домашние меры, а затем пошлет за годовым доктором, которым в мое время был Василий Васильевич Трейтер. При этом не могу не сделать сопоставления между Чермаком и Кистером. Василий Васильевич Трейтер был годовым врачом у Чермака на тех же основаниях, как мой папенька был у Кистера, то есть Трейтер был годовым врачом в пансионе, а за гонорар в пансионе воспитывался его сын Александр. Чермак и вида не показывал, что он делает одолжение Трейтеру, напротив, оказывал особое внимание его сыну, как сыну хорошего своего знакомого. Что же касается Кистера, то он на меня не обращал никакого внимания, и как бы явно показывая, что я у него обучаюсь даром!.. А мальчики как хорошо и зорко могут это заметить и угадать!
Пища в пансионе была приличная. Сам Леонтий Иванович и его семейство (мужского пола) постоянно имели стол общий с учениками. По праздникам же, вследствие небольшого количества остававшихся пансионеров, и весь женский персонал его семейства обедал за общим пансионским столом.
Чермак содержал свой почти образцовый пансион более чем 25 лет, ученики из его пансиона были лучшими студентами в университете, и в заведении его получили начальное воспитание люди, сделавшиеся впоследствии видными общественными деятелями. Помимо двух Достоевских (Федора и Михаила Михайловичей) я могу указать на Губера, Геннади, Шумахера (впосл. сенатора), Каченовского (литератора, сына проф. В. Т. Каченовского) и Мильгаузена (бывшего потом профессором Московского университета){51}.
Я слышал впоследствии, что Л. И. Чермак в конце 40-х годов принужден был закрыть свой пансион и умер в большой бедности. Ежели рассматривать это обстоятельство с коммерческой точки зрения, то Чермака нельзя отнести ни к неосторожным, ни к несчастным банкротам. Можно сказать, что все могущие быть сбережения (а они могли быть значительны) Леонтий Иванович Чермак принес в дар московскому юношеству!
Итак, как выше упомянуто, я поступил в пансион Чермака в августе месяце 1837 года. Мне было уже 12 лет, но я поступил только в первый класс. Это было желание папеньки, чтобы я начал школу с самого начала. От этого я потерял один год, но оказался в выигрыше в том, что был в классе ежели не первым, то из лучших. Кстати, об этом первенстве. В пансионе Чермака ни в одном классе не существовало пересадок учеников по баллам, и не было ни первых, ни последних. Каждый занимал в классе место, какое хотел, но, раз занявши, оставался на этом месте по всем урокам в течение всего года. Списки же учеников в тетрадях для проставления баллов велись в алфавитном порядке. Конечно, в первое время пребывания в пансионе мне все казалось и дико и скучно! Мысль, что все близкое мне стало далеким, не раз мелькала в моем детском уме. Но и тут нашлось утешение. Некоторые воспитанники старших классов, бывшие товарищи братьев, не раз останавливали меня вопросами: «Ну что, Достоевский, как поживают твои братья, что тебе известно о них?..» Я отвечал, что знал, и вопросы эти очень утешали меня тем, что и здесь, в кругу всех чужих, имелись лица, которые знали и сочувствовали моим родным братьям.
Учителей в первом классе было немного. Во-первых, батюшка — священник, а затем учитель русского и латинского языков, а также арифметики. Новые языки преподавались гувернерами. Законоучителем был священник из Петропавловской (на Новой Басманной) церкви, Лебедев. Он в мое время был уже старичком. Для меня же он был замечателен тем, что он венчал моих родителей, и он же вместе с отцом Иоанном Баршевым и хоронил мою маменьку, следовательно, он был для меня как бы знакомым человеком. О нем, как о преподавателе, ничего оказать нельзя, это был учитель, задающий отселе и доселе. С третьего класса он уже не был моим учителем, да и вообще оставил пансион. На его место, по совету инспектора, взят был законоучитель 2-й московской гимназии (что на Разгуляе) священник Богданов из прихода Никола в Воробине; но о нем после. Учитель русского и латинского языков был один и тот же, это — Никанор Александрович Елагин. Для низших и средних классов это был учитель незаменимый! Не мудрствуя лукаво, он преподавал разумно и толково и заставлял учеников вполне понять то, что они заучивают. Грамматику этих двух языков он преподавал почти параллельно. Переводили же мы в первых двух низших классах Epitome historiae Sacrae{52} с латинского на русский язык; а когда несколько статей было переведено письменно, то мы в классе, при закрытом латинском тексте, силились переводить с русского на латинский. Конечно, сии последние упражнения были классные, в присутствии учителя. Как человек Елагин был большой оригинал. Во-первых, его хорошая сторона была та, что он никогда не манкировал и не опаздывал в класс. Это были ходячие часы. Когда он входил утром в переднюю, то было без 5 минут восемь, и ровно с последним звуком боя часов он входил в класс и садился на кафедру. У него был брат — часовой мастер, Никанор Александрович, бывая в пансионе каждодневно, взял на себя как бы обязанность проверять часы, стоящие в передней. С Чермаком он говорил почему-то всегда на немецком языке. Выйти из класса ранее хотя бы тремя минутами он не позволял себе. Часто после звонка о перемене Чермак отворял дверь класса и говорил: «Никанор Александрович, ес ист шон цейт». — «Нейн, Леонтий Иванович, нох цвей минутен, мейн ур ист рихтиг…» И никакие силы не могли выгнать его из класса. Еще особенность: он чрезвычайно не любил, когда в класс входили дамы; а это иногда случалось, потому что маменьки часто любопытствовали, где сидят их сынки. Не знаю, было ли это случайностью или это устраивалось нарочно, но только при появлении дам он всегда задавал вопрос о повелительном наклонении глагола scire (знать), и ежели ученик конфузился и отвечал тихо, то Елагин громогласно немного в нос и нараспев выкрикивал эти формы sci, scite, scitote, sciunto[22].
Учителем арифметики был старичок, некто Павловский. Он, собственно говоря, не был учителем арифметики, а скорее учителем счисления. Никаких арифметических правил он не объяснял, говоря, что это будет в высших классах, а, придя в класс, задавал каждому ученику цифровую задачу на первые четыре правила арифметики и обращал только внимание на то, чтобы задача была сделана скоро и правильно. В его классе, т. е. в продолжение 2-х часов, каждый ученик успевал сделать задачи по четыре, иной раз и по пяти больших, сдать их учителю для проверки и получить соответствующий балл. Но зато же ученики, как говорится, и насобачились в этом искусстве.
Теперь следует упомянуть о двух надзирателях. Собственно, надзирателей было до пяти человек, но эти двое постоянно бывали в 1-м классе и занимались в нем с учениками как учителя. Первый из них француз m-r Манго. Это был мужчина лет 45-ти, очень добродушный, а главное, ровный господин, никогда он, бывало, не вспылит, а всегда хладнокровный и обходчивый. Обязанность его, кроме надзирательства, была читать с нами по-французски; действительно читал он мастерски, так что и в высших классах часто занимался этим, но по части грамматики был плоховат и не брался за нее. Он был барабанщиком великой Наполеоновской армии; в 1812 году был взят в плен и с тех пор оставался в Москве. Так как он очень правильно говорил по-французски и отлично читал, то ему и было дозволено быть надзирателем или гувернером. У Чермака он был уже очень давно и считался исправным надзирателем.
Другой надзиратель был немец г. Ферман. Этот, в свою очередь, занимался с нами чтением по-немецки. Его брат был учителем гимназии по немецкому языку и учил также и у нас, начиная со 2-го класса.
Все воскресные и праздничные дни я в этот учебный год, то есть в 1837/1838 г., у Чермака не оставался. Выше еще упомянул я, что папенька сделал распоряжение, чтобы меня брали к тетке Настасье Андреевне Маслович; и вот каждую субботу и канун праздника являлся в пансион денщик Осип и уводил меня к тетке. Этот денщик Осип был денщиком почти в продолжение всей службы Масловича, а по выходе Масловича в отставку был уволен в отставку и Осип и поселился у своего прежнего барина за особую уже плату. Этого Осипа я помню с самых младенческих лет, когда он приходил как посланный за чем-нибудь от своих господ. Масловичи жили в Лефортовский части в Госпитальном переулке в доме купца Янкина. Они занимали очень маленькую, даже убогую квартирку. Во-первых, малюсенькая передняя, затем маленький зал, в котором на диване мне приготовляли ночлег, затем еще маленькая гостиная, где на двух диванах по ночам спали обе хозяйки, то есть тетенька Настасья Андреевна и ее дочь, и, наконец, комната дяди, где он постоянно лежал на кровати, и в этой же комнате помещались столовая и чайная, потому что Маслович в другую комнату выйти не мог; он и ел и пил лежа или полусидя. В заключение имелась небольшая кухонька, находившаяся в полном распоряжении денщика Осипа. Обитателями этой квартирки были, во 1-х, тетка Настасья Андреевна, о которой я уже неоднократно говорил. Это была женщина хитрая, и с тех пор, как я начал быть их временным обитателем, она сделалась ко мне не совсем приязненна. Дочка ее, Машенька, или Марья Григорьевна, была окончившая курс в Екатерининском институте, но своей особой не делала ему чести. Это была чрезвычайно пустая, уже пожилая девица, мечтавшая только о женихах; она была дурна собою и очень косила глазами, но, несмотря на это, очень собою занималась. Мать в ней души не слышала и не видела ее недостатков. Сам хозяин Григорий Павлович Маслович, разбитый параличом и постоянно страдающий ревматизмом, вечно лежал на своей кровати, только изредка садясь на ней же, он постоянно охал от ревматических болей.
Не знаю теперь, что мне могло нравиться в пребывании у Масловичей. Собственно говоря, скука была страшнейшая. Сидишь, бывало, у ломберного стола и перечитываешь что-нибудь в учебнике или прислушиваешься к разговорам между маменькой и дочкой. И это продолжалось целый день… Но, несмотря на эту скучищу, я очень бывал рад, когда в субботу отправлялся с Осипом в Госпитальный переулок. Это явление, думаю, ничем более нельзя объяснить, как чувством привязанности к домашнему очагу. При виде тетки Настасьи Андреевны я постоянно вспоминал, как она хаживала к нам в Мариинскую больницу при жизни маменьки, а потому мне было занятно бывать и у них. Сверх того, канун праздников ознаменовывался хождением в баню. Невдалеке, чуть ли не в том же переулке, где жили Масловичи, были торговые бани того же хозяина, то есть Янкина. И вот Осип, управившись с кухней, постоянно водил меня в баню и там отлично вымывал, и это было каждую неделю. В воскресенье же утром я с теткою и с Мар. Григ. ходили в церковь военного госпиталя. Там была великолепная церковь и еще более великолепные певчие, так что посещение церкви доставляло мне особое удовольствие. Помню, что я особенно усиливался, чтобы меня взяли ко всенощной перед Рождеством, что и исполнилось. К заутрене же перед Пасхою, хотя я и проснулся вовремя, но, несмотря на все мои просьбы, идти не позволили. — Не знаю, платил ли папенька сколько-нибудь за то, что меня брали, или ограничивался присылкою деревенских продуктов, только помню, что однажды зимою приехала целая подвода из деревни с мукою, крупой, а также и с живностью. Привезли несколько пар битых мороженых гусей и уток. И вот, каждый обед, как только подавали гуся или утку, старик Маслович постоянно говаривал: «Что это за гусь!» или «Что это за утка… Вот у нас, в Малороссии, так действительно гуси и утки!..» Может быть, это было говорено просто как заявление действительного факта… Я сам был впоследствии в Малороссии и знаю, что старик Маслович говорил правду… Но тогда мне каждое подобное заявление было очень горько выслушивать; и я мысленно негодовал на папеньку, для чего он присылал таких плохих уток!..
Году было пройти недолго, и вот приблизились экзамены, а затем каникулы. Разумеется, мои годовые занятия получили одобрение от Чермака, хотя собственно награды я в этот год еще не получил. Приехал в Москву папенька и взял меня на каникулы к себе в деревню.
Странное дело, мне уже исполнилось 13 лет, и я многое отчетливо помню, что происходило в 5-летний возраст мой, а в этот 13-летний возраст я решительно ничего не помню из обстоятельств, сопровождавших поездку мою в деревню и обратное возвращение в Москву. Припоминаю, и то только отрывочно, мое пребывание в деревне, мое ежедневное хождение с папенькой по полям, что впоследствии уже мне надоело, и я стремился остаться как-нибудь дома. Помню, что в этот свой приезд я уже не застал в деревне сестры Вареньки, которая переселилась к Куманиным, ни сестры Верочки, которая была уже отдана в пансион. Были только брат Николя, тогда уже 7-летний мальчик, и сестра Саша, трехлетняя девочка. Оба они постоянно пребывали с няней Аленой Фроловной. Из сей моей последней поездки в деревню более ничего вынести не могу, равно как не припоминаю и обстоятельств своего возвращения в Москву и прощания, увы, уже последнего с отцом! Серьезно, я не помню последнего с ним прощания. Помню себя уже в комнате 2-го класса пансиона Чермака.
В этом втором классе я был в учебный 1838/1839 год.
Обучение происходило тем же порядком и в те же часы, как и в 1-м классе, а потому распространяться об этом более нечего.
По воскресеньям я уже не ходил к тетке Маслович: не знаю, они ли отказались или отец мой более не просил их брать меня, только по воскресеньям я начал оставаться в пансионе. Но я привык уже к пансиону и много этим не скучал.
Тетушка Куманина в этот учебный год брала меня к себе довольно часто, в особенности в большие праздники, и никак не реже одного раза в месяц. Приезжал за мною всегда дядя Михаил Федорович, и он же отвозил обратно.
У тетушки я проводил праздничные дни гораздо веселее, чем у Масловичей, да оно и понятно почему… Тут я виделся с обеими сестрами и с ними говорил по душе. Кроме того, и тетушка иногда удостаивала меня своим разговором, и это я ценил отменно дорого. Перед отъездом моим в пансион тетенька всегда давала мне несколько мелких монет на баню, рассчитывая на четыре бани. В прежние разы я обыкновенно тратил эти деньги на сласти в один, много два дня. Но после перенесенной мною болезни (вши) я первый же раз, возвратясь в пансион, передал Леонтию Ивановичу всю полученную мелочь, вместе с кошельком, объяснив ему, что деньги эти даны мне на баню, но я боюсь, что не сохраню их даже до первой субботы; этим признанием я вызвал добродушный смех старика чуть не до удушливости и с этого же времени начал ходить в баню каждую субботу.
На рождественские праздники приезжал за мною в пансион уже не дядя Михаил Федорович, а лакей Василий Васильевич. Дядя был уже опасно болен и не вставал с постели. В этот приезд я имел свои ночлеги в другой комнате, как помнится, в биллиардной на диване. Дядя Мих. Федорович в эти рождественские праздники и скончался от водяной. Предсмертные мучения его были ужасны.
Далее я был у тетушки на масленице и на две пасхальные недели, т. е. на Страстную и на Пасху. Пасха была ранняя, 26-го марта. Отправляя меня в пансион, тетушка сказала, что не возьмет меня впредь до окончания моих экзаменов, то есть до летних каникул. Конечно, этого, может быть, и не случилось бы, если бы к тому времени не произошла катастрофа, т. е. смерть папеньки.
Пасха, как я сказал выше, была ранняя, и после Пасхи мы достаточное еще время учились, а затем начали приготовляться к экзаменам, которые и в то уже время были довольно трудные и вообще очень обстоятельные. Но вот наступили экзамены, вот они и кончились. Все ученики разъехались по домам, только один я остался. Экзамены сошли для меня весьма благополучно; я был переведен в 3-й класс и удостоился получить награду: книгу. Прошла уже целая неделя после экзаменов, и я каждый день поджидал или самого папеньку или приезда за мною лошадей. Но день проходил за днем, а желание мое обрадовать папеньку полученною мною наградою не осуществлялось. — Наконец настал Петров день (29 июня). Я почти целый день проводил в тенистом саду, бывшем при пансионе. После обеда, часу в 5-м дня, вдруг меня зовут к Чермаку, говоря, что за мною кто-то приехал. Я мгновенно бегу в дом и в нижнем коридоре встречаю двух человек: дядю Дмитрия Александровича Шера и Тимофея Ивановича Неофитова. Оба они встретили меня с какими-то постными лицами; но, не говоря уже об этих постных лицах, одно неожиданное появление обладателей этих лиц внушило во мне ожидание чего-то ужасного.
— Давно ты не получал известий от папеньки? — спросил меня после первого приветствия дядя Шер.
— Да, давно уже; здоров ли папенька, приехал ли уже в Москву? Я ежедневно ожидаю его.
— Твой папенька приказал тебе долго жить, — брякнул на это Шер.
Что со мною сталось — уже не помню. Знаю только, что меня нашли в дортуаре, в верхнем этаже здания, лежащим на чьей-то койке и истерически рыдающим. С Чермаком чуть не сделался удар, когда он увидел меня в таком положении. Наконец, меня привели в сад и опять отвели к приехавшим двум господам. От них я узнал, что папенька умер уже несколько недель и что меня не извещали потому, что не желали тревожить меня во время экзаменов. Узнал также, что брат Николя и сестра Саша уже взяты из деревни и находятся теперь у дяденьки Александра Алексеевича и что меня теперь повезут туда же. Долго не мог я хоть сколько-нибудь успокоиться, но вот, наконец, собрали все мои вещи и книги, образовался узел порядочный; я распрощался с добрейшим Леонтием Ивановичем и поехал в одном экипаже с дядей Дмитрием Александровичем, а Неофитов поехал в отдельном экипаже.
Расплаканный и расстроенный донельзя, я достиг, наконец, куманинского дома. День был ясный и жаркий, было уже часов б вечера, и дядя, тетя и мои три сестры и брат все находились в саду. Повели и меня в сад. Первое, что мне бросилось в глаза, это то, что сестры и брат, а равно и весь дамский персонал были в трауре. Я подошел к дяде и весь в слезах и рыдая припал к его груди. Этим как будто бы безо всяких слов и без всяких просьб я поручал себя его доброте и покровительству. Сцена произошла трогательная, даже дядя, человек крепкий и твердый, казалось мне, прослезился; тетя же и бабушка приняли меня в свои объятия и горько расплакались.
— Ну, полно, полно, — прервал эту сцену дядя, — иди к сестрам и брату и постарайся успокоиться.
Тогда только я бросился целовать сестер и брата, и вскоре первая жгучая боль обрушившегося на меня несчастия притупилась. Мы так долго не видались, что разговорам не было конца. Конечно, Шер и Неофитов отрапортовали дяде и тетке, как встречено было мною известие, а равно и то, что я учился хорошо и получил награду. Вскоре позвали опять меня и велели показать мою награду. Этим, кажется, окончательно горе мое притупилось; но мне ведь было всего 14 лет!!.
Затем пошло пребывание мое в доме Куманиных целые летние каникулы. Времяпровождение каждодневно одно и то же. Все мы, подростки, проводили время в саду, сидя преимущественно в беседке и только изредка прогуливаясь по дорожкам сада. Из всего 1 ½ месяца, проведенного мною в этот раз в доме дяди, только два-три обстоятельства остались у меня в памяти. Во-первых, я помню литературные чтения, происходившие в том же саду. Эти чтения так много напомнили мне наши домашние чтения в уютной гостиной Мариинской больницы! Настоящие же чтения совершались под открытым небом в тени густого тополя. Читали или сестра Варенька, или тетка Катенька{53}, а иногда даже и сама тетенька. Тетенька читала очень хорошо, «истово», — как говорила она. Куманины в этот год получали «Отечественные записки» изд. А. А. Краевского, и это был первый год их издания под сказанною редакциею. В летнем номере книжки был помещен роман Основьяненко «Пан Халявский»{54}, и вот это-то произведение тетушка, прочитавши сперва сама, порешила, что его можно прочесть и молодому поколению, по этой же причине и устроились садовые чтения, при которых присутствовал и я и с удовольствием прослушивал читанное. Во-вторых, вспоминаю приезд государя императора в Москву для закладки храма во имя Христа-Спасителя. На закладке храма, падкая до всех зрелищ, непременно хотела быть и бабушка Ольга Яковлевна, и вот она прямо заявила, что пойдет со мною на закладку. И, действительно, мы пошли. Радости моей не было конца — но это длилось недолго! Толкаемые со всех сторон и часто сжимаемые тысячною живою массою, мы еле-еле двигались и положительно ничего не видели, кроме давящей нас толпы. Но тем не менее бабушка рассказывала всем, что она отлично видела всю церемонию закладки. То же почти говорил и я, но в душе сознавая, что это была чистейшая ложь.
С наступлением средины и в особенности конца июля, когда вечера сделались довольно темные, вспоминаю я эти вечера, в особенности накануне праздников. Прийдя от всенощной и дожидаясь ужина, мы часто сиживали на балконе, выходящем в сад 3-го этажа. С этого балкона видна была вся Москва и все Замоскворечье, и при темноте ночной были ясно обозначаемы иллюминованные колокольни тех церквей, в которых был праздник. Таковых колоколен в темноте горизонта иногда виднелось 2–3, и всегда говаривалось, что это-де у праздника в такой-то церкви, а это — в такой-то. Днем же с высоты этого балкона дядя, сидя в кресле, часто смотрел в большую зрительную трубу (телескоп) на привлекательные виды Москвы и один раз, подозвав меня, велел и мне посмотреть, и я удивился, увидя далекие предметы почти перед своими глазами. Конечно, тогда мне и в голову не приходило, что эта труба со временем будет моею собственностью.
Тетушка вообще была для меня слишком добра и видимо выказывала ко мне свою любовь. Но ей не нравилось во мне отстаивание своих убеждений, что она считала за привычку спорить и вообще большим недостатком в мальчике моих лет. Вот однажды, рассерженная на меня моим упорством и сохранением моих детских убеждений, за обедом вдруг заявила дяде следующее:
— Я просто не могу справиться, Александр Алексеевич, с Андреем, он просто из рук отбивается… мне силы с ним нет!
Я так и замер от этих слов, никак не ожидая со стороны тетушки подобной жалобы. Но жалоба была высказана, и я просто дрожал от негодования и на тетю, и на себя самого… Дядя упорно посмотрел на меня и после некоторого молчания сказал:
— Что это, брат Андрей, родная тетка на тебя жалуется… худо, брат! Ведь у тебя родных только и осталась, что тетка, а ты заставляешь и ее жаловаться на тебя. Дурно, брат, дурно!..
Не знаю, как досидел я за столом, но после обеда я убежал в свою комнатку и долго истерически рыдал, так что тетка присылала ко мне сестру Вареньку, чтобы успокоить меня. Вообще этот эпизод долго был памятен мне, и когда по прошествии 17 лет, т. е. в 1856 году, я проездом через Москву в Питер был в гостях у дяди и как-то вспомнил про это происшествие, то тетушка не хотела верить в справедливость моего воспоминания; но дядя, несмотря на свое параличное состояние, очень хорошо вспомнил это и долго этому смеялся, говоря сквозь смех, что он тогда жесток был на расправу.
Говоря про свое житье-бытье во время первых каникул в доме дяди, я не могу не упомянуть об одной личности, которая была чуть ни своим человеком в доме дяди. Это был приходской дьякон в церкви Кузьмы и Демьяна, куда был прихожанином дядя и все его семейство. В рассказываемый период времени это был уже старичок седовласый, но живой и веселого характера. Участь его довольно странная. Сперва он был учителем где-то в церковном училище и, захотев посвятиться в священники, конечно, был сперва посвящен в дьяконы. Через неделю ему нужно было посвящаться в священники, как неожиданно в эту неделю умерла жена его родами. Ребенок тоже умер; а бедный дьякон, как вдовец, не мог уже быть посвящен в священники и так и остался в сане дьякона на всю свою жизнь. Ему, говорят, предлагали перейти в монашество, обещая скорое повышение, но он положительно отказался, говоря, что он монахом быть не может, что он любит музыку (скрипку), любит поиграть на биллиарде и в карточки не прочь: «Какой же буду я монах, катер-ятер!» (его всегдашняя присказка). Вот этот-то дьякон, звали его Павлом Петровичем, и был очень любим дядею и редкий день не появлялся в доме то к чаю, то к обеду, а то и к ужину. Он был постоянным партнером дяди на биллиарде, а равно и в карточной игре в преферанс, бостон и вист. Впрочем, он держал себя совершенно прилично и степенно, в особенности во время церковных служений, которые совершал благоговейно и истово, так что и тетушка, несмотря на свою религиозность, очень уважала Павла Петровича и называла его несчастным в том отношении, что он принужден был жить одиноким.
Сверх того, говоря о куманинском доме, я виноват еще перед одною личностью, не упомянув о ней. Эта личность — старушка Варвара Ивановна Антипова, матушка Ольги Яковлевны Нечаевой (нашей бабушки). Эта старушка жила наверху, в помещениях бабушки Ольги Яковлевны, и постоянно, с утра до вечера, занималась чтением Священного писания. Много громадных книг (in folio) находилось постоянно у нее на столе, и она поочередно читала их. Это была довольно древняя старушка, лет 75-ти, на вид очень тихенькая и добренькая, но мне всегда казалось, что маменька и дочка суть «пара пятак» и что дочка очень похожа на свою маменьку.
Прежде чем покончу с этими каникулами и опять переселюсь в пансион Чермака, расскажу все подробности смерти папеньки, которые я узнал к концу же каникул.
Сперва от меня как будто бы скрывали причину смерти отца, говоря, что он скончался в одночасье, скоропостижно, ударом и т. п. Но из разговоров, высказываемых вскользь, которым я был свидетелем, я вскоре убедился, что сообщения эти неверны, и я начал приставать сперва к сестре, а потом и к тётушке, чтобы мне сказали всю истину, и в результате достиг того, что от меня перестали скрывать действительную причину смерти отца, то есть, что он был убит своими крестьянами. Впоследствии я много слышал подробностей этого убийства из уст сестры Веры Михайловны, а главное — от девушки Ариши и от няни Алены Фроловны. Но прежде, нежели поведаю эти подробности, скажу несколько слов о последних двух личностях.
Ариша или впоследствии Арина Архипьевна. Я говорил уже, что девушка эта ходила за больною маменькою и что маменька, кажется, и кончилась на руках Ариши. После смерти маменьки тетенька энергично настояла, чтобы папенька выдал Арише формальную вольную, что и было исполнено. Тетушка взяла ее к себе в услужение и приписала в московские мещанки. Во время описываемого Арина Архипьевна жила у тетушки и ходила за ней. Конечно, к ней приходили родные из деревни, и от них-то она слышала все подробности, переданные мне впоследствии. Арина Архипьевна жила у тетушки до самой ее смерти, то есть до 29 марта 1871 года, после же смерти тетушки ее поместили в одну из московских богаделен, где она и жила, впрочем, не очень долго и там умерла.
Няня Алена Фроловна жила вместе с папенькой в деревне и была почти свидетельницей и очевидицею катастрофы, т. е. видела труп отца. Она после смерти отца привезена была вместе с детьми в Москву{55}. Но так как она была не нужна Куманиным, то ее поместили в богадельню. Сперва она очень боялась богадельни, но потом была очень довольна и говорила, что и в царстве небесном лучше и спокойнее быть не может. Она ходила довольно часто к Куманиным, и тут-то во время каникул 1839 года я услышал от нее все подробности о жизни отца в деревне и о его убийстве. Чтобы покончить с Аленой Фроловной, хотя, может быть, и придется о ней вспоминать, — скажу теперь, что Алена Фроловна умерла в глубокой уже старости в 1850-х годах.
Теперь приступаю к описанию жизни отца в последнее время в деревне и к причине его смерти, то есть его убиения.
Из приведенной мною переписки моих родителей видно, насколько отец любил свою жену. Время с кончины матери до возвращения отца из Петербурга было временем большой его деятельности, так что он за работою забывал свое несчастие или по крайней мере переносил его нормально, ежели можно так выразиться. Затем сборы и переселение в деревню тоже много его занимали. Но, наконец, вот он в деревне, в осенние и зимние месяцы, когда даже и полевые работы прекращены. — После очень трудной двадцатипятилетней деятельности отец увидел себя закупоренным в две-три комнаты деревенского помещения, без всякого общества. Овдовел он в сравнительно не старых летах, ему было 46–47 лет. По рассказам няни Алены Фроловны он в первое время даже доходил до того, что вслух разговаривал, предполагая, что говорит с покойной женой и отвечая себе ее обычными словами… От такового состояния, особенно в уединении, недалеко и до сумасшествия. Независимо всего этого он понемногу начал злоупотреблять спиртными напитками. В это время он приблизил к себе бывшую у нас в услужении еще в Москве девушку Катерину. При его летах и в его положении, кто особенно осудит его за это?! Все эти обстоятельства, которые сознавал и сам отец, заставили его отвезти двух старших дочерей Варю и Верочку в Москву к тетушке. Варя поселилась там жить с весны 1838 года, а Верочка в то же время отдана была в пансион, что при церкви лютеранской Петра и Павла, то есть туда же, где воспитывалась и Варенька. Во время пребывания моего в последний раз в деревне, то есть летом 1838 года, я ничего ненормального в жизни отца не заметил, несмотря на свою наблюдательность. Да, может быть, и отец несколько стеснялся меня. Но вот он опять остался один на глубокую осень и долгую зиму. Пристрастие его к спиртным напиткам, видимо, увеличилось, и он почти постоянно бывал не в нормальном положении. Настала весна, мало обещавшая хорошего. Припомним почти отчаянные выражения отца в письме к брату Федору от 27 мая 1839 г., т. е. за несколько дней до его смерти, и мы поймем, в каком положении находился он… Вот в это-то время в деревне Черемошне на полях под опушкою леса работала артель мужиков, в десяток или полтора десятка человек; дело, значит, было вдали от жилья. Выведенный из себя каким-то неуспешным действием крестьян, а может быть, только казавшимся ему таковым, отец вспылил и начал очень кричать на крестьян. Один из них, более дерзкий, ответил на этот крик сильною грубостью и вслед затем, убоявшись последствий этой грубости, крикнул: «Ребята, карачун ему!..», и с этим возгласом все крестьяне, в числе до 15 человек, кинулись на отца и в одно мгновенье, конечно, покончили с ним…
Как стая коршунов, наехало из Каширы так называемое временное отделение. Первым его делом, конечно, было разъяснить, сколько мужики могут дать за сокрытие этого преступления. Не знаю, на какой сумме они порешили, и не знаю также, где крестьяне взяли вдруг, вероятно, немаловажную сумму денег, знаю только, что временное отделение было удовлетворено, труп отца был анатомирован, причем найдено, что смерть произошла от апоплексического удара, и тело было предано земле в церковном погосте села Моногарова.
Прошло, я думаю, не менее недели после смерти и похорон отца, когда в деревню Даровую приезжала бабушка Ольга Яковлевна, посланная дядею за оставшимися сиротами. Бабушка, конечно, была на могиле отца в селе Моногарове, а из церкви заезжала к Хотяинцевым. Оба Хотяинцевы, т. е. муж и жена, не скрывали от бабушки истинной причины смерти папеньки, но не советовали возбуждать об этом дела как ей, так и кому-либо другому из ближайших родственников. Причины к этому выставляли следующие:
а) отца детям не воротишь;
б) трудно предположить, чтобы виновное временное отделение дало себя изловить; по всей вероятности, и второе переосвидетельствование трупа привело бы к тем же лживым результатам;
в) что ежели бы, наконец, и допустить, что дело об убиении отца и раскрылось бы со всею подробностью, то следствием этого было бы окончательное разорение оставшихся наследников, так как все почти мужское население деревни Черемошни было бы сослано на каторгу.
Вот соображения, ежели только можно было допускать соображения по этому предмету, по которым убиение отца осталось нераскрытым и виновные в нем не потерпели заслуженной кары. Вероятно, старшие братья узнали истинную причину смерти отца еще ранее меня, но и они молчали. Я же считался тогда малолетним{56}.
Наконец, каникулы закончились, и я был отвезен опять в пансион Чермака и начал учение уже в третьем классе. В этом третьем классе я пробыл весь учебный 1839/1840 г.
Все порядки и обычаи пансиона оставались те же, что и в предшествующие годы.
Посещения мои дома дяди сделались более частыми, но все-таки не еженедельными. Тетушка боялась меня избаловать. Время до Рождества прошло незаметно в серьезных занятиях; на Рождество же и все святки я был взят на Покровку. Святая этого года ознаменовалась в доме дяди тем, что в один из дней дядя устроил танцевальный вечер, или, лучше сказать, — парадный бал. В доме у него проживали две взрослые девицы, моя сестра и тетя Катя, и вот их-то дядя и хотел повеселить. Помню я этот бал во всех подробностях. Главными кавалерами и, так сказать, распорядителями были родные племянники дяди, уже взрослые молодые люди; старший даже был женат. Это сыновья старшего брата дяди Константина Алексеевича: Александр, Алексей и Константин Константиновичи. Бал продолжался чуть ли не до 3-х часов утра, но на меня он не оставил приятного впечатления. Хотя меня и вталкивали в танцы, но я уклонялся от них. Гораздо памятнее для меня была масленица по той причине, что на эту масленицу сестра Варенька сделалась невестою. Вот об этом-то обстоятельстве я и поговорю подробнее. Жениха, кажется, порекомендовал Неофитов. Конечно, и вероятно, что первые смотрины были в церкви Козьмы и Демьяна. Ведь без смотрин нельзя же, и вероятно даже, что они были в воскресенье перед масленицей, когда я был еще в пансионе Чермака.
Помню, в один из масленичных дней, в среду или в четверг, тетушка позвала меня к себе в чайную и очень внушительно, но еще конфиденциально сообщила мне, что Бог посылает моей сестре Вареньке «судьбу», то есть, попросту сказать, приличного жениха, который, может быть, будет и нам, сиротам, подпорою, как более близкий родственник, причем сообщила, что нынче вечером он будет у них в первый раз для ознакомления.
И, действительно, вскоре после обеда в доме сделались заметные приготовления к чему-то необычайному. Тетушка надела новое шелковое платье и тюлевый чепец на голову с нарядными лентами. Надо заметить, что она дома, несмотря на свои уже преклонные (45 л.) годы, никогда не носила чепцов и всегда ходила с открытыми волосами. Дядя тоже чуть ли не надел новый сюртук. Сестру Вареньку одели чуть ли не по-бальному, даже и мне велели надеть новый сюртучок. Не успели напиться домашнего вечернего чаю, как в начале 5-го в парадной передней звякнул колокольчик; этот колокольчик звякал только тогда, когда приезжал гость только первый раз в дом. Более же знакомые всегда въезжали в чистый двор и являлись в переднюю не парадную, где не было колокольчика, но всегда сидели два лакея. Пасха в этот год приходилась довольно поздняя (14 апреля), а следовательно, среда или четверг на масленице приходились на 21–22 февраля; следовательно, в 5-м часу дня было еще совершенно светло. Из передней следовала приемная комната; в эту приемную, вслед за звонком, вышли, чтобы встретить гостя, дядя, тетка, сестра Варенька и я. Младший брат Николя и две младшие сестры в этот вечер жениху не показывались, а сидели безвыходно в верхнем этаже.
В комнату вошел мужчина лет сорока или с лишечком, видный, выше среднего роста, стройный, очень красивый и развязный. Видно было, что ему не впервые входить в большой и богатый дом и что он постоянный и желанный гость как богатых, так и знатных многочисленных своих знакомых.
Несмотря на весь апломб, ему, вероятно, еще не обедавшему, неловко было входить на вечернее приглашение к совершенно незнакомым людям. Ловко раскланявшись со всеми, он, вероятно, проговорил что-нибудь подобное тому, что, наслышавшись про добродетель семейства, он принял за счастие позволение познакомиться с представителями его, или что-нибудь подобное.
Дядя сам себя не рекомендовал, вполне понимая, что гость хотя и первый раз приезжает, но должен обстоятельно знать, к кому он приезжает; а потому дядя ограничился представлением двух личностей: «Моя жена Александра Федоровна Куманина», и далее: — «Моя племянница девица Варвара Михайловна Достоевская…» — «Брат ее», — промолвила тетушка, дергая меня за руку и представляя гостю. Это выражение «брат ее» было до того комично, что даже и теперь, через 55 лет, вспоминая эту сцену, я невольно мысленно хохочу. Впоследствии познакомившись и породнившись с этим новым человеком, я часто, приходя к сестре, шутливо рекомендовался ее мужу: «Брат ее».
Из приемной все проследовали в мраморную гостиную, где и уселись на диван, который мог бы вместить еще вдвое более лиц, чем тогда присутствовало. Сейчас же лакеи начали обносить чай… Но, вероятно, разговор худо клеился, потому что дядя предложил гостю сыграть домашний преферанс или вистик. Гость, конечно, согласился. Сейчас же послали за бабушкой, которая тоже в модном чепце разливала чай в зале и не была еще представлена гостю.
— Матушка-теща Ольга Яковлевна, — отрекомендовал ее дядя.
Гость подошел к ручке, и опять все уселись на диван. Но вслед за этим явились лакеи и расставили ломберный столик для карт. Бабушка разнесла карты и начали игру в преферанс втроем, потому что тетушка и понятия не имела в игре. По правую сторожу жениха усадили в стороне сестру Вареньку. После второй сдачи жених веером распустил карты, показывая их сбоку сидевшей невесте. Но ей, бедной, вероятно, было не до карт; она и действительно не знала никакой игры, но в настоящую минуту, я думаю, короля от валета едва ли бы отличила!.. И в самом деле… видеть человека в первый раз в жизни и сознавать, что этот человек есть ее жених, ее будущий муж… Но при всяком развертывании веером карт сестра радушно улыбалась и показывала вид, что ее интересует игра. Меня тоже игра не интересовала, и, пока она идет, сообщу, кто же такой жених.
Приехавший свататься жених был Петр Андреевич Карепин, он был лет 40 с хвостиком и был вдов. У него была маленькая дочка, в то время лет четырех, Юленька, впоследствии Юлия Петровна Померанцева.
Служил Петр Андреевич во многих местах и везде получал солидное содержание (конечно, по-тогдашнему). Во-первых, он служил правителем канцелярии московского военного генерал-губернатора, во-вторых, аудитором при каком-то военном учреждении, но из этой службы он вскоре после женитьбы вышел в отставку; в-третьих, он был секретарем в дамском комитете, то есть при дамском попечительном о тюрьмах комитете, где между тогдашними патронессами города играл видную роль, прельщая всех своим чисто парижским французским языком; в-четвертых, он был секретарем в попечительном комитете о просящих милостыню. И в-пятых, главнейшая и самая доходнейшая его служба была частная, а именно, он был главноуправляющим над всеми имениями, кажется, князей Голицыных, и одна канцелярия его, как главноуправляющего, помещалась в его квартире, занимая несколько комнат.
Все изложенное составляет, так сказать, официальные сведения о Петре Андреевиче Карепине; про внутренние же его качества, как я узнал его впоследствии, нельзя говорить кратко, разве только одним общим местом, что он был добрейший из добрейших людей, прибавляя при этом, что он был не просто добрым, но евангельски-добрым человеком. Впоследствии, конечно, я часто буду говорить о нем, теперь же прибавлю только, что он вышел из народа, достигнут всего своим умом и своею деятельностью. Впрочем, когда он сделался женихом сестры, то был уже дворянином.
Карточная игра, впрочем, долго не продолжалась, так что при свечах сидели за карточным столиком очень недолго. Жених, конечно, проиграл обоим своим партнерам, причем расплату произвел из туго набитого бумажника самыми новенькими ассигнациями и из новенького кошелька светлыми, не бывшими еще в обращении мелкими монетами. Посидев затем недолго и сделав, конечно, предложение, и получив тут же согласие, жених вскоре уехал, оставив во всех самое выгодное о себе впечатление, или, лучше сказать, обворожил всех.
Упомяну еще об одном обстоятельстве. В доме жила взрослая молодая девушка, это — тетушка Катенька. Она, бедная, целый вечер просидела у себя наверху, не показываясь вниз; а как уж ей хотелось посмотреть на жениха. Но это было ей не дозволено, это было не в правилах… Ну, а как, в самом деле, жених, увидевши другую взрослую девушку, пленится ею больше, нежели своею невестою, и сделает предложение не нареченной невесте, а другой личности… Ведь это наведет мораль на невесту… Боже сохрани! Когда играли в карты и я несколько раз бегал наверх, то Катенька всякий раз задавала мне вопрос: «Расскажите, Андрюшенька, что-нибудь про жениха?..» А я, как будто не понимая сути дела, отвечал ей: «Да вы бы сами, Катенька, сошли вниз да и посмотрели на жениха». — «Ах, какой вы странный, Андрюшенька, вы видите, я не одета…» — «Ну, так оденьтесь, Катенька». — «Рада бы одеться и сойти вниз… да не позволяют!..» — «Ну это другое дело», — отвечал я и убегал вниз.
Долго делом не тянули: жениха просили бывать, как ему только свободно и захочется, а на воскресенье (заговенье) просили на обед. На то же воскресенье, т. е. на заговенье 25 февраля назначили и обручение, которое должно было состояться после обеда вечером. — Жених начал являться в дом ежедневно, приезжая часа в 4 дня и уезжая домой в 8 ч. вечера. В воскресенье он обедал, и тут Катенька в первый раз увидела и познакомилась с женихом. После обеда жених сейчас же уехал, так как вечером он должен был привезти с собою свою малютку дочку, которая, по его просьбе, должна была присутствовать при обручении, а затем приехать пораньше, так как на обручение должны были приехать его, жениха, родные, во главе которых был старший брат его Митрофан Андреевич Карепин, частный пристав какой-то из московских частей, и его семейство.
К восьми часам вечера все гости собрались, сошла вниз и Катенька, хотя и одетая очень просто. Пришел приходский священник, и жениха с невестой обручили и благословили образом. После этого подали шампанское и поздравляли вновь обрученных. Жениха и невесту посадили рядом на диване; затем начались различного рода угощения, подаваемые почти беспрерывно. Гости засиделись, впрочем, не позже 12 часов, так как до начала поста хотели освободить хозяев. Я же на другой день, часу в 8-м дня, уже понтировал по направлению к Новой Басманной, то есть к пансиону Чермака.
Пост в пансионе проходил незаметно, в более усиленных занятиях ввиду приближающихся экзаменов. Я, кажется, целый пост не был в отпуске, т. е. у Куманиных, но зато на Вербное воскресенье я переселился на целые две недели к тетушке. Это было первый раз, когда я Страстную проводил у них и говел вместе со всеми. Говел также и жених и причащаться приезжал в церковь Кузьмы и Демьяна со всеми нами. По этому поводу его пригласили на чай, вскоре после которого он и уехал.
Наконец, наступила и заутреня Светлого воскресенья. Мы все были в церкви, куда приезжал и жених, и после обедни приезжал на разговенье.
Светлая неделя прошла очень оживленно. У нас, кроме жениха, были беспрестанные гости, но, наконец, наступил и день, назначенный для свадьбы, т. е. первое воскресенье после Пасхи, так называемая Красная Горка (21 апреля). Венчание в приходе жениха было назначено во 2-м часу дня. В этот день жениху не полагалось быть у невесты, и все утро прошло в приготовлениях. Бабушка Ольга Яковлевна неоднократно внушала сестре Вареньке, чтобы она после благословения ее образом, вставая из-за стола, не забыла дернуть скатерть… Это служило ручательством (по русской примете) тому, что другая девица невеста (ежели таковая имеется в доме) долго без жениха не засидится дома.
Но вот вскоре, по тому же обычаю, велели мне обуть сестру к венцу, положив в каждый чулок по червонцу, чтобы невеста венчалась, стоя на золоте. Наконец, когда все обряды были закончены, невесту, совершенно одетую, уже в фате, благословили хозяева дома, то есть дядя Александр Алексеевич и тетка Александра Федоровна. Вслед за благословением невесту посадили на диван за круглый стол, накрытый белою скатертью, на котором поставили образ и хлеб, коими сейчас благословляли. Более на диван не садился никто, и дядя и тетя сели на креслах близ дивана, и все прочие присутствующие тоже сели на стулья и кресла. Это сидение продолжалось минуты 2–3, после чего невеста приподнялась и от усердия так дернула белую скатерть, что только массивность ее (стол был громадный) удержала от падения. Бабушка Ольга Яковлевна осталась довольною. Все уселись в экипажи, я ехал в первом, с образом. После венца поехали все к жениху, где молодую встретила маленькая падчерица Юленька с маленьким образом и хлебом-солью. Сейчас же сели за обед. Народу было много, человек около 100. После обеда сейчас же отправились по домам, а я на другой день, то есть в Фомин понедельник, отправился в пансион Чермака.
Время до экзаменов прошло незаметно в усиленных занятиях. Экзамены тоже шли быстро; я сдал все с большим успехом и получил высшую награду, похвальный лист и книгу, и был переведен в высший, четвертый, класс, и по уведомлении об этом тетушки получил разрешение переехать к ним на каникулы.
Эти вторые каникулы, проведенные мною у Куманиных, поставили меня в несколько более самостоятельное положение. На меня перестали смотреть, как на маленького, а видимые мои успехи в науках устранили от меня всякие наблюдения и понукания со стороны старших. В эти каникулы я почта ежедневно бывал у сестры, которая еще не имела своего дома, а жила близ Чисто-Прудненского бульвара в Харитоньевском переулке. Редко я заставал дома Петра Андреевича, который всегда почти отсутствовал по различным своим служебным занятиям, но когда заставал, то всегда был принимаем по-братски родственно. Решительно я в этого человека влюблялся и так привязался к нему, что только и бредил им. Он еще до женитьбы своей был абонирован на различные журналы, и сестра Варенька во время его отсутствия, в первый год своего супружества, занималась постоянно чтением и делилась книгами со мной, которые я и пожирал с алчностью. Единственным обязательством для меня было то, чтобы являться вовремя к обеду и ужину. Ежели я ходил к Карепиным утром, то должен был возвращаться домой не позднее 12 час. дня; а ежели ходил после обеда, то должен был возвращаться не позже 8 часов вечера.
И вот в подобных прогулках с Покровки в Харитоньевский переулок и в чтении книг я и провел все время каникул 1840 г. Учебный 1840/1841 год в пансионе Чермака я был уже в 4-м классе.
Учителем географии и истории в первую половину года был издавна преподававший в этом классе[23] преподаватель Клавдий Маркович Римановский. Он был любимцем всего класса, преподавал историю и географию по-старинному, в зубрежку: отсюда — досюда; но в его классе было всегда весело, и ученики не дремали. Не знаю, как достигал он этого.
На всякие школьничества учеников он ограничивался только поднятием указательного пальца и фразою: «Да будет вам стыдно!» Это поднятие пальца и мирная фраза: «Да будет вам стыдно!», как что-то магическое, останавливало и самого ретивого школьника и приободряло и самого ленивого ученика. Говорили также, что раз видели его ехавшим на извозчике, на дрожках которого было привешено несколько кулечков со сластями: финиками, винными ягодами, конфетами и т. п. (Клавдий Маркович был большой сластена и даже в класс приходил со сластями), и что в кулечках сделалось отверстие, через которое сыпались сласти, и будто уличные мальчишки бежали за ним и подбирали падавшее; он же вместо того, чтобы поправить кульки, только грозил им пальцем, говоря свою обычную фразу: «Да будет вам стыдно!..», и что будто от одной этой фразы мальчишки переставали подбирать конфеты!
Учителем немецкого языка был лектор Московского университета Геринг. Этот господин, джентльмен по наружности, читал свои лекции, как в университете, и, несмотря на то что ученики его далеко были не все подготовлены, читал немецкую литературу. Он был замечателен еще тем, что был страстным почитателем Пушкина. Он знал в совершенстве русский язык, но говорил худо, с большим немецким акцентом. Не было почти ни одного класса, чтобы он со своим немецким акцентом не продекламировал нескольких пушкинских стихотворений, и, надо отдать справедливость, декламировал с большим энтузиазмом и подчас даже с пафосом. Рассказывал он, между прочим, о своем свидании с Пушкиным. «Я хотел, — рассказывал он, — переводить его сочинения на немецкий язык, но, как вежливый и деликатный господин, я хотел сперва заручиться дозволением самого великого поэта. В одном великосветском обществе я был представлен Пушкину, и после нескольких светских фраз я деликатно коснулся вопроса о дозволении мне перевести его творения на немецкий язык. Что же, вы думаете, он ответил мне? — рассказывал Геринг. — Он ответил мне лаконически: „Ежели есть охота, то переводите“… Конечно, ежели бы я это услышал от другого, — дополнял Геринг, — то я счел бы это за дерзость и ответил бы тоже дерзостью… Но от великого поэта я не считаю это дерзостью. Ведь все великие люди имеют свои странности!» Не знаю, впрочем, удалось ли Герингу что-нибудь перевести и напечатать на немецком языке из Пушкина. Вероятно, нет, потому что в библиографическом указателе, составленном Григорием Геннади, имени Геринга я не нашел{57}.
Кстати, о Геннади{58}; этот юноша был моим товарищем именно по 4-му классу пансиона Чермака. О нем через 55 лет могу сказать только, что Гого Геннади, как его звали, был симпатичнейшей личностью. Высокий и стройный блондинчик с греческим носом он всем своим существом свидетельствовал, что был веден с детства в хорошей аристократической семье. Его отец, приезжавший лично по субботам за своим сыном, тоже на вид был аристократ и всегда очень внимательно и особо ласково обращался с сыном.
Упомяну еще, что греческому языку нас начинали обучать только с 4-го класса и что в том классе, равно как и следующем, 5-м, преподаванием этого языка занимался старший сын Чермака, Карл Леонтьевич Чермак.
Течение уроков было совершенно обычным в продолжение всего этого учебного года, и я не могу остановиться ни на чем выдающемся. Обычным порядком происходили и экзамены, результатом которых был перевод меня в 5-й и последний класс с первою наградою, т. е. похвальным листом и книгою. Но мне не суждено было слушать уроки в 5-м классе пансиона Л. И. Чермака. — Выезжая из пансиона на каникулы к тетушке А. Ф. Куманиной, я и не предполагал, что у меня все уже порвано с этим достойным и симпатичным учебным заведением.
Между тем в родственных семьях появились новости. Карепиным в начале 1841 г. Бог дал сына (ныне доктор Александр Петрович). В доме дяди Александра Алексеевича все обстояло так же, как и прежде. Тетушка еще более была ко мне внимательна и добра; брат Коля и сестры Верочка и Сашенька подрастали, в особенности сестра Верочка, которой уже шел 14-й год. Сестра Саша была любимицею дяди и как 6-летняя девочка обращалась с ним по-детски, нисколько не стесняясь, что, кажется, и нравилось дяде. Каникулы я проводил спокойно и приятно, делая почти ежедневные переходы от Куманиных к сестре и обратно. — К этому времени Карепины уже купили себе свой дом, который находится во владении сына их Александра Петровича и в настоящее время. Это дом на Петровском бульваре в Знаменском переулке. — Я по-прошлогоднему много читал и мечтал, что через один год я окончу курс в 5-м классе пансиона Чермака и затем поступлю в университет. Мечта моя была поступить на математический факультет. Но оказалось, что мечты мои были преждевременны и что им не суждено было осуществиться.
К концу каникул приехал в Москву в отпуск брат Михаил. Он служил в Ревеле (в крепости юнкером) и только что был произведен в прапорщики. Приезд его в Москву был не без цели, не для свидания только с родными, но для осуществления его собственных видов. — Дело в том, что он, проживая в Ревеле с самого начала своей службы, познакомился там с семейством Дитмар и влюбился в дочь г-жи Дитмар и падчерицу г-на Дитмар — Эмилию Федоровну, и как только был произведен в прапорщики, то сейчас же сделал предложение и объявился женихом. Все у них было готово к венцу, но за одним была остановка… остановка за презренным металлом!.. А потому брат и возымел намерение поискать денежных средств в Москве, для чего и приехал в Белокаменную. В момент его приезда в Москву он не был даже и совершеннолетним, ему не было еще 21 года. Не знаю, предуведомлял ли он кого-нибудь о своем приезде, но только помню, что для меня приезд его был сюрпризом.
Не скажу, чтобы свидание наше после 4-летней разлуки было особенно братским, радостным! Помню, что свидание это меня тогда же сильно разочаровало и поставило меня в несколько натянутые с ним отношения. Разница в летах между нами была очень незначительная, всего на 4 года и 5 месяцев. Ежели ему не было еще 21 года, то мне уже было 16 ½ лет! А между тем он с первого же свидания принял на себя покровительственный тон и начал третировать меня свысока, при всяком случае подчеркивая, что я с ним не могу считаться на братской ноге! Это меня сильно огорчило, и я чуть не высказал ему этого прямо, напомнив наши общие деревенские детские игры… но, не желая быть навязчивым, удержался.
Первым его делом по приезде в Москву было просить у дяди денег взаймы на предстоящую свадьбу и обстановку семейной жизни. Я уверен, что ежели бы брат облек свое ходатайство в иную форму, то есть ежели бы прямо попросил помощи, как у старого родственника, то, может быть, он и имел бы некоторый успех. Но на просьбу его дать денег взаймы дядя наотрез отказался. Вероятно, ему, сделавшему без всяких посторонних просьб так много для нашего семейства, показалась просьба брата и неприличною и назойливою.
Я не упомянул еще, что с выходом сестры Вареньки в замужество добрейший муж ее Петр Андреевич Карепин сделался опекуном над имением, оставшимся после родителей{59}, в соопекуны к нему назначен был брат Михаил и, вероятно, по просьбе самого Карепина и не ранее как с производства в офицеры, то есть перед самым приездом его в Москву, или, может быть, даже таковое назначение выхлопотано было во время его пребывания в Москве.
Получивши отпор от дяди, брат обратился к П. А Карепину. Тот, конечно, по доброте своей обещал ссудить несколько денег в счет доходов с имения, которых в наличности не было ни копейки, и посоветовал, между прочим, ему самому, как опекуну, поехать в деревню и забрать все имущество, оставшееся после смерти отца, которое дядя не брал еще из деревни. Конечно, дядя и тетка этому не воспротивились. И вот брат поехал в деревню, действительно все имущество забрал и переслал в Ревель. Некоторые же ценные вещи, как, например, шубы отца, он в Москве продал за бесценок. Все же вещи фарфоровые и частью серебряные я после видел у братьев Михаила и Федора, которые поделились ими поровну. Упоминаю об этом в том внимании, что мне от родителей не осталось ни одной вещицы, хотя бы на память о детстве. Нет, впрочем, одна вещица есть, это — бритвенница моего отца, которая, впрочем, мною очень редко была употребляема{60}.
Еще до отъезда своего в деревню брат заявил тетушке, что, по его мнению, мне не следовало бы поступать в университет, а нужно бы меня отправить в Петербург для приготовления к поступлению в главное инженерное училище, где учится и брат Федор, тогда уже тоже произведенный в прапорщики и перешедший в офицерские классы, причем сообщил, что я мог бы жить у брата Федора, который и приготовил бы меня к поступлению в училище. Тетушка была очень обрадована этим советом, и тут же было решено, что я отправлюсь вместе с братом Михаилом в Петербург и поселюсь на житье у брата Федора, который меня будет приготовлять к поступлению в училище. Сейчас же начались сборы и снаряжение меня в дальний путь. Признаться сказать, я был не очень доволен этим решением, потому что мысль об университете, столь мне симпатичная, этим решением совершенно рушилась, а будущее в Петербурге представлялось мне в тумане. Но, впрочем, перемена места жительства, перспектива пожить в Петербурге — вскоре примирили меня с этим решением. Но ежели бы и не так, то что мог бы я предпринять против этого проекта?.. Тетушка не иначе смотрела на предложение брата, как на святое с его стороны дело, прийти на помощь младшему брату, и всякий со стороны моей протест был бы принят за черную неблагодарность. Но, как выше упомянуто, я успокоился на соблазнительной перспективе жить в Петербурге. Отпуск брата приходил к концу, и вскоре был назначен день нашего выезда. Ежели не ошибаюсь, то это было в первых числах октября. Но, впрочем, достоверных сведений о времени выезда я не имею.
Тетушка снарядила меня очень приличной и полной экипировкой, благословила золотым образом и дала мне на руки собственно на мои траты рублей 25 денег. Прощание с братом Николаем и сестрами было очень трогательное… Ехать мы решились в почтовой карете, или так называемом мальпосте. Эти кареты, по две зараз, отходили ежедневно из Москвы в Петербург и из Петербурга в Москву, по вечерам. Билеты на проезд брались заблаговременно, и в назначенный день и час пассажиры должны были приезжать со своею кладью в почтамт и оттуда отправляться в дальний путь. — Брат взял для себя и для меня два места спереди кареты, в так называемых передних колясках, тут же имелось и 3-е место, отгороженное от двух первых, для кондукторов. В день нашего отъезда нас провожали в почтамт сестра Варенька и ее добрый муж Петр Андреевич. С большою скорбью я расстался в этот день сперва с тетушкой, а на месте самого отъезда и с сестрою и зятем. Кондуктор протрубил, и все пассажиры поспешили занять свои места. Мы с братом уселись в свою колясочку и, помню, еще долго сидели и разговаривали с сестрою. Разговоры не клеились, как обыкновенно в минуту расставания. Наконец эта минута настала. С трубным звуком кондуктора карета двинулась, и мы, сказав последнее прости провожавшим, грузно покатились по улицам Москвы. Вскоре и улицы прекратились, и карета наша покатилась по гладкому и вполне исправному в то время шоссе. Я простился со своею родиною, со своим детством, я надолго распрощался с Москвою.
КВАРТИРА ТРЕТЬЯ
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГ. ЖИЗНЬ У БРАТА ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА ДО ПОСТУПЛЕНИЯ В УЧИЛИЩЕ ГРАЖДАНСКИХ ИНЖЕНЕРОВ
Двух с половиною суточное путешествие в мальпосте было самое мучительное из всех путешествий, когда-либо мною испытанных. Много впоследствии, в продолжение своей жизни, я совершал путешествий и железнодорожных, и по воде на пароходах, и просто на перекладных лошадях, но ни один из этих способов путешествия не был так мучителен, как путешествие в мальпостах. Начать с того, что тут пассажир отрекается от своей свободы и подчиняется вполне правилам езды. Заболел ли кто из пассажиров, кондуктору нет дела, он мчит карету с тою же скоростью, лишь бы в назначенное время поспеть к известному месту. От постоянного сидения в одном положении ноги затекают, немеют, и человек чувствует себя совершенно связанным. К довершению благ, наступили довольно значительные морозцы, и я чуть не отморозил себе ноги. Еще днем хорошо, разнообразие открывающихся ландшафтов занимает путешественника, но ночью, в особенности вторую и третью ночь, когда утомишься от бессонницы, одолевают какие-то кошмары, являются какие-то видения и прочая чепуха. Никогда не любил я путешествий в мальпостах, хотя и приходилось раза 4 проехать это пространство. Наконец, на третьи сутки мы ввалились в Петербургский почтамт и оттуда на извозчиках проехали в квартиру брата Федора.
Переезд по видным улицам Петербурга — Большой Морской, Невскому проспекту и Караванной — в осенние петербургские сумерки не произвел на меня приятного впечатления, а водворение в мрачную и низенькую квартиру брата еще более разочаровало меня. Брат в то время жил в Караванной улице близ самого манежа, так что ему близко было ходить в офицерские классы главного инженерного училища. Он занимал квартиру в две комнаты с передней, при которой была и кухня: но квартиру эту он занимал не один, а у него был товарищ-сожитель Адольф Иванович Тотлебен. Тотлебен занимал первую комнату от передней, а брат — вторую, каждая комната была о двух окнах, но они были очень низенькие и мрачные, к тому же табачный дым от Жукова табаку постоянно облаками поднимался к потолку и делал верхние слои комнаты наполненными как бы постоянным туманом. — Мы ввалились в братнину квартиру в сумерки. Первая встреча с братом Федором была тоже не из особо теплых. Большее внимание было обращено на старшего брата, а я в первое время чувствовал себя даже в неловком положении. Брат представил меня Адольфу Ивановичу Тотлебену, который был так добр, что занялся мною. Два же брата заперлись в комнате брата Федора, оставив меня в комнате Тотлебена. На ночлег тоже два старших брата уединились, а я ночевал на турецком диване в комнате Тотлебена. Это продолжалось во все пребывание брата Михаила в Петербурге. По отъезде же его в Ревель я переселился на ночлег к брату Федору, но все-таки особо родственным вниманием брата не пользовался.
Обдумывая как тогда, так и впоследствии обращение со мною обоих братьев, я пришел к убеждению, что оно вызвано было с их стороны боязнью, чтобы я не поставил себя на одну равную ногу с ними, чтобы я не зазнавался, а потому и напускали на себя в отношении ко мне высокомерное обращение, казавшееся и тогда мне очень смешным.
Не знаю, что сказать мне про первые впечатления жизни в Петербурге. Брат Михаил, спеша в Ревель, оставался в Петербурге несколько дней. В эти дни я с ним по утрам постоянно ходил по городу как для того, чтобы немножко ознакомиться с ним, так и для помощи брату; брат был очень близорук и постоянно просил меня останавливать его при встрече с витой кокардой (генеральские кокарды на треуголках) для того, чтобы он мог отдать вовремя подобающую генералам честь. Эту честь в то время отдавали довольно оригинально, а именно: офицер, встретившись с генералом, должен был становиться во фронт, сбрасывать с левого плеча шинель, чтобы показать или обозначить эполет, а правою рукой прикоснуться к треуголке (как нынче к козырьку; в то же время почти все офицеры носили треуголки). За соблюдением этого правила следилось очень строго, а потому, идя по Невскому и другим большим улицам, офицеры не могли застегивать воротника шинели, потому что почти беспрестанно приходилось сбрасывать шинель с левого плеча. Эта операция делалась очень ловко, и другие офицеры доводили ее до особой грациозности. Я же всегда удивлялся, как они во время грязи умудряются не запачкать левой полы шинели.
Первые мои впечатления были не в пользу Петербурга. Хотя Невский проспект и Морская прельщали меня своею красотою, но я, как истый москвич, на все смотрел как-то подозрительно, не доверяя сразу кажущейся красоте, а суетливая беготня прохожих положительно изумляла меня, и я, сравнивая это со степенною походкою москвичей, отдавал предпочтение московской степенности и неторопливости. Да сверх того 2–3 часа, проведенные на улицах, как бы они приятны ни были, не могли возместить страшной скуки, преследовавшей меня в доме.
Брат Михаил уехал в Ревель. Брат же Федор с раннего утра уходил в офицерские классы инженерного училища; то же делал и сожитель его Тотлебен; а я на все утро оставался дома один. В первое время брат долго не собрался доставить мне руководств для приготовления; литературного же чтения тоже на квартире не имелось, и я пропадал со скуки. Наконец, я догадался и на свои деньги записался в библиотеку для чтения, чтобы брать книги на дом. Месячная стоимость тогда за чтение книг была 1 ½ рубля, и сверх того 7 рублей задатку. С этих пор я постоянно занимался чтением журналов и книг. Из старых книг я, по совету брата, прочел всего Вальтер Скотта. К Адольфу Ивановичу Тотлебену довольно часто приезжал его родной брат Эдуард Иванович, впоследствии знаменитый инженер, защитник Севастополя и герой Плевны, граф Тотлебен. В то же время, как я с ним познакомился, он был незаметным штабс-капитаном, мужчиной лет 30 с лишком. Замечательно, что он, как я тогда слышал, окончив обучение в кондукторских классах главного инженерного училища, по каким-то обстоятельствам не мог поступить в офицерские классы, а был командирован в саперные войска, в каковых и провел службу вплоть до чина генерал-майора. А потому, собственно-то говоря, и с ним случилась та аномалия, что он, сделавшись впоследствии знаменитым и великим инженером, должен был считаться не окончившим курс в инженерной академии.
Сожительство брата с Адольфом Тотлебеном было очень недолгое. Не припомню, когда именно они разошлись, знаю только, что в декабре месяце, когда я заболел, то мы жили уже с братом одни[24].
Какая была у меня болезнь, теперь я не могу определенно сказать, кажется, я где-то простудился, и у меня сделалась сильнейшая тифозная горячка; по крайней мере я долгое время лежал и, наконец, впал в беспамятное состояние. Брат ухаживал за мною очень внимательно, он давал лекарства, предписываемые доктором, который ездил ежедневно{61}. Но тут-то и случился казус, сильно напугавший брата и, кажется, бывший причиною моего очень медленного выздоровления. Дело в том, что одновременно с моею болезнью брат лечился сам, употребляя какие-то наружные лекарства, в виде жидкостей. Раз как-то ночью брат, проснувшись и вспомнив, что мне пора принимать микстуру, спросонья перемешал склянки и налил мне столовую ложку своего наружного лекарства. Я мгновенно принял и проглотил его, но при этом сильно закричал, потому что мне страшно обожгло рот и начало жечь внутри!.. Брат взглянул на рецептурку и, убедившись в своей ошибке, начал рвать на себе волосы и сейчас же, одевшись, поехал к пользовавшему меня доктору. Тот, приехав мгновенно, осмотрел склянку наружного лекарства, которое мне было дано, прописал какое-то противоядие и сказал, что это может замедлить мое выздоровление. — Слава Богу, что не произошло худшего, а что выздоровление действительно замедлилось, то в этом мы с братом убедились оба.
С началом моего выздоровления случился новый казус — заболел брат и должен был лечь в лазарет при главном инженерном училище. Я же дома остался совершенно одиноким. Но как медленно было выздоровление мое вначале, так оно быстро восстанавливалось впоследствии, причем аппетит у меня сделался чисто волчий. Скоро я начал выходить, и это, конечно, опять стало развлекать меня.
К числу своих развлечений отнесу и то, что я почти ежедневно описывал свои впечатления, адресуя их к сестре Вареньке и мужу ее, но хотя я и писал ежедневно, но отсылал письма однажды в неделю, по нескольку листков зараз. Это я не переставал делать до самого своего поступления в строительное училище. Жалею очень, что этот мой дневник первоначального пребывания в Петербурге пропал, и хотя сестра Варвара Михайловна и передала мне впоследствии некоторые мои к ним письма из Петербурга, но в этой пачке первоначальных моих писем не оказалось.
Как теперь помню одно поразившее меня обстоятельство. 2 февраля 1842 года, в день праздника Сретения, я, встав утром с постели, был удивлен сильным ливнем дождя, бывшим на дворе, хотя накануне было морозно и стояла совершенно зимняя погода. Я, живши в Москве, никогда не испытывал подобных быстрых перемен погоды, и это обстоятельство очень меня поразило, и я часто подходил к открытой форточке, чтобы полюбоваться на тихо и ровно падающий дождь. Брат же после сообщил мне, что этакие перемены в Петербурге не в диковинку, а составляют почти обычное явление.
С начала 1842 г. брат начал подыскивать другую квартиру, находя прежнюю неудобною; после долгих розысков он остановился на квартире в Графском переулке, что близ Владимирской церкви, в доме Пряничникова, куда мы и перебрались в феврале или марте месяце. Квартира эта была очень светленькая и веселенькая; она состояла из трех комнат, передней и кухни; первая комната была общей, вроде приемной, по одну сторону ее была комната брата, а по другую — очень маленькая, но совершенно отдельная комнатка для меня.
В эту квартиру к брату довольно часто ходили две новых для меня личности, с которыми я и познакомился.
1. К. А. Трутовский {62}. Это был симпатичный юноша; он был тоже в главном инженерном училище, на один год, по классам, моложе брата; тогда он был еще в высшем кондукторском классе и часто ходил к брату. Он и тогда отлично рисовал и часто на клочках бумаги простым карандашом набрасывал различные эскизы; у меня и теперь хранится где-то в бумагах его рисунок, сделанный им тогда у брата, изображающий шарманщика. Впоследствии Трутовский, кончив курс в офицерских классах инженерного училища, вскоре покинул свою инженерную службу и поступил в Академию художеств, где серьезно занимался и достигнув впоследствии степени академика живописи. — После знакомства в 1842 году я не встречался с Трутовским, но память о нем всегда была для меня симпатична. Он умер 17 марта 1893 года.
2. Дмитрий Васильевич Григорович{63}. Он был товарищем брата по инженерному училищу и в это время часто бывал у брата, а впоследствии, когда я поступил в строительное училище, он, кажется, был и сожителем его. В описываемое мною время Д. В. Григорович был молодым человеком лет 21, то есть таких же лет, как и брат. Это был очень веселый и разговорчивый господин. В то время я узнал об нем следующее: Григорович, дойдя до старшего кондукторского класса, перестал заниматься науками, а всецело предался рисованию, и в то время, например, когда Остроградский читал лекции, он преспокойно рисовал его портрет. Ближайшие наставники и наблюдатели, после различных мер домашних, решились донести об этом великому князю Михаилу Павловичу, а тот, на докладе положив резолюцию: «Лучше быть хорошим художником, нежели плохим инженером», — велел выпустить Григоровича вовсе из заведения. И вот в 1842 году он был уже в штатском платье и, кажется, занимался в академии живописью. Это был брюнет очень высокого роста и весьма тогда тощий. Одно из отличительнейших тогдашних свойств его — была особая способность чрезвычайно верно и схоже подражать голосам хорошо знакомых ему лиц. Он был большой театрал и чрезвычайно верно и натурально говорил голосом различных тогдашних артистов. По его декламациям тотчас узнавали Каратыгина. Или когда начнет, бывало, крикливым и певучим голосом декламировать:
Полки российские, отомщением сгорая, Спешили в те места, стояли где враги. Лишь только их завидели — удвоили шаги. Но вскоре тучи стрел, как град средь летня зноя, Явились к нам — предвестницею боя…то все, смеясь кричали: «Толченов, Толченов…» И действительно, подражание было удивительное {64}! Много он тогда воспроизводил мотивов и пел из готовившейся тогда постановки новой оперы Глинки «Руслан и Людмила».
Когда Григорович бывал у брата, то всегда время проходило очень весело, потому что он ни на минуту не переставал что-нибудь рассказывать из театрального мира, и вообще что-нибудь интересное. Со времени поступления в строительное училище я перестал видеть Дмитрия Васильевича, но постоянно сохранял о нем самые приятные воспоминания. Тут же написал об нем только то, что сам успел подметить. Дальнейшая же карьера этого выдающегося человека и его литературные труды известны всей России.
Упомяну также здесь о случившихся раза 3–4 вечеринках у брата, на которые собирались несколько офицеров (товарищей брата) с целью игры в карты; в первое время своего офицерства брат очень увлекался игрою, причем преферанс или вист были только началом игры, а вечер постоянно кончался азартною игрою в банк или штосс. Помню, что в подобные вечера я занимался хозяйственной частью, наливая всем гостям чай и отправляя в комнату брата, где происходила игра, с лакеем Егором. После же чая всегда подавался пунш, по одному или по два стакана на человека.
С переездом на новую квартиру я начал усиленно заниматься приготовлением к приемному экзамену в главное инженерное училище. Брат достал мне все руководства, большею частью в виде литографированных записок. Предметы, требуемые по математическим наукам, т. е. арифметика, алгебра и геометрия, были мне вполне знакомы по пансиону, брат сам убедился в этом, сделав мне экзамен. Но я все-таки прочитывал записки и по математике, чтобы на экзамене быть как дома, главнейшее же внимание обращал я на словесные предметы и преимущественно на историю и географию. Кроме того, брат мне показал способ черчения ситуации и принес несколько образцов для копирования и для навыка, потому что черчение ситуации было тоже в приемной программе. Одним словом, освоившись со всем, что необходимо было приготовить к экзаменам, я вовсе их не страшился, этих предстоящих экзаменов.
Помню, что в это же время я пристрастился к театру, конечно, к Александринскому, где тогда играли светила драматической труппы: Каратыгин, Сосницкие, Мартынов, Самойлов и прочие. Я ходил постоянно в так называемую галерею, стоимостью в 25 коп. Иногда этот четвертак презентовал мне брат, но чаще всего я прокучивал свой собственный капитал, то есть те 25 рублей, которыми снабдила меня тетушка и которых оставалась еще у меня половина.
Пасха 1842 года была довольно поздняя (19 апреля), и на Страстной неделе я говел, а заутреню и Пасху встречал в Казанском соборе. Хотя брат и предсказывал мне, что меня затолкают, но я все-таки пошел и забрался в собор чуть ли не с 10 часов вечера, чтобы занять хорошее место. Затолкать-то меня не затолкали, хотя было похоже и на это, но зато я чуть не сомлел, как говорится, от страшной жары и духоты. С одним из обходов по церкви архиерея я как-то за этою процессиею пробрался ближе к выходу и очень рад был, когда, не достояв утрени, очутился на улице и, конечно, сейчас же отправился домой.
После Пасхи я начал еще усиленнее заниматься и только по вечерам позволял себе довольно отдаленные прогулки. Май месяц в Петербурге своими светлыми ночами делает на новичков-приезжих одуряющее впечатление. В особенности памятны мне вечера, проведенные в загородных гуляньях: 1-го мая в Екатерингофе, на день св. Духа — в Летнем саду и 1-е июля — на Елагином острове. Это последнее гулянье произвело на меня большое впечатление, потому что на нем я увидел в первый раз грандиозный фейерверк. А еще более мне понравилось возвращение с этого гулянья в город после 2 часов ночи, когда было уже совершенно светло. Массы народа отдельными группами при восхитительной летней погоде тянулись почти непрерывно, как будто в крестном ходу.
Наконец, настало время приемных экзаменов. Воспоминание об этом времени очень долго было для меня самым неприятным, самым удручающим воспоминанием. Даже и теперь мне больно рассказывать об этом происшествии, но, несмотря на это, приступлю к описанию его.
Еще с ранней весны я был записан кандидатом для держания вступительных экзаменов, а потому в конце июля я получил повестку явиться в училище на такое-то число (теперь я с точностью дня не помню, знаю только, что это было в начале августа) к 9 часам утра, причем в повестке было обозначено, в какие дни какие будут производиться экзамены. Помню, что на первый день были назначены экзамены по алгебре и геометрии, на второй — по арифметике; а прочих экзаменов не припомню.
И вот в назначенный для экзаменов день я за полчаса ранее явился в училище. Меня ввели в довольно большую комнату, где расставлены были черные доски, к которым вызывались экзаменующиеся. Вероятно, это был один из кондукторских классов. Тут уже было несколько человек кандидатов таких же, как и я. Мне указали место возле них, и я уселся на скамейке. Ровно в 9 ч. утра пришли экзаменаторы, то есть военные инженеры, в числе двух человек. Помню, что оба были штаб-офицеры, т. е. подполковники. Вероятно, вызывали по алфавитному списку, потому что мне пришлось не долго дожидаться. Я подошел к доске к одному из экзаменаторов.
— Ваша фамилия?..
— Достоевский.
После этого опроса экзаменатор, вынув какую-то свою записочку и просмотрев ее, и, вероятно, не найдя моей фамилии, опять обратился ко мне:
— Да у кого же вы приготовлялись?..
— У брата, инженер-поручика Достоевского.
— А-а-а-а-а… Ну-с, приступим…
И с этими словами, действительно, приступил к экзаменовке. Это было по геометрии. Мне задано было 2–3 вопроса, на которые я отвечал безукоризненно. Потом он прошелся слегка по всему курсу и ответы тоже получил без замедления.
— Хорошо-с… довольно… — проговорил он и указал мне перейти к другой доске, где был другой экзаменатор по алгебре.
Этот господин, вероятно, слышавший опрос о моей фамилии первого экзаменатора, — подобного опроса уже не делал, а, пока был занят с моим предшественником, задал мне для решения алгебраическую задачу на уравнение 1-й степени на близстоящей третьей доске. Я очень скоро решил эту задачу, даже проверил ее и убедился, что она решена верно. Когда же дошло дело до устного экзамена, то мне тоже предложено было несколько вопросов, на которые я отвечал тоже без запинки.
По окончании экзамена присутствовавший тут, вероятно, один из ротных офицеров сейчас же предложил мне идти домой. Вероятно, был заведен такой порядок для того, чтобы лишних глаз при экзаменах не было.
Всякий экзаменующийся, и экзаменующийся не первый раз, конечно, есть лучший оценщик того, хорошо ли он сдал экзамен или не совсем удовлетворительно. Само собою разумеется, что оценка эта тогда только будет верна, когда экзаменующийся даст в этом отчет своей совести! И вот помню, что тогда, давая отчет своей совести, я, возвращаясь домой, был уверен, что сдал два экзамена вполне благополучно, о чем и сообщил брату, рассказав все подробности экзаменов.
На второй день я явился в училище на экзамен по арифметике. Комната была уже другая, но обстановка та же, и экзаменатор был только один.
Тот же вызов к доске, тот же вопрос о фамилии, та же справка со своим списочком, тот же возглас: «У кого же вы приготовлялись?» и то же «А-а-а-а-а!..» — по выслушании моего ответа. Из двух-трех задач для решения по арифметике помню, что на одной я несколько времени задумался. «Подумайте, — сказал экзаменатор, — а я пока займусь другим». Минуты через три я напал на правильное решение вопроса и сейчас же решил эту задачу, и решил верно, что высказал и экзаменатор. На вопросы же по теории арифметики я отвечал бойко и без заминки. По окончании этого экзамена я был сейчас же выпровожен по-вчерашнему из здания училища и возвратился домой с тем же убеждением, как и в предшествующий день, что экзамен сдан успешно.
На третий день был перерыв в экзаменах, и я в инженерное училище не ходил. Но зато пошел в училище брат Федор, чтобы справиться о результатах трех главных (математических) экзаменов.
Возвращения его я дожидался с нетерпением и помню, что, завидя его в окно, я выскочил на лестницу, чтобы скорее узнать о результате трех выдержанных экзаменов.
Брат, очень серьезный, вошел в переднюю и, не отвечая на мои вопросы, прошел к себе в комнату. Через несколько минут он вернулся ко мне и сказал: «Плохо, брат, дело прогорело; ты не выдержал экзамена!»
— Как не выдержал? — возразил я, — да этого не может быть!
— Выдержать-то выдержал, но не так успешно, чтобы быть принятым… И тут брат рассказал мне все узнанные им подробности. Ему прямо сообщили, что, хотя отметки у меня и приемные, но что я далеко остался за флагом, ввиду того, что экзаменующихся было гораздо более, чем ваканций (экзамен конкурентный) и что я не могу и рассчитывать на то, чтобы быть принятым в училище, и в силу этого брату сказали, чтобы он не трудился присылать меня для экзаменов по прочим предметам.
Можно себе представить мое положение! Целый год, проведенный в надежде поступления, прошел для меня бесследно!.. Ведь ежели бы я остался в пансионе Чермака, то я поступил бы уже в это время в университет. Все это я тогда же высказал брату, горько плача и рыдая.
Брат, видимо, был расстроен и начал утешать меня, что я еще молод, что можно поступить в какое-либо другое заведение и что вообще об этом деле надобно подумать, да и подумать!
Конечно, я сейчас же написал о своем горе в Москву Карепиным, ожидая с нетерпением ответа их, чтобы узнать, как отнесутся в Москве к моему горю.
Я очень горевал, между прочим, и тогда, и впоследствии, и даже в настоящее время, когда пишу об этом (1896 г.), я неоднократно задавал себе следующие вопросы и соображения:
1) Зачем брат Михаил, вероятно, с согласия брата Федора, оторвал меня от пансиона Чермака?
2) Неужели им неизвестны были все порядки приемных экзаменов?
3) Ведь они сами были отданы отцом в 1837 году на приготовление к приемному экзамену к профессору училища Коронаду Филипповичу Костомарову.
4) Ведь они сами писали отцу от 6 сентября 1837 года следующее: «Всех кандидатов 43. Мы так рады, что так мало. Прошлого года было 120, а в прежние годы 150 и более. И ученики Костомарова всегда были из первых. Что же ныне, когда так мало! Правда, комплект есть 25, но, кажется, довольно забракуют, ибо все, по-видимому, пустые люди, и все в 4-й класс. Они, по-видимому, чрезвычайно боятся учеников Костомарова. Всем нам такое уважение. Что-то дальше?..»
5) Ведь странно было не понять, почему ученики Коронада Филипповича всегда были из первых и почему прочие кандидаты боялись этих учеников?..
6) Ведь брат Федор, ежели и не догадался об этом в первый год, то, быв свидетелем тех же порядков в последующие пять лет, должен был оказаться чистым младенцем, чтобы не понять самой сути дела{65}.
7) А ежели он сознавал суть дела, то зачем вовремя не поместили меня для приготовления к одному из Коронадов Филипповичей?
8) Ведь дядя Александр Алексеевич, узнав о сути дела, вероятно, не отказал бы от единовременных пустяшных для него трат, чтобы окончательно довести меня до пути…
Соображая все это, невольно прихожу к убеждению, что я оторван был от пансиона Чермака и потерял целый год даром в Петербурге, заведомо для братьев, единственно ввиду их денежных расчетов, потому что, как я узнал впоследствии, дядя сообщил брату Федору порядочную сумму денег за мое годовое содержание и приготовление и что за сумму эту меня можно было бы поместить для приготовления к любому из Коронадов Филипповичей. Да! Коронады Филипповичи — великое зло, которое существует и теперь, при всех конкурсных экзаменах в различные технические заведения, и зло это будет существовать всегда; его можно только избегнуть с уничтожением конкурсных экзаменов и приемом всех без ограничения выдержавших экзамен для поступления в технические высшие учебные заведения.
Вскоре пришел и ответ из Москвы от Карепиных. Добрейший Петр Андреевич, утешая меня в неудаче и ободряя, посоветовал побывать у Ивана Григорьевича Кривопишина, у которого я уже неоднократно бывал в Петербурге, и, рассказав ему свою неудачу, просить его о помощи для поступления в какое-либо другое из технических училищ в Петербурге, причем Петр Андреевич присовокупил, что он одновременно об этом пишет Кривопишину и сам.
Конечно, по совету этому я в первое же воскресенье пошел к Ивану Григорьевичу, и этот истинно добрый человек обласкал меня, как всегда, и обещал не только сам подумать обо мне, но и посоветоваться с другими знающими и опытными людьми о моей дальнейшей карьере, как выразился он.
Кстати об Иване Григорьевиче Кривопишине.
В биографии Ф. М. Достоевского, написанной профессором Ор. Фед. Миллером, которая вошла в состав 1-го тома полного собрания сочинений (первого посмертного издания), на странице 30-й сказано, со слов доктора Ризенкампфа, что будто «Достоевский-отец (т. е. наш отец), определяя обоих сыновей в инженерное училище, рассчитывал, между прочим, и на своего родственника генерал-лейтенанта Кривопишина, занимавшего влиятельную должность в инспекторском департаменте».
Это сведение, вошедшее в биографию Ф. М. Достоевского, со слов Ризенкампфа, — ошибочно. Никогда Достоевские не состояли в родстве с Кривопишиными, и отец наш не только не был в родстве, но даже и не знал о существовании Кривопишина. Знакомство же братьев и мое с этим истинно добрым и почтенным господином и покровительство его нам произошло следующим образом.
Зять наш, Петр Андреевич Карепин, женившись на нашей сестре Варваре Михайловне, был первоначально женат первым браком, и по этому первому браку он состоял свояком с Кривопишиным (то есть Карепин и Кривопишин были женаты на родных сестрах). Впоследствии как Карепин, так и Кривопишин овдовели оба, и вновь оба женились; но, несмотря на это, не прерывали своих дружески-родственных отношений. И вот Карепин, породнившись с нами и зная, что в Петербурге воспитывается его шурин (Федор Михайлович Достоевский), рекомендовал его вниманию своего друга-родственника Ивана Григорьевича Кривопишина. Сей господин, как по доброте своей, так и по дружбе к Петру Андреевичу, нарочно ездил в инженерное училище и там обласкал брата Федора, который был еще в кондукторских классах. Впоследствии, сделавшись офицером, он был очень радушно принимаем Кривопишиным, который и делал как ему, так и брату Михаилу значительные услуги, о чем ярко упоминается в письме Ф. М. к брату Михаилу от 27 февраля 1841 года[25]. Для меня же Иван Григорьевич Кривопишин сделал истинное благодеяние, потому что при его посредстве я поступил в училище гражданских инженеров (впоследствии строительное). Благодарную память к нему я сохраняю и доселе. В заключение об Иване Григорьевиче Кривопишине скажу, что тогда он был вице-директором инспекторского департамента военного министерства, в чине генерал-майора. Квартиру он имел очень роскошную в здании Главного штаба, куда я и хаживал к нему.
Теперь сообщу об одном эпизоде, случившемся со мною именно в это время, то есть вслед за неудавшимися приемными экзаменами в главное инженерное училище. Эпизод этот хотя и пустой в сущности, но мог гибельно повлиять на всю судьбу мою!
Еще летом я встретился в городе с одним кадетом института путей сообщения Образцовым, он был москвич и первоначально учился в пансионе Чермака, быв моим товарищем по 3-му классу. Годом ранее он вышел из пансиона Чермака и, переселившись в Петербург, был пристроен и поступил в институт путей сообщения. — В описываемое время он целый год пробыл уже в институте и теперь переходил из 1-го класса во второй. Образцов, встретившись со мною в Петербурге, возобновил со мною знакомство и часто заходил ко мне.
В один из своих приходов он сообщил мне о себе следующее: 1) что он выдержал успешно переходный экзамен из 1-го класса во 2-й из всех предметов, кроме русской истории, по которой ко дню экзаменов он вовсе не был приготовлен, а потому, во избежание провала, ушел, якобы больной, в лазарет; 2) что теперь ему пора сдавать пропущенный экзамен из истории; 3) что у них в институте практикуется следующий способ для подобных экзаменов: кадету выдается из канцелярии института экзаменационный лист, с которым кадет и идет на дом к профессору, прося его проэкзаменовать (как не державшего по болезни экзамена) и проставить отметку в экзаменационном листе и возвратить ему этот лист для представления в канцелярию; 4) что ему, Образцову, выдали уже этот экзаменационный лист и что ему надобно с этим листом идти к профессору истории капитану Баландину на дом и сдавать экзамен. Но что он и до сих пор из всего курса ничего не знает и наверняка провалится.
Сообщив все это, Образцов начал упрашивать меня сделать ему товарищескую услугу и проэкзаменоваться у капитана Баландина на дому вместо него, Образцова.
Несмотря на свою молодость и неопытность, я все-таки сознавал, что поступок этот, ежели я решусь исполнить просьбу Образцова, будет поступком нехорошим и что вообще это очень рискованный поступок, а потому по первому разу я наотрез отказал Образцову. Но тот настойчиво, в продолжение целой недели преследовал меня своими просьбами, уверяя честным словом, что ни о каком риске тут не может быть и речи, потому что Баландин не знает ни одного кадета по фамилии, что он чрезвычайный сибарит и, кроме себя, ни о ком и ни о чем не думает и т. п. В конце концов пришло к тому, что я, наконец, решился и дал слово. Помню, как теперь, что это окончательное согласие с моей стороны последовало во время нашей совместной вечерней прогулки на площади Семеновского полка. Был выбран и решен день, когда я должен был ехать экзаменоваться к Баландину вечером около 6 часов.
В назначенный день Образцов зашел ко мне часов в пять вечера, мы сейчас же вышли из дому и зашли в одну кондитерскую. Тут, взяв отдельную комнату, мы переменились костюмами. Образцов надел мою штатскую пару, а я его кадетский мундир, с тесаком на портупее и с кивером на голове. Но так как я шагу не умел ступить в кадетском платье, то решено было, что Образцов довезет меня до самой двери в квартиру Баландина на извозчике. Так и сделали. Приехав на место, Образцов позвонил, а я несмело спросил у лакея, дома ли капитан Баландин, и на ответ его, что дома, я просил доложить ему, что пришел кадет Образцов (который между тем гулял по тротуару около дома в моем штатском платье) для сдачи экзамена, причем вручил ему и экзаменационный лист.
Через несколько минут возвратившийся лакей ввел меня в залу, и туда вышел сам Баландин с моим экзаменационным листом в руках.
— Ваша фамилия Образцов и вы были больны во время экзаменов?
— Точно так, господин капитан.
Не задай он в такой форме вопроса, а спроси прямо: «Как ваша фамилия?»… то я не ручаюсь за себя, чтобы не ответил «Достоевский» вместо «Образцов». Но, слава Богу, этого не случилось.
Задав мне вопроса 3–4, не помню уже какие, он, видимо, остался доволен моими ответами и, наконец, в заключение задал следующий вопрос:
— Перечислите мне по порядку всех царствующих особ дома Романовых.
Я перечислил всех без запинки, но нелегкая меня дернула после императрицы Анны Иоанновны упомянуть Анну Леопольдовну.
При этом Баландин только взглянул на меня, но не прервал, а дал докончить перечисления до царствующего императора Николая I, и только, когда я закончил этим, он сказал:
— Вы не совсем правильно в одном месте выразились: Анна Леопольдовна никогда не была царствующею особою, она только была правительницею во время кратковременного царствования младенца сына своего императора Иоанна III, которого вы совсем не упомянули. Но, впрочем, хорошо…
Поставив в экзаменационном листе балл 7,75 (при полных 10) и подписав его, он, вручая его мне обратно, сказал, чтобы я его завтра же утром сдал в канцелярию.
Получив обратно лист и раскланявшись с капитаном Баландиным, я кое-как, дрожа всем телом, как преступник, вышел из квартиры, и тут меня принял в свои объятия Образцов, выслушав все мною рассказанное. Мы сейчас же заехали в ту же кондитерскую, где опять переменились костюмами, и затем только я совершенно успокоился. Напившись чаю в кондитерской, мы отправились в театр.
На другой день, когда я сообщил брату о случившемся, он просто ахнул, и тогда только я уразумел, чему подвергся бы в случае открытия обмана и подлога. Брат говорил мне тогда, что, в случае открытия обмана, нам обоим не миновать бы солдатчины, а в меньшей мере — распоряжения, чтобы меня не принимали ни в одно казенное учебное заведение.
Между тем добрейший Иван Григорьевич Кривопишин не забыл своего обещания, и как-то брат, возвратившийся из классов (он тогда был в старшем офицерском классе), рассказал мне, что Кривопишин заезжал к нему в инженерное училище и сообщил, что я могу быть определен в училище гражданских инженеров, состоящее под ведением Главного управления путей сообщения, а потому и сказал, что ежели мы, а главное я согласен поступить в сказанное училище, то чтобы я немедленно приходил к нему сообщить о своем решении. — При этом, помню, брат расхваливал мне это училище, говоря, что будущность гражданских инженеров гораздо выгоднее в материальном отношении, чем будущность военных инженеров. Вообще я заметил, что брат очень желал, чтобы я принял сделанное мне предложение.
Я же, с своей стороны, с первых слов брата был крайне обрадован возможностью покончить свое неопределенное положение, а потому на другой же день утром и пошел к Ивану Григорьевичу.
— А, здравствуйте, мой дорогой! Ну, что надумали вы с братом?
— Я пришел благодарить вас за ваше милостивое ко мне внимание и доброту…
— Все это очень хорошо, но главное, мне надобно знать, желаете ли вы поступить в училище гражданских инженеров?
— Желаю и еще раз прошу ваше превосходительство посодействовать моему туда поступлению.
— Ну, вот и отлично, очень рад, что могу устроить вас и обрадовать моего друга и брата Петра Андреевича. Видите ли, дело в том, что я хорошо знаком с директором училища гражданских инженеров генералом Притвицем, которому и говорил о вас. Он ответил мне, что поступить в училище очень легко, нужно для этого только найти случай попросить об этом графа П. А. Клейнмихеля. Ну, а мне случая находить не надо, я сам ему хорошо известен и сам могу поехать к нему и подать об определении вас докладную от себя записку. Но исполнить это, не заручившись вашим согласием, конечно, я не рискнул; теперь же дело другое, в первый приемный день я поеду к графу и надеюсь, что мое ходатайство будет вполне уважено.
Я ушел от Ивана Григорьевича вполне успокоенный и с нетерпением поджидал от него известий о результате его ходатайства у Клейнмихеля. Брат Федор тоже был очень доволен таким скорым и благоприятным исходом моего неопределенного положения.
Между тем, приближаясь к концу повествования о пребывании моем в Петербурге у брата — не у дел, я, чтобы быть совершенно правдивым, должен упомянуть еще об одном эпизоде, случившемся со мною именно в это время.
Был уже сентябрь месяц, температура сделалась прохладною, и я, рыская по городу, не мог уже довольствоваться одним сюртуком с верхнею накидкою, но облекался в теплую шинель. Шинель эта, как теперь помню, темно-синего сукна на шелковой черной подкладке с бархатным воротником, была переделана мне из шинели дяди Куманина, которую он почему-то перестал носить. Шинель была совершенно новенькая и вообще довольно ценная вещь. Прогуливаясь часу во втором дня по солнечной стороне Невского проспекта, я натолкнулся на следующую сцену: идет навстречу мне какой-то оборванец и, показывая мне открытый футляр с драгоценным перстнем, говорит: «Барин, купите кольцо, кольцо дорогое, а продам за дешевую цену, деньги нужны».
Конечно, я не обратил почти вовсе никакого внимания на это предложение, но вслед за мною шел толстый, видимо, богатый купец в лисьей шубе; поровнявшись со мною, он тоже обратил внимание на продавца кольца: «Покажи, покажи, молодец, свое кольцо». Осмотрев его тщательно, купец сказал: «Иди за мною, я куплю твой перстень», но продавец мгновенно исчез. Купец же, обратясь ко мне, проговорил: «Убежал, побоялся идти со мною, а кольцо ценное… вещь тысячная, а можно бы купить за дешево… Оно, видимо, или ворованное, или продавец сам не знает ему цены… Случается покупать за бесценок!» — и прошел дальше. Между тем оборванец-продавец опять вернулся ко мне и опять открыл футляр: «Что же, барин, купите кольцо!» — «Да у меня денег нет», — ответил я. «Я и без денег продам, — приставал он ко мне, — может быть, есть часы?» — «Часов нету», — ответил я. «Ну, так вот шинелька, хотя и убыточно, а я променяться бы согласен…»
Разгорелись у меня глаза. Я сейчас сообразил, что шинель мне скоро будет не нужна, потому что скоро облекусь в казенную форму, а отзыв купца о тысячной вещи соблазнительно подействовал!.. И вот я, как крыловская ворона, каркнул во все воронье горло, — то есть снял с себя дорогую шинельку и получил якобы тысячную вещь; налегке побрел домой, причем и дома не переставал любоваться блеском и игрою воды в дорогом камне.
Как только возвратился из классов брат, я не преминул похвастаться брату своею покупкою.
— Как купил?!. Сколько заплатил? — спросил брат. Тогда я рассказал брату всю сцену с продавцом и мимо шедшим богатым купцом.
— Ну, брат, виноват, что не предупредил тебя: ведь и продавец, и купец — это одна шайка мошенников.
При этом он взял перочинный ножичек и выковырнул мнимый бриллиант, под которым оказалась светлая фольга, а самый бриллиант — стеклышком.
Горько было мне убедиться в том, что я так опростоволосился, но еще горше и досаднее было то, что я должен был на несколько дней покупать себе шинель, потому что не мог же я выходить на улицу без шинели, да и явиться в училище, когда буду принят, не мог я без шинели. И вот на толкучке я приобрел шинель за 5–6 рублей подержанную, камлотовую.
Между тем я был снова призван к Ивану Григорьевичу Кривопишину, который сообщил мне, что граф Клейнмихель принял его очень любезно и, взяв его докладную записку, обещал ему, что я буду принят немедленно. А потому Иван Григорьевич велел предупредить брата, что, вероятно, он скоро получит бумагу из училища о принятии меня.
И, действительно, через несколько дней брат получил официальную бумагу из канцелярии училища гражданских инженеров, в коей значилось, что недоросль из дворян Андрей Достоевский, по распоряжению г-на главноуправляющего путями сообщения, зачислен кандидатом в училище гражданских инженеров, с тем чтобы немедленно был принят в училище, впредь до дальнейшего об нем распоряжения, а потому канцелярия училища и просит брата доставить меня немедленно в училище.
Получив эту бумагу, мы решили, что брат представит меня в училище завтра же утром. И, действительно, на другой же день, брат, облекшись в полную парадную форму, повез меня в училище и по справкам, собранным в канцелярии, мы узнали, что меня должно лично представить помощнику директора полковнику Мурузи, которого квартира была тут же, при училище, и которую нам указали.
Войдя в эту квартиру, мы увидели почти дряхлого на вид старика, в белой шерстяной фуфайке, таких же штанах и с белым колпаком на голове (было 10 час. утра). Личность эту очень легко можно было принять за старика-повара. К нему-то брат обратился с вопросом: «Полковник Мурузи дома?»
— Я — полковник Мурузи… Што вам угодно? — проговорил он старческим голосом с сильно греческим акцентом. Брат представил меня и объяснил, в чем дело. — Какой вошпитанник, какой кандидат?.. Я ничего не жнаю… а вот я наведу шправку…
Пришедший из канцелярии чиновник объяснил полковнику, в чем дело.
— Да как же я его приму, ведь на него нынче и порции не готовят, ему кушать будет нечего… А, вот што! — нашелся старик-полковник. — Я на нынешний день отпушкаю вошпитанника Достоевшкого в отпуск до вечера, — а затем, обращаясь ко мне: — До вечера, батушка, до вечера, и ежели в 8 чашов вечера вы не явитесь, до будете штрафованы… а теперь прощайте.
Мы вышли с братом от чудака-полковника, сильно посмеиваясь над его скаредностью, потому что вполне понимали, что где готовится обед на 100 человек, там не только один лишний, но и 10 человек лишних найдут, чем насытиться.
В этот последний день своей вольности, я, во-первых, сходил в Штаб к Ивану Григорьевичу Кривопишину, которому рассказал все подробности явки моей в училище; еще раз поблагодарил его и вышел от него, воротился домой и написал письмо в Москву к Куманиным, в котором порадовал их известием, что я уже принят и зачислен в училище. Затем много гулял. За обедом мы распили с братом бутылку вина в честь моего поступления, а в 7 часов вечера я был уже по дороге в училище, куда и явился ранее назначенного мне срока, т. е. ранее 8 часов вечера.
КВАРТИРА ЧЕТВЕРТАЯ
УЧИЛИЩЕ ГРАЖДАНСКИХ ИНЖЕНЕРОВ, А ЗАТЕМ СТРОИТЕЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ДО ОКОНЧАНИЯ В НЕМ КУРСА
Я поступил в училище гражданских инженеров не только во время капитальных преобразований в нем, но и во время ломки всего Главного управления путей сообщения. Бывший долгое время главноуправляющим путями сообщения граф Толь умер в летнее время 1842 года, а на его место назначен граф Петр Андреевич Клейнмихель{66}. Личность этого государственного человека во время царствования императора Николая I известна всей России, а потому не мне, в своих скромных воспоминаниях, прибавлять что-нибудь к биографии этого вельможи-сатрапа. Скажу только, что училище гражданских инженеров в последние дни своего существования и строительное училище, созданное уже самим графом Клейнмихелем, в первые семь лет своей жизни (с 1842–1849) были столь счастливы, что не удостоились посещения своего главного начальника. Вероятно, что и в остальные годы главенства графа Клейнмихеля, т. е. в 1849–1855 годы, он не посещал училища, что должно быть отнесено к особому благоволению Божию к нашей alma mater.
Училище гражданских инженеров, в которое я поступил, было заведение закрытое. В нем полагался комплект воспитанников в 100 человек. Средства, на которые содержалось училище, доставлялись земством, а именно все губернии Европейской России обложили свои земли особым налогом по грошу с десятины, и на полученные суммы каждая губерния присылала по два воспитанника из дворян губернии для воспитания в училище гражданских инженеров, и поэтому заведение наше в шутку называлось грошовым училищем. Во время ходатайства о моем определении в училище была вакансия на счет Тульской губернии, и так как дворянство Тульской губернии вовремя не прислало своего кандидата, то начальство училища и назначило само своего кандидата. На этом основании и я назначен был кандидатом на счет сумм Тульской губернии, и пока шла переписка об этом с дворянством губернии, я и числился кандидатом впредь до окончательного определения, последовавшего 6 декабря 1842 г. Одновременно с этим училищем в Петербурге существовало еще архитекторское училище с комплектом воспитанников в 50 человек, оба эти училища, по своему одностороннему образованию, не удовлетворяли в достаточной мере нуждам гражданской строительной и дорожной части; поэтому Главное управление путей сообщения и публичных зданий, в распоряжении которого находилась в то время эта часть, нашло нужным преобразовать училища: архитекторское и гражданских инженеров в одно строительное училище, на что и последовало высочайшее соизволение в 17-й день декабря 1842 года{67}.
Не могу теперь, наверное, сказать, была ли эта реформа инициативой нового главноуправляющего, графа Клейнмихеля, или мысль об этом преобразовании возникла еще прежде, а граф Клейнмихель был только ее исполнителем.
Но, как выше упомянуто, я поступил еще в училище гражданских инженеров. В момент моего поступления там происходила в буквальном смысле ломка.
Все помещение, прежде занимавшееся квартирою директора, было очищено, и директор переселился на вольную квартиру, его же бывшая квартира перестраивалась под помещение классов вновь образуемого училища. Ввиду ожидания этих преобразований, по окончании летних каникул, занятия в училище гражданских инженеров не начинались. В старшем выпускном классе воспитанникам, впрочем, читались лекции, и они занимались составлением проектов, но в младших и средних классах лекций не было, и воспитанники занимались ничегонеделанием.
Выше я сказал, что, поступив в училище в конце сентября, я был окончательно определен только 6 декабря. Это, может быть, произошло и оттого, что в это время меня подвергали приемному экзамену, ибо хотя я и был принят, но в случае несостоятельных экзаменов мог бы быть и обратно исключен. Итак, меня время от времени водили к профессорам (но не на дом, а когда они случайно приходили в училище) для проэкзаменовки. Таким образом я перебывал у всех профессоров и выдержал все экзамены очень благополучно. Оставался только экзамен из истории всеобщей и русской, которую преподавал тот же профессор, что и в институте путей сообщения, а именно капитан Баландин, у которого я экзаменовался месяц или немного более тому назад, как самозванец. Я видел уже несколько раз в училище этого капитана Баландина, и мне очень страшно было идти к нему экзаменоваться. Но, наконец, сколько я ни откладывал, а должен был идти.
Капитан Баландин начал экзаменовать, даже не взглянув на меня. Но не успел я сказать двух-трех слов, как он вскинул на меня свои глаза и долго и упорно смотрел на меня, что сильно меня взволновало. Или мой картавый язык был ему памятен (по экзамену у него на дому), или вообще он начал припоминать меня. Долго он мучил меня, как по всеобщей, так и по русской истории, и напоследок задал вопрос: «Перечислите мне по порядку всех царствующих особ дома Романовых».
Я внутренне засмеялся этому совпадению: или он хотел испытать меня и на этом вопросе, или это был один из любимых его вопросов! Но я тут же подумал: «Нет, голубчик, Анну-то Леопольдовну я теперь не упомяну!» И ответил ему правильно. В конце концов он поставил мне свой любимый балл 7,75, и экзамены мои были благополучно закончены.
Дальнейшее время шло в ничегонеделании. Хотя открытие строительного училища и считается официально 17-го декабря 1842 года, но на самом деле все было готово и соединение двух сказанных училищ в одно строительное последовало уже в январе месяце 1843 года.
Помню, что в один день (вероятно, назначенный официально) 50 человек воспитанников архитекторского училища были водворены в стенах нашего училища. Нас всех построили в две шеренги в сборном зале, прочитали приказ об открытии строительного училища, а затем развели по классам. Таким образом, открытие училища совершилось официально. Чтобы закончить с описанием открытия училища, прибавлю еще, что вслед за переводом к нам 50 воспитанников из архитекторского училища возник вопрос, вероятно, не предусмотренный прежде, о том, могут ли оставаться в училище несколько воспитанников из архитекторского училища, происходящих из мещанского сословия? Недели через 2–3 вопрос этот, в виде исключения, решен был в положительном смысле, то есть что таковые воспитанники могут доканчивать курс училища. Решение это ободрило и утешило этих воспитанников, и они остались, а впоследствии некоторые из них не только блестяще кончили курс, но и сделались известными строителями и даже профессорами архитектуры, достигнув высокого положения и по службе.
Постараюсь описать начальствующих и административных лиц в училище.
Директором строительного училища был корпуса инженеров путей сообщения генерал-майор барон Федор Карлович Притвиц.
Есть личности, которые приносят, при известных обстоятельствах, большую пользу делу или учреждению, коими они заведуют, единственно тем, что они как будто бы мало обращают на него внимания, а предоставляют ему следовать своим путем под более опытным руководством своих ближайших сотрудников. К таковым личностям принадлежал и уважаемый во всех отношениях наш любимый директор барон Федор Карлович. Он был назначен директором училища гражданских инженеров в начале 1842 года, после смерти бывшего директора генерала Козена, и управлял затем как этим училищем, так и впоследствии строительным в течение с лишком семи лет (умер на этой должности 28 августа 1849 года). В учебную часть он не вмешивался вовсе, предоставляя ее инспектору классов, хотя, между прочим, и показывал, что очень следит и интересуется этою частью. Сознавая вполне свою некомпетенцию в учебной части, он даже не считал себя и за опытного педагога, а потому в обе эти части он вносил только свой влиятельный голос тогда и там, где и когда нужно было проявить сердечную доброту в отношении к воспитанникам заведения. Об этом мало говорили, но это как-то само собою чувствовалось. Что же касается до хозяйственной части, то он зорко следил за нею, хотя и не совался в различные ежедневные мелочи, но все подчиненные знали, что ему известны мельчайшие подробности их действий и поступков, а потому держали себя, как говорится, на стороже. В дальнейших своих воспоминаниях об училище барон Федор Карлович не раз будет упомянут мною, потому что он неразрывно соприкасался ко всему тому, что относилось до училища. Теперь же общий очерк этой светлой личности я и заканчиваю настоящими строками.
Помощником директора училища гражданских инженеров был строительного отряда полковник Мурузи.
Но, прежде чем поведу об нем речь, скажу, что такое был в то время строительный отряд. Строительный отряд ведомства путей сообщения состоял из офицеров, не сдавших удовлетворительного экзамена на один из трех нижних офицерских чинов корпуса инженеров путей сообщения. Равномерно к строительному отряду причислялись военные чины, переходившие в ведомство путей сообщения из других частей. Все ротные командиры (в учебных заведениях ведомства путей сообщения) и дежурные офицеры, равно как полицмейстеры, казначеи, экономы и прочие служащие по администрации учебных заведений, принадлежали к категории строительного отряда. Хотя отряд этот и не пользовался вообще хорошею репутациею, но в нем попадались часто личности весьма симпатичные, поступавшие в отряд вследствие крайней необходимости, а равно попадались также и личности, заявившие себя как хорошие производители строительных работ; эти последние, конечно, были из числа воспитанников института путей сообщения, но почему бы то ни было не сдавшие удовлетворительно экзаменов. Производство в строительном отряде было самое тугое и не шло далее полковничьего чина. Чтобы перейти из строительного отряда в инженеры, необходимо было представить проект какого-нибудь сложного сооружения.
Обращаюсь затем к личности полковника Мурузи. Он во время поступления моего в училище был человеком ежели еще не дряхлым, то уже очень старым. Грек по рождению, он был очень хитрый, скупой и алчный господин. Рассказывали, что он первоначально был графом Мурузи, но что еще во время Отечественной войны 1812 года он, бывши и тогда уже полковником, был заподозрен в продаже пороха неприятелю… но, или по недостатку явных доказательств, или вследствие ходатайства сильных людей, при наказании его ограничились только лишением графского достоинства и перевели тем же чином в инвалидные войска, из которых он и перешел в строительный отряд и сделался наблюдателем и наставником юношества.
Главнейшею и всегдашнею заботою его было наблюдение за наказуемыми. Он был всегда очень рад, когда ему передавался от инспектора классов список воспитанников, долженствующих отбыть наказание, состоящее в лишении обеда или в ограничении его хлебом и водою. Тогда он сейчас же назначал день наказания и распоряжался, чтобы обед и ужин был изготовлен в этот день на столько-то порций менее. Сам он тоже никогда не наказывал воспитанников в день их обозначавшейся провинности, но всегда отлагал на 2-й день, чтобы сделать сказанное распоряжение о порциях. Было что-то не слышно, чтобы он сам пользовался прибылями от столь грязной мелочной экономии. Но он делал это, как говорится, из любви к искусству, из любви к порядку и экономии, вследствие которой в конце года и образовывалась в остатке довольно значительная денежная сумма.
Или от старости, или от напускного чудачества он был или казался страшнейшим оригиналом. Арифметику и все математические науки он называл почему-то Варварой великомученицей. «Эй, такой-то, — бывало, кричит он. — Ви получили 2 балла из Варвары великомученицы, а потому завтра штрафный штол».
Он принял на себя также и заведывание училищною церковью и был ее ктитором. Тут он экономией и различными сборами довел церковную обстановку до значительной роскоши и богатства. Но особенно оригинальны были репетиции церковных процессий, устраиваемые им перед великими праздниками. Церемония обноса плащаницы, а затем пасхального перед утренею обхода всегда предварительно были репетируемы воспитанниками. Но так как образов и других святынь для репетиций употреблять было нельзя, то он, выбрав подходящих воспитанников, назначал каждому, с чем тот во время настоящей процессии должен был идти. «Ви, — говорил он, — будете нести храмовой образ (Симеона, сродника Господня)»; «Ви будете Николай Чудотворец»… «Ви и ви будете нести 2 хоругви, а ви и ви два фонаря» и т. д. И вот назначалась репетиция: всякий должен был держать руки так, как он будет держать их, неся предназначенные ему предметы. Сам же Мурузи, как главнокомандующий, со своей палкой, почти как молодой человек, забегал то вперед, то назад, смотря за порядком, и иногда раздавались его оригинальные крики: «Симеон, сродник Господен, вышел из линии, смотрите, быть вам за штрафным столом»… «Николай Чудотворец останется завтра без обеда». «Правая хоругвь и левый фонарь — без отпуска» и тд. И подобные репетиции он делывал раза по два и по три перед процессиями.
Интересен также один эпизод между ним и преподавателем истории капитаном Баландиным. Был пяток Страстной недели, и в церкви устанавливали посредине плащаницу, сняв с нее стеклянный футляр, состоящий из нескольких стеклянных рам, соединенных вместе. Рамы эти не успели еще убрать, и они лежали на паркетном полу церкви перед плащаницею.
Капитан Баландин, проходя мимо открытых дверей церкви, зашел в нее, чтобы приложиться к плащанице, и, не заметив стеклянных рам, наступил на одну из них и, конечно, разбил стекло. Одновременно с звяканьем разбитых стекол послышался крикливый визг Мурузи из алтаря (где он находился): «За штрафный штол!..» И за этим криком показался и сам Мурузи… Баландин схватился за кошелек и, извиняясь в своей неловкости, хотел возместить убытки, им сделанные. Но хитрый грек решительно отказался, говоря, что поправка будет стоить копейки и что церковь настолько богата, что легко исправит этот ущерб. Конечно, Баландин не согласился и опустил в близвисевшую кружку трехрублевую ассигнацию. Мурузи остался очень доволен такою щедростью.
Полковник Мурузи оставался помощником директора очень недолгое время по преобразовании училища и был по старости уволен в отставку. К довершению сведений о нем скажу еще, что он был вдовец, но что при нем жила взрослая дочь, брюнетка и очень хорошенькая. Она слыла между воспитанниками под названием Саньки. Говорили, что она была развратная девчонка, готовая с каждым воспитанником переночевать ночь в гостинице за плату четвертного билета (25 р. ассигнациями). Утверждать этого не могу, потому что сам не имел случая испытать подобной с ее стороны готовности.
После полковника Мурузи помощником директора поступил к нам барон Седеркрейц, полковник лейб-гвардии Литовского полка. Не знаю, был ли он разбит параличом или вследствие полученных ран, но на вид он представлялся полным паралитиком. Голова его беспрестанно подергивалась, а кисти рук как-то сводились, так что писать он почти вовсе не мог; подписывая отпускные билеты, он употреблял на каждую подпись: «Полковник барон Седеркрейц» почти минуты по три, ежели не более. По его действиям и поступкам позволительно было заключить, что и самый мозг его был не совсем в здравом состоянии.
Вся его служебная деятельность состояла в том, что он ежедневно к обеденному часу приходил в училище и неизменно без пропусков все время обеда ходил по залам столовой, потряхивая своей головой. После же обеда, когда воспитанники уходили по классам, он на час водворялся в дежурной комнате и там подписывал билеты, и ежели успеет подписать 20–25 билетов, то сейчас же заканчивает свои занятия и идет домой. В течение недели билетов 100–120 подпишет, следовательно, воскресный отпуск и обеспечен… Он постоянно толковал о каком-то «поганом духе», который надо искоренять из воспитанников, но сам никогда не разъяснял, в чем видит он проявление этого «поганого духа». Это был не человек, а какой-то истукан, особыми пружинами и машинами приводимый в движение. За шесть лет моего пребывания в училище я не помню ни одного распоряжения, которое бы самостоятельно было сделано полковником Седеркрейцем. Ни одной похвалы, ни одного выговора, ни одного наказания он самостоятельно не сделал ни одному воспитаннику. Анекдотов про его глупость было бесчисленное множество; вот некоторые из них.
Обеденное время приходило к концу; полковник Седеркрейц по заведенному правилу прохаживался по столовой из одного конца в другой; вдруг в одном конце послышалось сильное шмыгание ногами по паркету; я был дежурным унтер-офицером, а потому также не обедал одновременно с воспитанниками, а ходил по столовой. Услышав шмыгание, я сейчас же пошел в ту сторону и узнал претензию воспитанников, что в текущую неделю уже второй раз подают пироги с морковью (самые нелюбимые воспитанниками), тогда как по расписанию табели пироги с таковою начинкою полагаются только однажды в неделю. — Выслушав это заявление, я подошел к полковнику Седеркрейцу и доложил:
— Господин полковник, воспитанники жалуются, что, вопреки расписанию, пироги с морковью подаются уже второй раз в текущую неделю…
— О, да, это нехорошо, я буду говорить Сергей Иванович, — ответил он своим немецким выговором.
А тут как раз, легкий на помине, явился в столовую и сам Сергей Иванович (эконом), по прозванию «Картофельная рожа».
— Сергей Иванович, — обратился к нему Седеркрейц, — вот воспитанники жалуются, что на этой неделе были уже два раза пироги с морковью.
— В третий раз не будут, — успокоил его эконом.
— Достоевский, Достоевский, — кличет меня полковник, — Сергей Иванович говорит, что третий раз пирогов с морковью не будет…
Благодарю, не ожидал! Я сейчас же с этим ответом пошел к претендовавшим воспитанникам и в точности передал его им. Дружный хохот был ответом на эту дерзкую выходку эконома; но что же было делать, не объяснять же дураку, в какой степени он одурачен своим подчиненным.
Другая картина: идет полковник в лазарет. Там лежал при последнем издыхании от чахотки воспитанник Штейн. «Ну что, Штейн, как ваше здоровье?» — «Умираю, полковник!..» — был еле слышный ответ. — «О, нет, нет, вы выздоравливает… А-а-а…. — бросился он от койки больного, не досказав и утешения больному. — Новая ясневая дверь!.. Как это хорошо!» И начал в подробностях рассматривать любимое им дерево, не вспомнив ни о Штейне, ни о других больных, лежащих в лазарете. Воспитанники по этому случаю прозвали его «ясневым лбом». — Более, кажется, нечего сказать об этом господине. Он пробыл на своем посту до 1851 года, когда должность особого помощника директора была отменена вовсе и сосредоточена в лице инспектора классов. Говорили, что полковник Седеркрейц после был губернатором в остзейских губерниях. Ныне ознакомившись с сложными и трудными обязанностями губернаторов, не могу постигнуть, как такой человек мог пробыть губернатором хоть один месяц…
Первым инспектором классов в строительном училище был назначен полковник Петр Александрович Языков, вслед же затем он был произведен в генерал-майоры. Петр Александрович Языков был один из выдающихся инженеров того времени. Это был очень добрый и симпатичный человек. Низенький ростом, довольно толстый, а главное, сильно сутуловатый, он был неказист внешним видом. Надетые им вновь генеральские эполеты еще более делали его низким и сутуловатым; воспитанники в шутку прозвали его Квазимодо, но любили и уважали его очень. Вся наружная неприглядность его искупалась сердечной добротою, так и прыскавшею из доброго и симпатичного лица его. Всякий день бывало он обхаживал классы со списками и отметками воспитанников и от каждого требовал и допытывался откровенного ответа, почему получен кем-нибудь неудовлетворительный балл; и ежели обозначалось, что это произошло, собственно, по лени, то наставлениям и нравоучениям не было конца; тут он войдет, бывало, во все обстоятельства, даже семейные, пробираемого воспитанника и, бывало, доведет его до того, что тот чуть не расплачется. Ежели же он дознается, что воспитанник вообще мало подготовлен и с не блестящими способностями, то сейчас обращается с просьбою к одному из хорошо идущих товарищей его и буквально просит покорнейше и умоляет принять слабого воспитанника под его покровительство. Что же касается до худой отметки или балла, полученного иногда хорошим воспитанником, то на это он даже и не обращал внимания, то есть видимого внимания, а сам, бывало, остановится перед таковым и долго, долго на него смотрит. И воспитанник уже знает, что обозначает этот пристальный взгляд. Генерал Языков очень недолго оставался у нас инспектором, менее года (до 25 ноября 1843 года). Впоследствии П. А. Языков был, в чине генерал-лейтенанта, членом совета министерства путей сообщения и директором департамента железных дорог.
Вместо генерала Языкова, с 25 ноября 1843 года, инспектором классов назначен был инженер-капитан Константин Иванович Марченко. Малоросс родом, он был умный, хитрый и деятельный господин и вместе с тем очень добрый, хотя и в другом совершенно роде в сравнении с генералом Языковым. Он проникся мыслью и намерением поставить училище в учебном отношении на твердую и устойчивую ногу, чего и достигнул, кажется, во время своего семилетнего инспекторства (до 29 декабря 1850 года). Этою краткою характеристикой я и закончу здесь сведения об Константине Ивановиче, тем более что мне часто придется говорить об этой светлой личности в своих дальнейших воспоминаниях как по пребыванию в училище, так и в более позднейшие времена. Тут же добавлю только, что Константин Иванович Марченко, которого, под конец моего пребывания в училище, воспитанники окрестили названием «батько», был полезен для училища не только как инспектор, но и впоследствии. Питомцам же училища К. И. Марченко, занимая видные должности, оказывал всегда помощь и покровительство. — Впоследствии К. И. Марченко состоял при министре путей сообщения в качестве чиновника особых поручений, а с 1865 года, т. е. со времени перехода строительной части из министерства путей сообщения в ведение министерства внутренних дел, он занял место председательствующего во вновь образованном техническом строительном комитете министерства внутренних дел, быв первым по времени председателем этого вновь образованного учреждения.
Ротным командиром единственной роты училища был строительного отряда капитан, а впоследствии майор Николай Платонович Бердяев. Да не покажется странным, что я при описании лиц, заведующих различными частями в училище, о некоторых из них говорю не только с похвалою, но даже с каким-то благоговейным воспоминанием… Да, строительное училище при образовании своем было очень счастливо, имея таких начальников, как Притвиц, Языков, Марченко и Бердяев. Этими лицами и погордиться и похвалиться можно! Николай Платонович Бердяев попал в строительный отряд вследствие своего благородного, но вместе с тем и дерзкого (со стороны военной дисциплины) поступка относительно начальства. Он служил где-то в гвардии, как довольно состоятельный помещик Вологодской губернии, и имел какое-то столкновение с полковым командиром, вследствие дерзости которого он при арестовании бросил свою саблю к ногам полкового командира. Это сочли преступлением против дисциплины и перевели его, в наказание, тем же чином в армию или гарнизон, откуда он и перешел в строительный отряд и затем получил место сперва просто офицера при училище гражданских инженеров, а затем, с преобразованием его в строительное училище, сделан был ротным командиром училища. Так, по крайней мере, рассказывалась история Николая Платоновича во время пребывания моего в училище. Об личности этой и о всем том, сколько добра он принес училищу своим истинно-гуманным отношением к воспитанникам его, — можно говорить долго и много. Благодарная память о нем питомцев училища была общая. Это, между прочим, видно из того, что при праздновании дня 25-летия училища в 1867 году комиссия, избранная для распоряжений по предстоящему празднованию, решила пригласить Николая Платоновича Бердяева, имя которого памятно всем воспитывавшимся в училище в первое его десятилетие, как почетного гостя на сказанное празднество. Но Николай Платонович, живший тогда в отставке в г. Вологде и уже больной, не мог приехать на праздник, а прислал письмо, в коем в самых задушевных выражениях благодарил за желание видеть его на празднике и заочно предлагал тост за процветание училища, за здоровье и успехи в жизни получивших в нем образование.
В заключение скажу несколько слов о враче при училище — докторе медицины Гейне{68}. Он, из выкрещенных евреев, замечателен тем, что был родным братом поэта Гейне. Говорили, что он был очень сведущий и ученый доктор, но как врач училища он был очень невнимательным врачом. Лазаретом училища он мало занимался, хотя там часто бывали очень серьезные больные. Вообще, он был всегда недоволен, когда заявляли о болезни и просились в лазарет. Помню, что и я подвергся его варварским приемам. Однажды не знаю чем-то я заболел и чувствовал себя не в состоянии сидеть в классе, а потому по настоянию Бердяева отведен был в лазарет к доктору. Тот, не осмотревши меня хорошенько, заподозрил меня в ленивой лихорадке и предписал поставить мне на всю грудь мушку в размере 4 вершков в каждую сторону. Этот скотский прием сделал то, что пришлось потревожить доктора даже ночью (что редко случалось). Он велел сейчас же снять мушку, но она уже сделала свое действие и, кажется, была причиною моей долгой болезни и пребывания в лазарете.
В число обязанностей его входил также ежемесячный осмотр всех воспитанников, в адамовом костюме, что воспитанники попросту и не стесняясь называли шванц-парадом. На этих шванц-парадах, происходивших всегда в спальнях, доктор Гейне, тоже не стесняясь, говорил некоторым воспитанникам старшего возраста: «Вам нужно сходить к девушкам»…
День строительного училища начинался с 6 часов утра. В 6 часов утра барабанщик шел медленным шагом по всем комнатам спален и выбивал зорю около самых коек воспитанников. Сперва этот барабанный бой действовал очень успешно, и все воспитанники, заслышав его, мгновенно вскакивали с коек. Но к чему человек не привыкает? Впоследствии звуков барабанного боя некоторые воспитанники даже и не слышали, а потому барабанщик останавливался у таковых и бил в барабан до тех пор, пока не достигал своей цели. Таковой барабанный обход происходил по три раза, и по третьему воспитанники должны были уже быть готовыми. Вставши с коек и надев брюки, воспитанники спешили в умывальни, а умывшись, уже надевали куртки и готовились к осмотру отделенных унтер-офицеров (из воспитанников же), которые и осматривали: в исправности ли находятся куртки, вычищены ли сапоги, а иногда осматривали и зубы, чисты ли они, и т. п. (сапоги воспитанники должны были чистить сами, но, впрочем, не возбранялось отдавать эту операцию, за особую плату со стороны воспитанников, училищным сторожам). Когда таким образом осмотр был произведен, то каждый офицер вел свое отделение в сборный зал, где отделения эти и выстраивались в общие шеренги. Затем барабанщик бил зорю, и воспитанники всем хором пели молитвы: «Верую» и «Отче наш». По окончании молитвы воспитанников вели в столовую, где им подавалось по большой кружке сбитня с булкой, в объеме нынешней пятикопеечной полубулки. Сбитень приготовлялся особенно вкусный, имелся какой-то секрет для его приготовления; впоследствии я очень часто пробовал сбитень, носимый сбитенщиками по гостиным дворам и лавкам, но подобного нашему училищному мне никогда не доводилось пить. После сбитня мы шли по классам и там до 8 часов приготовлялись к предстоящим лекциям. Ровно в 8 часов бил барабан, и преподаватели входили в классы и давали первый утренний урок, длившийся от 8 до 10 утра. Далее следовал барабан, по которому давался 5-минутный отдых, а затем, тоже по барабану, входил второй преподаватель, урок которого длился от 10 до 12 ч. утра. По окончании второго урока давался получасовой отдых, а затем, по барабану, воспитанники собирались в зал и, выстроившись в шеренги, по команде «Скорым шагом марш» шли в столовую; тут воспитанники, заняв свои места, по сигналу барабана пели общую молитву «Очи всех на тя, Господи, уповают» и затем по сигналу тоже барабана усаживались за обед. Тарелки, блюда и суповые миски — все были металлические, оловянные. Обед состоял из следующих блюд: а) суп или щи, который подавали в больших мисках, и отделенный унтер-офицер разливал его для своего отделения (человек в 20) по тарелкам, которые и передавались по назначению самими воспитанниками. Ложки тоже были металлические; б) второе блюдо составляла говядина, подаваемая нарезанными кусками и обносимая на оловянных блюдах училищными сторожами. Говядина эта была та же самая, которая варилась в супе или щах, но только ей не давали вывариваться (варилась она в котлах, обернутая в полотенце, оттого и не разваривалась), и к которой приготовляли какой-нибудь соус или из фасоли, или из горошка, или из чечевицы, чаще всего из хрена вареного и т. д. Ежели говядина была хороша, то это тоже было очень вкусное и питательное блюдо; в) третье блюдо составляли пироги (довольно объемистые). Пироги эти делались с различной начинкой: или с рисом, или с кашей, или с капустой, или с морковью. Бывали также и с изюмом и с черносливом. Пироги эти тоже обносились служителями на блюдах. По окончании обеда, когда дежурный унтер-офицер, обойдя все столы, убеждался, что все закончили свою еду, то докладывал об этом дежурному офицеру, по знаку которого бил барабан, и все воспитанники вставали и пели молитву «Благодарим тя…». Затем по знаку барабана воспитанники расходились по классам и до 2 часов дня бывали свободны. В это время воспитанникам давалась свобода или быть в классах, в которых они могли прохаживаться, или идти даже в сборный зал, где часть воспитанников ходя зубрила свои уроки. К двум часам дня все воспитанники должны были быть в классах на своих местах, и ровно в 2 часа бил барабан и входил преподаватель. Это был третий дневной урок, длившийся от 2 до 4 часов дня. Затем после 5-минутной перемены, тоже по барабану, входил новый преподаватель на 4-й дневной урок, который длился от 4 до 6 час. вечера. По уходе этого преподавателя воспитанники занимались приготовлением уроков к следующему дню, и им не возбранялось или заниматься в классах, или идти в сборный зал и зубрить ходя. Конечно, письменные занятия в зале не дозволялись. Это продолжалось в течение двух часов, то есть до 8 час. вечера. В это время бил барабан, и все воспитанники собирались в сборном зале, строились в шеренги и оттуда по знаку барабана шли в столовую к ужину и занимали свои обычные места. К ужину подавались два блюда: во-первых, суп или щи того же сорта, как и за обедом, которые готовили за один раз вместе с обеденным супом или щами, и, во-вторых, на блюдах обносилась сторожами гречневая или пшенная каша. Конечно, гречневая была более любимою. К этой каше каждому из воспитанников полагалась порция чухонского масла в виде отдельных кусочков, развешенных и очень аккуратно приготовленных. Вес каждого кусочка, кажется, был в 1 ½ золотника. Каши бралось вволю. — Из этого видно, что ужин был тоже питательный. Хлеб к обеду и к ужину подавался черный, и не возбранялось брать его сколько угодно. Хлеб пекся очень вкусный и удачный. Для питья как за обедом, так и за ужином подавались в графинах вода и квас, конечно, своего приготовления. Стакан для каждого воспитанника подавался отдельный, наравне с ложкой и ножами. — По окончании ужина воспитанники по барабанному бою велись в сборный зал, где, выстроившись в шеренги, после пробитой тут же вечерней зори пели хором те же молитвы, что и утром, т. е. «Верую» и «Отче наш», и затем по знаку барабана отправлялись все в верхний этаж в спальни, где сейчас же раздевались и укладывались по своим койкам и в большинстве случаев сейчас же засыпали. Какие-либо занятия или чтения в спальнях не допускались, а воспитанники обязательно должны были раздеваться и ложиться, тем более что к 9 часам вечера все лампы по спальням гасились, и в каждой спальне оставалось только по ночнику, состоящему из сальной свечки, горевшей в большом жестяном подсвечнике, наполненном водою, в которой горящая свеча плавала.
Праздничные и предпраздничные дни проводились с некоторыми особенностями. Начать с того, что по субботам послеобеденных уроков не было, а иногда не было только одного последнего урока. Отпуск воспитанников к родным и знакомым производился по желанию их различно: или а) на один субботний или предпраздничный вечер; в таком случае отпущенный воспитанник должен был возвратиться к ночлегу, т. е. в 9 час. вечера; б) или на один воскресный или праздничный день; в) или с ночлегом, т. е. с вечера субботы или предпраздничного дня до 9 ч. вечера праздничного дня; г) наконец, ежели 2 или 3 праздника случались подряд, то воспитанники могли отпускаться на все время отпуска до 9 час. вечера последнего праздничного дня.
Оставшиеся воспитанники в предпраздничные дни обязательно должны были быть у всенощной в церкви училища, которая всегда начиналась в 7 ч. вечера; а в праздничные дни должны были быть в той же церкви у обедни, которая начиналась всегда в 10 ч. утра. В церковь воспитанники тоже водились шеренгами, по команде, но без барабанного боя. Дни праздничные проводились во всем схоже с днями будними, только в училище было менее населенно, а потому более свободно.
Еще был день в неделе, особенно любимый большинством воспитанников. Это — день банный. В баню водили воспитанников в две недели один раз, по четвергам вечером. Для этого абонировалась на вечернее время ближайшая торговая баня, бывшая тогда у самого Обуховского моста на углу набережной Фонтанки и Обуховского проспекта. В этот день, по особому наряду, в 6 ч. вечера являлся особый дежурный офицер, который вел первоначально одну партию воспитанников в 75 человек, а затем, по возвращении первой партии, вел вторую, которая уже и поспевала назад только к ужину. Баня была привлекательна тем, во-первых, что являлся случай пройтись по воздуху, во-вторых тем, что попаришь и обмоешь грешное тело, а в-третьих, и главное, тем, что к этому времени на торговых ларях при банях раскладывались и продавались услужливыми продавцами различные привлекательные для воспитанников вещи в виде баранок, яблоков, конфет и других яств и десертов. А потому редкий из воспитанников ходил в баню без денег. Но так как у редкого воспитанника среди недели оказывались деньги, то к этому дню обращались к кредиту училищных банкиров, или, другими словами, к училищным сторожам. Были некоторые из них, как, например, помню своего банкира — кривого сторожа Мухина, которые составляли себе порядочное состояние подобными займами. Они выдавали мелочами — по 10, 20 и максимум по 30 копеек на баню, а воспитанники должны были возвратить через неделю 20, 35 или 50 копеек. Процент уменьшался с увеличением капитала. Впрочем, ссуды бывали и более долгосрочные, и тогда уже проценты уменьшались, но никогда не бывали менее 25 % в месяц, то есть 300 % в год. Расписок никогда не давалось, да банкиры были и без расписок обеспечены, потому что в случае неуплаты долга об этом распространялось между прочими воспитанниками, которые и принуждали неисправного плательщика по возможности скорее разделаться с банкиром-сторожем.
Упоминая о деньгах, не могу не рассказать здесь следующего обстоятельства.
Как только в Москве узнали о моем поступлении в училище гражданских инженеров, то на радостях дядя Александр Алексеевич Куманин дал 100 рублей (ассигнациями) для пересылки мне, как он сказал, на пирог. Деньги эти почему-то были присланы не прямо мне, а Ивану Григорьевичу Кривопишину, о чем мне и было сообщено письмом из Москвы, да и сам Кривопишин передал мне об этом через директора Федора Карловича Притвица. Конечно, я не скрыл этого от брата Федора, который, постоянно нуждаясь в деньгах, забомбардировал меня своими записками. Записки эти сохранились у меня доселе, и я берегу их, как и все письма брата, как зеницу ока. Вот три записки, относившиеся к этому обстоятельству, передаваемые здесь в копиях с пунктуальною точностью{69}:
1-я в 1842 году. «Брат! Если ты получил деньги, то ради Бога пришли мне рублей 5 или хоть целковый. У меня уже 3 дня нет дров, а я сижу без копейки. На неделе получаю 200 руб. (я занимаю), наверное, то тебе все отдам. Если ты еще не получил, то пришли мне записку к Кривопишину: Егор[26] снесет ее. А я тебе перешлю сейчас же. Достоевский».
2-я в начале 1843 года. «Удалось ли тебе взять что-нибудь у Притвица[27], брат? Если удалось, то пришли. У меня ничего нет. Да напиши, когда придешь, и если теперь не пришлешь, то непременно принеси. — Ради Бога. — Хоть сходи на квартиру к Притвицу. — Пожалуйста. Твой брат Ф. Достоевский.»
3-я то же в 1843 году. «Писал ты мне, любимый брат, что не можешь достать денег ранее масленицы. — Но вот что я придумал: с этим письмом я шлю тебе другое, в котором прошу у тебя взаймы 50 рублей, ты его и покажи сейчас генералу и попроси, чтоб тотчас же выдал тебе немедленно деньги, чтобы отправить сейчас с Егором. — Разумеется скажи ему, что ты мне дал честное слово и что твое желание мне помочь. Ради самого Бога, любезнейший, не откажи; а я только лишь получу от брата, непременно же расплачусь с тобою, без денег сидеть не будешь. Из 50 рублей возьми себе что нужно. — А на масленице, честное слово, все отдам, тебе же теперь не нужны деньги, а у меня, поверить не можешь, какая страшная, ужасная нужда. — Помоги мне, пожалуйста. Твой Достоевский.
P. S. Если к масленице не будет денег у меня, то я возьму вперед из жалованья и тебе отдам».
Я рассказал здесь о присланном мне подарке дяди и привел записки брата Федора единственно для того, чтобы показать, до какой степени нуждался тогда в деньгах брат Федор.
Обращаюсь опять к общему описанию училища и порядков его.
При доме училища сада не имелось, но были дворы — чистый и черный. Этими дворами воспитанники очень редко пользовались, а в зимнее время никогда на них не показывались. Это тоже можно было отнести к невниманию доктора Гейне, который о санитарном положении училища вовсе не заботился.
Форма воспитанников была следующая: 1) домашняя или классная форма состояла: а) из куртки темно-зеленого сукна с бархатным (т. е. плисовым) воротником и таковыми же обшлагами на рукавах. При куртке были наплечные погоны; воротник, обшлага и погоны были обшиты светло-зеленым кантом, а на плечевых погонах были высечены буквы С. У., с таковою же светло-зеленою суконною подклейкою. Буквы С. У. обозначали название училища, т. е. строительное училище. Некоторые же воспитанники относили их к определению будущей своей участи, говоря, что эти буквы предвещают в будущем собачью участь. Замечу здесь, что куртки шились, или как у нас говорилось, «строились» с каким-то удлинением, как впоследствии дамские кофточки шились с басками. Думаю, что эта дамская мода заимствована от курток строительного училища. Куртки шились однобортные с 9 пуговицами по борту. Пуговицы были белые, литые, металлические, с буквами С. У. на каждой; б) шаровары из светло-сине-серого сукна с светлым зеленым кантом по швам; 2) выходная форма состояла: а) из таковой же куртки, как и классная, с тем различием, что воротник и обшлага были обшиты серебряным галуном; б) из брюк темно-зеленого сукна с светло-зеленым кантом по швам; в) шинель из такового же темно-зеленого сукна, однобортная, солдатского покроя, со стоячим бархатным воротником и плечевыми погонами. Подкладка под шинелью имелась только под верхнею ее частью, то есть в рукавах, на спине и на груди; подкладка эта была из белого холста; г) фуражка обыкновенная с козырьком и бархатным околышем и тремя светло-зелеными кантами; д) сапоги давались на срок 4 месяцев, были из выростковой кожи, почти солдатские. Калош носить не полагалось, да и своих, кажется, иметь не позволялось.
Выше я в подробностях описал пищевое содержание воспитанников. Теперь же добавлю, что на все это пищевое довольствие, то есть на сбитень, обед и ужин отпускалось на каждого воспитанника то 14 коп. серебром в день. Такая мизерная трата на содержание теперь немыслима. Но тогда, при довольно сносном и даже порядочном довольствии воспитанников, оставалась еще экономия. Впрочем, как говорится, гуртом дешевле. При 150 воспитанниках в день расходовалось 21 рубль и в год 7665 рублей серебром; это для того времени была уже значительная сумма.
Я поступил в самый низший — VI класс училища, хотя по экзамену мог бы прямо поступить в V класс. Но я не возбуждал об этом никакого особого ходатайства, потому что и тогда было уже известно, что курс VI класса продолжится не более полугода, т. е. с января 1843 года по июнь того же 1843 года. Так как в момент открытия строительного училища поступило много новых воспитанников и по новым правилам в возрасте от 13 лет, то в нашем VI классе воспитанники были очень разнообразны по летам. В большинстве были юноши 17–18 лет, а попадались из вновь поступивших чистые дети, лет 13 и 14. Но, конечно, все вновь поступившие дети с первого же года и отстали от нас, оставшись в VI классе на 2 и более лет, пока удостоились перевода в V класс. В конце концов, я не жалел и тогда и после, что поступил в VI, а не V класс.
Предметы, преподававшиеся в VI классе, были следующие: математика, то есть арифметика вся, алгебра до уравнений 2 степени и из геометрии вся лонгиметрия; языки: русский, французский и немецкий; география, всеобщая и русская история, закон Божий, рисование, которое считалось у нас одним из главных предметов, и каллиграфия.
Курс учения в VI классе закончился в мае месяце, а в июне настали переводные экзамены. Результат этих экзаменов для меня был тот, что я перешел в V класс первым воспитанником.
После экзаменов наступили каникулы, которые продолжались до августа месяца. Во время каникул я постоянно жил в училище, а к брату изредка ходил только по утрам на несколько часов. Большею же частью проводил в гулянии по островам и другим загородным гуляньям Петербурга.
Прежде чем приступлю к описанию своего пребывания в V классе, расскажу про один эпизод, очень грустный по своим последствиям, случившийся в сентябре месяце 1843 года в институте путей сообщения. В соответствии же к нему расскажу и про эпизод, случившийся у нас в училище, почти в то же время и почти тождественный с институтским, но далеко разнившийся по последствиям. Из этого будет рельефнее видно, что значит иметь доброе и снисходительное ближайшее начальство, которым имели счастие пользоваться мы, как говорил я уже ранее.
Институтский эпизод имел место в III, то есть последнем, кадетском курсе или классе, после которого был переход в офицерские классы. Воспитанники этого класса, как последнего кадетского, пользовались некоторыми привилегиями, во главе которых была та, что ротные офицеры не вмешивались в дела класса и не появлялись у них. Но раз случилось, что в этом классе произошел какой-то страшный шум. Ротный офицер соседнего IV кадетского класса капитан Львович-Кострица имел бестактность вмешаться в эту пустую историю и, войдя в III класс, пытался своими распоряжениями прекратить возникший шум. Возмущенные небывалым вмешательством воспитанники III класса освистали Львовича-Кострицу, и даже некоторые выкрикивали, что выбросят его из окна. Взбешенный Львович-Кострица доложил об этом начальству. Директором института тогда был ученый инженер — генерал-лейтенант Готман, а помощником его — генерал-майор Лермонтов. Первый, не придавая большого значения собственно юношескому проступку, велел арестовать весь класс; но генерал Лермонтов, желая выставиться и выслужиться перед Клейнмихелем, надеясь втайне сделаться директором института, нашел случай довести об этом поступке до сведения Клейнмихеля. Между тем III класс товарищества не сохранил и заставил главных зачинщиков признаться и тем освободить от ответственности остальных воспитанников. Так всех главных зачинщиков явилось пятеро: Гросман, Македонский, Быковский, Пяткин и Крашевский. Клейнмихель взглянул на этот поступок не так, как добрый генерал Готман, а придал ему значение чуть не бунта, и по докладу в преувеличенном виде о сем государю последовало решение: сменить директора, уволить от службы генерала Лермонтова (который ошибся в своих гнусных расчетах), а пятерых виновных наказать следующим образом: 1) исключить всех пятерых из института; 2) разжаловать всех пятерых на шесть лет в солдаты, без выслуги в продолжение этого срока, и послать на Кавказ, и 3) троих первых, то есть Гросмана, Македонского и Быковского, наказать розгами, дав каждому по 250 ударов.
Вскоре последовало и исполнение этой экзекуции, или, лучше сказать, казни. Она уже произошла при вновь назначенном директоре генерале Энгельгарде и под главным распоряжением товарища главноуправляющего инженер-генерал-лейтенанта Рокасовского. Несчастных ввели в кадетском еще платье в зал, куда были собраны все воспитанники института и все служащие в полной парадной форме. Торжественно был прочитан приказ главноуправляющего о наказании, и после того с несчастных сорвали кадетское платье и облекли их в солдатское. Дав постоять им в этом новом костюме, приступлено было к исполнению последнего акта. Трое несчастных были подвергнуты публично мучительному истязанию. Ходили слухи, что бедный старик генерал Рокасовский во всю жизнь свою не мог без содрогания вспоминать об той незавидной роли, которую его, сенатора и заслуженного генерала, Клейнмихель заставил играть в этой гнусной, созданной им истории.
Рассказывали также, что великий князь Михаил Павлович, по возвращении своем из-за границы, принимая всех представляющихся ему генералов, подошел к Клейнмихелю и сказал:
— Петр Андреевич, есть русская пословица, что с одного вола двух шкур не дерут; а вы, как немец, дерете по три, — потом отворотился и пошел далее.
Вскоре, впрочем, сделалось известно, что по ходатайству и просьбе цесаревны (впоследствии императрицы Марии Александровны) участь несчастных разжалованных была облегчена, их определили на службу юнкерами в Кавказский корпус.
Так окончилась несчастная по результатам история в институте путей сообщения, оставив, впрочем, по себе тот недобрый след, что новый директор института, генерал Энгельгард, ввел в институте наказание розгами чуть ли не за всякий маловажный проступок, что и практиковалось во все время его директорства.
Теперь опишу тот эпизод, который случился у нас в строительном училище. Хорошо не припомню, случился ли он прежде или после институтского, но во всяком случае они были почти одновременны.
У нас был ротный офицер прапорщик Циммерман. Как очень еще молодой и притом пустой человек, он сильно был надоедлив своими требованиями и придирками к воспитанникам, чем снискал их общую нелюбовь и презрение. Несмотря на свою назойливую требовательность, он сам далеко не был исполнителен по службе: так, например, во время дежурства, он позволял себе в ночное время, вместо того чтобы отдыхать в кресле во всей форме дежурного офицера, раздеваться и совершенно ложиться на свободную воспитанническую койку. — Вот в одно из таковых дежурств с ним случилась следующая история. — По первому барабану проснулся и он и начал поспешно одеваться, но, к удивлению своему, вместо офицерского шарфа нашел какой-то бумажный, раскрашенный различными красками. Эполеты были заменены тоже какими-то тамбур-мажорскими бумажными эполетами; вместо шпаги была положена какая-то лучинка, а султан в шляпе был заменен бумажным, раскрашенным в различные цвета на манер лакейского. Ясное дело, что все поддельное он мгновенно уничтожил в ретирадах и, не найдя настоящих офицерских вещей, должен был облечься в сюртук без эполет и шарфа и держать в руках шляпу без султана, на манер морских офицеров. Конечно, он мог бы поправить эту беду, послав сторожа к одному из своих товарищей за казенными вещами, и тем сорвать скандальный инцидент; но ему, вероятно, впопыхах не пришло этого в голову, и он поневоле должен был идти в таком виде с утренним рапортом к ротному командиру. Тот действительно встретил его словами: «Что это, почтеннейший, вы в таком маскараде?» На это Циммерман рассказал все случившееся с ним. «Ну, коли не умели скрыть подобного с собою скандала, то извольте об этом подать форменный рапорт», — сказал ротный командир Николай Иванович Бердяев.
И вот рапорт был подан, и заварилась история. В тот же день было доложено об этом директору. Добрый Федор Карлович приехал в училище в то же утро, и началось форменное расследование. Но что ни предпринималось, никакого результата не было. Всех воспитанников подразделили на подозрительных, малоподозрительных и хороших; и первые две категории допрашивались и гуртом, и поодиночке. Всех воспитанников не пускали в отпуск, хотя к этому времени и подоспели летние каникулы. Директор ездил в училище ежедневно, нас выстраивали в сборном зале, и он обходил нас сумрачно, наказывая как бы презрением, не здороваясь с нами обычным приветствием: «Здравствуйте, господа!» Так продолжалось недели 2–3. Но вот, наконец, в один день нас опять всех выстроили в зале, и явился директор, с веселым лицом и в первый раз после случившегося происшествия поздоровался с воспитанниками сказанным выше приветствием. «Здравия желаем вашему превосходительству!» — был особо шумный и радостный ответ всех воспитанников. Генерал, обошедши всю роту и приветливо глядя на всех, произнес приблизительно следующую речь: «Я полагал, господа, что вы достаточно знаете меня и считаете меня за доброго начальника… Я полагал, что вследствие этого виновный в последнем проступке откроется мне как любящий сын своему отцу… Но, к прискорбию своему, я ошибся в этом! Но надеюсь, господа, что вы считаете меня, по крайней мере, за честного и благородного человека, и в этом я надеюсь не ошибиться в вас. Так вот, послушайте, несмотря на то, что я, да и все мои сослуживцы по училищу, равно как и сам потерпевший, считаем этот проступок хотя и серьезною, но тем не менее юношескою… кадетскою проделкою, — но все-таки я желаю во что бы то ни стало узнать виновного, а потому прошу вас, не как начальник, но просто как посторонний человек, открыть мне виновного (лучше, конечно, ежели он сам откроется), заявляя заранее и давая честное и благородное свое генеральское слово не подвергать виновного никакому взысканию. Подумайте об этом, господа!»… С этими словами директор оставил зал, а с ним ушло и все остальное начальство. Воспитанники остались одни. Видно было, что речь директора возымела своевременное действие. Образовались различные группы, о чем-то энергически рассуждавшие. Наконец, как я узнал впоследствии, кто-то из воспитанников (не знаю и теперь, кто) отправился к ротному командиру и заявил, что о словах и обещании генерала не худо бы было сообщить воспитанникам, находящимся на практических занятиях. Там находились воспитанники двух категорий, во-первых, воспитанники старших классов на различных практических занятиях и, во-вторых, некоторые из воспитанников младших классов, посланные туда как слабые здоровьем для пользования свежим воздухом.
На другой же день история разъяснилась. Снова нас построили в сборном зале, снова явился директор с своею свитою, в хвосте которой состоял и прапорщик Циммерман; а вслед за ними вошел и приехавший из практических занятий виновный.
— Маевский, это вы? — сказал как бы удивленный генерал, хотя, конечно, ему доложили об этом еще прежде, сейчас же по возвращении из местности практических занятий.
— Я. Виноват, ваше превосходительство! — был ответ Маевского.
— Стыдно вам, молодой человек, но, во всяком случае, хотя я и тверд в своем слове, но вы должны испросить извинение у обиженного вами офицера.
Не успел Маевский обратиться к прапорщику Циммерману, как тот, с глубоким реверансом, обратился к директору, заявляя, что он вполне прощает и извиняет…
— Ну, в таком случае, прощаю и извиняю и я, — сказал директор, и тем дело и закончилось.
Теперь рельефно видна разница между институтским к нашим эпизодом.
Генерал Притвиц действительно сдержал свое слово; не далее как через год Маевский был произведен в унтер-офицеры в училище, сперва младшие, а затем и старшие; а в 1846 году кончил курс в строительном училище вторым воспитанником.
Карл Яковлевич Маевский здравствует и ныне (1896 год). Ныне он академик архитектуры, гражданский инженер, тайный советник, член техническо-строительного комитета и архитектор зданий экспедиции заготовления государственных бумаг. Он во всю свою службу, равно как и теперь, составляет красу и славу строительного училища{70}.
В заключение к двум приведенным рассказам должен присовокупить, что, в отличие от институтских порядков, у нас в строительном училище во все мое в нем пребывание, а также, как мне известно, и после не только не были в употреблении розги, но даже о них никогда не упоминалось. Теперь обращусь к описанию пребывания моего в V классе. Предметы, преподававшиеся в V классе, были те же, что и в VI, только по ним шли далее. Преподаватели были почти все те же лица, а из новых появился Петр Иванович Собко. По-моему, это был идеальный преподаватель математики. Сам донельзя точный, как и преподаваемый им предмет, он был очень аккуратен и исполнителен. Новые лекции он чуть не разжевывал воспитанникам, повторяя непонятное им по нескольку раз. При вопросах, то есть спрашиваниях воспитанников, он был так же строг и требователен, как и к себе, но притом и очень справедлив. Он в годовой курс, как бы не доверяя нашим знаниям, прочел снова всю арифметику, алгебру, докончил геометрию и прочел всю тригонометрию. Я, как первый воспитанник, подвергался довольно частым спрашиваниям и постоянно получал полный балл 20. Но раз попался и я: быв спрошен в субботу, я после воскресенья не успел приготовиться по каким-то причинам к лекции так, чтобы отвечать по обычаю на 20, а в первые часы, в понедельник, был опять урок Собко, и по тому же предмету, как в субботу. Могу сказать, положа руку на сердце, что это был единственный случай, когда я не был готов к лекции; и, несмотря на то, Собко, вероятно, по моему виду узнал о моем секрете и, как только пришел в класс, так сейчас же вызвал меня к доске и сказал: «Потрудитесь рассказать и объяснить последнее задание…» — «Позвольте мне нынче не отвечать, господин поручик». — «Почему же-с?..»
— Да я не успел нынче хорошо приготовиться…
— Очень-с хорошо, садитесь, — своим приветливым голосом ответил Собко.
Не вызывая после меня никого более к доске, он принялся за объяснение нового задания, а после этого спрашивал нескольких воспитанников, но не из последней лекции, а из старых — я был в полной уверенности, что буду им извинен и что он не поставит мне никакого балла, как бы не спрашивав меня; но уверенность моя не оправдалась. Он поставил мне самый что ни на есть круглейший нуль.
После он несколько десятков раз, в продолжение курса, спрашивал меня и всегда ставил по 20 баллов; но злосчастного нуля не изменил. Я, впрочем, и не просил его об этом, зная его твердые правила на счет баллов.
Этот злосчастный, но совершенно справедливый нуль много повредил мне при переходе из V в IV класс, так что я потерял свое первенство и перешел в IV класс третьим воспитанником.
В IV классе учебный год 1844/1845 некоторые из предметов, бывших в V классе, уже не проходились, но взамен их многие начинали преподаваться вновь; таковыми были: аналитическая геометрия, статика, геодезия, начертательная геометрия, физика, архитектура.
Статику и физику преподавал инженер-полковник Добронравов. Эта личность как бы сроднилась по своему долголетнему общению с строительным училищем. Еще в училище гражданских инженеров Аркадий Гаврилович Добронравов был долгое время инспектором классов, а затем, по преобразовании в строительное училище, поступил к нам преподавателем и профессорствовал в училище до 1865 года. Это был профессор очень опытный. В мое время он уже был весьма преклонных лет и казался на вид очень болезненным человеком. Точность в выражениях была им, безусловно, требуема в ответах воспитанников. Бывало, за какую-нибудь неточность в выражениях он перебирал весь класс и притом всех вызываемых оставлял около доски до тех пор, пока кому-нибудь удавалось выразиться согласно его желанию. Тогда он говорил: «Вот-с господин NN помог нам всем» — и затем всех отпускал на места. Это воспитанники называли «брать доску штурмом». Помню со мной произошел пренеприятный эпизод по этому случаю, но только не в IV классе, а уже в высшем, то есть во II классе, где я был опять первым. Как теперь помню, были первые часы после обеда (от 2 до 4 часов) и полковник Добронравов занимался во II классе практическою механикою. Спрашивали у доски одного из воспитанников, он остался недоволен каким-то выражением; он вызвал другого — тот тоже не попал в точку. Тогда Добронравов вызвал меня: «Господин-с Достоевский, помогите им». Я тоже не угодил ему, и он вызвал: «Господин Эдуард Маккерод-дю-Мень (это был последний воспитанник), помогите господину Достоевскому». Это меня взорвало, самолюбие заиграло: как, мне, первому в классе, будет помогать последний!.. Я бросил мел на поддонник доски и, не оставаясь у доски, пошел и сел на свое место. Видя такой афронт с моей стороны, полковник Добронравов встал с своего места и начал ходить по классу взад и вперед. Это продолжалось минуты две-три; наконец он остановился около меня и сказал:
— Господин-с Достоевский, вы слишком учены-с, чтобы слушать мои лекции; кто-нибудь из нас должен оставить-с аудиторию.
— Я, пожалуй, выйду, — отвечал я и, забрав свои тетради, пошел в дежурную комнату.
Через несколько минут в дежурную комнату вошел инспектор классов майор Марченко. Увидев меня, он спросил, почему я не в классе, и я ему откровенно рассказал все случившееся.
— И охота вам была обижать старика. Но погодите, это надобно скорее исправить.
Скоро классы кончились, и полковник Добронравов тоже явился на время 5-минутной перемены в дежурную комнату. Марченко взял меня за руку и, подведя к полковнику, сказал: «Вот молодой человек, который просит вас, Аркадий Гаврилович, простить и извинить его».
— Я-с с большим удовольствием готов извинить-с господина Достоевского, ежели он сознает свой бестактный поступок в классе-с.
Конечно, я высказал, что сознаю, и в конце концов Добронравов пожал мою руку, и мы расстались опять друзьями. К чести его добавлю, что в предстоящих двух экзаменах он нисколько не мстил мне. — Я возвратился в класс и был восторженно принят товарищами за то, что сделал хотя попытку к восстановлению достоинства класса… То-то молодость!
Вот и еще один очень забавный случай с тем же уважаемым профессором.
Как-то в начале учебного года, то есть в конце сентября, Добронравов читал лекцию и выводил на доске какую-то сложную формулу. Назойливые мухи не давали покоя углубившемуся в свою лекцию профессору: то сядут на нос, то залетят на почти плешивую голову, одним словом, надоедали ему сильно.
— Ах, какие… назойливые… не дают покоя… — не утерпел старик, отмахиваясь от мух.
— Это, господин полковник, к смерти, — сказал какой-то школяр-воспитанник.
Добронравов, очень боявшийся смерти, положил мел, начал ходить по классу взад и вперед. Ходил он долго, минут с пять, и наконец обратился к напугавшему ему воспитаннику:
— Так это, господин N, к смерти?
— Конечно, господин полковник, к смерти: теперь конец сентября, а в октябре мухи все подохнут.
— Ах, какой… школяр!.. Напугал меня насмерть… Я думал, что к моей смерти…
— Помилуйте, господин полковник, да смел ли бы я так выразиться! — оправдывался школяр.
Успокоенный старик снова взялся за мел и продолжал уже спокойно вывод своей формулы.
С IV класса преподавателем русского языка был Леопольд Васильевич Брант. Это тот самый Брант, который под псевдонимом «Я. Я. Я.» помещал свои фельетоны в «Северной Пчеле» и других периодических изданиях{71}. Думаю, что он был более сроден с писателем-фельетонистом, нежели с преподавателем русского языка. С самого начала он принялся с нами за литературу, не осведомившись первоначально с способностью самих слушателей владеть пером, а главное, не ознакомившись с тем, насколько сильны его слушатели правильно писать и излагать свои мысли. — Л. В. Брант преподавал у нас русскую литературу в продолжение двух учебных курсов, то есть в IV и в III классах. В следующих же двух высших классах, то есть во II и I, мы имели уже другого преподавателя.
Учебный год 1844/1845 прошел благополучно. Экзамены тоже для меня были совершенно успешными, я повысился на одно место и перешел в следующий, III, класс вторым воспитанником. После экзаменов наступили каникулы, которые я и провел почти безвыходно в училище; но я отдохнул от занятий, много гулял по окрестностям Петербурга, потому что не со всеми из них я был еще знаком.
В родственном кругу за этот год случилась только та перемена, что брат Федор вышел в отставку и посвятил себя окончательно литературе. Помню, что, узнавши о том, что брат уже не служит, я очень боялся за него — как он, с своим неумением жить и довольствоваться малым, будет существовать без службы, без этого постоянного и верного ресурса, то есть жалованья. Да и бедствовал же он действительно, в особенности в первое время{72}!
* * *
В III классе появились четыре новых предмета: курс построений, или строительное искусство, практическая механика, химия и минералогия с географией.
В учебный 1845/1846 год я особенно сблизился с своим товарищем Руфом Ивановичем Авиловым, который в III классе сидел первым воспитанником, следовательно, я был его соседом по месту. Впоследствии я об нем буду говорить очень часто и очень много, а теперь только скажу, что мы с ним первоначально начали ходить на праздничные дни к одному приказчику Бердова завода, а затем и наняли у него временную квартиру, в которой проводили все праздничные дни. Это, впрочем, было очень далеко от училища, вблизи Бердова завода. Но для молодых ног разве это что-нибудь значило?! Эту квартиру мы занимали во все время пребывания в III классе, и в особенности она была нам полезна для приготовления к экзаменам. Жена хозяина, которая, собственно-то, и была хозяйкою, от которой мы нанимали квартиру, кормила нас за известную плату, что называется на убой, и была вообще доброю и пожилою уже женщиною.
Экзамены в этот учебный год сошли для меня очень хорошо, и я удостоился перевода во II класс первым воспитанником.
После экзаменов мы, как старшие уже воспитанники, были отправлены на практические занятия по съемке и нивелировке, а также и для осмотра различных фабрик и заводов. Местом для наших практических занятий была избрана, как и в прежние годы, колония Овцинах, расположенная на правом берегу р. Невы от Петербурга вверх по Неве верстах в 25.
Эта местность была очень глухая, но весьма удобная по помещению. Нас разместили в хатах колонистов. Начальник практических занятий инженер-капитан Красовский приезжал в колонию изредка. Ротные же офицеры, командированные с нами, жили постоянно, но так как они были снисходительнее к воспитанникам, чем в городе, — то мы и жили почти что на полной свободе. Для нас была выстроена близ берега р. Невы огромная купальня, и мы раза по три в сутки наслаждались купаньем, а иногда и чаще. День проводили следующим образом. Вставали часов в 5 утра, а некоторые и ранее, и сейчас же купались, пили казенный чай и свой кофе, который варили нам колонистки, и затем выходили на свои участки на съемку и нивелировку. Занимались усердно часов до 10 утра и затем целый день уже ничего не делали, как только купались и гуляли. Провизию для нас доставляли из Петербурга, и обед готовили наши же сторожа, приехавшие с нами из Петербурга. Тут замечу, кстати, что пароходы тогда хотя уже и существовали, но вверх по Неве срочных пароходов не было, нанимать же особые было дорого, а потому и нас всех из Петербурга перевезли на больших катерах, а имущество, как-то: койки, матрацы, белье и т. п. — на барках.
В числе развлечений в этой пустынной местности по вечерам составляли карты. Играли в преферанс, а более и чаще всего в так называемую трынку. В первое время заигрывались иногда до рассвета. Нельзя также скрыть и того, что при этих играх занимало не последнее место и вино. Но пьянства не было. Раза два в первое время бывали сильные кутежи, но впоследствии, недели через две, все это прекратилось, и об вине не было и помину.
Так прошло время около месяца. Затем к нам явился начальник практических занятий, и мы отправились вверх по Неве в г. Шлиссельбург. Ехали налегке, не бравши с собою никакого имущества, то есть постелей, подушек и т. п., а потому ехали на нескольких больших шестивесельных лодках. В Шлиссельбурге пробыли дня два-три, осмотрели все имевшиеся там заводы и некоторые из них сняли с натуры. Но главным образом обратили внимание на шлюзные устройства, некоторые тоже снимали с натуры. Затем в какой-то барке, тягою, проехали почти весь Ладожский канал до г. Новой Ладоги, осматривая и частью снимая с натуры все находящиеся на канале этом сооружения. Это было путешествие самое скучное и продолжалось в оба конца чуть не целую неделю. Рады мы были очень, когда воротились в свою колонию в Овцинах. Но на возвратном пути с нами чуть не случилось несчастие. В сумерках, уже не в далеком расстоянии от колонии, нас настиг густой туман, и мы, приближаясь быстрым, по течению, ходом, чуть не наткнулись на большой камень имеющихся в этом месте порогов; мы только скользнули боковою частью лодки об этот камень; а ежели бы наткнулись, то, конечно, лодку разбило бы в щепки, и в пустынном месте, при бывшем тумане, гибель очевидно была бы неминуема!
После этого путешествия в колонии Овцинах мы пробыли уже недолго и возвратились в Петербург.
В истекший учебный 1845/1846 год в родственном мне кругу произошло одно важное событие. В декабре 1845 г. я получил письмо от сестры Верочки, что она выходит замуж и что обручение ее состоялось 2 декабря 1845 г. с неким господином Александром Павловичем Ивановым, врачом по профессии и сверх того преподавателем физики и химии во многих казенных учебных заведениях. О личности этой, как о новом своем родственнике, я сообщу тогда, когда буду описывать первое с ним свидание и знакомство. Теперь же ограничусь, что отмечу о свадьбе сестры Верочки, которая состоялась, вероятно, в январе месяце 1846 г. Прочие же родственники московские жили благополучно по-прежнему.
Брат Федор Михайлович занимался по-прежнему литературой, и в январе 1846 года вышло в печати первое его литературное произведение — роман «Бедные люди». Роман этот был напечатан в «Петербургском сборнике», изданном Некрасовым. Произведение это разом поставило Достоевского наряду выдающихся писателей, и об нем сильно заговорили, а Белинский превознес его{73}. Материальные средства брата вследствие этого улучшились, но, тратя много, он часто тоже сидел на экваторе.
Из 17 воспитанников, бывших в III классе, перешло только 12, да был оставшийся во II классе от прежнего курса один воспитанник, следовательно, всего в нашем II классе образовалось 13 воспитанников.
Во II классе продолжалось преподавание тех же самых предметов, что и в III, а из новых были следующие: 1) история искусств, со включением мифологии и археологии, 2) специальное законоведение и техническая отчетность.
Во время всего учебного 1846/1847 года, т. е. во II классе, мы усиленно занимались черчением проектов и составлением смет по заданию на различные сооружения. С этим вместе маршировка и гимнастические занятия, которыми нас порядочно мучили в предшествующие годы, сделались для нас необязательными; и в самом деле, после гимнастики нельзя было чертить или рисовать по крайней мере часа два, а потому нас иногда только водили скорым шагом в зале училища для моциона или, как выражался Николай Платонович Бердяев, от геморроя.
Экзамены сошли для меня и в этот год вполне благополучно. Я удержал свое первое место и перешел в I, то есть выпускной, класс тоже первым воспитанником с производством из старших унтер-офицеров в фельдфебеля.
После экзаменов, как обыкновенно, наступили каникулы, но мы в этот год не ездили на практические занятия куда-нибудь за город, а занимались таковыми в Петербурге и в окрестностях его. Так, на мою долю выпали следующие занятия; во-первых, я был прикомандирован к профессору архитектуры Брюлову (Александру Павловичу){74}, который строил тогда, то есть начинал строить, больницу в память великой княгини Александры Николаевны (ныне Александровская больница), и я по целым дням находился при устройстве фундамента под это здание. Фундамент этот замечателен был тем, что это был, кажется (в то время), первый пример, что устраивался без забивания свай, так как грунт оказался песчаный. Во-вторых, мне было задание снять с натуры железные стропила по зданию Эрмитажа и с помощью вычислений доказать, что они вполне прочны и устойчивы. В-третьих, я часто ездил по отстроившемуся уже тогда железнодорожному участку до ст. Колпино, где в чугунно-литейном заводе снимал с натуры различные машины и устройства и делал описания их. Езда в то время до Колпина существовала на открытых платформах; и мы ездили бесплатно, так как имели для этого пропускные свидетельства; а потому очень часто пользовались этими бесплатными поездками.
Во время 1846/1847 учебного года мы с Авиловым перестали уже занимать квартиру у Бердовского приказчика, а обзавелись квартирою очень близкою от училища, а именно во 2-й роте Измайловского полка. Авилов как-то увидел на окошке билетик об отдаче в наем комнаты от хозяйки и, осмотрев ее, показал мне. Мы оба нашли комнату очень удобною, а хозяйку Анну Ивановну Дорошкевич — очень сговорчивою и наняли эту комнату, для временного прихода по праздникам, а иногда и по будням. Квартира эта была, как выше сказано, во 2-й роте Измайловского полка, то есть почти рядом с училищем, в доме старушки Кузьминой.
Теперь сообщу кое-что о семейных моих делах. Начну с московских. Брат Николя в начале 1847 года, по просьбе Григория Ивановича Кривопишина и с разрешения главноуправняющего графа Клейнмихеля, зачислен был кандидатом к поступлению в строительное училище. На этом основании его в Москве взяли из гимназии, где он просто не хотел учиться, и поместили у сестры Верочки и ее мужа Александра Павловича Иванова, где он приготовлялся к приемному экзамену в наше училище, посещая Лозовского (зятя Чермака) для приготовления по математике, а для других предметов к нему ходил студент Константиновского межевого института, где Александр Павлович служил. Брат Михаил Михайлович в начале 1847 г. был переведен из Ревеля в Свеаборг и в конце 1847 года вышел в отставку и переехал в Петербург. Он приехал сперва один, а семейство его переехало уже в начале 1848 года. У Карепиных в 1847 году родился сын Петр, но он жил только 5 месяцев и умер. У Ивановых в 1847 г. была уже годовалая дочка Соня и вновь родилась дочь Зинаида, которая, впрочем, вскоре умерла. В заключение сообщу, что по письмам из Москвы было видно, что в 1847 году летом была в Москве холера, но не из сильных; заболевало в сущности не более 40 человек, об этом сообщал в письме Александр Павлович Иванов, которому, как врачу, было это хорошо известно. Итак, наконец, я достиг выпускного класса. Преподаваемые предметы были те же, что и во II классе, и профессоров новых не было. Занятия преимущественно состояли в окончании предметов II класса и в повторении всего пройденного для приготовления к выпускным экзаменам. Но главное, что занимало нас и отнимало много времени, это — сперва отчетные чертежи по летним практическим занятиям, а затем составление различных проектов к выпускным экзаменам, которые и наступили с мая месяца 1848 года. Экзамены производились из предметов всех шести классов, то есть начиная почти с азбуки; все это отнимало много времени для приготовления к ним. Длились экзамены целые месяцы, и наконец в июне месяце они закончились. Вскоре сделались известны нам и результаты экзаменов. Я предназначен был к выпуску первым воспитанником, и моя фамилия назначена к помещению на мраморную доску училища, как вышедшего первым.
Время от окончания экзаменов и до производства нас в чины проходило очень медленно. Мы жили по-прежнему в училище и должны были носить кадетскую форму. Добрый наш ротный командир почти ежедневно говорил следующее: «Вот вы, господа, не нынче-завтра будете произведены в чины и снимете ваши куртки; но, пожалуйста, на последних порах будьте осторожны на улицах и соблюдайте строго форму, а то попадетесь какому-либо назойливому генералу или просто офицеру и может завариться каша, которая отдалит выпуск и производство попавшегося. Этому бывали примеры». И мы, действительно, были так осторожны, как никогда кадетами.
Но, впрочем, мы редко выходили и на улицы по причине свирепствовавшей во всем разгаре нежданной гостьи, холеры!.. Холера в 1848 году была в Петербурге ужасная! Еще до окончания экзаменов и в строительном училище был один холерный случай с печальным исходом! Как теперь помню: в классе на один год младше нашего, то есть во II классе, был очень хорошо идущий воспитанник Михаил Кулешов. Выдержав последний экзамен, он с сияющим лицом, переходя через наш выпускной класс, сказал: «Вот теперь и я близок к выпуску!.. год пройдет скоро!» И действительно его выпуск из строительного училища произошел даже раньше нашего! Не успел он вымолвить приведенные слова, как сильно побледнел, и его начало рвать. Я, тогда еще исполнявший должность фельдфебеля, сейчас же побежал к ротному командиру, и бедного Кулешова, хотя и утешая, отвели в запасный лазарет. Там скоро с ним сделалась настоящая холера с корчами и прочими онерами; а к рассвету следующего дня он был уже покойником! Помню, что это на нас произвело сильное впечатление! Похороны Кулешова происходили тихо, без всякого участия воспитанников, которых даже не допустили не только проводить гроб до кладбища, но даже и проститься с покойником.
Я сказал, что холера в Петербурге была ужасная. Но вот факт, подтверждающий это. Раз как-то я с одним из товарищей хотели посвятить день счету покойников, провозимых по Обуховскому проспекту мимо нашего училища. Известно, что проспект этот ведет из города на Митрофаньевское кладбище, где хоронились холерные. И вот, начав наблюдать с 7 часов утра, отчеркивая каждого провезенного покойника мелом на большой классной доске особою чертою и продолжая свои наблюдения до 8 часов вечера, мы насчитали более 400 покойников! Что же было по другим направлениям и в ночное время, когда вывозили покойников из лазаретов и больниц! И теперь ужас берет. А тогда ничего! Число умиравших по газетным сведениям тогда сильно уменьшалось.
Временное помещение наше у хозяйки Анны Ивановны Дорошкевич из временного, с окончанием экзаменов, сделалось постоянным; но ввиду нашего производства и выпуска, нам казалось уже недостаточно одной комнаты, и Анна Ивановна изъявила согласие переехать на другую квартиру, еще ближе к училищу, в той же 2-й роте, в доме купца Нестерова. Новая квартира состояла кроме кухни из 5 небольших комнат, одна общая гостиная, одна для меня, одна для Авилова и одна для самой хозяйки, и одна общая столовая, чайная и проч. Но, впрочем, мы разместились так, как будто бы все жили вместе одной семьей, так что и обедали и пили чай все вместе.
В родственном мне кругу произошло за это время много значительных перемен. Во-первых, начну с того, что брат Михаил Михайлович окончательно переселился в Петербург. Сперва переехал он один, а вслед за ним приехала и вся его семья, и я познакомился со своей невесткой Эмилией Федоровной. Она показалась мне очень еще молодою, симпатичною и доброю немочкою, каковою, впрочем, она осталась и впоследствии; она очень любила брата и свое маленькое семейство, состоящее тогда из трех птенцов — Феди, Маши и Миши. Брат устроился на очень приличной квартире на Невском проспекте, и мы с братом Федором, не сговариваясь, сделали обычай всякое воскресенье и всякий праздник приходить к обеду к старшему брату, как к семейному, и обычай этот неуклонно исполняли до конца 1849 года, когда он нарушился по причинам, от нас не зависящим, которые объяснятся впоследствии.
Вторая семейная перемена тоже была очень важная и значительная. В конце мая 1848 года приехал в Петербург из Москвы мой брат Николя. Его прислали, наконец, москвичи для определения в строительное училище. Он приехал прямо ко мне в училище. Конечно, я тотчас же его отвел в свою новую квартиру в доме Нестерова и представил как нового временного квартиранта Анне Ивановне Дорошкевич, чему она была чрезмерно рада. Водворив Николю в квартиру и дав ему точный адрес ее, я отправил его в контору мальпостов, чтобы он взял окончательно свой чемодан и все свои вещи и вид, а сам возвратился в училище, так как у нас начались уже экзамены. Конечно, вечером я опять пришел на квартиру и застал Николю совсем уже освоившимся. Я насилу узнал его. Из мальчика 11-ти лет он сделался взрослым юношей 17-ти лет. Много было у нас разговоров, из которых я несколько познакомился с новым своим родственником Александром Павловичем Ивановым и к прискорбию своему узнал, что добрейший наш Петр Андреевич сильно хилеет, что недавно был у него нервный удар, от которого он очень туго поправляется. Одним словом, сведения, им сообщенные, были не все приятны…
Сейчас же после экзаменов мы все были озабочены обмундировкою и пошитьем штатского платья. Из переписки, имеющейся у меня, видно, что я на обмундировку просил у дяди пособия. Дядя, впрочем, ввиду неоднократных отказов братьям, не хотел сам удовлетворять и моей просьбы, хотя эта моя просьба с моей стороны была совершенно законна, так как дядя воспитывал меня на свой счет со смерти отца, и я вполне мог думать, что он довершит свое доброе дело, предоставив мне средства на обмундирование. Но дядя отказал. Вместе с известием об этом отказе через сестру Вареньку я получил и успокоение, а именно, что добрейшая тетушка вышлет мне из своих средств, приготовленных ею для меня заранее, 300 рублей серебром. Я вполне полагаю и уверен, что эти деньги дал дядя, но велел только сказать, что они посылаются не от него, а от тетки; и мне не велено было открыто благодарить за эти деньги, хотя сестра Варенька и советовала написать благодарность тетушке в письме к ним, что, конечно, я и исполнил. Но как бы то ни было, я получил на обмундировку от тетушки 300 руб. да из сумм имения 100 руб., всего, значит, 400 руб. Сверх всего этого тетушка прислала мне довольно много всякого рода белья. Таким образом, я был вполне обеспечен. Платье для себя я заказал портному Орланду, имевшему свою мастерскую на Невском проспекте у Полицейского моста, и беспрестанно ходил туда для осведомления, скоро ли все будет готово.
Наконец давно ожидаемое производство наше состоялось, и я произведен был 7 июля 1848 года в чин губернского секретаря с правом пользоваться в дальнейшем чинопроизводством, предоставляемым для учебных заведений первого разряда.
Получивши эту радостную весть, мы сейчас же облеклись в штатское платье и не чуяли ног под собою от радости.
Братья Михаил и Федор Михайловичи на все лето наняли дачу в Парголове и проживали там не в таком страхе от холеры, как мы в Петербурге, ибо в Петербурге она свирепствовала в полном разгаре. Привожу копию с записки, сохранившейся у меня до сих пор, полученной мною от брата Михаила Михайловича в июне 1848 года. Вот она:
«Ответы на вопросы любезного моего брата Андрюши:
1) Холеры у нас в Парголове решительно нет, а о петербургской мы знаем из газет.
2) Деньгами я очень небогат и могу теперь отдать только 5 р. сер., но к 3-му июля крепко надеюсь и даже уверен, если, разумеется, не вмешается в это дело холера, заплатить тебе 15 руб., а может быть, и больше.
3) Глупы вы будете оба с Николей, — прости за черствость выражения, — если сейчас же не бросите зачумленного города и не приедете к нам. Я вам предлагаю свои вершины, возьмите только с собою подушек, простынь и, разумеется, белья, и живите у меня в наше общее удовольствие.
4) Приезжайте немедленно, пока еще целы, а денег, ежели можешь, то, разумеется, займи. Прощай, любезный брат, — спешу, некогда.
Твой М. Достоевский.
P. S. Жена вам кланяется и зовет. Приезжай же, еще раз».
А вот и еще. Приписка в одной из записок из того же Парголова и от того же брата Михаила:
«Пальты носят нынче цвета вареного шоколада. Прощай, или, лучше, до свидания».
Кому бы ни пришлось читать эти мои воспоминания, — пускай, положа руку на сердце, скажет, мог ли я ввиду тогдашнего своего положения ехать гостить в Парголово, в опротивевшей за шесть лет кадетской куртке, ожидая с часу на час и с минуты на минуту производства в чин и облачения в штатское платье?! А вдруг выйдет приказ, а я, живя в Парголове, несколькими часами и даже, может, днями узнаю об этом позже. Нет, никакая холера не оторвала бы меня тогда от Петербурга!
И действительно, на другой же или на третий день по получении известия о производстве, я, облекшись в штатское платье и надев пальто цвета вареного шоколада, поехал в Парголово, где брат Николя уже гостил. Там прогостил и я дня два, но, вероятно, приезд мой принес несчастие Парголову, потому что на 2-й же день моего приезда случился в Парголове первый случай заболевания холерою. С больным случился припадок на улице, и брат Федор сейчас же кинулся к больному, чтобы дать ему лекарства, а потом и растирал, когда с ним сделались корчи. Не помню, или, лучше сказать, не знаю, чем кончился этот припадок больного, потому что в тот же день я отправился в Петербург, чтобы снова томиться ожиданием о назначении своем на должность.
Наконец, 31 июля я получил печатный приказ главноуправляющего, принесенный мне курьером из штаба, за что последний и получил приличную мзду.
Вот что прочел я в этом приказе от 30 июля 1848 года за № 138:
«Назначаются: губернские секретари:
Авилов — в Департамент Рассмотрения проектов и смет Главного Управления.
Достоевский, Шуберский, Дворжицкий и коллежский регистратор Васильев — все четверо в распоряжение Главного Управления Путей Сообщения и Публичных Зданий, с прикомандированием к Департаменту проектов и смет, впредь до нового образования Губернских Строительных и Дорожных Комиссий.
Дмитревский и Карпов — в чертежную Правления I Округа Путей Сообщения.
Бетюцкий и Пешков — в чертежную Правления IV Округа Путей Сообщения.
Повиц-Эпинг — в Лифляндскую губернскую Строительную Комиссию.
Маккерод-дю-Мень — в Нижегородскую Строит. Комиссию и Лаврентьев — в Саратовскую Строительную Комиссию». Вскоре по получении этого приказа мы были приведены к присяге в церкви строительного училище, а вслед затем мы все двенадцать были представлены директором строит. училища генералом Федором Карловичем Притвицем главноуправляющему путями сообщения, графу Клейнмихелю. Представление это прошло очень заурядно. Граф, разговаривая о чем-то с другими представлявшимися, не удостоил нас большим вниманием, кроме молчаливого поклона, которым мы и удовольствовались.
С этого мгновения порваны были, лично для меня, все отношения мои к строительному училищу, и я вступил на действительную государственную службу{75}.
КВАРТИРА ПЯТАЯ
ЖИЗНЬ И СЛУЖБА В ПЕТЕРБУРГЕ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПРОЕКТОВ И СМЕТ ДО НАЗНАЧЕНИЯ ГОРОДОВЫМ АРХИТЕКТОРОМ В Г. ЕЛИСАВЕТГРАД С АВГУСТА 1848 ГОДА ПО ОКТЯБРЬ 1849 ГОДА
Прежде чем приступлю к описанию обстановки своей жизни в Петербурге по выходе из училища, скажу несколько слов о своем товарище Авилове.
Руф Иванович Авилов, как видно из предыдущего, был моим товарищем по училищу с самого начала и до дня выпуска. Он был родом донской казак и хотя и был выпущен из училища с чином губернского секретаря, но сейчас же был переименован в соответствующий военный чин сотника. Сказав, что он был родом донской казак, я должен здесь отметить те мнения и, так сказать, то направление, которые существовали тогда между казаками: на вопрос, русский ли он? — он постоянно отвечал: «Нет, я не русский, а донской казак». Этот сепаратизм, по крайней мере тогда, был развит между казаками очень сильно. Русскими они как бы пренебрегали, называя их «Сипа́» {76}. Вспоминая теперь, почти через 50 лет, об этой личности, я не могу понять, как я мог так близко сойтись с таким человеком, как Р. И. Авилов. Он был очень хитрый, очень искательный, себялюбивый человек и притом эгоист до конца ногтей. Вероятно, лишь совместное сидение на классной скамье и шестилетнее сотрудничество в ученических успехах сблизили нас. А затем совместная жизнь на квартире скрепила это сближение; хотя, откровенно говоря, друзьями мы никогда не были, и с многими из своих товарищей я был более близок и откровенен, чем с Авиловым. Вот все, что могу сказать о нем теперь, о Руфе Ивановиче Авилове.
Жизнь наша первое время была очень скучная. Хотя мы оба с 30 июля и были прикомандированы к департаменту проектов и смет, но весь август и почти весь сентябрь мы не являлись в департамент, потому что ждали объявления, когда нужно будет нам явиться. Дипломы или аттестаты из училища об окончании курса наук мы получили в конце августа (подписано 20 августа). Шлянье по улицам наскучило, к тому же наступила осень, и осень довольно ненастная, так что я большею частью сидел дома и чем-нибудь занимался. Из присланных мне денег на обмундировку я сэкономил и на приобретение мебели: купил себе кровать с принадлежностями, очень удобный письменный стол, кресло к столу и несколько стульев, равно и комод, а потому моя комната была очень хорошо обставлена. Брат Николя жил все время у брата Михаила Михайловича, но часто гостил и у нас. Его поступление в училище несколько замедлилось, потому что первоначально шла долгая переписка с тульским губернатором о зачислении Николи на мое место на счет сумм Тульской губернии. Но ответ губернатора был неблагоприятный, а потому нужно было изыскать другую вакансию. Вся эта проволочка очень озабочивала меня, а также и москвичей, которые в каждом письме ко мне говорили и рассуждали об этом общем больном для нас месте. Наконец, только в конце октября вакансия была выискана, и Николю потребовали в училище. Конечно, он выдержал успешно экзамен и был к началу ноября месяца совсем и окончательно определен в число воспитанников строительного училища, — теперь, право, не припомню, на какую вакансию. Это поступление его в училище сняло с меня как камень с шеи, потому что все-таки на мне лежала нравственная ответственность перед москвичами, так как я возбудил мысль об определении его в наше заведение.
Наконец, дождались и мы с Авиловым, что нас потребовали в департамент, и мы поступили на действительную службу, в которой, впрочем, считались уже с 30 июля. Это случилось уже в конце сентября месяца. В день нашей явки мы представились вице-директору департамента генерал-майору Кролю, который был порядочным-таки солдафоном; он, кажется, был переименован в инженеры из строительного отряда, и должность его по департаменту была хозяйственно-распорядительною. При этом представлении (нас представлялось всего пять человек) Кроль никакого приветствия нам не сказал, только объявил, в какое отделение кто назначен. Я назначен был во 2-е отделение департамента, где рассматривались проекты, а Авилов — в 1-е отделение, где рассматривались и проверялись сметы. Следовательно, тут мы были разделены и занимались в двух совершенно различных местах. Затем Кроль представил нас директору департамента инженер-генералу Морицу Андреевичу Дестрему. Этот человек был совершенно другого склада, нежели его помощник. Он очень приветливо нас принял и даже всем подал руку, что в то время не все делывали. Но этим и кончилось, впрочем, наше с ним сношение. Он никогда не бывал по отделениям, а сидел только в общем присутствии, куда мы не допускались без особой нужды.
Занятия наши состояли в следующем. Все проекты казенных и общественных построек из губернских строительных комиссий присылались в департамент. Департамент раздавал эти проекты служащим в нем техникам для предварительного рассмотрения. Техники эти, то есть мы, должны были рассмотреть данный нам проект, сделать свои замечания на недостатки их и, ежели нужно, то и эскиз всех предназначаемых перемен. С этими соображениями мы отправлялись к начальнику отделения, и по рассмотрении им и утверждении наших эскизов мы должны были составить вновь проект, отдать его в переплетную для наклейки на коленкор и затем, окончательно отделав, представить начальнику отделения, который уже и вносил эти переделанные проекты на утверждение общего присутствия. Потом проекты эти, уже в утвержденном виде, передавались в 1-е отделение, где по ним переделывались представляемые сметы. Но все эти процедуры делались очень медленно. Я помню, что за всю свою годовую службу в департаменте мне удалось таким образом обработать не более 5–6 проектов. И это еще хорошо; другие сделали еще менее. Не помню теперь, где находился дом, занимаемый департаментом. Знаю только, что департамент был не очень далеко от нашей квартиры, кажется, где-то в Коломенской части, вблизи Фонтанки, и что я постоянно туда и обратно ходил пешком, не прибегая к извозчикам. В первую же получку жалованья нам причиталось получить за два месяца, то есть за август и сентябрь месяцы, всего с лишком 70 рублей серебром. Но, увы, мы получили только за один месяц, потому что августовское жалованье с нас было удержано за полученный чин. Кстати, о жалованье. Тогда жалованье выдавалось не 20-го числа, как нынче, но всегда 1-го числа, за истекший месяц. В департаменте практиковался обычай, что казначей выдавал жалованье и за месяц вперед, за двумя поручителями и с разрешения директора. Вот я, обдумав этот благодетельный обычай и получив 1-го ноября жалованье за истекший октябрь месяц, подал прошение о выдаче мне вперед жалованья за декабрь месяц, представив за себя двух поручителей. Ходатайство мое было уважено, и я получил жалованье и за декабрь месяц. Таким образом, у меня за сделанными расходами образовался остаток рублей в 50 серебром, и я на эти деньги вознамерился ехать в отпуск в Москву для свидания с родными после семилетней разлуки. И это ходатайство мое было уважено, и я с половины ноября месяца был уволен в отпуск на 28 дней. Сборы мои были недолгие. Заручившись согласием на отпуск, я взял билет в мальпосте на поездку в Москву, в таком же открытом месте, в каковом семь лет тому назад приехал с братом Михаилом в Петербург, так что в день получения отпуска я был готов к отъезду. Побывав у братьев и простившись с ними, я к вечеру отправился в почтамт, откуда и отправлялись мальпосты. Туда же приехали меня проводить мой сожитель Р. И. Авилов и брат Михаил Михайлович; причем последний дал мне, прощаясь, памятную записку, она у меня сохранилась и доныне, и я привожу ее здесь в точной копии; вот она:
«1) Попросить у Петра Андреевича, если есть какая-нибудь возможность, прислать мне немедленно сто рублей сер., так как для меня наступает один из труднейших месяцев.
2) Написать мне с одною из первых почт по приезде:
a) о нашем деле: скоро ли оно может быть окончено и когда (приблизительно) можно ожидать получения денег, вырученных от продажи имения.
b) Убедительнейше просить Петра Андреевича постараться окончить поскорее это дело, так как от проволочки его страждут наши интересы.
c) Если можно, то с этим же письмом выслать ко мне 100 руб., о которых я прошу вначале.
d) Будут ли нынешний год какие-нибудь доходы с имения и на какую сумму я могу рассчитывать?
О всем этом я братски прошу брата Андрюшу похлопотать и уведомить меня, в полной надежде, что он не оставит моей просьбы без внимания. Прошу его еще передать Петру Андреевичу, а равно как и милым сестрам, поклон и братское приветствие, а тетушке передать, что я ее люблю и уважаю с тем же глубоким чувством, как любил и уважал еще при жизни покойной маменьки».
Все изложенное в этой памятной записке, конечно, было исполнено, но результаты были неблагоприятны для брата, во-первых, потому, что имение было обременено долгами, а во-вторых, что окончательная продажа имения не могла совершиться в то время, так как в числе наследников двое, то есть брат Николя и сестра Сашенька, были еще несовершеннолетние. И действительно, продажа нашего имения и наш окончательный раздел могли состояться только в октябре месяце 1852 года, о чем я и сообщу в своем месте.
Путешествие мое в мальпосте сопровождалось такою же обстановкою, как и семь лет назад, только настроение мое было более покойным и радостным ввиду скорого свидания с дорогими московскими родными. На 3-й день я ввалился в Московский почтамт и оттуда сейчас же направился к сестре Варваре Михайловне и ее мужу Петру Андреевичу. — Я ввалился к ним, как снег на голову, и тем радостнее было наше свидание. Конечно, в тот же день я с сестрою отправился к Ивановым. Сестру Верочку я застал в последних днях или, лучше сказать, минутах беременности; а в личности Александра Павловича я нашел очень доброго, веселого и симпатичного человека. Я с ним сошелся с первого же дня свидания, и он мне очень полюбился, каковые чувства я и сохранил к нему до конца его жизни. Но ввиду такого положения Верочки я у них в первые дни бывал редко и то на несколько минут. На другой день я отправился к Куманиным, которых сестра Варенька успела уже предуведомить о моем приезде. Тетушка меня встретила с распростертыми объятиями, а дядя был очень внимателен и любезен со мною. В этих трех домах, более мне родственных, я и вращался ежедневно. Визиты же к остальным родным и знакомым я отложил в долгий ящик.
47–48 лет назад Москва резко отличалась от Петербурга, и немудрено: тогда еще не было такого единения между двумя столицами, как теперь. Теперь стоит только человеку, стоящему в Петербурге у телефона, чихнуть, как в ту же минуту он может от своего московского собеседника получить через телефон же обычное приветствие: «Будьте здоровы». Нет, тогда почта приходила из Петербурга в Москву на 3-й день и разносилась по домам на 4-й. В газетах же писали и сообщали о новостях очень сдержанно; а потому понятно, что в Москве часто ходили такие несообразные сплетни про Петербург, что только плюнешь да перекрестишься. Но сколько бы ни были курьезны и несообразны эти сплетни, но такой, какую услышал я, думаю, не мог бы без особых колик от смеха перенести ни один человек. Помню, что во второй или третий приезд к Куманиным бабушка Ольга Яковлевна очень таинственно отводит меня в уединенное место и с такою же таинственностью, как будто бы про великий секрет, допрашивает:
— Правда ли, Андрей Михайлович, что ваш Клейнмихель (бабушка уже знала, что он мой главный начальник) дал публично пощечину петербургскому митрополиту?..
Конечно, я гомерически расхохотался и при всем своем наружном уважении к бабушке Ольге Яковлевне долго не мог прекратить этот смех. Но, перестав смеяться, я уверил ее, что ничего подобного в Петербурге не случалось, да и не могло случиться; вскоре после этого я убедился через расспросы, что в Москве между простым людом и в Замоскворечье, в купеческих домах, действительно упорно циркулировала подобная ни с чем несообразная молва. Теперь же, описывая этот курьезный случай, невольно приходит на мысль, что тогда и у простого люда было очень невыгодное мнение о Клейнмихеле и убеждение в том, что для Клейнмихеля всякая сделанная им пакость пройдет бесследно и что от него ничего нельзя и ждать другого, кроме пакости.
Время, проведенное мною в Москве, было самое веселое время, потому что оно совпало с тремя именинными днями в кругу моих родных. Во-первых, 23 ноября был день именин дяди Александра Алексеевича Куманина. У него был очень многолюдный обед. Конечно, обедали только одни родные, коих было немало. В этот день я со многими увиделся впервые со времени своего отъезда из Москвы семь лет назад. И все ко мне относились очень внимательно и все просили к себе.
На другой день 24 ноября были именины Катеньки, то есть Катерины Федоровны Ставровской; я был у них и провел время тоже очень приятно, хотя у них особого празднества и не было. Дмитрий Иванович был немного скупенек, это все московские родственники знали. Но, впрочем, скромное празднование было, может быть, и оттого, что у Катерины Федоровны только месяц назад (13 октября 1848 г.) родился второй сын Максимилиан. Наконец, 4 декабря были именины сестры Варвары Михайловны, и у Карепиных был многолюдный вечер, много было и мужчин, и дам. Играли на двух столах в преферанс. При этом, помню, со мной случился маленький инцидент. Конечно, я не играл в карты, но часто подходил к играющим. И вот, подойдя к одному столику, где играл Тимофей Иванович Неофитов, я был свидетелем, что у него упала с рук карта, и он, показывая на нее, сказал мне: «Андрей Михайлович, поднимите карточку». Конечно, я мог, вовсе не роняя своего достоинства, поднять карту для такого пожилого человека, каким был тогда Неофитов, но… но мне было тогда только 23 года, и это показалось мне очень обидным, а потому я и закричал проходившему мимо лакею: «Человек, подними карту», а сам отошел от стола и более не подходил к нему. Когда на другой день я рассказал про это тетушке, то она, совершенно одобрив мой поступок, сказала, что я тактично поступил. Во время же моего отпуска были и мои именины. Сестра Варенька подарила мне полдюжины серебряных чайных ложек, кругленьких, в русском вкусе. Из них у меня в настоящее время не осталось ни одной; частью пропали, а частью перешли внукам, когда они начинали сами владеть ложками.
Раз как-то помню еще в начале моего пребывания в Москве, приезжает утром к Карепиным Александр Павлович Иванов; все лицо его было радостное и, видимо, пылало счастием. Конечно, хозяева сейчас же догадались о причине праздничного настроения Александра Павловича, и наперерыв засыпали его вопросами: «Ну что у вас нового? Не поздравить ли вас? Не с сыном ли поздравить вас?..»
— С сыном, с сыном, с сыном, — отвечал он, — сын, турецкий сын… Мария…
— Как Мария? Значит, опять дочь?
— То есть совсем хотел быть сын, да бабушка акушерка в чем-то ошиблась, ну и родилась дочка, зато прехорошенькая, и Верочка, слава Богу, ничего, здорова…
Этот турецкий сын — дочь Мария, ныне Мария Александровна Иванова, проживающая в Москве. Она очень хорошая пианистка, окончившая курс в консерватории и содержавшая себя уроками музыки, которых у нее достаточно{77}.
Очень быстро прошел для меня 28-дневный отпуск, и я снова расстался со всеми московскими родными. В тех же мальпостах я воротился в Петербург, и жизнь петербургская вскоре вошла в свою колею. Ежедневное хождение в департамент и домашняя жизнь настали те же, что и прежде. При таковых обстоятельствах настал 1849 год, очень для меня памятный по своим последствиям.
Время от Рождества до Пасхи прошло незаметно, очень быстро. Пасха в 1849 году была ранняя (5 апреля), а вскоре после Пасхи, как часто бывает в Петербурге, наступило в конце апреля лето, почти летняя погода, так что все покинули шубы и теплые пальто и облеклись в летние.
22 апреля 1849 года, в пятницу вечером, часов в 6 я вышел из дому и отправился на Литейную, чтобы побывать у своего товарища архитектора Григория Ивановича Карпова, к которому я нередко хаживал. С ним жила его молоденькая сестра, и с нею очень приятно было проводить время. День был очень жаркий. Проходя по Загородному проспекту, я совершенно неожиданно встретился с братом Федором Михайловичем, близ церкви Введения (полковой Семеновского полка). Встреча эта и кратковременный разговор с братом глубоко врезались в моей памяти. Мы поздоровались и простояли вместе минут пять. После встречных приветствий брат сказал:
— Скверно, брат, очень скверно! Чувствую, что болезнь подтачивает меня. Нужно бы отдохнуть, полечиться, куда-нибудь поехать на лето… а средств нет!.. Что ты не заходишь? Заходи как-нибудь.
— Да ведь послезавтра воскресенье, увидимся у брата…
— А ты будешь у брата?
— Непременно.
— Ну так до свидания!
Но в воскресенье нам обоим уже не удалось быть у брата Михаила Михайловича.
У Карповых я просидел целый вечер, и очень приятно провел время. Обратный путь с Литейной, по наступившим уже петербургским белым ночам, я прошел пешком в очень приятном настроении духа. Воротился я домой часов в 12 ночи, довольно долго читал, лежа в постели, и когда погасил свечу, то сквозь щели внутренних ставен (квартира была в первом этаже) прорывался уже свет от утренней зари. Я заснул в самом спокойном настроении духа, никак не предполагая столь тревожного и ужасного пробуждения! Спать мне пришлось недолго. Часу в 4-м утра я сквозь сон услышал:
— Андрей Михайлович, Андрей Михайлович, вставайте! Очнувшись от сна и накинув халат, я вышел в среднюю общую комнату (гостиную), где ставни не были закрыты и где было уже совершенно светло. Взору моему представилось целое общество: жандармский штаб-офицер, жандармский поручик, частный пристав, жандарм и несколько полицейских, находящихся в соседней комнате (столовой). А позади всех их виднелись трепещущая и не совсем еще одетая Анна Ивановна и мой товарищ Авилов.
Жандармский штаб-офицер начал:
— Вы господин Достоевский?
— Я.
— Андрей Михайлович?
— Да.
— Архитектор?
— По высочайшему повелению вы арестуетесь, — и при этом почти всовывал мне для прочтения бумагу об арестовании меня! Но мне было не до доказательств правильности моего ареста… Я был просто ошеломлен.
И в самом деле, не зная, почему, для чего, и ничего не подозревая, спросонков и при такой обстановке — услышать подобные слова — было ужасно. Со мной сделалось какое-то нервное потрясение.
Начали меня собирать в путь; то есть разбирать все мои вещи и бумаги и все увязывать в узел; при этом происходило все то же, что и при арестовании моего брата Федора Михайловича, так хорошо им самим описанного в 1860 г. в альбоме г-жи Милюковой[28]. Отмечу некоторые особенности.
По окончании связыванья всех бумаг и книг и после обыска всех столов, комодов и прочих хранилищ, оказался препорядочный узел. Жандарм, так же как и при арестовании брата, полез на печку, но не оборвался и не упал, а достал с печи большую связку, хорошо упакованную в газетную бумагу, и с торжеством отдал ее своему начальству. «Что у вас в этом свертке?» — «Спички», — с трепетом отвечал я.
Распаковали связку и действительно убедились, что в ней было большое количество спичек. Дело в том, что в начале 1849 года разнесся слух, что с июня месяца будет запрещена продажа спичек в том виде, как она совершалась; но что они будут продаваться под бандеролью в железных коробках и будут очень дороги. Многие по этому случаю делали большие запасы их — в том числе и я. Упоминаю об этом для того, чтобы показать, до какой степени я был нервно расстроен. Когда отыскали тюк, то мне показалось, что это-то и есть то преступление, за которое меня арестуют! Хотя это покажется и смешным, но чего не может прийти в голову в таком расстроенном и, можно сказать, болезненном состоянии?!
— Ну, это мы можем и не брать, — решил авторитетно жандармский полковник.
Товарищ мой Авилов, видя мое расстройство, вздумал ободрить меня словами: «Ну, что ты беспокоишься! Ты ни в чем не виноват, подержат, да и выпустят». — «Ну, не скажите, это иногда бывает не так легко». Мне врезалось в память это как-то не по-русски построенное выражение.
Между тем подали чай, и полковник, нисколько не стесняясь, взял стакан чаю и уселся в нашей гостиной, у отворенного окна. Несколько времени спустя он внезапно проговорил: — «А вот и капитан Львов полетел до облаков». Это он сказал, увидевши проехавшую мимо окон карету. После я понял, что это было сказано по поводу ареста полковника Львова, который жил тогда в районе Измайловского полка и которого уже провезли. Этого капитана Львова, как после я слышал, тоже взяли по ошибке, вместо однофамильца (тоже гвардейского офицера); но он был счастливее меня, и ошибочность его ареста обнаружилась очень скоро, чуть ли не на другой или третий день. Рассказывали, что покойный император Николай Павлович при первом разводе, как истинный рыцарь, лично извинялся перед Львовым, обласкал его и дал небольшую пенсию его старушке-матери. Не знаю, насколько справедливы эти сведения, по крайней мере, в то время об этом передавали как о верном факте.
Сборы приходили к концу, и полковник объявил Авилову, что хотя он не уполномочен делать обыск в его квартире, но так как на самом деле квартира наша оказалась общею, то он считает необходимым как комнату, ему принадлежащую, так настоящую в ней письменную конторку опечатать, оставив в его распоряжении только общие комнаты, в которых никаких вместилищ, кроме стульев, дивана и обеденных столов (тщательно осмотренных), не было. — Конечно, против этого Авилов протестовать не мог, но при этом не пропустил случая, чтобы не сошкольничать:
— Я ничего не могу возразить против опечатания моей комнаты и конторки, но позвольте, господин полковник, просить вас об одолжении.
— Что прикажете, господин сотник?
— Позвольте мне внести в эту комнату прежде, нежели она будет опечатана, мое носильное платье.
— Для чего же это?
— Да я подам рапорт в департамент, в котором служу, об опечатании моего платья и получу возможность не ходить на службу и устрою себе маленькие каникулы.
— Это можно, препятствовать этому не могу.
Так Авилов и сделал и провел все время моего заключения в добровольном домашнем аресте.
Хотя я и получал порядочное по тогдашнему времени содержание, но к концу месяца (жалование выдавалось не 20-го, а 1-го числа) у меня оставалось только несколько мелких монет, у Авилова тоже, — которые он и передал мне. Таким образом, у меня образовался капитал до двух рублей.
При отъезде из дома я хотел было надеть легкое летнее пальто, так как день обещал с утра быть ясным и жарким.
— Я советовал бы вам надеть что-нибудь потеплее, — сказал полковник.
Я послушался и надел теплую шинель с меховым воротником. Впоследствии, сидя в сыром и холодном каземате, я не раз мысленно благодарил полковника за данный мне совет, тем более что вскоре и погода изменилась к худшему. Вышли на двор. Здесь стояла кучка жильцов из всего дома. «Преступника ведут…» — шептали некоторые; женщины же вздыхали и крестились.
Меня посадили в карету, куда поместились также полковник, полицейский чиновник и жандарм. Разместились так: я и полковник в заднем месте, а двое остальных в двух передних местах. Захлопнули дверцы, опустили шторы в карете и затем тронулись. Жандармский же поручик с нами не поехал, а остался опечатывать конторку и комнату Авилова.
— Куда меня везут? — решился спросить я.
— Это вы узнаете после.
После получасовой езды карета остановилась, и меня высадили. Осмотревшись, я узнал, что мы на Фонтанке, вблизи Летнего сада. Это было III Отделение собственной его имп. величества канцелярии. Узел с моими вещами унесли куда-то налево в дверь нижнего этажа, и я не видал его более вплоть до своего освобождения. В сенях я увидел несколько любопытных сцен. Являлись в парадную дверь несколько солидных особ, в темно-коричневых штатских шинелях, которые, распахивая шинель и снимая с шеи черные шейные галстуки, закрывавшие их шитые золотом по красному сукну мундирные воротники (форма тогдашней полиции), оказывались полицейскими чиновниками. Это были чины тайной полиции.
Затем, оставив свою шинель в передней, я был поведен на верхний этаж и очутился в большой зале, которую впоследствии брат Федор Михайлович называл «Белою залою».
К немалому своему удивлению, я нашел в этой зале человек 20 публики, которые, видимо, тоже были только что привезены сюда и которые шумно разговаривали, как хорошо знакомые между собою люди.
— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, — слышалось от всякой вновь прибывающей в залу личности, при свидании с остальными. Действительно, был Юрьев день (23 апреля).
Число вновь прибывающих с каждою минутою более и более увеличивалось, и все, видимо, были хорошо знакомы друг с другом. Один я стоял, как в воду опущенный, никем не знаемый и никого не знающий. Говор и шум в зале увеличивались; кто требовал чаю, кто просил кофе и т. п. … Вдруг вижу ко мне подбегает брат Федор Михайлович: «Брат, ты зачем здесь?»
Но только и успел он это сказать. К нам подошли 2 жандарма, один увел меня, другой брата в разные помещения.
Это было мое последнее с ним свидание и последние слова, мною от него слышанные, на долгие и долгие годы. Мы свиделись после этого только в декабре месяце 1864 года, то есть более чем через 15 лет!
Тут я должен сделать маленький перерыв моего рассказа об истории дальнейшего своего арестования и сообщить одно побочное обстоятельство.
2 августа 1883 года я получил письмо от Ореста Федоровича Миллера, писавшего тогда биографию Ф. М. Достоевского, посланное им 29 июля. Вот письмо это{78}.
Многоуважаемый Андрей Михайлович!
В одном из писем Федора Михайловича прочел я следующее: «Я умолял третьего моего брата, которого арестовали по ошибке, не объяснять ошибки арестовавшим, как можно долее, и послать денег брату Михаилу Михайловичу, полагая, что у него нет»{79}.
Не найдете ли возможным с Вашей стороны выяснить этот факт?
Моя часть биографии дописывается, первая же глава — куда вошли Ваши воспоминания, уже напечатана.
С истинным почтением преданный Вам Ор. Миллер. Павловск (Спб. губ.), Лебединая улица, дача Пистолькорса.
Получив это письмо, я почти так же подробно, как и здесь, описал Оресту Федоровичу историю своего ошибочного ареста и, дойдя в описании до последнего своего свидания с братом Федором Михайловичем в Белой зале III Отделения, присовокупил следующее: «Я глубоко уважаю покойного своего брата Федора Михайловича, знал его всегда за самого правдивого человека, чту его память и благоговею перед ней… но, несмотря на это, я правдиво должен заявить, что слова его в письме к неизвестному мне лицу — не верны. Покойный брат Федор Михайлович не мог не только умолять меня, как видно из изложенного, не открывать сколь можно долее ошибки, но даже не имел времени намекнуть мне об этой ошибке. О, ежели бы он объявил мне это! Насколько бы успокоил он этим мое десятидневное заключение в каземате! В объяснение его этих слов я могу предположить только одно: может быть, брат писал мне в этом смысле записку в том же III Отделении и поручил кому-либо передать ее мне, и что записка эта была перехвачена и до меня не достигла. Что же касается меня, то я оставался в полном неведении о причине моего ареста вплоть до первого допроса в следственной комиссии, который состоялся только вечером 2 мая, то есть спустя 10 дней после моего арестования. Эта неизвестность и была особенно для меня тягостна»{80}.
Целый день 23 апреля, вплоть до ночи, мы провели в III Отделении, нас разместили по отдельным залам по 8–10 человек и обязали не разговаривать друг с другом. Это был очень томительный день неизвестности. Около полудня приехал князь Орлов (бывший тогда шеф жандармов). Он в каждой зале говорил арестованным маленькую речь, сущность которой, насколько припомню, была та, что мы не умели пользоваться правами и свободою, предоставленными всем гражданам, и своими поступками принудили правительство лишить нас этой свободы и что по подробном разборе наших преступлений над нами будет произведен суд, а окончательная участь наша будет зависеть от милосердия монарха.
Нам подавали чай, кофе, завтрак, обед и все очень изысканно сервированное… одним словом, кормили на славу, как гостей в III Отделении.
Один из соседей моих, постоянно около меня сидевший на диване и очень симпатичный молодой человек, вынув клочок бумажки из своего кармана, написал на нем карандашом: «Как ваша фамилия и за что вы арестованы?» Бумажку эту он передал мне для прочтения.
Я написал на ней: «Фамилия моя Достоевский, а за что арестован — не ведаю». В свою очередь, я сделал ему тот же вопрос и таким же путем получил ответ, что фамилия его Данилевский и причина арестования ему тоже неизвестна.
Это оказался Григорий Петрович Данилевский{81}, впоследствии известный писатель и главный редактор газеты «Правительственный Вестник». С этим Григорием Петровичем Данилевским я впоследствии встретился в 60-х годах в Екатеринославе. Он у меня там бывал несколько раз и имел случай оказать мне маленькую услугу, о чем сообщу в своем месте.
Медленно тянулся этот томительный день, и наконец вечером, уже в сумерки, стали долетать до нас отрывочные разговоры между проходившими беспрестанно жандармами:
— Что, наведен?
— Нет еще, наводят.
Это говорилось о мосте, по которому должно было препроводить нас в крепость и который по весеннему времени не был еще наведен; но для меня слова эти были тогда непонятны.
Когда уже совершенно стемнело, следовательно, часов уже в 11, нас начали поодиночке выкликать, и раз вызванный более уже к нам не возвращался. Наконец, очередь дошла и до меня; меня вызвали и повели внутренними ходами в нижний этаж, оказалось, что в кабинет Л. В. Дубельта.
В кабинете этом, за большим письменным столом, заваленным кипами бумаг, сидел седенький и худенький генерал в голубом сюртуке и белых генеральских эполетах. Это и был Л. В. Дубельт. Поглядев на меня пристально, он спросил, как мне показалось, довольно сурово: «Достоевский?..» — «Точно так», — отвечал я.
— Извольте отправляться с господином поручиком NN. — Он сказал и фамилию, но, конечно, я ее не помню, а может быть, и не разобрал тогда.
Я вышел с жандармским поручиком в переднюю, через которую проходил утром. Мне надели мою шинель и вывели не на улицу, а во двор, где дожидалась меня такая же, как утром, четырехместная карета. Меня посадили в эту карету, в которую сел рядом со мною и жандармский поручик, а напротив уселся жандармский унтер-офицер, закрыли дверцы кареты, опустили шторы, и карета двинулась.
На этот раз езда наша была гораздо продолжительнее. Странное дело, мне вовсе не приходило тогда в голову самого простого… то есть, что меня везут в крепость. Вероятно, вследствие моего нервного расстройства, мне все казалось, что меня вывезут за город, за заставу, и там пересадят на перекладную, и прямо препроводят в Сибирь.
Наконец, после различных проездов под какими-то сводами (через несколько ворот в крепости) карета остановилась, и меня заставили из нее выйти и ввели в небольшую комнату комендантского флигеля, где со списком в руках принимал нас старый генерал. Это был комендант крепости генерал от инфантерии Набоков.
— Достоевский?
— Так точно, ваше высокопревосходительство, — отвечал привезший меня жандармский поручик.
— Отведите его в первый номер.
И вот опять повели меня, на этот раз через какой-то открытый двор; вошедши в какой-то темный не то коридор, не то сени, мы остановились перед одною дверью, которая со скрипом открылась перед нами, меня впустили в какую-то комнату, дверь мгновенно за мною затворилась, с шумом задвинули железные задвижки и заперли дверь двумя висячими замками. Я очутился один…
Ощущения, испытанные во весь день, с раннего утра, тревожное состояние в продолжение целого дня, таинственность перевозки, темнота ночи, скрип двери и стук запираемых замков — все это вместе взятое окончательно расстроило мои нервы! Я все еще не мог сообразить в первое время, где я?.. и куда меня ввергнули?..
Комнату едва-едва освещала простая плошка, какие в старину употреблялись при уличных иллюминациях, поставленная на уступ оконной амбразуры. От нее чадило страшно, так что ело глаза. Я хотел было затушить ее, но мне постучали в маленькое окошечко, устроенное в двери, и сказали, чтобы я не делал этого. Из этого я заключил, что за действиями моими ежеминутно наблюдают.
Осмотревшись немного, я заметил, что посередине стоит койка с простым тюфяком и подушкою, а в отдаленном углу необходимая мебель, то есть судно, и более ничего.
Расстроенный, измученный всеми происшествиями дня, я не раздеваясь кинулся на койку и мгновенно уснул как убитый. В последующие ночи мне уже не приходилось так спокойно спать.
Проснувшись на другой день, я долгое время не мог сообразить, где я. Наконец, припомнил все и покорился своей участи. Благовест церковного колокола в очень близком расстоянии, сперва к утрене, а затем и к ранней обедне; почти ежеминутный бой башенных часов с музыкальным наигрыванием, через каждые четверть часа — заставили меня догадаться, что я нахожусь в Петропавловской крепости, в одном из ее казематов. Встав с койки, я начал подробно осматривать свой каземат под № 1. Оказалось, что это довольно большая и слишком высокая комната, покрытая сводом. Все стены были сырые, и чувствовался холод, проникавший до самых костей. Я все время не снимал теплой своей шинели, в которой и спал. На стенах ясно обозначались различные свежие царапины. Вероятно, незадолго перед ожиданием новых жильцов, соскабливали различные надписи, сделанные прежними жильцами. Окно было одно; но просвет его начинался так высоко от полу, что, встав на амбразурный уступ (аршина полтора от полу), нельзя было достать до подоконника, а следовательно, ничего нельзя было и видеть. Полы, вероятно, были когда-то кирпичные, но от времени все выбились.
Было воскресенье. Часу в 9 утра со стуком отворились двери, и вошел комендант крепости генерал Набоков со свитою плац-адъютантов и других офицеров. Осмотрев помещение, он проговорил:
— Да, здесь нехорошо, очень нехорошо, надо торопиться… надо сильно торопиться!
После мне объяснили, что слова «надо торопиться» относились к тому, что надо скорей отделывать новые временные казематы.
Я, не упуская первого случая, обратился к генералу и просил объяснить мне, за что я арестован. Набоков нахмурился и очень мрачно проговорил: «Это вы должны сами лучше меня знать. Но, впрочем, при первом допросе вам это объявится».
И вот потекла моя жизнь изо дня в день в ничегонеделании. Ни книг, ни бумаги, ничего не было!.. Оставалось только мечтать и обдумывать, что может случиться вперед. Единственное занятие, которое я выдумал для себя, состояло в том, что, вставши с койки, я начинал ходить, считая вслух свои шаги, и, насчитав их 1000, садился на койку отдыхать. Потом начинал снова то же занятие. Этим я немного отгонял от головы мрачные мысли.
В первый же день моего заключения мне объявил плац-майор, что я могу иметь за свои деньги два раза в день чай.
— А курить здесь можно? — спросил я.
— Сколько угодно.
Узнав это, я попросил плац-майора распорядиться покупкою мне табаку, сигар и спичек, а равно и чубук с 2, 3 трубками, (папирос тогда еще в продаже не имелось), на что и вручил ему имевшийся у меня весь свой капитал до 2 рублей.
— На все? — спросил он.
— На все, — отвечал я, алчно помышляя о первой трубке. И вот через несколько времени мне принесли курево, со всеми принадлежностями… но, ужас, табак был в 30 коп. фунт, а сигары по 7 ½ коп. десяток. Когда я заявил, что нельзя ли переменить купленный товар на лучший, то старый служитель, исполнявший эту порученность, внушительно проговорил:
— Ничего, господин, привыкнете и к этому, зато на дольше хватит… Ведь неизвестно, как долго вы здесь пробудете!
Я подумал, согласился с его доводами и оставил купленное. Таким образом я был обеспечен большим запасом худого курева; но зато лишился возможности, хотя изредка, выпить стакан горячего чаю.
Двери моего каземата отпирались ежедневно по пяти раз, всегда в одно и то же время: 1) утром, часов в 7 или 8, когда приносили мне умываться и убирали комнату, то есть выносили из судна; 2) часов в 10–11, при обходе начальства. Комендант почти ежедневно посещал казематы сам; 3) в 12 часов дни, когда приносили обедать; 4) в 7 часов вечера, когда приносили ужин; 5) когда стемнеет, чтобы поставить плошку.
Обед состоял всегда из двух блюд: щи или суп в виде похлебки с нарезанными мелко кусочками говядины и каша, гречневая или пшенная, причем хлеба приносили вдоволь. Ужин же состоял из одного горячего. Для питья постоянно ставилась оловянная кружка с квасом или водою, по желанию. Как видно, пища была незатейливая, но жаловаться было нельзя, потому что она всегда была сытная и свежая. Ножа и вилки не полагалось, вероятно, опасались самоубийств.
Со второй же ночи я открыл новый сюрприз в своем каземате. Как только стемнело и внесли в каземат зажженную плошку, так мало-помалу начали появляться крысы огромной величины. Я всегда чувствовал и чувствую какую-то боязнь и какое-то отвращение не только к крысам, но даже и к мышам. И вот теперь мне приходилось воевать с большими крысами. Их являлось иногда штук по 10 одновременно, и я, боясь, чтобы они не забрались ко мне на койку, не спал до рассвета. Я не мог понять, откуда они появляются; вероятно, где-нибудь вблизи был мучной лабаз. При дневном свете их не было видно. Но, впрочем, в конце апреля и в начале мая светало рано, и я успевал выспаться. Сверх того спал всегда и днем после обеда.
Дни проходили за днями при совершенно одинаковой обстановке. Впрочем, пятый день моего ареста прошел для меня несколько разнообразнее. Еще с утра я услышал праздничный церковный звон. Около полудня начался перезвон, как говорится, «во вся». Послышалось даже приближающееся пение певчих и потом медленно удаляющееся. Долго я думал, что это значит; наконец, рассчитал, что в этот день (27 апреля) церковный праздник Преполовения поста и что в этот день ежегодно совершается крестный ход по стенам крепости. Вспомнилось мне также, что в этот день в строительном училище храмовой праздник (Симеона, сродника Господня) и что еще неделю тому назад я мысленно собирался в этот день в церковь училища, в первый раз по выходе из него как частное лицо, а не как воспитанник заведения. При воспоминании об этом мне стало грустно, очень грустно!..
Всякий день я ожидал допроса, обещанного мне комендантом крепости еще в первый день моего заключения в каземат. Я предполагал, что он совершится, конечно, днем, но дни проходили за днями, и всякий вечер я с тоскою думал: «Не завтра ли?»
Так прошло десять дней, то есть до понедельника 2 мая. Вечером в этот день я потерял уже надежду, что мне дадут допрос, и думал, по обычаю, не завтра ли? Принесли и ужин; наконец, стемнело, и внесли зажженную плошку. Отбыв это последнее посещение, я начал, ходя, отсчитывать, не помню которую тысячу шагов… Как вдруг послышался необычный в это время дня шум отпирающихся замков и отодвигающихся задвижек. У меня забилось сердце! Отворяются двери, и входит плац-майор: «Пожалуйте к допросу!..»
Я упал на колени и несколько минут горячо помолился Богу! Выйдя на воздух, я, к изумлению своему, увидел всю землю покрытою только что выпавшим снегом. На меня пахнул свежий ветерок… и вдруг я почувствовал, что мне делается дурно, так что я чуть не упал. Плац-майор и конвойный остановились, я нагнулся к земле, взял горсть снегу и потер себе виски и голову. Мне стало лучше, и мы двинулись далее через двор к комендантскому флигелю, с тем чтобы более уже не возвращаться в каземат № 1.
Меня ввели сперва в приемную, небольшую, но ярко освещенную комнату. Там было большое зеркало, я взглянул в него… и удивился. Во-первых, я нашел, что очень похудел; во-вторых, я увидел при полном освещении свою сорочку… Она была черна, как сажа. Ведь почти две недели я не переменял белья, а чад от ночной плошки довершил остальное. Брезгливо и наскоро я засунул воротнички сорочки за галстук и застегнул сюртук доверху.
Через несколько минут меня позвали в залу заседаний следственной комиссии.
Посередине довольно большой и ярко освещенной комнаты стоял большой продолговатый стол, покрытый сукном. На председательском месте сидел комендант крепости генерал Набоков. Первое место по правую от него руку занимал, как после узнал я, князь Павел Павлович Гагарин, впоследствии председатель комитета министров, второе — Леонтий Васильевич Дубельт. Первое место по левую руку председателя занимал князь Василий Андреевич Долгоруков, а второе — Яков Иванович Ростовцев. Конец стола занимала канцелярия, то есть обер-аудитор, аудитор и секретарь.
Допрос начал князь Гагарин, обратившись ко мне приблизительно с следующими словами:
— Господин Достоевский, вы живете в свете не первый год, а потому должны знать, что лишать человека свободы — нельзя без достаточной причины. Вы лишены свободы вот уже, кажется, десять дней, а потому имели время и должны были обдумать и доискаться причины, за что вы лишены свободы? Вот чистосердечный и правдивый ответ на этот вопрос следственная комиссия и желала бы получить от вас. При этом предваряю вас, что комиссия делает этот вопрос, так сказать, для очищения совести… для формы… потому, что, собственно говоря, комиссии все уже давно известно.
— Вы упомянули, ваше превосходительство, — начал я свой ответ, не зная тогда, что спрашивающий меня был князь, — что я не первый год живу в свете. В этом первом своем мнении вы изволили ошибиться. Своею самостоятельною и вполне свободною жизнью я пользуюсь не года, а только несколько месяцев. До июля прошлого года я был в закрытом заведении — я учился. О моих действиях и поступках до июля месяца прошлого года вы можете справиться у начальства строительного училища, и я уверен, что вы получите самый благоприятный обо мне отзыв, потому что моя фамилия, как первого по выпуску, помещена на мраморной доске училища. Получив воспитание на казенный счет, назначенный со школьной скамьи прямо на государственную службу, с вполне обеспеченным содержанием, я всем обязан правительству. Еще в первый день моего ареста, еще до каземата, его сиятельство князь Орлов в словах, обращенных к нам, арестованным, высказал, что мы арестованы вследствие того, что не умели пользоваться правами и свободою, предоставленными всем гражданам, и своими поступками принудили правительство лишить нас свободы… Следовательно, и меня в числе прочих подозревают в противозаконных действиях, в действиях противных правительству, которому я всем обязан! Что я мог сделать в последние 8–9 месяцев своей жизни столь преступного, что лишен свободы? Сколько я ни думал об этом в дни моего заключения, но ни на чем не мог остановиться. Еще в первый день моего пребывания в каземате я обращался с просьбою к его высокопревосходительству господину коменданту о сообщении мне причины, за что я арестован, — мне было сказано, что я должен знать об этом сам. Но при этом его высокопревосходительство прибавил, что мне будет объявлено это при первом допросе меня. Не окажете ли вы мне милость, не объявите ли теперь причину моего арестования?
Я проговорил эту тираду горячо, с сознанием своей правоты.
— Все это — слова, и слова хорошие, ежели они правдивы и вами прочувствованы, но обратимся лучше к делу. Вот видите ли, господин Достоевский, часто вредные знакомства вовлекают молодых людей, подобных вам, не только в проступки, но даже в преступления! Подумайте-ка хорошенько, господин Достоевский, не имели ли вы таких знакомств?
— Все мои знакомства ограничиваются моими товарищами по выпуску и товарищами по службе. — Я назвал до десятка фамилий.
— Где вы бывали по пятницам?
— Пятница для меня такой же день, как и все остальные дни недели, ни у кого, в смысле постоянных еженедельных посещений, я по пятницам не бывал. Вот в последнюю пятницу, перед моим арестом, то есть 22 апреля, я был у своего товарища архитектора Карпова и в квартире его провел время в сообществе его сестры, часов до 11 вечера.
— А с Буташевичем-Петрашевским вы не знакомы?..
— С Петрашевским?.. Нет, я Петрашевского не знаю; а как ваше превосходительство назвали другого?
Я действительно только тогда в первый раз услышал о Петрашевском и, не зная, что он носит двойную фамилию, думал, что спрашивают о двух лицах. Этот наивный вопрос поколебал, кажется, недоверие к моим показаниям, потому что князь Гагарин, после непродолжительного совещания (шепотом) с председателем, обратился ко мне со следующим вопросом:
— Послушайте, господин Достоевский, вам не случалось слышать, что у вас есть однофамильцы?
— Я знаю, и мне не раз приходилось слышать от покойного отца, что мы не имеем однофамильцев. Все носящие в настоящее время эту фамилию — мои ближайшие родственники, мои родные братья.
— Вы сказали братья?
— Да.
— В день своего ареста вы встретились с своим братом в III Отделении собственной его императорского величества канцелярии; вы об этом не упомянули.
Об нашей мгновенной встрече уже сообщили следственной комиссии!
— Я не имел еще случая об этом упомянуть. Впрочем, встреча наша была только на одно мгновение, и мы не успели сказать друг другу ни одного слова.
— Так!.. Следовательно, кроме этого брата у вас есть еще брат?..
— Кроме брата Федора, у меня еще два брата: один младший, еще 17-летний юноша, поступил на мое место в строительное училище; а другой, старший нас всех, брат Михаил Михайлович.
— Какая профессия старшего вашего брата и где он живет?
— Он отставной военный инженер и живет здесь в Петербурге.
— Чем же он занимается?
— Он занимается литературой.
— Ааааааа!
Новый минутный шепот с председателем.
— Г. Достоевский, мы попросим вас удалиться на несколько минут в приемную.
Я вышел. Через несколько минут меня снова позвали в залу заседаний комиссии, и начал опять князь Гагарин.
— Все сейчас показанное вами, г. Достоевский, комиссия считает и находит правдоподобным; но вы поймите, что комиссия не может основываться на одних ваших голословных показаниях; она должна их проверить; но, впрочем, мы вас долго не заставим ждать, завтра в это же время мы призовем вас опять, а до тех пор возвратитесь в свой каземат.
Я поклонился и хотел выходить, но генерал Набоков остановил меня и позвонил.
— Его каземат ужасный, надо перевести его, — и добавил вошедшему по звонку плац-майору: — Отведите этого господина в новые помещения и устройте его в одном из лучших номеров.
Мы вышли, и я, не заходя в старый каземат, очутился на новоселье, куда мне перенесли и мое курево со всем прибором.
Новое мое помещение показалось мне раем после каземата № 1. Это была чистенькая комнатка, походящая более на удельную больничную палату, нежели на каземат. Только железные решетки в окнах напоминали, что это арестантское помещение.
Было уже поздно. Теплое, чистенькое помещение, хороший воздух, новая железная кровать с новым же тюфяком, покрытым простыней и байковым одеялом… соблазнили меня и я сейчас же лег на кровать, в первый раз со времени своего ареста без теплой шинели и сняв верхнее платье.
Весь следующий день я провел в ожидании вечера. За себя я был уже совершенно спокоен, но мне щемило сердце, что оба мои старшие братья замешаны в каком-то деле, о котором я, впрочем, не имел ни малейшего понятия.
Настал вечер, и часу в 11 меня действительно снова позвали; это было 3 мая во вторник. Я вошел в знакомую мне залу, и князь Гагарин объявил мне следующее:
— По собранным справкам, все показанное вами вчера оказалось совершенно справедливым. Ваш арест произошел от ошибки, часто неизбежной при огромном механизме государственного управления[29]. Но комиссия не может освободить вас теперь же: вы арестованы по высочайшему повелению, а потому и освобождение ваше должно быть разрешено высочайшей властью. Государь же в настоящее время в Варшаве, и комиссия уже послала туда представление об освобождении вас; вероятно, на днях получится разрешение, и тогда вы будете освобождены, а до тех пор вы должны провести еще несколько дней в каземате. Как молодой архитектор, силою своего творческого воображения, приведите мысленно свой каземат в изящное и уютное помещение и проведите в нем еще некоторое время…
Последние слова князя пахли насмешкою и ирониею. Но на этих словах прервал его генерал Набоков.
— Никогда я не допущу, чтобы совершенно невинный находился под арестом и сидел в каземате. Вы правильно сказали, князь, что комиссия не имеет права освободить господина Достоевского без разрешения государя, но я, как председатель комиссии и как комендант крепости, делаю его своим арестантом… — При этом он позвонил, и на зов этот вошел плац-майор.
— Это мой арестант, в моей квартире есть свободная комната, близ моего кабинета, поместите его туда; ни стражи, ни запоров не нужно, он не убежит! — Обратившись ко мне и положив руку на мое плечо: — Правду вы говорили, мой голубчик, что невиновны… — Плац-майору вполголоса: — Сейчас же напоите его чайком, да с сухариками… да с сухариками!.. — Мне: — Ступайте, мой голубчик, отдохните!
Но я не сейчас вышел и обратился к комиссии со следующею просьбою:
— Хотя я был убежден в своей невиновности, но сейчас… здесь… я услышал официально, что арест мой есть арест ошибочный… Я только начинаю свою службу, и для меня очень важно, чтобы и во мнении моего начальства не осталось ни малейшего подозрения насчет моего арестования, а потому я покорнейше просил бы комиссию, не найдет ли она возможным известить мое начальство о случившейся ошибке относительно моего арестования?..
На эту мою просьбу ответил генерал Набоков, что комиссия уведомит об этом мое начальство, а генерал Яков Иванович Ростовцев при этом же заявил, что кроме уведомления комиссии он сам будет писать графу Петру Андреевичу Клейнмихелю и просить его, чтобы мой ошибочный несчастный арест не имел никакого влияния на мою службу. Тогда я всем поклонился и вышел.
Итак, с вечера 3 мая, то есть со вторника, я очутился под домашним арестом в квартире генерала Набокова, который был ко мне очень добр и внимателен и не раз заходил в мою комнату, чтобы осведомиться, хорошо ли мне и не нуждаюсь ли я в чем. Я же всякий раз сердечно благодарил его за всю его ко мне доброту и всегда на свою благодарность получал ответ: «Не на чем, голубчик… я очень рад быть вам полезным».
Этот арест мой продолжался с лишком двое суток, то есть до утра б мая (пятницы). Но еще накануне, то есть в четверг 5 мая, около полудня, плац-майор, разговаривая со мною, дал мне понять, что разрешение об освобождении меня получено уже комиссиею.
— Так, значит, меня нынче же и освободят? — спросил я плац-майора.
— Нет, вас нынче не освободят, а освободят завтра утром.
— Почему же? Еще очень рано… Зачем меня удерживать? Я пойду к генералу и буду просить…
Но плац-майор меня перебил; он сказал мне, что получит большие неприятности, ежели узнают, что он передал мне это известие; конечно, я отказался от своего намерения, но при этом спросил, какие могут быть препятствия к моему немедленному освобождению.
— Да очень просто — не желают, чтобы вы встретились в городе с теми лицами, с которыми вы встречаться не должны.
Я понял, что не хотят, чтобы я виделся с братом Михаилом Михайловичем.
В ночь с 5 на 6 мая брат Михаил Михайлович был арестован, а утром 6 последовало мое освобождение.
Часов в 8 утра 6 мая, в пятницу, меня позвали в залу коменданта крепости. Меня повел плац-майор.
— По высочайшему повелению вы освобождаетесь от ареста. — Обратясь к плац-майору: — Сделайте распоряжение об отправлении его на его квартиру.
Поклоном своим он дал мне знать, что я могу удалиться. Но я, несмотря на это, остановился и еще раз, очень растроганным голосом благодарил его за доброту ко мне.
— Не за что, не за что… Я очень рад, очень рад вашему освобождению… Желаю вам всего лучшего… Прощайте.
Я и плац-майор вышли от коменданта и воротились в комнату, мною занимаемую. Плац-майор сейчас же сделал распоряжение о приноске большого узла с моими бумагами, взятыми из моей квартиры во время ареста. Его мгновенно принесли, вероятно, разыскав и приготовив заранее, и с ним вместе явился и жандармский унтер-офицер, которому плац-майор дал какие-то наставления, а затем, обращаясь ко мне, сказал:
— Ну, не поминайте нас лихом, желаю вам всего лучшего. Только тогда я решился открыть плац-майору, что у меня нет ни копейки денег, чтобы заплатить за перевоз через Неву (тогда мосты опять были разведены), а равно и на извозчика. На это плац-майор отвечал:
— Об этом не беспокойтесь. Казна доставила вас на свои средства сюда в крепость; казна же и возвратит вас на свой счет в вашу квартиру.
С этим мы распрощались.
Мы вышли на берег; там четырехвесельная лодка с двумя гребцами была уже готова. Мой узел уложили в лодку, и я сел в нее. Сел со мною вместе и жандармский унтер-офицер, но уже не в качестве конвойного, а в качестве услужника. Как только пристали к берегу, подъехал извозчик, вероятно, тоже заранее договоренный. Унтер-офицер уложил мой узел и усадил меня и, пожелав мне всего хорошего, удалился, а я поехал на свою квартиру.
Только 13 дней прошло, как я не видел петербургских улиц, но они мне показались какими-то странными, уличный шум преувеличенным, а движение по ним более оживленным; и я долго не мог освоиться и привыкнуть к ним. Так человек, сидевший долго в темноте, с усилием привыкает к дневному свету.
Проезжая по Гороховой через Семеновский мост по Фонтанке, я встретился с архитектором Григорием Ивановичем Карповым, у которого был накануне своего ареста (22 апреля). Так как он меня не заметил, то я невольно окликнул его:
— Григорий Иванович!.. Карпов!..
Обратившись на зов и увидев меня в шинели с меховым воротником и с большим узлом в ногах, он, вероятно, подумал, что я убежал, а потому, не отвечая на мой зов и приветствие, бросился бегом от меня в другую сторону, как от зачумленного! Впоследствии он объяснил этот свой поступок тем, что я показался ему так похудевшим, как мертвец, а потому он будто бы и испугался меня как привидения.
Приехав домой, я был долгое время предметом особых ухаживаний за мною. Переодевшись, я в тот же день и в то же утро пошел в строительное училище к ротному командиру Николаю Платоновичу Бердяеву. Тот встретил меня тоже с большим удивлением, но очень приветливо: «Достоевский, вас ли я вижу, голубчик?» При этом он усадил меня в кресло и начал расспрашивать. Я рассказал в подробностях о всем случившемся со мною в продолжение 13 дней. Он слушал внимательно и сочувственно, и часто голос его дрожал от волнения.
Я попросил, чтобы он вызвал на минутку к себе брата Николая, чтобы я мог повидаться с ним. Добрый братишка вскоре появился со слезами на глазах. Я поговорил с ним несколько минут и сказал, что в первый же его приход ко мне я расскажу ему все подробно; а теперь я расстался с ним. Бердяев советовал мне в тот же день пойти к директору училища генералу Притвицу, сообщив мне, что тот принимал во мне живейшее участие, когда узнал, что я арестован; при этом Бердяев добавил, что, вероятно, Притвиц, являясь на следующий день, то есть в субботу 7 мая к графу Клейнмихелю, найдет нужным доложить ему о моем освобождении.
Распрощавшись с Бердяевым, я просил его, чтобы по праздникам ко мне по-прежнему отпускали в отпуск брата Николая. От Бердяева я прямо, не заходя домой, прошел к генералу Притвицу, который жил недалеко, на том же Обуховском проспекте. Притвиц меня встретил словами: «Ну, так я и знал, что вы скоро будете освобождены». Я рассказал и ему все подробности своего ареста и вызывал своим рассказом не раз слезы на его добром старческом лице! Он сказал мне, что завтра же доложит о моем освобождении графу Клейнмихелю.
На другой день после своего освобождения я волей-неволей должен был идти в III Отделение. Дело в том, что комната Авилова была все еще опечатана, а равно и его платье; и потому нужно было похлопотать о снятии печатей с комнаты. — И вот в субботу 7 мая, ровно через две недели после моего ареста, я отправился в III Отделение. Там, после долгих расспросов, мне, наконец, указали, к кому и куда обратиться. На мое заявление мне сейчас же передали ключ от комнаты, сказав, что вслед за мной придет и поручик, налагавший печати, чтобы снять их. В ушке ключа оказалась прикрепленною записка, при которой был представлен этот ключ в III Отделение. Эта записка какими-то судьбами сохранилась в моих бумагах и теперь; вот содержание ее:
«Запечатана мною квартира сотника войска Донского Авилова по причине той, что господин Авилов занимает совместно с господином Достоевским квартиру, от которой я ключ имею честь доставить. 23 апреля 1849 года. Поручик Канавко».
Вслед почти за моим возвращением явился к нам на квартиру жандармский поручик Канавко и снял печати с опечатанной комнаты, и мы отперли ее принесенным мною ключом.
Дня три спустя, кажется, 9 мая, знаю только, что день был праздничный, ко мне явился жандарм; но жандарм не голубой, а зеленый, т. е. жандарм путей сообщения (тогда такие были) и принес мне записку, в коей было сказано, чтобы в этот день, в 6 часов вечера, я явился к графу Клейнмихелю. — Облекшись в мундир, я к 6 часам был уже во дворце графа. По предъявлении записки, меня ввели прямо в кабинет графа, большую комнату, изысканно омеблированную и устланную черными медвежьими шкурами в виде ковров. В кабинете еще не было графа; меня заставили здесь дожидаться, и я видел, как граф прохаживается по аллеям своего сада. Кого граф хотел обласкать, то тем говорил постоянно ты. Ровно в 6 часов он, бодрый и, казалось, веселый, вошел в кабинет:
— Здравствуй, Достоевский, очень рад, что в моем ведомстве не оказалось ни одного подлеца! Мне пишет высочайше утвержденная следственная комиссия, а равно и генерал Яков Иванович Ростовцев, что ты был арестован по ошибке и совершенно невиновен. Очень рад, очень рад… Меня просят также, чтобы это не повлияло на твою дальнейшую службу. Отнюдь нет! Будь спокоен. Теперь отдохни, а потом старайся служить хорошо, а главное, не сочиняй и не пиши ничего, кроме смет и строительных проектов. Прощай, будь уверен, я тебя не забуду!..
И, действительно, не забыл, как окажется впоследствии… Этим и закончился весь эпизод моего арестования. Немного отдохнув, согласно разрешению самого графа Клейнмихеля, я опять начал ходить в департамент проектов и смет, и жизнь моя потекла по-прежнему. Все сослуживцы и знакомые предвещали мне богатые и великие милости со стороны начальства; но, увы, все предположения эти, а равно и мои ожидания, хотя и скоро осуществились, но осуществились, как показало время, вовсе не в розовом для меня свете! Сослуживцы и добрые знакомые начали меня усиленно посещать, так что не было почти дня, чтобы кто-нибудь меня не проведал. Помню один очень смешной случай, происшедший у меня на квартире в начале лета.
Как-то пришел ко мне в гости мой товарищ архитектор Петр Васильевич Васильев. Это был юморист и очень веселый тогда молодой человек. Уселись мы с ним в нашей общей маленькой гостиной около открытого окна, разговаривая очень мирно о чем-то, вовсе не интересном. Вдруг слышу Васильев очень громко восклицает: «А государь-то император», и опять начал свою прерванную речь о чем-то, как выше сказано, не интересном. Немного погодя, Васильев опять, как говорится, ни к селу ни к городу воскликнул: «Да ведь наследник-то цесаревич уже не маленький». Я просто диву дался и думал, не спятил ли мой собеседник с ума; но тот, подмигивая мне глазом, сказал:
— Разве ты не видишь (квартира была, как я неоднократно упоминал, в нижнем этаже) — вон, смотри, жандарм ходит; вот погоди, я его проманежу!
И, действительно, проманежил, заставив его раз 5–6 пройти мимо окна, причем каждый раз Васильев что-нибудь громко восклицал о царской фамилии.
… Да, тогда было время доносов и усиленной деятельности голубых мундиров!
Время текло своим чередом, я несколько раз бывал у своей невестки Эмилии Федоровны и, сколь можно было, утешал ее; но, впрочем, и она имела о своем муже, то есть о брате Михаиле Михайловиче благоприятные известия. Многие высокопоставленные лица принимали в нем участие и старались, сколь возможно, облегчить его судьбу. — Наконец, и его дело окончилось весьма для него благоприятно: около конца июня месяца и даже несколько ранее он был выпущен из каземата, по неимению улик и доказательств каких-либо преступных действий с его стороны. Свидание его с семейством и женою было истинно умилительно.
Как выше я упомянул, многие высокопоставленные лица оказывали ему свое участие; они-то после выпуска его из каземата выхлопотали ему казенное вспомоществование. За те шесть недель, которые он провел в каземате, лишенный способов зарабатывать себе деньги, ему выдано было вспомоществование до 200 рублей серебром, что очень поддержали его.
Не помню, чтобы в это время я что-либо писал в Москву, как о своем арестовании, так и об аресте братьев, по крайней мере в сохранившихся у меня письмах от сестер и их мужей нет никаких намеков про это обстоятельство. Я вообще так был напуган своим арестом, что боялся всего и, вероятно, боялся писать об этом москвичам.
В начале июля до меня начали доходить слухи из штаба путей сообщения, что мне скоро последует новое и притом очень хорошее назначение, и я опять впал в тревожное состояние неизвестности. А в середине августа призывает меня опять к себе главнокомандующий пут. сообщения граф Клейнмихель. Одевшись в мундир, являюсь к нему. Он встречает меня очень приветливо, говорит мне кучу любезностей, называет меня «мой любезный друг», что считалось проявлением самой высокой любезности к подчиненному в тогдашнее время, и в конце концов объявляет, что военный министр просил его назначить в г. Елисаветград опытного архитектора на место открывшейся там вакансии городового архитектора; что он, граф Клейнмихель, вспомнил обо мне, и ввиду того, что я вышел первым из строительного училища, назначает меня в Елисаветград городовым архитектором. При этом присовокупил, что место это отличное и что мне будет служить там очень хорошо, но что ежели, сверх ожидания, мне там будет худо, то одной моей к нему строчки об этом будет достаточно, чтобы он перевел меня опять в свое ведомство. В сущности же, он был уверен в совершенно противном, но, вспомнив, что в его ведомстве есть архитектор, носящий опальную фамилию, возжелал избавиться от нее и вышвырнуть меня из своего ведомства. Но в то время я, ничего не подозревая и обольщенный милостивыми словами и любезным приемом, только кланялся и благодарил благодетеля.
26 августа 1849 г. я приказом военного министра был назначен городовым архитектором в город Елисаветград, и меня вызвали в департамент военных поселений. Тут мне предложили немедленно обмундироваться в форму, предоставленную для гражданских чиновников военного министерства, и тут же дали понять, что в случае, ежели я затрудняюсь в деньгах, то могу получить третное жалование вперед. Конечно, я об этом просил и тут же подал рапорт. Мне без задержки выдали с лишком 140 рублей. Впоследствии к этим деньгам я получил из Москвы из своих денег 125 рублей, так что этого с излишком было достаточно для обмундировки, к которой я и приступил немедленно. Я обратился к тому же портному Орланду, который и пошил мне: а) мундирную пару, б) сюртучную пару, в) теплую шинель военного покроя. Хотя полученных мною денег было и совершенно достаточно на это платье, но я по совету брата и некоторых знакомых уговорил Орланда сделать мне кредит в 75 рублей, на что он согласился с готовностью.
Я начал собираться понемногу в свой дальний путь. Но какие сборы для одинокого молодого человека? Скоро новая форма была пошита, и я должен был облечься в нее. Жаль было менять мне свой скромный архитекторский мундир, да и вообще штатское платье на новую форму, которая не понравилась мне с самого начала. И действительно, что хорошего? Мундир однобортный, из темно-зеленого сукна, с фалдочками (в виде фрака) и красным суконным воротником с серебряными вышитыми петлицами, узкие штаны с красным кантом из того же сукна; на голове каска, а на ногах — для каких причин, бог ведает — шпоры. Для полуформы: двубортный сюртук темно-зеленого сукна с красным суконным воротником, шаровары из того же сукна с красным кантом, на голове фуражка с красным околышем, а на ногах те же злосчастные шпоры. Шинель темно-серого сукна военного покроя. Гражданское платье даже и вне служебных занятий носить не полагалось.
Обмундировавшись, я отправился в центральное управление своего нового начальства, то есть в департамент военных поселений, и явился там к вице-директору департамента генералу барону Притвицу, который должен был меня представить к самому директору генералу барону Корфу. Генерал Притвиц был родной брат нашего бывшего директора строительного училища, и я неоднократно виделся с ним у нашего барона, к которому был не раз приглашаем. Таким образом, этот генерал был мне как бы знакомым человеком. Не могу пропустить маленького инцидента, случившегося со мною при явке генералу Притвицу. Когда ему доложили обо мне, то он не пригласил меня в кабинет, а вышел сам в приемную, где я, облаченный в полную парадную новую форму, дожидался его. После нескольких неизбежных вопросов со стороны его и ответов с моей стороны он начал осматривать меня самым инквизиторским взором, и после долговременного осмотра он вдруг обратился ко мне со словами:
— А что, молодой человек, вы не бывали еще на гауптвахте и, вероятно, вам хочется туда попасть?
Признаться сказать, меня как варом обдало такое приветствие. «Вот что значит, — подумал я тогда же, — настоящее-то военное начальство! Еще при первом, так сказать, знакомстве с человеком уже обещают ему гауптвахту!»
— Позвольте доложить, ваше превосходительство, я не знаю, чем навлек на себя ваше неудовольствие?..
— Как не знаете?.. Вы готовились явиться к директору департамента, к главному своему начальнику, а посмотрите-ка на себя, как вы одеты?.. На кого вы похожи?!.
Я начал осматриваться и ничего не находил преступного: шпага был привешена по форме, каску я держал в левой руке тоже по форме, и даже белые замшевые перчатки имелись на левой руке… Я недоумевал.
— А где шпоры?!
Тут я вспомнил, что действительно не запасся шпорами, хотя и знал, что они полагаются, но думал, что они не обязательны.
— Ну, хорошо, что я вас сперва осмотрел, а то быть бы вам на гауптвахте… Извольте, сударь, сейчас же, на извозчике, ехать в гостиный двор и там в угольном магазине Целибеева велите привернуть себе шпоры, и являйтесь возможно скорее обратно. Генерал может выехать из департамента ранее трех часов, и вы можете опоздать к явке.
Департамент, сколько я припоминаю теперь, помещался в конце Литейной или в одной из улиц, прилегающих к концу Литейной. Исполнив приказание генерала Притвица, я через час с небольшим воротился опять в департамент, но уже украшенный шпорами. И, действительно, в скором после этого времени был представлен самому директору департамента генералу барону Корфу. Этот последний долго со мной не возился; после двух-трех вопросов он спросил меня: «Прогонные деньги получили?..» — «Нет еще, ваше превосходительство», — отвечал я. «Почему же?»
Тут ему объяснили какую-то причину, и он, выслушав ее, обратился ко мне опять:
— По получении прогонных извольте тотчас же отправляться к новому месту служения. Прощайте!
Откланявшись обоим генералам-баронам и выйдя из стен департамента военных поселений, я благодаря Богу, более уже ни разу не был в этом департаменте. А за шпоры мне пришлось-таки высидеть несколько часов на гауптвахте в Елисаветграде, как будет видно ниже.
Хотя в департаменте военных поселений я больше и не был, но с новым своим начальством, вице-директором Притвицем мне вскоре же пришлось еще раз встретиться, и встретиться по очень печальному обстоятельству. Дело в том, что директор строительного училища, наш добрый Федор Карлович Притвиц (родной брат нового моего начальника), без всякой предварительной болезни, кажется, скоропостижно скончался 28 августа. Похороны происходили 31 августа, и я, получив приглашение, был на похоронах. Смешно было мне тогда заметить, что брат покойного очень внимательно осматривал меня и часто смотрел на ноги, вероятно, желая убедиться, есть ли на сапогах шпоры. Но я, зная, что на похоронах встречусь с своим новым начальником, был осторожен и одет с соблюдением всей формы.
Сборы мои были покончены, и я дожидался только получения прогонных денег. В это время я очень часто виделся с братом Михаилом Михайловичем, а также и брат Николя часто приходил ко мне. С братом же Федором свидание было тогда еще недоступно, и я так и выехал из Петербурга, не простившись с ним; об окончательной участи его я узнал, бывши уже в Елисаветграде, в январе месяце 1850 года из газет.
Я простился также со всеми своими сослуживцами и знакомыми, все очень сочувственно ко мне относились, и мне очень приятно было видеть такую любовь к себе товарищей.
Но, наконец, и прогонные деньги были получены, и я должен был выезжать из Петербурга. Я взял билет в мальпосте, в том же открытом месте, как и прежде. Точно не помню теперь, когда я выехал из Петербурга, кажется 27 сентября. В день моего отъезда в здание почтамта, откуда отправлялись кареты мальпоста, приехали проводить меня оба брата и товарищ Авилов; я распростился со всеми, уселся в мальпост и при звуке кондукторского рожка выехал из Петербурга, покинув его надолго, долго!
КВАРТИРА ШЕСТАЯ
ПЕРЕЕЗД ИЗ ПЕТЕРБУРГА В ЕЛИСАВЕТГРАД. — СЛУЖБА И ЖИЗНЬ ТАМ. — ЖЕНИТЬБА И ПЕРВЫЕ ГОДЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ С ОКТЯБРЯ 1849 ГОДА ПО ИЮЛЬ 1858 ГОДА
Город Елисаветград 46 лет тому назад, т. е. во время моего туда водворения, был очень неважный городок с 15 тысячами жителей, и то сомнительных. Самый внешний вид города был далеко неказист! На так называемой Большой улице, идущей по направлению большой дороги из Кременчуга до моста на реке Ингуле, самой лучшей тогда улице, встречалось несколько деревянных строений, крытых соломой (деревянная лавка купца Ромакченко и проч.){82}.
Общество города Елисаветграда состояло: а) из военных кавалеристов, служащих в различных полках; б) из военных, числящихся по кавалерии и занимающих различные должности по письменной части; в) из помещиков, живших в Елисаветграде и наезжавших в него из своих деревень и усадеб; эти последние все поголовно были отставные, служившие сперва в местных кавалерийских полках; г) из купцов и прочих городских обывателей; из сей последней категории 5–6 купеческих домов могли быть причислены и действительно причислялись к интеллигенции, все же остальные составляли серую массу, далеко сторонящуюся от общества; д) наконец, самую меньшую, самую, так сказать, забытую и вместе с тем и забитую часть общества составляли гражданские чиновники. И действительно, их было очень немного, не считая, конечно, писцов и канцелярских служителей, которые комплектовались в большинстве случаев из мещан. До десятка докторов и врачей и отставных служащих, тогда еще не носивших эполет и военных погонов, смотритель уездного училища, 5–6 учителей этого же училища, почтмейстер, секретари думы и магистрата, городской архитектор… да больше и не насчитаешь! К этой же категории обывателей можно было отнести и нескольких священников, которые и в тогдашнее время в тех местах (то есть на юге) не чуждались общества и являли собой интересных людей, с которыми можно было приятно побеседовать. Я не отношу, впрочем, к последней категории военных аудиторов, бухгалтеров и прочих служащих в штабах, военном и поселенческом, и число которых тоже очень незначительно.
Самый большой контингент населения состоял из военных, причем военные 2 категории, т. е. занимавшие места по Поселенной части, за исключением в редких случаях лиц, занимавших высшие должности, происходили из бурбонов или выслужившихся кантонистов. Эти личности в большей части случаев очень умные, охулки на руки не полагавшие, но необразованные и грубые, компанию с ними водить можно было только по необходимости! Военные же первой категории были люди совершенно другого сорта. Они комплектовались все недорослями из дворян, то есть детьми местных помещиков. Кавалерийских училищ тогда не было еще и в помине. Кадетские корпуса были и тогда в довольно близких местах, как, например, в Полтаве и Киеве, но я не помню ни одного случая в продолжение 9 лет, чтобы гг. помещики отдавали своих сыновей в кадетские корпуса. Не помню также ни одного случая, чтобы помещики отдавали своих сыновей и в елисаветградское уездное училище, хотя оно было на правах нынешних прогимназий, это они считали для своих детей очень унизительным. Правда, случалось изредка, что помещики и давали своим сыновьям приличное образование и что сыновья их кончали курс в университетах, но они избирали себе другую карьеру, а никак не входили в состав местной кавалерии. Местная же кавалерия в громадном большинстве случаев пополнялась следующим образом. Растет у помещика сынок, а иногда два и три погодка растут вместе: до 10–12-летнего возраста руководятся гувернантками, а с 12 до 15–16-летнего возраста — гувернерами. Но, Боже мой, какими гувернантками и какими гувернерами! И вот в 16–17 лет папаши вспоминают, что пора сынков определять в юнкера; но вот беда: для поступления в юнкера нужно сдать экзамен по программе. Я не раз видал эту программу и утвердительно могу заявить, что она гораздо ниже программы 4 класса нынешней прогимназии. И этих-то сведений не могли усвоить себе сынки помещиков до 16–17-летнего возраста! Как быть? Думают, думают, да и едут в тот же Елисаветград к одному из учителей местного уездного училища: «Батюшка, выручай, приготовь моего молодца к юнкерскому экзамену». Почти у каждого учителя ежегодно бывало по 2, по 3 таких молодца. У Семена Михайловича Шмакова, который в то время был учителем уездного училища и с которым я потом породнился, я не раз помню, что у него бывало по несколько таких приемышей, которых в год или полтора удавалось-таки, с грехом пополам, подготовить к экзаменам. Эти приемыши, бывало, жили на полном содержании у учителей и ездили к родителям только в большие праздники. Тогда я близко познакомился с этим делом и помню, что в большинстве случаев молодые люди эти были тупы и удивительно неразвиты. Ни об чем они не могли говорить, но ежели речь заходила о лошадях, то у них и глаза загорались. Главнейшее затруднение состояло в приучении их излагать свои мысли письменно. Это для них был камень преткновения. Я помню, что Семен Михайлович несколько раз поручал кому-нибудь из них написать мне о чем-нибудь записку. У меня долго сохранялось несколько подобных записок, которые, по безграмотности, можно было хранить как антики. Прослужив года 1 ½—2 в юнкерах, такие-то молодцы были производимы в офицеры и в корнетском своем мундире считали, что выше их никого нет на свете. Прослужив лет 10, много 15, и дослужившись до чина штабс-ротмистра или ротмистра, они выходили в отставку, женились и поселялись помещиками в своих деревнях и усадьбах. Не знаю, прибавлялось ли у них опытности и ума впоследствии, когда года и опыт жизни должны бы были их умудрять. Но мне неоднократно случалось иметь дело с такими лицами, что невольно вместе с гоголевским Плюшкиным хотелось спросить: «Да вы, батюшка, не служили ли в военной службе?»
Вот, например, приезжает один помещик Головин. После обычных рекомендаций он заявляет, что ему хочется выстроить дом, при этом вынимает записочку и по ней излагает, что дом должен быть длиною в столько-то аршин и шириною в столько-то, что в нем должны быть следующие комнаты: передняя, зала, гостиная, кабинет, диванная, столовая, буфет, две-три детских, биллиардная и т. п., причем было обозначено, сколько каждая комната должна была иметь в длину и ширину. Мне сразу показалось, что в задаче этой вместимое должно превышать вместилище. И вот, подсчитав на самом деле площади всех комнат и сложив их, я убедился, что общая площадь их более чем в полтора раза превышает площадь, предназначенную под дом. Когда я сообщил Головину, что задача эта неисполнима, то он очень серьезно отвечал: «Да какой же вы архитектор, когда и этого не можете сделать!» Наконец мне удалось убедить его и, уменьшив несколько размеры комнат и увеличив площадь под дом, мы пришли к взаимному соглашению.
Другой помещик, явившись ко мне, заявляет тоже, что хочет строить дом. «Хоть мне его и не нужно, — говорит он, — дом у меня есть в другом поместье, но жене да и мне хочется построить дом, более удобный потому, собственно, что место уж очень хорошее! Мы и строим-то, собственно, для места! Да вот приезжайте, увидите!» Приезжаю и, действительно, вижу очень возвышенное место, годное скорее для какой-нибудь наблюдательной башни, чем для жилого дома. Место совершенно открытое как для солнечных лучей, так и для всех ветров, а главное, удаленное версты на 1 ½ от воды. Когда я высказал это мое мнение помещику, то он, нисколько не смущаясь, уверил, что он, выстроив дом, разведет в подходящих местах сад и рощу, что же касается до воды, то он, слава Богу, не бобыль какой, у него, слава Богу, есть и волы, и лошади, да и дворовых хлопцев не один десяток, — так, слава тебе Господи, будет кому подвезти воды. И действительно построил дом. Кто-то теперь подвозит к дому воду? Да, вероятно, и дом-то стоит необитаемый, с забитыми окнами.
Третий очень богатый помещик (Бородкин) заказывает мне проект солидного каменного дома в деревне. Над проектом и сметою на эту постройку я проработал до 2 месяцев; неоднократно ездил к помещику и в городскую квартиру, и даже в усадьбу. И вот, наконец, изготовил проект на нескольких листах и подробную смету. Везу заказчику. Надо сказать, что я имел глупость не сговориться в цене, да и знакомые не советовали мне упоминать об этом, говоря, что это такой человек, что может и обидеться! Проект и смету заказчик получил, наговорил кучу комплиментов, всунул в руку запечатанный конверт и отправил меня на своих лошадях домой. Предчувствуя что-то недоброе, я, подъехав к дому, велел кучеру дожидаться. Войдя в квартиру, я сейчас же разорвал пакет, и в нем, о ужас! — десять рублевых кредиток! Тут, конечно, я более всего винил себя, что не сделал уговора… Но, несмотря на это, дело нельзя было оставить так… Обдумав, я сейчас же написал записку господину Бородкину, в которой, извиняясь в своей оплошности, заявлял, что я работал над его проектом и сметою более 1 ½ месяца и что я ценю труд этот минимум в сто рублей, а потому, возвращая ему врученные мне десять рублей, я покорнейше прошу или прислать мне сто рублей, или возвратить проект, который может составить несколько ценных листов в составляемом мною архитектурном альбоме… В ответ на это я на другой же день получил сто рублей с вежливым заявлением, что он, Бородкин, никак не предполагал таких трудов и что оценил его наравне с гравюрами, которых на десять рублей можно приобрести сколько угодно! Жалею очень, что записка эта утрачена мною. Она была бы теперь очень ценным документом глупости господ херсонских помещиков.
Четвертый заказчик, получая оконченный уже мною проект, возбуждает следующий вопрос: «Как же мы теперь с вами рассчитаемся?» — «Как? Разумеется, как! Вы отдадите мне условленную плату, а я вручу вам составленный мною проект».
— Да, ведь, получивши плату, вы можете не отдать проекта. Выдайте мне прежде план, а тогда я вам уплачу деньги. — Это было сказано так наивно-глупо, что сердиться на дурака решительно было невозможно.
— Как же я вам отдам проект, когда вы не уплатили мне денег? — в свою очередь возразил я.
— Жаль, что нет посторонних, можно было бы дать на руки.
— Да, жаль!
В комнате стояли, кроме стола, у которого мы сидели, еще два ломберных стола.
— Вот что, — надумал он. — Я положу деньги под подсвечник вот этого стола, положим, направо стоящего, а вы положите проект вот на левый стол.
Согласились и исполнили. И когда было готово, — он стремглав кинулся к столу, где лежал проект, а я взял деньги, положенные им под подсвечник другого стола. Рассчитавшись таким образом, мы пожали друг другу руки и расстались приятелями! Это факт, а не выдуманная ради смехотворства история.
Пятый… Но разве можно перечесть все те казусы, которые происходили в продолжение 9 лет!
Чтобы подробнее выяснить свои служебные отношения, думаю, что не лишним будет представить характеристику некоторых начальствующих лиц, с которыми мне случалось сталкиваться. Начну по старшинству, с главных.
А. Начальство, жившее в г. Кременчуге.
1) Инспектор всей резервной кавалерии граф Алексей Петрович Никитин{83}. Сей истинный сатрап имел свое постоянное местопребывание в городе Кременчуге Полтавской губернии. Этому же инспектору была подчинена и вся Поселенная часть. Там же, в Кременчуге, находился и штаб инспектора всей резервной кавалерии и Поселенной части. Графское достоинство сей муж получил в 1847 году, когда во время больших маневров в Елисаветграде, на которых находился император Николай I, Никитин, как инспектор кавалерии, парадировал на коне, но по старости упал с него. Тогда император сказал приблизительно: «Поднимите скорее графа», и тут же поздравил его с этим достоинством. Собственно говоря, это был умный, очень симпатичный и добрый старик. Серьезного зла он никому из подчиненных не сделал. Но он был очень уже стар и часто подпадал под влияние лиц, которых прежде избрал себе в советники и помощники. Сверх того, несмотря на его дряхлую старость, у него имелся и предмет страсти в лице одной ближайшей к Кременчугу помещицы вдовы-генеральши. Эта мадам выделывала с ним, что хотела, и конечно, все служащие в поселении стремились наперерыв угодить этой личности и при ее помощи получали иногда такие повышения и назначения, что прочие, услышав об этом, только руками разводили… да наматывали и себе на ус! Всякий год граф дважды, то есть весною и осенью, объезжал все поселение для осмотра как войск, в нем расположенных, так и хозяйственной части, и всякий таковой объезд сопровождался рассказами об курьезах, случавшихся с ним и об его резолюциях.
Вот весною, в мае месяце, едет граф по волостям осматривать хозяйство. Жара страшная; подъезжает к волости; пока экипаж спускали под гору, граф встал и присел на ступеньках заставного домика. Жара и долговременное сидение в экипаже расслабили старика, и он засыпает. Вдруг прибегает во всей форме волостной командир и гаркает велегласно: «Честь имею!..»
А сзади стоящий адъютант графа энергично показывает ему кулак, — замолчи, мол, видишь, спит! Волостной командир мгновенно умолкает и стоит руки по швам. Но у старика недолгий сон! Минут через пять он просыпается и, увидя перед собой во всем параде волостного командира, конфузится своей слабости — что он заснул.
— A-а! Волостной командир! Здорово, батюшка! Сейчас, проезжая, любовался твоим хозяйством. Все, кажется, исправно; спасибо, спасибо!..
— Я надеюсь, что ежели ваше сиятельство удостоите своим вниманием и произведете более подробный осмотр, то все изволите найти в должном порядке.
— А! Хорошо, батюшка, хорошо, ты знаешь меня, я встаю рано, завтра в три часа утра буду на полях.
На другой день часа в три утра выезжает в поле; и на что не посмотрит, все находит неисправным, на все сердится, за все выговаривает, а в конце концов тут же на месте, то есть не выезжая из волости, дает письменный приказ, в котором, описывая все найденные беспорядки, делает строжайший выговор волостному командиру. А уезжая, говорит приближенным: «Научите этого дурака, что когда начальник хвалит подчиненного, то подчиненный должен кланяться и стоять навытяжку, а не распускать язык и не давать ему свободы!»
При въезде в г. Елисаветград он всегда требовал, чтобы его встречали у заставы города следующие лица: военный полицмейстер с рапортом, городской голова и городовой архитектор; прочие же лица должны были встречать его в том доме, где ему отводилась квартира. Квартира эта в мое время постоянно отводилась на Большой улице в доме купчихи Плотниковой. Приезжал граф в Елисаветград постоянно вечером, часов в 5, а на другой день часа в 4 утра полицмейстер, городской голова, городовой архитектор и прочие лица должны были уже явиться в дом Плотниковой и сопровождать графа в его пеших прогулках по городу и в его поездках по различным учреждениям и постройкам. — А потому у меня в это время нанимался извозчик на целый день!
Почти в каждый приезд в Елисаветград, утром, первый визит его был к торговкам на базар.
— Здравствуйте, матушка, — говорит, бывало, он, низко кланяясь и подходя к торговке зеленью.
— Здравствуйте, батюшка ваше сиятельство, все ли в добром здоровье? Давно вас не видали.
— А какие у вас знатные вещи, знатные растения!
Надо сказать, что день приезда графа всегда был известен недели за две, а потому на базаре, зная его слабость, приготовлялись и вывозились действительно редкие по времени года вещи, и ему объявлялись самые низкие за них цены.
— Что стоит десяток огурцов?
— 20 копеек, ваше сиятельство.
— По времени это очень дешево, очень дешево! Да ты не просишь ли с меня дешевле, чем стоит, не для чего… Ведь я богаче тебя!
— Помилуйте, ваше сиятельство, с кого же нам и взять, как не с вашего сиятельства, ведь мы целый год дожидаемся вашего приезда…
И вот старик доволен и удивляется дешевизне продуктов, а окружающие и рады, что граф на несколько времени будет в хорошем расположении духа.
В один из приездов графа, когда я после встречи его воротился домой, готовясь назавтра к раннему вставанью, по крайней мере часа в три утра, ко мне является вестовой с известием, что граф меня требует. Нечего делать, беру извозчика и еду в дом Плотниковой, недоумевая, зачем еще я мог понадобиться ему, когда только несколько минут прошло, как я ему уже откланялся.
— А, архитекторик! (У него все было в уменьшительном виде. Даже полных генералов, т. е. генералов от кавалерии, он звал генераликами.) Поди-ка, батюшка, сюда, поди-ка… Подводит меня к окну и, показывая на напротив находящееся старое строение какого-то обывательского домишки, спрашивает: «Что это, батюшка, у тебя?» — «Деревянный дом NN, ваше сиятельство». — «Вижу, батюшка, что дом, а на крыше-то что?» Надо сказать, что в то время на всех деревянных крышах деревянных строений устраивались так называемые предохранительные от огня снаряды. Они состояли из одной ступеньки вокруг крыши, по которой можно было бы пройти кругом всего здания, и из скамейки на коню крыши, на которой помещалась кадка с водою и шваброю. На устройство этих снарядов был разослан по всем местностям высочайше одобренный литографированный чертеж, и по этому чертежу, с большими понуждениями полиции, на всех деревянных строениях были уже устроены эти снаряды и довольно долгое время уже существовали, и сам граф неоднократно их видел. Снаряды эти, кроме вреда для крыши и безобразия, никакой пользы не приносили и ныне, слава Богу, совершенно уже выведены из употребления. В городе все обыватели очень метко окрестили их названием кошачьих тротуаров, и я в забывчивости чуть-чуть не ответил на вопрос графа, что это, мол, кошачьи тротуары, но, опомнившись, отвечал:
— Предохранительные от огня снаряды, ваше сиятельство.
— Хм, снаряды! Да так ли они устроены?
— По чертежу, ваше сиятельство.
— Так вот что: завтра утром, являясь ко мне, захвати-ка чертежи, так я тебе и покажу, что они устроены не так! Иди, до завтра!
Приехав домой, я разыскал литографированный чертеж и сколько ни рассматривал его, но все-таки убеждался, что отступлений не было допущено, а потому со спокойным духом дожидался завтрашнего дня.
Назавтра, с портфелем, наполненным целою кипою планов и бумаг, которые могли быть потребованы, я явился и сопровождал графские прогулки часов до 10 утра и думал уже, что граф позабыл о вчерашнем разговоре, как вдруг, уже в конце прогулки, когда он собирался домой завтракать, он взглянул на меня и, вероятно, вспомнил вчерашнее: «А ну-ка, ну-ка, покажи чертежи?» Я подал ему. Долго, долго он рассматривал его и надпись печатную, вероятно, прочел, что чертеж высочайше одобрен; наконец говорит:
— Да это что такое?
— Высочайше утвержденный чертеж, ваше сиятельство.
— Высочайше утвержденный, высочайше утвержденный!.. Как посажу я тебя на гауптвахту, так и сгниешь там со своим высочайше утвержденным, — и при этом швырнул мне чертеж в ноги, так что я, нагнувшись, должен был поднять его.
— Ты мне покажи утвержденный мною и принеси мой план…
Долго я недоумевал, про какой план говорит старик, но, наконец, вспомнил, что месяца два тому назад на одном на утвержденных им обывательских проектов были показаны к устройству эти снаряды в виде изукрашенных парапетов. Разыскиваю этот проект и несу.
— Ну вот, ну вот!.. Видишь, как знатно здесь нарисовано, так и вели делать всюду.
Я ограничился словом: «Слушаю-с!» — и ушел. Ему, конечно, нельзя было втолковать, что в старых строениях, в которых уже устроены эти снаряды, нельзя требовать и настаивать о переделке их.
Вот еще один казус, проделанный стариком. В городе Елисаветграде давно было проектировано устройство лютеранской церкви. Примерно в первой половине пятидесятых годов, наконец, постройка была в принципе решена, и составленный проект представлен был на утверждение к Никитину, в инспекторский штаб; но проект там что-то долго залежался. Вот весной приезжает граф и совершает со своею свитою объезд различных учреждений. Приехали в кантонистскую школу. Вероятно, по предчувствию скорого уничтожения кантонистов, граф обращал особое свое внимание на упорядочение их быта. Елисаветградская кантонистская школа помещалась в предместье Ковалевке, в большом ветхом здании, и граф серьезно изыскивал средства для постройки нового здания для кантонистов. Об этом и шла речь. В числе сопровождавших графа лиц был и корпусный командир 2 резервного кавалерийского корпуса генерал от кавалерии барон Иван Петрович Оффенберг, который, быв лютеранином, конечно, стоял во главе лиц, заинтересованных в постройке лютеранской церкви. Разговор о постройках кантонистских напомнил генералу Оффенбергу и о неразрешенном проекте кирхи, и он обратился к графу с вопросом:
— А что, ваше сиятельство, скоро ли вы изволите разрешить нам в Елисаветграде постройку лютеранской церкви? Проект представлен вам на утверждение уже давненько…
— Ба, ба, ба!.. Вот кстати напомнил!.. Да для чего тебе, генералик, кирха-то?..
— Как для чего? Богу молиться…
— Богу молиться, гм… Богу молиться, а ты вот что, генерал, сделай: пожертвуй-ка нам капитал, мы и устроим на него дом для кантонистов и в доме этом такую сделаем залу, даже под готическими сводами, ежели хочешь, вот в ней и молитесь!
— Да деньги не мои, а общественные, и жертвовать я их не могу; да притом же мы полагали устроить полный приход, с помещением школы, и иметь своего пастора.
— Ну вот, ему дело говорят, а он про училище да про пастора толкует!.. Посмотри вот на этих сотню молодцов (кантонистов), любого отдам на выучку, и через пять-шесть лет он такие будет говорить тебе проповеди, что у тебя слезы потекут!..
Нельзя серьезно было сердиться на эту дерзкую и неуместную выходку, и, конечно, генерал Оффенберг обратил это в шутку.
В начале 1856 года, когда война еще продолжалась, но уже намечались благодетельные преобразования или, лучше сказать, окончательное уничтожение военных поселений, то, чтобы не производить этой ломки в присутствии старика Никитина, ему предложили оставить Кременчуг и явиться в Петербург, позолотив эту пилюлю тем, что-де государь, ввиду его опытности в военном деле, желает пользоваться его советами в столь критическое для России время. Что же Никитин?.. Он имел дерзость ответить, что в настоящее время, когда существуют телеграфы, он может по телеграфу давать свои советы, а потому просит, чтобы его оставили в Кременчуге, где деятельность свою он считает более полезною. Но тогда ему без околичностей предписано было, как генералу, числящемуся при особе его императорского величества, прибыть в Петербург, куда он и переехал в 1856 году.
2) Генерал-лейтенант Василий Федорович фон-дер-Лауниц. Начальник штаба всей резервной кавалерии{84}. Этот генерал жил в г. Кременчуге, где находился и штаб инспектора. Но изредка он наезжал в г. Елисаветград и всегда оставлял по себе следы и воспоминания самого нелестного для него свойства. В первый раз я имел с ним встречу вскоре после своего водворения в Елисаветграде. Как-то иду утром из дому по постройкам, коих было-таки достаточно, иду не в должной форме, а в фуражке, без шпаги и, конечно, без шпор, не зная и не ведая, что накануне вечером приехал в город Лауниц, и не зная его вовсе лично, потому что не имел случая встречаться с ним. Вдруг мне попадается навстречу генерал. Я отдал подобающую в то время честь, т. е. остановился во фронт и взял рукою под козырек фуражки.
— Кто вы такой? И что это за маскарад, отчего вы не в форме?..
— Я городовой архитектор Достоевский, ваше превосходительство, и иду на постройки, а иду не в форме, потому что в каске, шпаге и шпорах мне трудно ходить по высоким стеллажам и подмосткам и я могу в них зацепиться и свалиться с подмостков.
— А имеете вы разрешение ходить не в форме?
— Нет, не имею, но по примеру других, которые по постройкам ходят без соблюдения формы, я дозволил и себе ее нарушение.
— Так подайте об этом рапорт, а до получения разрешения извольте отправляться на гауптвахту, сказав, что вас арестовал генерал фон-дер-Лауниц.
Нечего делать, нужно было идти на гауптвахту, но не успел я просидеть там до полудня, как на мой рапорт, который я написал тотчас с гауптвахты, последовало, во-первых, освобождение меня из-под ареста и, во-вторых, письменное дозволение ходить без соблюдения формы, — но только на постройки. С тех пор я во всякое время дня хаживал без формы, потому что всегда мог заявить, что иду на постройки.
Вторая моя встреча, или, лучше сказать, столкновение с генералом Лауницем, была в 1854 году. Осенью в этот год был большой кампамент{85} в г. Елисаветграде, на который в последний раз приезжал император Николай I. Кампамент сошел благополучно, и государь остался отменно всем доволен. Хотя мы, гражданские, не были причастны к этому, но тоже весьма радовались успешному окончанию кампамента, потому что с отъездом государя уезжало из Елисаветграда и все кременчугское начальство, и мы вступали в обычную колею жизни. Представлявшимся гражданам, при которых представлялся и я, государь, между прочим, высказал тогда: «Ваш город год от году отстраивается и хорошеет!» Частицу этого лестного отзыва я мог без натяжки и преувеличения отнести и к себе, потому что кто же более трудился по постройкам, как не я, городовой архитектор?! Так вот с последним днем кампамента, когда уехал государь, а также и граф Никитин, я снял свой мундир, из которого положительно не выходил в продолжение почти недели, и спокойно отдыхал, думая, что все уже прошло благополучно. Но не тут-то было!
На другой день утром часу в четвертом, когда было еще совершенно темно, меня разбудил необычайный стук в ворота. Оказалось, что это пришел вестовой с объявлением, чтобы я к 5 часам утра был у генерала Лауница. Что, думаю, стряслось?.. Нечего делать, облекся в мундир и отправился в квартиру генерала. Прихожу и вижу там трех лиц: председателя городской думы полковника Саргани, военного полицмейстера подполковника Тигерстета и городского голову Макеева. С приходом моим выяснилось, что генерал собрал всех членов строительного комитета; следовательно, нужно было ожидать, что речь поведется о постройках и строениях. Надобно сказать, что лет 6–7 тому назад, когда меня не было еще в Елисаветграде и когда Лауниц, бывши начальником корпусного, а не инспекторского штаба, жил еще в Елисаветграде, то многие ветхие обывательские строения были особою комиссиею предназначены в лом, о чем и были прибиты дощечки к этим строениям с надписью: «Подлежит сломке». Но так как никакого распоряжения о приступе к ломке этих строений не последовало, а обыватели сами их не ломали, то строения эти и стояли, и во всех почти жили бедные обыватели. Через несколько минут после моего прихода вбегает в залу, где мы были собраны, генерал Лауниц и со сжатыми кулаками и искаженным лицом обращается ко мне с криком:
— Служить так служить!
— Позвольте, ваше превосходительство…
— Мааалчать!!!
Генерал Лауниц не был такою личностью, чтобы человек, сколько-нибудь уважающий себя, мог позволить ему такое с собой обращение. Это не был добродушный старик Никитин! При выражении его: «Молчать!» у меня вся кровь кинулась в голову, и я, стояв как следует стоять подчиненному перед начальником, невольно переменил позу, а именно отставил правую ногу несколько вперед и заложил большой палец правой руки за пуговицу мундира. Увидев это, генерал Лауниц мгновенно замолчал и убежал к себе в кабинет. Через несколько минут он опять является в залу, уже в более спокойном состоянии и опять-таки начинает говорить со мною, но уже с более человеческим обращением:
— Почему вы не ломаете ветхих строений?
Я все еще был сильно возбужден и потому отвечал:
— Потому, ваше превосходительство, что мое здесь назначение строить, а не ломать.
Несмотря на этот почти дерзкий ответ, он, не возвышая голоса, продолжал:
— Несколько лет тому назад особая комиссия предназначила многие ветхие строения в сломку, а они и до сих пор еще не сломаны, и в них живут. Надо будет выполнить в точности постановление особой комиссии.
— Строительный комитет, ваше превосходительство, не имеет никакого по закону права приступить к ломке обывательских строений, без согласия самих домовладельцев или постановления о том судебного ведомства. Если же вашему превосходительству угодно будет непременно сломать все эти строения, то благоволите дать об этом точное и определенное предписание, но и в таком случае операция эта по закону возлагается на полицию, а вовсе не на строительный комитет.
— Предписание об этом вы получите!
Сказав эти слова, генерал удалился в другие комнаты и выслал сказать нам, что мы можем уходить по домам. — Это было последнее мое свидание с генералом фон-дер-Лауницем, и более я с ним никогда уже не видался.
Конечно, предписания о ломке ветхих строений мы не получили и к ломке не приступали.
Тут кстати будет заметить, что в других военных поселениях, например в г. Умани, местное начальство, исполняя такие нелепые словесные поручения Лауницев и им подобных, начало ломку обывательских строений и вызвало тем ужасное негодование бедняков, которые, как было слышно, подавали об этом жалобу императрице Марии Александровне. И этому начальству досталось на орехи порядочно. Лауницы же от своих словесных поручений, конечно, отказывались.
Отзывы об этой личности, т. е. генерале Лаунице, в городе были следующие. Одни называли его пасторским сынком, вероятно, ввиду терпеливого стремления к достижению повышений и богатства. Другие называли его бешеной собакой; третьи, не стесняясь, при имени Василия Федоровича повторяли двустишие: «Кот-Васька — плут, кот-Васька — вор». А в сложенной поселенской песенке про него прямо говорилось:
На те денежки дворцовы[30] Взял именьице Клевцовых, — Вот так молодец! (бис)В заключение скажу, что я хотя и не видался более с Василием Федоровичем, но еще раз имел с ним некоторые заочные отношения. Это было таю много лет спустя, когда в начале 60-х годов я был уже в Екатеринославе губернским архитектором, познакомился я с командиром батальона внутренней стражи, подполковником Снарским. В одно прекрасное утро приезжает этот господин ко мне и Христом-Богом просит помочь ему в очень важном для него деле.
— В чем сила? — спрашиваю я.
— Да вот прислал мне корпусный наш командир планы своей усадьбы, с показанием предполагаемых деревянных построек, и просит меня испросить потребный на эти постройки лесной материал в г. Екатеринославе и доставить в его усадьбу верст за 100 или около того; а я не знаю, сколько и какого потребуется материала, и вообще в лесе не знаю никакого толку.
— Да кто ваш корпусный командир? — спрашиваю.
— Генерал фон-дер-Лауниц.
— А, старый знакомый! — воскликнул я и рассказал Снарскому, как знаю я его командира.
— Что же, он прислал вам деньги? — полюбопытствовал я.
— Какое прислал? Должен на свои покупать. Думаю, исполнив поручение, послать счет, в котором, конечно, проставлю цены вчетверо меньшие, да не знаю, и это придется ли получить.
Я исполнил просьбу Снарского, сделал сметное исчисление лесных материалов, потребных на предполагаемые постройки, сам выбрал потребный лес, и, когда он был отправлен, я просил Снарского написать своему начальнику, кто помогал ему в этом деле. Недели через две-три является ко мне опять полковник Снарский и, вынимая из кармана письмо Лауница, прочитывает мне место, до меня относящееся. Лауниц пишет, что он очень рад моему служебному повышению, что он всегда знал и считал меня за отличнейшего и опытного техника, и при этом просил передать мне его искреннюю благодарность за внимание к его частному делу.
— Ну, а деньги-то он вам возвратил?
— Нет еще, не возвратил, — отвечал, улыбаясь, Снарский, — но обещается возвратить.
Тут я покончу с списанием этой действительно очень грязной личности. Генерал Лауниц умер в 1864 году, как слышно было, от ушиба, полученного вследствие падения с лошади во время смотра. Вероятно, он по своему взбалмошному характеру взбесился до исступления и упал с лошади.
Б. Начальство, жившее в Елисаветграде.
1) Корпусный командир 2-го резервного кавалерийского корпуса генерал от кавалерии барон (впоследствии граф) Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен{86}.
Генерал этот, кроме командования корпусом, заведовал и поселенною частью; с отбытием же его из Елисаветграда сперва в Венгерскую, а затем в Крымскую кампании, все последующие корпусные командиры Поселенною частью уже не заведовали. Я приехал при нем, и при мне он пробыл в Елисаветграде около года. — Сакен очень долго жил в Елисаветграде, и общество очень любило его. Это действительно был идеально-честный господин, добрый и умный, хотя с некоторыми слабостями и недостатками. Но кто же их не имеет! С графом Никитиным они были не в ладах. Граф называл Сакена святошей и ханжой, а Сакен Никитина — извозчиком. Сакен был, кажется, единственною личностью, которой Никитин не говорил «ты» и «генералик». Был ли Сакен ханжа — это дело его совести, но, видимо, он был очень богомолен и всякий праздник ходил в собор к поздней обедне. Семейство Сакена состояло из жены его Анны Ивановны и троих сыновей: старшего, который слыл под названием Ванечка Сакен и который был очень неудачным малым, хотя и был в то время штаб-ротмистром или ротмистром; двое младших сыновей были почти погодки, они в то время были юношами и воспитывались студентами в Ришельевском одесском лицее, где жили постоянно, приезжая к родителям на каникулы и праздники; они слыли в обществе под названием Вово и Коко, как звали их родители. Коко в настоящее время состоит чрезвычайным посланником и полномочным министром в Берлине при императоре германском. Семейство Сакенов жило в Елисаветграде как владетельные особы. Всякий праздник и воскресный день совершался выход всего семейства в собор. Сам Дмитрий Ерофеевич со своим штабом и адъютантом входил в одни двери собора, северные, а Анна Ивановна, со своими приближенными дамами — в южные двери собора. Выходили же из собора оба в западные двери и, тут соединившись, неупустительно каждый раз шли на могилы родственников, погребенных тут же в ограде собора, и, поклонившись им, возвращались домой пешком, так как квартира их была почти рядом с собором. Я упомянул, что Сакен был идеально честный, но и его евреи успели обойти. Это было так: у Сакена было маленькое именьице Приют, верстах в 70 от Елисаветграда, и земля его выходила частью на большую Николаевскую дорогу. Евреи уверили приближенного Сакена, отставного полковника Поппе, что место это самое выгодное для устройства шинка или кабака, и просили Сакена, чтобы он отдал им клочок земли в аренду для постройки там шинка. Когда Сакен согласился и Поппе, по поручению Сакена, уговаривался в цене, то евреи составили вроде торгов (так как мнимых желающих занять это место явилось много) и набили цену чуть ли не свыше тысячи рублей в год. Явившись с этим результатом к Поппе, они еще корчили из себя совестливых людей и выразили сомнение, согласится ли Дмитрий Ерофеевич отдать землю за такую маловажную цену, так как пункт очень прибыльный, но что они просят для первого опыта отдать землю за эту сумму, одним словом, корчили из себя паяцев. — Условие было заключено, и Сакен пользовался несколько лет этим доходом. Когда же он вовсе оставил город Елисаветград, то, с наступлением срока возобновления условия, Сакен поручил Поппе опять сдать землю. Поппе приглашает евреев, а они, смеясь и пересмеиваясь, сказали ему, что по старой памяти они готовы дать рублей 25–30. «Как так? Как так? — выразил свое недоумение Поппе. — Отчего же не прежнюю цену?» — «Помилуйте, как же можно прежнюю цену, ведь прежняя цена давалась оттого, что Дмитрий Ерофеевич был наш начальник, а теперь он для нас чужой человек и нам ненужный, так зачем же мы будем тратить столько лишних денег?» Вероятно, Поппе передал этот отказ не в столь резкой форме, но всем сделалось известно, что Сакен был сильно огорчен этою проделкою с ним и не мог себе простить, что допустил таковой обман.
Генерал Сакен очень любил, или показывал, что любит, хозяйство и в особенности стремление к разведению лесов и посадке деревьев. Конечно, все подчиненные это знали и старались угодить ему в этом. Вот едет однажды Сакен по волостям. Приезжает в одну и видит, что на улице селения рассажены небольшие деревца тополей и укреплены треугольными подставочками, окрашенными зеленою краскою.
— Ах, Боже мой! Как это хорошо! Где волостной командир?..
— В поле, — отвечает ему первый попавшийся поселянин.
— Скажи, любезный, давно посажены эти деревца?
— Нет, недавно, только перед приездом вашего высокопревосходительства.
— И скажи, любезный, примутся они?..
— Примутся, ваше высокопревосходительство.
— Все примутся?..
— Все примутся!
— И скоро, думаете, примутся?
— Скоро… Вот как выедете из селений, то дня через два все и уберутся…
— Как уберутся?..
Пробует деревца, а они все при малейшем усилии вынимаются, как посаженные на несколько дней, без корней, только для показа, для обмана, ввиду ожидавшегося приезда генерала Сакена. Что было последствием этого — легко предугадать!..
Другой эпизод, при подобном же случае, вышел еще более комичным.
Зная страсть Сакена к хозяйству, многие кропатели составят, бывало, какую-нибудь компилятивную статейку о хозяйстве, отпечатают и присылают экземпляров полтораста к генералу Сакену; он мигом их пристроит и гонорар вышлет. Так сделал и какой-то агроном или квазиагроном Мелихов. Прочитав брошюру, Сакен умилился: «Ах, Боже мой-с! Как это хорошо! Старшего адъютанта сюда!» Приходит старший адъютант, штаб-ротмистр Мокиевский.
— Препроводите при циркулярном предписании всем волостным командирам брошюру агронома Мелихова и предложите им бросить светлый взгляд и сообразить, нельзя ли, помощью увеличения рогатого скота сделать пастбища более тучными, что, в свою очередь, может улучшить и быт военных поселян, как трактует об этом агроном Мелихов, причем предписать им свои мнения и соображения доставить в течение месячного срока.
Вот и полетели циркулярные предписания с брошюрами Мелихова по всем волостям. Предписания были изложены высокопарным слогом, как любил генерал Сакен. Через месяц все волостные командиры с таким же пафосом отвечали, что рекомендации агронома Мелихова очень полезны и что они приложат все усилия к достижению рекомендуемого. — Только один волостной командир, живущий в очень отдаленной местности и происходивший из бурбонов, но хороший хозяин, не прислал своего донесения в срок. — Докладывают об этом Сакену. Он велит повторить с предуведомлением, что ежели и затем не будет доставлен ответ, то за ним будет прислан нарочный на его, волостного командира, счет. — Бедный волостной командир, получив такое подтверждение, сильно задумался и сколько ни соображал — все-таки недоумевал, что нужно ответить. В самом деле: тут говорится и о быте военных поселян, и о тучных пастбищах, и о светлом взгляде, и о рогатом скоте, и об агрономе Мелихове, а как это все связать, что ответить начальству, а главное, узнать, чего хочет начальство, бедный служака никак не мог сообразить; посоветоваться не с кем, а тут нарочный, того и гляди, нагрянет! Думал, думал, да, помолившись Богу, и сочинил следующий рапорт: «Его высокопревосходительству корпусному командиру 2-го резервного кавалерийского корпуса г-ну генералу от кавалерии барону Остен-Сакену, — такого-то волостного командира — Рапорт… Чтобы довести быт военных поселян до состояния рогатого скота, необходим светлый взгляд и тучные пастбища, каковых, равно как и агронома Мелихова, по тщательному розыскиванию во вверенной мне волости не оказалось. О чем и имею честь почтительнейше донести Вашему Высокопревосходительству. — Волостной командир такой-то». — Это факт, и я сам видел этот рапорт с пометкою на полях Сакена: «„Дурак!!“ — а, впрочем, он хороший и опытный хозяин».
Вскоре после приезда моего Сакен дал мне поручение составить рисунок чугунной решетки на солею ко вновь устроенной церкви Покрова Пресвятой Богородицы в предместье Ковалевке. Раза два делал я рисунки, но не мог угодить ему, наконец, он высказал, что он желает что-нибудь в византийском стиле. Тогда я прямо начертил рисунок и вырисовал его в большом размере, по крайней мере в настоящую величину. Увидев этот рисунок, почти в настоящую величину, тщательно вырисованный, он пришел в восторг: «Вот теперь вы поняли мою мысль! Отменно хорошо, бесподобно красиво. Обнимите меня, поцелуйте меня!» И я должен был троекратно приложиться к обеим щекам его высокопревосходительства!..
Генерал Остен-Сакен оставил Елисаветград, кажется, осенью 50-го года. Но я имел случай видеться и более сблизиться с ним впоследствии, а именно в 1857–1858 годах, когда он, бывши уже графом, после Крымской кампании остался не у дел и поселился на покое в своем маленьком имении Приют Бобринского уезда близ станции Громоклеевской, верстах в 70-ти от города Елисаветграда. В 1857 году он начал строить маленькую каменную церковь в своем Приюте и пригласил меня наблюдать за постройкою. Я ездил раз шесть к нему в это имение и делал наставления, как производить постройку. Ездил я к нему и один, и большею частью с протоиереем Бершацким, очень близким лицом к графу Сакену. Может быть, в своем месте придется упомянуть несколько подробнее про эти поездки.
Преемники графа Сакена как корпусного командира 2-го резервного кавалерийского корпуса, не были уже вместе с тем и начальниками Поселенной части, а потому в городе почитались только как почетные лица, но не как начальники. Они были: генерал от кавалерии Гельфрейх, занимавший очень недолго этот пост, и генерал от кавалерии барон Иван Петрович Оффенберг, о котором я уже упоминал при рассказах о чудачествах графа Никитина и который, кажется, до конца военных поселений жил в Елисаветграде, командуя корпусом. Как о почетных лицах нужно также упомянуть и о начальниках корпусного штаба — полковниках и затем генерал-майорах — графе Ламберте и Дубельте; первый был очень симпатичным человеком, и его все любили в городе. Второй же замечателен (по крайней мере для меня) был тем, что был женат на Пушкиной (дочери поэта), и я несколько раз видел его жену, очень красивую брюнетку{87}. Про генерала Ивана Петровича Оффенберга нужно сказать несколько слов, чтобы вырисовать, до какой степени он худо знал русский язык, дослужившись до полного генерала и бывши женат на русской. Рассказывали в городе следующий анекдот про явку к нему всех служащих, когда он только что приехал на службу в г. Елисаветград. В один день являлась вся действующая (т. е. военная) часть, а на другой день все поселенное начальство. Вот подходит он к одной группе; представляясь, рекомендуются ему: «Честь имею представиться вашему высокопревосходительству начальник первых четырех округов Новороссийского военного поселения артиллерии генерал-майор Шмидт». Второй за ним представляющийся говорит: «Честь имею представиться вашему высокопревосходительству начальник четвертого округа Новороссийского военного поселения полковник Савицкий, ваше высокопревосходительство». — «Вы кто, генерал?» — спрашивает Оффенберг первого. «Начальник первых 4-х округов в.в.п.». — «А вы кто, полковник?». — «Начальник 4-го округа, ваше высокопревосходительство». Еще раз переспрашивает и все-таки не понимает. Тут Шмидт, как немец, объясняет ему по-немецки, что он есть начальник всех 4-х округов, а полковник Савицкий — одного четвертого округа, почему он состоит в подчинении у него. «А, теперь я совершенно понимаю, — говорит Оффенберг и, чтобы замазать свой промах, обращается любезно к Савицкому (ярому малороссу, умному и хитрому малому): — Очень рад познакомиться с вами, полковник, ну, как идет у вас хозяйство?» — Савицкий, скорчив дуркообразную физиономию, отвечает с хохлацким акцентом: «Слава Богу, ваше высокопревосходительство, хозяйство идет в порядке: где надо гальмовать, ваше высокопревосходительство, там мы бичуем, а где нужно бичевать, то мы гальмуем, ваше высокопревосходительство»{88}. — «Вот это хорошо… так и при мне поступайте…». Рассказывали это за истину. Я не был тогда на представлении и утверждать не могу, но трудно, впрочем, и отрицать. Ведь не понял же немец разницы между четырех и четвертого, так как же мог понять он еще и малороссийские слова. Другой рассказ про генерала Оффенберга я слышал от инженер-капитана Яновского, и этот рассказ совершенно правдивый. Генерал Оффенберг был страстный охотник, а потому и окружал себя такими же страстными охотниками, и в числе ежедневных его посетителей были неизменно: личный адъютант его полковник Циммерман и инженер-капитан Яновский. Оба хотя тоже страстные любители охоты, но все-таки трезвее относившиеся к ней. — Вот, однажды, подсмеиваясь и подтрунивая над этой слабостью генерала, Яновский побился об заклад на полдюжины шампанского, что в продолжение десяти дней ежедневно будет вызывать Оффенберга на разговор и рассказы про охоту на волков и что генерал этого не заметит. Пари состоялось, и после 6–7 дней Яновский был на пути к выигрышу, потому что, как только Яновский упомянет про волков, то Оффенберг сейчас восклицает: «Ах, фольк, фольк…» и начинает бесконечные рассказы про охоту на них. Так прошло уже девять дней, и Циммерман видит, что ему придется поплатиться, а потому в десятый день пришел ранее Яновского и на вопрос генерала, а где же Яновский, Циммерман ответил: «Сейчас придет, верно, собирается с мыслями, как начать разговор про волков». — «Как про фольков?..» — «Да разве, ваше высокопревосходительство, не заметили, что он уже девять дней сряду вызывает вас на рассказы про охоту на волков. Ведь мы побились об заклад, и он хочет, вероятно, нынче выиграть с меня полдюжины шампанского». — «А, заклад, полдюжины шампанского, вот я ему покажу фольк!» При этом надобно обрисовать обстановку: громадный кабинет, посредине которого стоит большой стол для занятий, покрытый зеленым сукном, а кругом ряд мягких массивных кресел. На председательском месте сидит генерал Оффенберг и энергично курит из большого чубука, затягиваясь и выпуская дымок. Циммерман, сделав измену, стоит смиренно у окна, вдруг входит Яновский: «Имею честь кланяться, ваше высокопревосходительство». — «А, здравствуйте, Яновский», — пуф, пуф, пуф — пускает дым генерал. Циммерман мигает Яновскому, начинай, мол, а то скоро пойдет завтракать. «А погода-то какая, ваше высокопревосходительство, — начинает Яновский, — самая охотницкая… вот бы теперь с хорошей сворой собак, да на волков». — «Вот тебе фольк! Вот тебе фольк! Вот тебе фольк!» — пыхтя кричит Оффенберг, гоняясь за Яновским и награждая его ударами чубука. А Яновский, убегая от ударов, бегает вокруг стола и отставляет кресла вроде баррикад для препятствий Оффенбергу… Сделав таким образом тура три-четыре вокруг стола, Оффенберг, запыхавшись, падает в кресло и, насилу отдохнув, говорит: «Циммерман, Яновский выиграл пари; если бы вы меня не предупредили, я бы опять говорил о волках, но я не хочу, чтобы вы тратились на вино, за полдюжины шампанского плачу я… вот деньги. А вам, капитан, порядком, кажется, досталось… извините… а теперь пора завтракать, пойдемте к жене… она, я думаю, давно уже ожидает нас с завтраком».
* * *
Я уже упомянул выше, что я приехал в Елисаветград 21-го октября 1849 г., в пятницу вечером, т. е. почти уже в ночь.
Ввалившись в неизвестный мне город и притом в местность, резко отличающуюся от той, где я родился и провел свое детство и юность, я невольно почувствовал себя, как в лесу. Восемь дней, проведенных мною в пути в тогдашней дорожной сутолоке, невольно отвлекли мои мысли от моего одиночества. Приехав же на место, я увидел себя совершенно отрезанным от всего прежнего, столь мне дорогого, и принужденным начинать новую жизнь в местности вовсе мне незнакомой. Было о чем подумать. Остановился я в лучшей тогда гостинице г. Елисаветграда, а именно на Большой улице, в гостинице Берингера или, по-уличному, просто у Симки, ибо такую кличку носил еврей, ее содержатель. Занял я в гостинице одну комнату, за которую с двумя самоварами платил по 50 копеек я сутки. Устроившись кое-как в гостинице, я на другой же день, примундирившись, сделал визит председателю городской думы. Он принял меня отменно-радушно и сообщил, что в настоящее время главного начальника, генерала Сакена, нет в городе, потому что он поехал в отпуск в Петербург, но все-таки советовал явиться к полковнику Громовскому, который исправлял должность начальника штаба. Начальник же штаба, генерал Ламберт, был, в свою очередь, тоже в отпуску, так что полковник Громовский являлся в это время главным лицом в городе. Конечно, я явился к полковнику Громовскому, а затем заявил о себе и в строительном комитете, который, собственно, был мифическим присутственным местом и числился при Елисаветградской городской думе. Тут я познакомился с будущим своим тестем Иваном Прокофьевичем Федорченко, занимавшим должность секретаря при Елисаветградской городской думе и строительном комитете, человеком очень почтенным, которого впоследствии я полюбил и уважал как отца.
Между тем я мало-помалу начал знакомиться с обывателями. С первым, с кем я познакомился, — был штатный смотритель уездного училища Григорий Иванович Жуков. В одно из воскресений я встретился с ним в соборе, — кто-то нас представил друг другу, и Жуков сейчас же пригласил меня к себе; у него я и обедал в этот день, а после обеда он меня катал на своем сером жеребце, и мы ездили в загородный сад. Одним словом, он накинулся на меня, как на новичка, и рад был приблизить меня к себе.
Как оказалось впоследствии, это был добрейший старик. Говорю старик, потому что и тогда уже ему было свыше 40 лет, хотя он все еще молодился. У Жукова я вскоре познакомился с офицером генерального штаба Виктором Степановичем Цитовичем. Это был очень милый и образованный человек, и впоследствии я до самого выезда его из Елисаветграда поддерживал с ним знакомство. А затем у того же Жукова познакомился и со всеми учителями гимназии, из которых с одним особенно сблизился, а именно с Семеном Михайловичем Шмаковым, с которым впоследствии и породнился.
Наконец я познакомился и с домом Ивана Прокофьевича Федорченко, впоследствии моего тестя. Как теперь помню, 6 декабря, в праздник (Николин день), я часов в 12 утра приехал с первым к нему визитом. Его самого, к сожалению моему, не застал дома, а потому, передав свою визитную карточку, отправился домой. За это, как впоследствии узнал, был обозван барышнями тюфяком и провинциалом, потому что, по их мнению, не застав дома хозяина, я должен был отрекомендоваться молодым хозяйкам. А барышень в этом доме было три: Домника Ивановна Федорченко, впоследствии моя дорогая и ныне уже умершая жена; во-вторых, Афанасия Ивановна Федорченко, впоследствии Шмакова и моя дорогая свояченица и ныне здравствующая, и, наконец, в-третьих, Марья Осиповна Полуликова, троюродная сестра двух первых, постоянно почти гостившая у них… Я помню, что первое впечатление, произведенное на меня этими молодыми девицами, было вовсе не такое, чтобы я мог предположить, что в скором времени я буду женихом, а впоследствии и мужем одной из них. Все шло своим порядком, но я, мало привыкнув еще к новому своему положению, очень скучал в своем одиночестве. К тому же участь брата, Федора Михайловича, была еще не решена, и я часто обращался к мысли, что будет, что с ним будет!? Наконец эта неизвестность кончилась для меня в начале нового 1850 года. Помню, что, кажется, на другой день нового года, т. е. 2 января приехал ко мне утром Ив. Прокоф. Федорченко, чтобы отдать новогодний визит, и, между прочим, сообщил, что в газетах напечатан приговор наказаний обвиненным по делу Петрашевского и что в приговоре этом в числе обвиненных значится и некто Федор Достоевский, причем полюбопытствовал — однофамилец этот господин мне или родственник… Конечно, я сейчас же заявил, что это мой родной брат, и попросил у него сообщить мне эти газеты, что он и исполнил, вынув их из кармана. По отъезде Федорченко, я сейчас же накинулся на газеты. Это был номер «Северной Пчелы», издаваемой Булгариным, не помню, от какого числа, но помню, что этот номер только что был получен в Елисаветграде{89}. В газете был напечатан приговор, по которому: «Отставной инженер-поручик Федор Достоевский 27-ми лет, за участие в преступных замыслах, распространение одного частного письма, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти, и за покушение к распространению, посредством домашней литографии, сочинений против правительства — по заключению генерал-аудиториата подвергался смертной казни расстрелянием. По высочайшей же конфирмации приговорен: „к лишению всех прав состояния, к ссылке в каторжную работу в крепостях на четыре года, и потом к определению рядовым“». И теперь, через 46 лет спустя после этого происшествия, несмотря на то, что брат Федор Михайлович после каторги был не только всепрощен, но и возвеличил имя свое, — я не мог написать этих строк без того, чтобы, как говорит жена, не подрал мороз по коже… Что было тогда со мною — предоставляю судить каждому. Помню только, что в этот день я никуда не выходил из комнаты, читал и перечитывал всю газету, а сентенцию и приговор переписал для себя на бумагу, которая и теперь цела у меня.
Сведение о том, что я брат приговоренного к каторге, мгновенно разнеслось по городу, и, конечно, никто мне не задавал больше вопросов о существовании родства, но во взгляде всех я читал этот вопрос и притом во взглядах только меньшинства встречал сочувствие… Большинство же долгое время чуралось меня…
Мне предстоит упомянуть еще о сыне Ивана Прокофьевича Федорченко — Михаиле Ивановиче, или попросту Мише, как звал я его все время. С детских лет он был идолом в доме как единственный сын отцу и брат сестрам. Сперва он окончил курс в Елисаветградском уездном училище, а затем в Одесской Ришельевской гимназии, потом поступил в Ришельевский лицей на математический факультет. В летнее время моего жениховства (1850) он кончил 1-й курс лицея и перешел на 2-й. В июне месяце он приехал на каникулы в Елисаветград, и я впервые тогда познакомился с ним. Это был юноша лет 18–19, до того симпатичный, как по наружному своему виду, так и по внутренним качествам, что невольно привязывал к себе каждого с ним соприкасающегося. Я полюбил его как брата, и это чувство сохранил к нему на всю жизнь.
В июне месяце день свадьбы нашей был приблизительно определен, и я должен был озаботиться приготовить помещение, т. е. квартиру для семейной жизни. Наконец был окончательно и назначен день нашей свадьбы, а именно на воскресенье 16 июля, и я благополучно дожил до этого дня. Несмотря на существующий обычай, чтобы жених в день свадьбы не виделся с невестой до церкви, то есть до венца, я не исполнил этого предрассудка, просидел у невесты целое утро и был прогнан только тогда, когда нужно было одевать невесту к венцу. Брак был назначен в шесть часов вечера. У меня шафером был Семен Михайлович Шмаков, а у Домники — брат Михаил Иванович. Огромный собор, вмещавший в себя более 6 тысяч человек, был почти полон. Праздно глазеющая публика стояла и впереди, и сзади, и возле нас, так что трудно было протискаться. И вся эта масса народа устремила свои глаза в одну точку, то есть на нас… Я был очень взволнован, а окружающая меня масса народа представлялась мне какими-то блуждающими призраками, как будто бы во сне. Но вот наконец таинство брака окончилось, и мы поехали уже вместе, как муж и жена, к батюшке на вечер. Помещение в квартире моего тестя было очень небольшое, а потому были приглашены только самые близкие знакомые. На вечере солидные люди играли в карты, а молодежь танцевала. Хотя как молодого, т. е. новобрачного, меня и приглашали танцевать, но я решительно отклонился от этого, потому что никогда не любил и никогда не умел хорошо танцевать, а на молодого смотрят вообще взыскательно. К полуночи был сервирован парадный ужин, во время которого я с Домникой сидели на парадном месте, и нам часто приходилось подслащивать горечь вина. Одним словом, все шло вслед старых дедовских обычаев. В 1 часу ночи ужин кончился, гости разъехались, а я с женою поехал в свою квартиру, где мой добрый Михайло встретил меня с хлебом и солью, что он сделал на свои деньги и сюрпризом мне. Итак, холостая и одинокая жизнь моя была закончена, и я начал новую семейную жизнь. Говорили в городе, что на нашем венчании оттого было много любопытных зрителей, что в г. Елисаветграде давно уже не бывало так называемых интеллигентных свадеб. Но с моей легкой руки, как говорится, вслед за нашею были еще две свадьбы в очень скором времени, а 25 июля состоялась свадьба Шмакова с Афанасией Ивановной, и молодые поселились во флигеле отчего дома.
Спустя несколько времени мы, две молодые пары, т. е. я с Домникой и Шмаковы, делали первые визиты всем бывшим на свадьбах и некоторым не бывшим, но с которыми мы думали быть знакомыми. Скоро мы перезнакомились со всем елисаветградским «обществом». Это были: Погорелко, содержательница пансиона; семейство Дербушевых, с которыми мы были дружественно знакомы во все пребывание наше в Елисаветграде; купцы братья Макеевы, торговавшие красным товаром, оба женатые; другой купец Турчанов Гаврила Константинович и его жена Любовь Егоровна; почтмейстер Федор Корнеевич Гордеев; инженер Александр Федорович Чумаков и его жена; священник, магистр богословия, Михаил Иванович Скворцов и его жена Марья Афанасьевна, оба образованные люди; другой священник, вдовец Федор Михайлов, еще очень молодой человек, весельчак, которого молодежь прозвала поп-казак, на что он, впрочем, не обижался; аптекарь Петр Петрович Паскалин, содержатель единственной в городе аптеки, очень уважаемый человек, делавший много добра; доктор Антон Антонович Гольштейн и жена его Елизавета Дмитриевна; как к лучшему доктору в городе мы всегда обращались за медицинскими советами к нему. Оба они, как муж, так и жена, были рождены евреями и крестились, по женитьбе их в г. Елисаветграде. Оба они Дмитриевичи потому, что у них был крестным отцом барон Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен. Сам Гольштейн, помимо искусства врача, был страстным любителем преферанса. Ни один его визит к пациенту не проходил без рассказов о какой-нибудь курьезной преферансовой игре. Одну из таковых он подшил на подкладку своей шинели и при встрече с знакомыми распахивал шинель и говорил: «Видите игру… играл семь и остался без двух». И с этими словами запахивал шинель и бежал дальше.
Как вспоминаю теперь, 1851 год не особенно был приятен для нас вследствие различных случившихся обстоятельств. Во-первых, в этом году батюшка по неприятностям по службе должен был оставить службу секретаря в Елисаветградской думе. Сильно не хотелось ему еще в таких сравнительно не старых годах оставлять службу, но обстоятельства сложились так, что он должен был это сделать. Эти невзгоды отражались, конечно, на Домнике, а следовательно, и на мне. Далее случилась и для меня лично одна крупная неприятность, которую я долго не мог переварить и затем позабыть. Из Кременчугского поселенного штаба был препровожден в елисаветградский строительный комитет безымянный скандальный донос на мою служебную деятельность. Донос настолько был грязен и неправдоподобен, что даже военное начальство не сочло возможным произвести по нему какое-либо дознание, а просто без всяких распоряжений препроводило этот донос в строительный комитет. Не далее как месяца через два я узнал сочинителя этого доноса, а именно это был аудитор Аникиев, неудачный жених Афанасии Ивановны. И от кого же я узнал об этом?.. Трудно догадаться. Да от самого же Аникиева! Он сам заговорил об этом со мною, и, когда я спросил его, что собственно побудило его это сделать, он, не смущаясь, ответил: «Шмакову я отмстить не мог, он служит по мин. нар. просв., самому Федорченко я тоже лишился способа отмстить, так как он оставил службу, а отмстить я хотел, и вот я избрал вас!.. И еще буду стараться пакостить вам, сколько достанет у меня сил!». Что мне было делать?.. Заявить кому-нибудь об этом? Но никто не поверит. Побить?.. Но он был солдафон ражий, и мне с ним было не справиться!.. Итак, я ограничился только тем, что плюнул ему в физиономию. Он, конечно, проглотил эту любезность…
Когда я сообщил об этом домашним, то батюшка и Шмаков сказали мне, что они были давно уверены, что сочинителем доноса был Аникиев и что они со стороны даже слышали об этом, только мне не говорили, чтобы не волновать меня.
Вести из Москвы тоже были не совсем благоприятны: из двух писем сестры Варвары Михайловны от 1 октября и 25 ноября я узнал, что дядя Александр Алексеевич был при смерти, но что ему хотя и лучше, но все-таки он лишился движения ног вследствие паралича, и у него замечается размягчение мозга. Писала также Варвара Михайловна и о том, что брат Михаил Михайлович два лета сряду (1850–1851 гг.) прожил в деревне, и что он предлагает имение отца оставить за собою, оплатив братьям и сестрам деньгами за причитающиеся им части, но не сразу, а в продолжение 10 лет, и что, по ее мнению, это не слишком выгодно для остальных наследников! Еще бы!
От зятя Александра Павловича Иванова (муж Верочки) я тоже получил письмо с теми же известиями. Он по моей просьбе прислал мне, как опекун над имением, в сентябре месяце с доходов имения сто рублей.
С нашей квартирой, так недавно мною отделанной, тоже было неблагополучно: хозяин наш, Корицкий, сам захотел переселиться в нее, да кроме того, мне перестали выдавать квартирные деньги на чертежную, — пришлось квартиру менять.
11 июня 1852 года я получил письмо от зятя Александра Павловича Иванова, письмо деловое, которое он писал как опекун. Оно так серьезно, что я выписываю из него здесь главную суть дела: он пишет:
а) что в июле 1852 года сестре Саше минет 17 лет и что вследствие этого опека над имением должна уничтожиться;
б) что вследствие этого имение (оставшееся после отца) должно будет остаться или в общем управлении, или должно быть разделено;
в) что как первое, так и второе немыслимо без продажи имения;
г) что отец заплатил за оба имения 12 тысяч рублей серебром, и что при жизни его оно было заложено в 5 ½ тысяч серебром в опекунском совете; но что, несмотря на это, имение приносило отличнейший доход;
д) что предполагаемый мною (в прежних моих письмах к Иванову) раздел есть самый справедливый, т. е. разделить все имение сообразно взятым нами частям из капитала;
е) что по квитанциям, хранящимся в опеке, явствует, что брат Мих. Мих. получил за все время со смерти отца 2745 руб. серебром; я получил 1475 руб. и брат Николай Мих. — 871 рубль, т. е. всего получено нами капиталу 5091 р. сер. или 17 818 руб. ассигнациями;
ж) что продать имение можно и теперь за 50 000 рублей ассигнациями, т. е. по 500 рублей за ревизскую душу, так как всех душ считалось 100;
з) что за вычетом долгов: 1) опекунскому совету 22 400 рублей ассигн., 2) долгу Варваре Михайловне 1800 руб. и 3) на межевые планы и расходы 350 руб. ассигн., всего же за вычетом 24 550 рублей останется чистого капитала 25 450 руб.;
и) что к этому капиталу должно присоединить капитал, взятый нами, братьями, а потому весь капитал, подлежащий разделу, выразится в 25 450 + 17 818 = 43 268 руб. ассигн.;
к) что из суммы этой следует вычесть 3/14 части сестрам, то есть 9270 рублей и затем для трех братьев останется к разделу 33 998 руб. ассигн., то есть каждому по 11 332 руб. ассигнациями;
л) что за вычетом нами взятых сумм надлежит получить: 1) брату Мих. Мих. 11 332 — 9507 = 1725 руб. ассигн.; 2) мне 11 332 — 5162 = 6170 руб. ассигн. и 3) брату Николе 11 332 — 3.048 = 8284 руб. ассигн.
Проект этого раздела составлен был Ивановым, согласно моей мысли, и я был совершенно с ним согласен.
Далее Иванов писал, что он сыскал покупщицу на имение, т. е. свою жену, а нашу сестру Верочку. Что они готовы дать за имение 50 000 руб. ассигнациями и что, ежели я на это согласен, то чтобы заявил об этом письменно, а также и прислал прошение на уничтожение опеки. И то и другое я исполнил и отписал Иванову 21 июня 1852 года.
В начале сентября месяца (10-го числа) я получил опять письмо от Александра Павловича Иванова в ответ на мое от 21 июня. В письме этом он извещал меня, что дело о покупке ими имения близится к концу, и что я скоро получу деньги за свою часть, и притом в несколько большем количестве, а именно 2000 рублей серебром.
25 октября я получил опять письмо от зятя Александра Павловича Иванова, и на этот раз с известием об окончательном решении дела по продаже моей части наследства, и с высылкою на мою долю двух тысяч рублей серебром. Мы были очень рады окончанию этого дела и не медля, по совету батюшки, пристроили эти деньги, т. е. отдали их из 10 годовых процентов старику Турчанову, у которого хранились, то есть были в обороте также и батюшкины сбережения. Из этого же письма Алекс. Павл. Иванова узнал я и о затее брата Михаила Михайловича открыть фабрику и торговлю папирос с сюрпризами. Эту затею он предпринял тоже сейчас по получении своей части денег, и я тогда, мысленно пожелав ему всевозможного успеха, никак не предполагал, что эта торговля его лет через 5–6 доставит ему уже солидный капитал! Из того же письма я узнал еще о московской новости, а именно, что Тимофей Иванович Неофитов недавно умер.
10 октября 1852 г. Бог дал нам первого ребенка — дочку Евгению. Тихо и мирно прошел конец 1852 г., затем весь 1853, а 1854 ознаменовался рождением 1 сентября второй дочки — Марии{90}.
Письма, полученные мною в 1854 году из Москвы и Петербурга, принесли мне много важных и большею частью хороших известий о случившемся с близкими моими родственниками. Главнейшее из этих известий было сообщение сестры Варвары Михайловны (весною 1854 г.), что сестра Саша вышла замуж за подполковника Николая Ивановича Голеновского.
Получив это письмо, я счел нужным написать дяде письмо, в котором и благодарил его за новый знак внимания и любви к нашему семейству, проявленный им в устройстве судьбы сестры Саши. В том же письме сестра Варвара Михайловна сообщила:
1) что брат Федор Михайлович окончил свой 4-летний срок каторги, поступил рядовым в 7-й батальон отдельного Сибирского корпуса и что с ним можно теперь вести переписку; 2) что брат Михаил Михайлович открыл папиросную фабрику и что дела его идут хорошо; 3) что брат Николя в этом году должен кончить курс в строительном училище; 4) что падчерица Юлия Петровна Карепина окончила курс в институте и также живет частью у нее, а частью у двоюродного брата своего Александра Митрофановича Карепина.
Из другого ее письма в августе месяце я, между прочим, узнал, что дядя Александр Алексеевич был очень доволен письмом моим по поводу устроения судьбы сестры Саши и что он, читая его, был растроган до слез.
В сентябре месяце, уже после рождения Машеньки, я был обрадован и получением письма от брата моего Михаила Михайловича. Письмо это я получил через своего знакомого Завадского[31], который, ездя в Москву и Петербург, был и у Варвары Михайловны, и у брата Михаила Михайловича. В письме своем брат, сообщая о всех тех известиях, о коих я знал уже из писем сестры, сообщает, что дела его по торговле идут очень и очень хорошо и что он теперь живет не так, как прежде, нуждаясь в копейке, но даже помышляет в недалеком будущем составить себе состояние{91}. Он через Завадского прислал мне два ящика папирос с сюрпризами, а в письме сообщал также и точный адрес, по которому можно писать брату Федору Михайловичу.
Вслед за получением этого письма я, не откладывая в долгий ящик, написал первое письмо к брату Федору Михайловичу и отправил его 14 сентября. Тогда же написала ему и Домника. Чтобы письма эти вернее дошли, я послал их денежными, вложив десять рублей (10 р.), но ответ на эти письма мы получили уже в следующем 1855 году.
Осенью этого же 1854 года состоялся последний приезд в г. Елисаветград императора Николая I на кампамент. Государь пробыл несколько дней, сделал смотры и остался вообще очень довольным. По его отъезде случился со мною тот инцидент, о котором я рассказал при описании личности генерала фон-дер-Лауница.
В феврале же 1855 года в город пришло известие о кончине императора Николая I. Помню, что город был сильно взволнован этим печальным известием. Все думали и помышляли: «Что будет? Как кончится война?» Вообще состояние общества было весьма тревожное.
Как-то в начале марта 1855 года, помню, что это было Великим постом, сидим мы втроем за обедом, — я, как теперь, помню, было подано блюдо раков — и вслед за ним является почтальон и говорит: «К вам казенный пакет» — и предлагает расписаться в получении его в книге. Я посмотрел на огромную сургучную печать и сейчас же прочел на ней: «III Отделение собственной его императорского величества канцелярии». У меня так и екнуло сердце… Я знаком был уже с III Отделением!! Пока я расписывался в получении пакета, пока выпроводил почтальона, Домника и батюшка не отрывали от меня глаз, потому что, как говорили они, я был бледен, как полотно… «Что с тобой?.. Что с вами?.. Откуда пакет?..» — был поспешный с двух сторон вопрос. Я, не отвечая им, поспешил вскрыть большой пакет, и из него выпали два маленьких почтовых листочка. Это оказались письма брата Федора Михайловича из Семипалатинска — одно ко мне, а другое к Домнике. Я успокоился и, не читая еще писем, показал батюшке и Домнике пакетную печать. Все мы поняли тогда, что хотя переписка с ним и дозволена, но что его письма в Россию, а может быть, и наши письма к нему, идут через III Отделение, где вскрывают и прочитывают их. Письма брата были без его конверта, а прямо в конверте III Отделения. Успокоившись немного, я начал читать письма, писанные братом 6 ноября 1854 года и дошедшие до меня только в начале марта! Эти великолепные письма растрогали меня тогда до слез; они и теперь хранятся у меня, на пожелтевшей бумаге! Но, впрочем, они целиком напечатаны в первом томе I издания полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского в отделе «Переписка», на страницах 75, 76 и 77. — Слух, что я получил пакет из III Отделения, скоро разнесся по всему городу, и я, чтобы уничтожить различные сплетни, рассказал двум-трем моим знакомым, что заключалось в пакете; и так как я рассказывал это по секрету, то через несколько дней все в городе знали, какого рода пакет получил я!
За этот 1855 год вообще по причине военных действий жизнь в Елисаветграде в это время очень оживилась. Все с напряженным вниманием читали газеты, а подвиги таких героев, как матрос Кошка, распространялись со скоростью электричества. Вообще общество было наэлектризовано патриотизмом. Стихотворения, патриотические вирши вроде
Вот в воинственном азарте Воевода Пальмерстон Поражает Русь на карте Указательным перстом!{92}полагались на музыку и даже целиком были пропеты девочками на торжественном публичном акте в пансионе г-жи Погорелко, причем вызвали гром рукоплесканий и требование неоднократного повторения!
Осенью же этого года, кажется, в сентябре месяце, состоялся проезд через г. Елисаветград государя императора Александра II в Крым. День проезда, конечно, был известен заранее, и в этот день так называемая Большая улица была запружена народом, вышедшим встречать государя. Проезд был назначен около 2-х часов дня, но публика, конечно, собралась гораздо ранее. Вышли на это громадное гулянье и мы с Домникой. День был ясный и теплый, и мы даже позволили няне вынести и старшую дочурку Женечку, но неистовый крик последней производил такой скандал, что ее немедленно пришлось унести обратно. Вскоре проехал и царь, а потому Домника сейчас же пошла домой к своей обиженной дочке. Государь ехал в открытой коляске, он показался с лица очень похудевшим и вообще был очень серьезен, даже пасмурен. Через Елисаветград он проехал, не останавливаясь, прямо на почтовую станцию (почти за городом), где в прибранных кое-как еврейских помещениях (содержатель почтовой станции был еврей) сервирован был для государя и свиты его дорожный обед. Я с батюшкой на извозчике тоже поехали на почтовую станцию, чтобы еще раз видеть государя. Обед продолжался не долее одного часа, а по окончании обеда государь вышел в шинели и фуражке и с папиросою в зубах, медленно сел в коляску, милостиво раскланялся с публикою, и коляска понеслась вскачь… Помню одно из впечатлений публики: большинство публики, присутствовавшей при выходе государя из почтовой станции после обеда, состояло преимущественно из пожилых людей, и… она осталась недовольною тем, что государь вышел с закуренною папироскою. Они считали это неприличным для царского сана!.. Эту же мысль разделял и мой тесть. А я долгое время и при всяком подходящем случае горячо протестовал против такого странного мнения, доказывая, что государь тот же человек и что он, измученный почти 2000 верст путешествия, может доставить себе право держать себя не на вытяжке, для показу, а так, как ему удобно, и не отказывать себе в тех привычках, в которых не отказывает себе всякий из нас смертных!.. Обратно из Крыма государь проехал уже другим путем и в Елисаветград не заезжал.
Из письма сестры Варвары Михайловны я познакомился и с происшествиями, случившимися с моими родными в Москве и Петербурге в течение 1855 года. Во-первых, из письма я узнал, что в феврале месяце была обручена, а после Пасхи вышла замуж Юлия Петровна Карепина (падчерица сестры Варвары Михайловны) за некоего Никандра Петровича Померанцева, который и увез свою молодую жену в Петербург. Эту свадьбу устроил Голеновский, с которым жених служил вместе в Павловском кадетском корпусе. Во-вторых, что Голеновские оба, и муж и жена, были в феврале месяце в Москве и тогда-то и устроили эту свадьбу. В-третьих, что в июле этого года Варвара Михайловна с детьми была в Петербурге и гостила у сестры Саши на даче в Царском Селе. В-четвертых, что зять Александр Павлович Иванов живет летом с Верочкой в деревне и, как-то подстораживая ястреба, истребляющего у них цыплят, прострелил из ружья себе ногу и месяца два не мог совершенно от этого излечиться. В-пятых, что Голеновским 1-го октября Бог дал дочку (первую) Марию. Это Марья Николаевна Голеновская, ныне Ставровская. В-шестых, что брат Николай, по окончании курса в строительном училище, назначен архитекторским помощником в эстляндскую строит. и дорожную комиссию и едет в г. Ревель. И, наконец, в-седьмых, я узнал из письма этого об ужаснейшей катастрофе, случившейся с моей теткой Катериной Федоровной Ставровской. Она заживо сгорела в церкви! Случилось это так: 9 мая 1855 года, в день св. Николая Чудотворца, Катерина Федоровна пошла с детьми в приходскую церковь и стала под паникадилом; на ней сверх легкого летнего платья был бурнус. Она была на девятом месяце беременности. Вдруг она говорит своей старшей дочке: «Что это как будто гарью пахнет»; та отвечает, что и она это слышит. В эту минуту Катерина Федоровна почувствовала ожог и, мгновенно сбросив бурнус, начала махать своим легким платьем и вслед за этим в одно мгновение обратилась в огненный столб! Все окружающие сторонились от нее, чтобы самим не загореться, а дети подняли крик и вопли! Наконец несчастная бросилась в толпу, и какой-то догадливый человек накинул на нее свой тулуп и тем загасил пламя, но последствия были ужасны! У страдалицы обгорели все волосы, голова и тело были все в страшных язвах от ожога! Кое-как довезли ее до дому. Через несколько дней она разрешилась (преждевременно) от бремени, но ребенок сейчас же умер. Сама же страдалица промучалась еще две недели и скончалась, оставив пять человек детей, из которых старшей дочери было уже 14 лет!..
Сорок лет прошло с этого ужасного факта. Может быть, таковых же катастроф произошло и еще несколько по церквам… а до сих пор не сделано никаких улучшений по этой части! И до сих пор в церквах по большим праздникам, именно тогда, когда собирается в церковь масса народу и когда неминуемо и под паникадилами толпятся богомольцы, — в паникадилах этих зажигают по-прежнему восковые толстые свечи, дающие огромный нагар, часто падающий вниз. Стеариновые свечи, дающие меньший нагар или вовсе не дающие его, — жечь в церкви считается за грех, а другого способа освещения паникадил не придумают!
К концу года настроение жителей г. Елисаветграда делалось более и более тревожным. Из Крыма получались все более и более неутешительные известия. Про битву при Черной реке поговаривали с покачиванием головой, а про оставление Севастополя говорили даже шепотом, мало веря этому известию{93}.Проезд государя в Крым как будто бы ободрил народ… Многие думали, что военные действия еще не кончены, а возобновятся с новыми силами и энергиею. Как-то не хотелось верить про мир не вполне достойный величия России!
Январь 1856 г. принес нам несчастие: у нас скончалась вторая наша дочурка Маша, заболев крупом.
С самого начала 1856 г. начали появляться слухи о мире, при ожидании которого все как будто бы встрепенулось, все как будто бы ожило. Наконец, в конце марта и до нас дошло известие, что 18 марта по парижскому трактату мир состоялся. Конечно, условий мира никто тогда не знал, но все были рады ему, ожидая какого-то возрождения к чему-то лучшему.
С начала лета 1856 г. в Елисаветграде начали ходить упорные слухи о скором уничтожении военных поселений. Граф Никитин был отозван уже в Петербург. Да и вообще поговаривали о громадных предстоящих преобразованиях. Все эти слухи невольно заставляли меня подумывать о своей службе. Ясно, что с уничтожением военных поселений должность городового архитектора в Елисаветграде, то есть должность официальная, по военному министерству, должна была уничтожиться, и я, по всем вероятиям, должен бы был остаться за штатом. Перспектива незавидная, при неимении ничего в виду. Из газет я узнал, что бывшего главноуправляющего путями сообщения графа Клейнмихеля дернули, как говорится, по шапке и вместо него назначили главноуправляющим генерала Конст. Влад. Чевкина. Кстати, о Клейнмихеле. Помня его мне напутствия, я, убедившись в полной неприглядности своей службы, писал Клейнмихелю письма в 1853,1854 и 1855 годах. Во всех трех письмах я напоминал ему о его обещаниях и просил его дать мне какое-нибудь место по ведомству путей сообщения, по тому ведомству, где получил я свое специальное образование и где служат все мои товарищи по училищу… Все три письма были посланы мною, как тогда называлось, страховыми, но ни на одно я не получил хоть какого-либо ответа… Ясно было, что Клейнмихель не хотел иметь в своем ведомстве фамилию, которая все еще считалась опальною!
Я долго раздумывал о своем служебном положении и наконец решил ехать в Петербург и лично хлопотать о перемене службы.
В сентябре я подал в строительный комитет форменный рапорт о разрешении мне отпуска на 28 дней для поездки в Москву и Петербург по домашним обстоятельствам.
Получив отпуск, я начал собираться в дальнее путешествие. Сборы мои, конечно, были очень невелики; домашние мои очень желали, чтобы я ехал не один, а с попутчиками, и вот приискание этих-то попутчиков и было довольно затруднительно. Но наконец таковые нашлись. Ехали в Харьков на Покровскую ярмарку двое (средней руки) купчика, ехали они в своей кибитке на тройке почтовых и искали себе третьего попутчика, чтобы ехать было дешевле. Я принял их предложение с тем, чтобы мне было предоставлено лучшее место в задку кабитки, и они назначили днем выезда четверг, 4 октября.
Тогдашнее путешествие было не то, что нынешнее, сел в вагон да и помчался! Нет, тогдашнее путешествие было более затруднительно, но зато и более оставляло впечатлений. От Елисаветграда до Москвы считалось 1070 ½ верст, и проехать их на перекладных с переменою лошадей, а за неимением своей повозки ждать последней на каждой станции с перекладкою всех вещей — чего-нибудь да стоило: всех станций было 59!
Выехав из дому, я долгое время был погружен сперва в печальные мысли вследствие разлуки, а затем в более серьезные мысли о предстоящем мне путешествии и пребывании в столицах, а потому, не говоря с своими попутчиками, я долгое время молчал и не заметил, как тройка наша приблизилась в 1-й станции. Но, не доезжая до нее, спутники, сидящие в передке, заметили, что сзади нас скачет легковой городской извозчик и, махая рукой, как бы силится поскорее догнать нашу тройку. Я велел ямщику сдержать лошадей, и скоро нас догнал извозчик с посыльным Домники, который вручил мне забытый мною погребец. За суетою прощаний я и провожавшие меня позабыли о нем; а погребец в тогдашнее время был крайне необходимою в дороге вещью, потому что, ежели самовар и можно было найти на каждой станции, то прибор крайне затруднительно. Да кроме того у меня в погребце были уложены и некоторые нужные бумаги, а потому я был очень доволен, что Домника догадалась послать его вдогонку меня, иначе мне пришлось бы возвращаться домой.
В пятницу 12-го числа благополучно ввалились в Москву и по правилам почтовых карет проехали на Мясницкую в Московский почтамт. Тут, получивши свой багаж, а равно и вид от кондуктора, я нанял извозчика прямо на Петровский бульвар к сестре Варваре Михайловне, адрес дома я знал хорошо. Подъехав к дому и вошед в квартиру сестры Варвары Михайловны, я застал квартиру запертою, а в кухне, которая была открыта, незнакомая мне прислуга заявила, что Варвара Михайловна с обоими детьми куда-то выехала, должно быть, к сестрице Вере Михайловне, а что дома только больная барышня Лизавета Петровна, которая с няней сидит в своей комнате. Я не хотел первого родственного человека в Москве встретить — несчастную идиотку, а потому, не входя к Лизе, которая во всяком случае ничего бы не поняла, отправился обратно к извозчику и велел себя везти в Лефортово к Александру Павловичу Иванову, адрес которого у меня был.
Проезжая по улицам, я окончательно убедился, что я в Москве!.. На первом же шагу встретив полное радушие и гостеприимство, я невольно вспомнил «Горе от ума» (которое знал и тогда наизусть) и слова Фамусова:
Решительно скажу: едва Другая сыщется столица, как Москва… …Да это ли одно!.. Возьмите вы хлеб-соль: Кто хочет к нам пожаловать — изволь: Дверь отперта для званых и незваных, Особенно из иностранных…С этими стихами на языке я подъехал к дому, где по адресу должен проживать Александр Павлович Иванов, — вижу у подъезда стоит старик с седой окладистой бородой, в кучерском наряде, всматриваюсь и узнаю старого кучера отца, крепостного, который ездил с отцом лет 20.
— Здравствуй, Давыд!
— Здравствуйте, сударь… да я что-то не признаю вас.
— А Андрея Михайловича Достоевского позабыл?..
— Батюшка, Андрей Михайлович… — и чубурах мне тут же на улице в ноги!..
Насилу я велел ему встать, расспросив, куда войти к Ивановым, и велев постоять у извозчика с вещами, пошел в квартиру; вхожу в переднюю и на вопрос, дома ли Александр Павлович, получаю ответ, что Александр Павлович и Вера Михайловна дома и что у них в гостях сестрица Варвара Михайловна с двумя детьми и кое-кто посторонние. Я прошу вызвать Александра Павловича и, когда тот пришел, обращаюсь к нему со словами:
— Здравствуйте, Александр Павлович!..
Вижу, тот на меня смотрит и не узнает…
— Фу ты, Господи, опять он меня не узнает!..
— Андрей Михайлович! Какими судьбами!.. — Объятия и поцелуи, — Верочка!.. Варвара Михайловна, посмотрите-ка, какой дорогой гость к нам приехал!
В это время вошли в залу сестры Верочка и Варенька… Начались объятия и приветствия, родственная беседа, и я остался ночевать у Ивановых.
Во вторник 15 октября был день рождения дяди Куманина, и я с 12 час. утра был у них целый день и у них даже по настоянию дяди и ночевал.
Последние трое суток я провел в Москве так же, как и первые, то есть в беспрестанных посещениях двух сестер и тетушки.
19-го, в пятницу, я последний раз был у тетки и дяди и простился с ними до возвращения из Петербурга.
На другой день утром я, напившись чаю и кое-что закусив, двинулся со своею кладью на лошадях Иванова на вокзал железной дороги. Вовремя приехав, я взял билет 3 класса до Петербурга, который тогда стоил всего 7 рублей, и, сдав багаж, поместился в вагоне, заняв место самое неудобное, возле выходной двери. Это я сделал ввиду того, чтобы при остановках ближе выходить для курения папирос.
Итак я уселся в вагоне железной дороги. Это было первое мое путешествие по железным дорогам, ежели не считать поездки из Петербурга в Колпино и обратно в 1847 году, когда я был в высшем классе строительного училища и часто ездил до Колпино и обратно на практические занятия при колпинских заводах. Но тогда я ездил на открытых платформах. В вагоне же я ехал в первый раз!.. Конечно, мне все казалось тогда хорошим я удобным. Но, Боже мой, какие были тогда вагоны на Николаевской железной дороге и какие порядки! Во-первых, началось с того, что курить не позволялось не только в 3 классе, но и в дверях высших классов, хотя бы все пассажиры были согласны и не претендовали на это. Запрещение было не в силу удобства публики, но в силу предполагавшейся опасности от огня. Хотя при запрещении этом опасности являлось более, так как многие курили тайком и кидали папиросы, как школьники, куда попало, при обходе вагонов обер-кондуктором и кондукторами. Не помню, с какого именно времени последовало разрешение курить и устроены отделения для некурящих.
Во-вторых, вагоны не отапливались, и хотя в третьем классе не бывало холодно, потому что через час, много через два, вагоны делались не только теплыми, но даже жаркими от животного тепла… Но зато в вагонах третьего класса постоянно шел дождь, несмотря на то что они были с крышами. Дождь этот происходил оттого, что теплое дыхание массы людей на холодном дощатом потолке образует бесчисленное множество капель, которые и капают обратно на людей; ощущение от этого гораздо худшее, нежели при капании действительного дождя. Такой порядок дел, то есть холодные вагоны всех классов, продолжался до 1868 года, когда в жестокую зиму 67–68 годов, в вагоне 2-го класса замерзла, как слышно было, девочка. С тех пор введено было отопление вагонов всех трех классов. В-третьих, при вагонах 3-го класса не имелось ватерклозетов, а имелись таковые только при вагонах 1-го и 2-го классов. Мне самому пришлось испытывать переходы из вагонов 3-го класса в вагон 2-го для естественной нужды, при каковых переходах мне помогал кондуктор, конечно, за особую плату. Вся же масса народа нескольких вагонов 3-го класса, не имея приспособлений при вагонах, при каждой остановке высыпала на полотно дороги, и так как устроенные на станциях ретирады, очень не объемистые, не могли вместить всех желающих, то пассажиры всех трех классов, и обоих полов, отправляли свои потребности тут же на станции. Легко себе представить неприглядную картину.
Но все эти неудобства тогда вовсе не казались неудобствами, и я совершил свою первую поездку по железной дороге весьма благополучно и нисколько почти не устал, хотя и не спал всю ночь.
Выехав из Москвы в 11 час. утра в субботу 20 октября, я в воскресенье 21-го, утром, в 9 часов, подъехал к Николаевскому вокзалу. Тут получив мой багаж, я на извозчике поехал отыскивать квартиру брата Михаила Михайловича. Теперь в точности тогдашнего адреса его не помню, помню только, что он жил по Екатерининскому каналу между (т. е. вблизи) Демидовым и Столярным переулками{94}. Там были и квартира и фабрика его. Подъехав к отыскиваемому дому и взяв № билета извозчика, я все вещи оставил у него, а сам поднялся по парадной лестнице к квартире, занимаемой братом. Звоню. Открывает дверь сам брат Миша и сквозь очки, своими близорукими глазами, всматриваясь в меня, спрашивает: «Что вам угодно?»… Я немного погодя разразился: «Так вот как принимают после 7-летней разлуки провинциального брата столичные братья?!» — «Брат, Андрюша!.. Тебя ли я вижу, голубчик мой!» Тут начались обниманья и целованья. Прибежала жена его Эмилия Федоровна и на своем ломаном русском языке тоже начала удивляться моему неожиданному появлению: обступила детвора. Одним словом, я как снег свалился на голову! Сейчас же внесли мои вещи, и я водворился. Брат познакомил меня со своими детьми. Семейство брата состояло в то время из 4-х детей:{95} первых троих я уже знал, а именно 1) сын Федя, тогда юноша лет 15-ти, а теперь (т. е. в 1895 году) Федор Михайлович, учитель музыки в Саратове; где имеет свое маленькое училище или школу музыки; 2) дочка Маша, тогда девочка лет 12-ти, впоследствии была замужем за ректором С-Петербургского университета Мих. Иван. Владиславлевым, а ныне уже умершая; 3) сын Миша, мальчик лет 8-ми, которого я, выезжая из Петербурга в 1849 году, оставил еще грудным ребенком. Впоследствии он очень рано женился и вообще вышел неудачным, а в конце жизни даже алкоголиком; не знаю, жив ли он теперь; 4) и наконец, дочь Катя, тогда девочка трех лет, родилась в декабре 1853 года. Ныне состоит в гражданском браке с профессором В. А Манасеиным.
Я всегда думал, думаю и буду думать, что мы все, Достоевские и урожденные Достоевские, крайне виноваты перед этой милой, доброй и симпатичной нашей родственницей! Она, конечно, в своем анормальном положении стеснялась поддерживать с нами родственные сношения, а мы?!. Мы отвернулись от нее как от прокаженной! Отвернулись все, начиная с главы фамилии Ф. М. Достоевского, который при всем своем уме и гениальности сильно ошибался в своих на это воззрениях. Отвернулась и родная сестра, вероятно, по совету своего мужа-философа … а за ними отвернулись и все остальные родственники!.. и оставили ее одну, одну с своим избранным, которому она верна вот уже почти 20 лет. Почему же?.. За что?.. Она, видите ли, положила пятно на фамилию! Че-ем? Мы для того только, чтобы показаться прогрессистами, восхваляем публично обычаи Запада, преклоняемся перед гражданскими их установлениями… нервно следим за законопроектом в Австро-Венгрии по введению в стране того же гражданского брака… а у себя не смеем допустить единственного случая подобного брака, состоявшегося по необходимости, так как они не могут освятить (не говорю закрепить, он и так оказался крепким) его таинством, то есть церковным браком! А отчего?
— Да помилуйте, как представить ее обществу?.. Да она, может быть, и не допустила бы себя до того, чтобы ее представляли обществу! Значит, все сводится к тому, что:
Ах, Боже мой! что станет говорить Княгиня Марья Алексевна!..— Нет, не к этому одному, помилуйте… у нас дети, какой пример!..
Вздор, вздор и вздор!.. Дети малолетние не должны и рассуждать об этом, а дети мало-мальски подрастающие, по мере своего подрастания, должны становиться в уровень с высотою воззрения своих родителей!.. И благо детям, ежели отчие воззрения сделают их действительными людьми, а не автоматами только!
Я тоже виноват!.. я не оправдываю себя… хотя и скажу, что всякий свой приезд в Петербург, в особенности тогда, когда со смертью брата Федора Михайловича я сделался старшим в роде, — я каждый раз помышлял о сближении своем с племянницею; но меня всегда отдаляла от этого мысль, что подумают, что я сделал сближение это в расчете на внимание профессора к моему сыну, которому предстояли экзамены сперва выпускные, а затем докторские… Знаю, что и это соображение попахивает княгинею Марьей Алексевной… но тут я держался соображения этого потому, что был причастен к этому не один я, но и сын мой. А впоследствии было как будто бы и поздно, но я горько сожалею, что не сделал этого сближения в последнее пребывание в Петербурге в октябре и ноябре 1892 г. И ежели бы мне каким-либо чудом пришлось еще раз побывать в Петербурге… то я непременно исполнил бы это свое давнишнее желание и сблизился бы, надеюсь, с дочерью моего покойного брата!
Но я отдалился от своего повествования, буду продолжать его.
Когда улеглись первые порывы чувств, вызванные неожиданным свиданием, мы с братом, напившись кофе, отправились в то же утро в сестре Саше в Павловский кадетский корпус на Обуховский проспект (близ строительного училища). Сестра Саша едва узнала меня, да и немудрено, я ее знал ребенком, а когда виделся в последний раз в Москве в 1849 году, почти мельком, так как она была все время в пансионе, то она была еще девочкой 14 лет. Муж ее, Николай Иванович Голеновский, понравился мне с первого взгляда. Это, действительно, как и оказалось впоследствии, был добрейший и благороднейший человек. У них была уже годовалая дочка Машенька (ныне Мария Николаевна Ставровская). И у них, как говорил брат Михаил Михайлович, по части любви обстояло все благополучно!.. У них мы посидели часов до двух дня и позавтракали. Брат, уходя вместе со мною от них, пригласил их к себе нынче же на вечер, который он давал в честь моего приезда, как он говорил. День затем прошел незаметно у брата Михаила Михайловича, а вечер удался хоть куда. Кроме Голеновских было еще два-три дома близких знакомых. Конечно, играли в карты, и вечер прошел очень оживленно.
В понедельник 22 октября, в праздничный день Казанской иконы Божьей матери, я утром отправился к полковнику Марченко, бывшему в свое время инспектором классов строительного училища, а теперь (то есть в 1856 году) состоявшему по особым поручениям у главноуправляющего путями сообщения генерала Чевкина. Константин Иванович Марченко тоже узнал меня не вдруг, принял меня очень радушно, как родного. Узнав о причине моего приезда и о предстоящих мне хлопотах, он спросил меня, на какую же вакансию я желаю проситься у Чевкина? Когда я объяснил ему, что я, приехав из-за 1700 верст, из местности, где даже не получаются и приказы главноуправляющего, конечно, не могу знать о существующих вакансиях, тогда Марченко сказал, что к четвергу он постарается собрать необходимые сведения, а между тем советовал мне побывать у Брандта. Этот Брандт служил начальником отделения в штабе путей сообщения и у него сосредоточены были все сведения о вакансиях. Этот же Брандт был когда-то (в мое время) преподавателем русской словесности в строительном училище, и я был его слушателем в 1846–1847 годах, и он же пописывал фельетоны в «Северной Пчеле» под псевдонимом Я. Я. Я.{96} Расставаясь со мною, Константин Иванович Марченко уверил меня, что ежели только подвернется подходящая вакансия, то он даст Чевкину обо мне самую лучшую рекомендацию, как об архитекторе, кончившем в 1848 г. первым курс наук в строительном училище. В этот же день, как праздничный, мы все, то есть я и брат с семейством, были приглашены на обед к Голеновским, куда я с этого же дня перевез и свой багаж, основав свою главную квартиру у Голеновских, так как их казенная квартира была громадной, и в ней для меня легко была отведена особая комната. Вечер этого дня провел я в семейно-родственном кругу. Во вторник и среду я рыскал по городу. Был в строительном училище. Конечно, никого из воспитанников не было уже мне знакомых, но с многими профессорами я увиделся и возобновил знакомство. Наконец, в среду, кажется, был и у Брандта. Сей муж принял меня отменно хорошо, потому что, занимаясь сам литературою, он был знаком и с моими братьями, а потому и дорожил их о себе мнением. Но, несмотря на это, результат моего визита был не совсем удачный, так как Брандт сообщил мне, что вакансий архитекторов вовсе нет, а есть вакансии архитекторских помощников, и то незавидные, в отдаленных местностях. Но он советовал мне, как и все видевшиеся со мною профессора, просить у Чевкина места, без указания вакансий, предсказывая мне в будущем (т. е. при открытии вакансий) — полный успех. Просить же ходатайства, или рекомендации генерала Ростовцева, никто не советовал, говоря, что Чевкин не любит рекомендаций. Но я, несмотря на это, все-таки не покидал мысли быть и у генерала Ростовцова. В четверг я опять был у К. И. Марченко, он сообщил мне, что есть вакансия архитектора в Москве в IV округе путей сообщения, и советовал мне опять пойти к Брандту и справиться об этой вакансии. Я сейчас отправился к Брандту и сказал ему о сообщении К. И. Марченко, но в ответ на это получил, что он, Брандт, не смел и упоминать об этой вакансии, равно как и об вакансии архитектора где-то в Сибири. Первое место, т. е. в Москве в IV округе путей сообщения есть место архитектора в чертежной, где нет никаких занятий по постройкам, и этот архитектор ведает только искусственной частью, т. е. составлением и рассмотрением проектов и чертежей, что на этом месте недавно состоял мой товарищ Бемгоцкий, который рад-радехонек был перевестись куда-нибудь, лишь бы не оставаться там. Выслушав это сообщение, я опять отправился к Марченко и заявил ему, что вовсе не желаю проситься на это место. Тогда и он посоветовал мне просить о месте Чевкина, не обозначая точно, о каком именно, а он будет иметь меня в виду. На вопрос же мой у Марченко, можно ли мне просить содействия генерала Ростовцева, Марченко отвечал, что это не мешает, так как Ростовцев состоит в большой приязни с Чевкиным и его рекомендация может быть очень полезной. Распрощавшись с Константином Ивановичем, я сообщил ему, что в субботу будет приемный день у обоих генералов и что я постараюсь быть у обоих. День пятницы 26 октября я просидел все время дома, то есть у сестры Саши, обдумывал и сочинял, а потом переписывал докладные записки к Чевкину и Ростовцеву. Во второй докладной записке к генералу Ростовцеву я распространялся несколько подробнее. Начав с того, что в 1849 году я был арестован, каковой арест впоследствии оказался ошибочным, я упомянул, что Ростовцев хлопотал за меня у графа Клейнмихеля, но что сей последний не внял этому ходатайству и в тот же год вышвырнул меня из своего ведомства, как носящего опальную фамилию, и откомандировал в военное ведомство с назначением городовым архитектором в г. Елисаветград. Далее я излагал, что, увидев всю неприглядность своей службы в военном министерстве в сравнении со службою своих товарищей по ведомству путей сообщения, я неоднократно просил графа Клейнмихеля о переводе меня опять в ведомство путей сообщения, но никакого ответа на свои просьбы не получал, и что неудачу свою по службе я вижу исключительно в своем ошибочном аресте, и что, наконец, я решился лично хлопотать о себе, для чего специально и приехал в Петербург.
На другой день, в субботу 27 октября, я спозаранку уже облекся в мундир и, дождавшись одиннадцати часов, отправился во дворец, занимаемый главноуправляющим путями сообщения. Дом этот тогда еще назывался дворцом в память того, что в нем жил в конце 20-х годов этого столетия главноуправляющий тогда путями сообщения герцог Александр Виртембергский. В 12-м часу я был уже на месте в огромной двухсветной зале. Прием уже начался. Было довольно много представляющихся, и я, став в конце, имел еще достаточно времени, чтобы оправиться. Генерал Чевкин{97}, обходивший представлявшихся, был человечек низенький, горбатенький, но чрезвычайно приветливый и мягкий в обращении. Дойдя, наконец, до меня, он спросил: «Что вам угодно?» Объяснив словесно все написанное в докладной записке, я подал ему ее. Прочитав всю записку, генерал Чевкин сказал:
— Очень рад, мой миленький (это его обычный привет), принять вас к себе на службу, тем более что вы окончили блестяще курс восемь лет тому назад, но на какую же вакансию вы проситесь, мой миленький?..
— Ваше высокопревосходительство, я приехал в Петербург из-за 1700 верст, из города, где даже не получаются приказы вашего высокопревосходительства, а потому я не могу знать о существующих по ведомству вакансиях.
— Этому легко помочь, я велю сообщить вам о всех существующих вакансиях, и ежели окажется подходящая для вас, то я с удовольствием предоставлю ее вам, ежели же не окажется, то нужно будет обождать… Я положу резолюцию на вашей докладной записке: «Иметь в виду». Это будет означать то, что при всякой открывшейся вакансии мне будут докладывать о вашем ходатайстве. Еще раз скажу, очень рад буду принять вас в свое ведомство, прощайте!
Отвесив глубокий поклон приветливому генералу, я почти бегом выбежал из дворца. Было уже ½ первого часа. Я взял первого попавшегося извозчика и велел везти себя на Васильевский остров в Кадетскую линию, где жил тогда генерал Ростовцев. Долгою показалась мне езда по слякоти и грязи, но, наконец, я подъехал к подъезду. Вижу из парадного крыльца валом валит публика… У меня так сердце и екнуло, верно, думаю, прием окончен. Но все-таки вхожу в переднюю. В приемной был дежурный адъютант генерала; увидевши меня, снимающего шинель, он подошел ко мне с вопросом:
— Вы к генералу?
— Да!..
— Опоздали, прием уже закончился!..
— Как же мне быть, мне очень нужно представиться к генералу, а будущего приема я дожидаться не могу, срок моему отпуску кончается… Ведь я издалека, из-за 1700 верст приехал!
Вероятно, эта моя тирада разжалобила адъютанта, и он участливо опять спросил:
— Вы известны лично генералу?
— Да, — решительно ответил я, — когда-то я был лично известен ему, и, вероятно, он меня вспомнит…
— Хорошо, подождите здесь в приемной, генерал теперь одевается, он сейчас едет к государю. Когда он оденется, я доложу ему о вас, и он, может быть, вас еще примет… Как ваша фамилия?
— Достоевский, архитектор Достоевский, — сказал я ему. Через несколько минут, вероятно, узнавши, что генерал уже оделся, адъютант вошел к нему в комнату. Слышу: «Достоевский?.. Что-то не помню… Скажите, чтобы обождал». У меня на сердце отлегло… Прошло минут десять, и я успел успокоиться и освоиться. Наконец дверь отворилась, и вышел генерал Яков Иванович Ростовцев{98} и прямо подошел ко мне…
— Что вам угодно, чем могу служить?..
Едва только я упомянул об обстоятельствах моего ареста в 1849 году, когда я имел честь быть ему известным, как генерал воскликнул:
— Как! Вы уже окончили свой термин и свободны, очень рад, очень рад!..
— Вы изволите ошибаться, ваше высокопревосходительство, я не тот Достоевский, который потерпел кару, но я Достоевский-младший, бывший арестованным по ошибке, и о котором ваше высокопревосходительство изволили писать графу Клейнмихелю…
— Помню, помню, значит, вы Достоевский 3-й… был еще кажется Достоевский 1-й, который оказался повинным, а вы взяты были по ошибке, помню, помню! Ну, что же вам угодно?..
Тогда я рассказал все изложенное мною в докладной к нему записке, которую я держал в руках. Он взял меня под руку и повел в соседнюю комнату, вероятно, для того, чтобы быть только вдвоем, с глазу на глаз. И когда я упомянул о поступке со мною графа Клейнмихеля, то я едва услышал его слова:
— Подлец!.. Но чем же могу я быть вам полезным, говорите не стесняясь!..
— Одного слова вашего высокопревосходительства к генералу Чевкину будет достаточно, чтобы он дал мне место в своем ведомстве, а этого я только и прошу.
— Вы были у генерала Чевкина?
— Да, я нынче же был у него, оттого и опоздал нынче представиться вашему высокопревосходительству, и генерал Чевкин обещался иметь меня в виду.
— Я очень, очень рад, что могу быть вам полезным… Я очень хорош с генералом Чевкиным и буду его лично просить о вас. Очень, очень буду рад, ежели мне удастся быть вам полезным, и Чевкин все возможное сделает для меня. Что это у вас в руках?..
— Докладная записка к вашему высокопревосходительству.
— Вы все поместили в ней, о чем мне говорили?
— Да, я осмелился все изложить в ней, о чем говорил вашему высокопревосходительству…
— И отлично, так дайте сюда вашу записку, — причем он развернул и прочел ее. — Записку эту я передам лично генералу Чевкину, и из нее он узнает о причине вашего перевода в военное ведомство. Я все сделаю для вас, что могу… а теперь мне некогда, прощайте!..
Я почтительно поклонился генералу, и он вышел ранее меня из дому, и когда я вышел после на парадное крыльцо, то видел только его удаляющуюся карету.
При выходе из приемной генерала, адъютант его очень радушно поздравил меня с полною удачей, а я поблагодарил его за его любезность и внимание.
Я был точно ошеломлен любезностью и добротою ко мне генерала Ростовцева. Я имел некоторую надежду на то, что буду принят, но такого радушного приема я не только не ожидал, ни даже и в своих мечтах, в своих воздушных замках не мог себе представить.
Нет ничего хуже, нет ничего скучнее для прежнего постоянного жителя Петербурга, каковым был я, как приехать в него на несколько дней, собственно для деловых хлопот, в особенности при таком характере, как у меня. Прожив почти целую неделю в Петербурге, я ни о чем более не думал, как о своем деле. Самые развлечения и родственные отношения были для меня не так интересны, потому что я единственно думал о своем устройстве на службу. Теперь же, вышед от генерала Ростовцева, я почувствовал себя вполне спокойным и вполне свободным, как усердный школьник чувствует себя после последнего удавшегося экзамена… Но я вспомнил, что мне надобно еще быть у К. И. Марченко, чтобы сообщить ему о своих представлениях и поблагодарить его за совет и участие. Был еще только второй час в начале, а потому, чтобы покончить со всеми вообще делами, я сейчас же взял извозчика и поехал к полковнику Марченко.
— Ну что?.. Что новенького?.. Как сошли ваши представления к генералам, — участливо спросил он, увидя меня вошедшим.
Я рассказал ему в подробности как о представлении к генералу Чевкину, так, в особенности, и про представление к генералу Ростовцеву. Выслушав меня подробно и переспросив о некоторых выражениях, не совсем ему понятных, он, наконец, сказал мне:
— Ну, поздравляю вас с полнейшим успехом, я хорошо знаю генерала Чевкина, он не любит только обещать, но любит исполнять обещанное. Ежели он сказал, что ему при всякой вакансии будут напоминать о вас, то это совершенно будет точно исполняемо. Что же касается до ходатайства такого влиятельного человека, как генерал Ростовцев, то оно только усилит желание Чевкина исполнить вашу просьбу. Теперь вы можете спокойно отправляться в Елисаветград. Особо спешить вам нечего. Вы еще на службе, а потому выберете себе местечко по вкусу и тогда просите о нем. В случае же, ежели это очень замедлится, вы можете опять писать и Чевкину и Ростовцеву.
Я откланялся добрейшему Константину Ивановичу и с тех пор не видал его до 1865 года, то есть опять девять лет… Но об этом свидании после…
Выйдя от Марченко и закончив все свои официальные визиты, я поехал (а не пошел, от радости, я весь этот день пешком не ходил, а все ездил) к брату Михаилу Михайловичу, которому рассказал о всем случившемся со мною в этот день. У него я обедал, а после обеда мы, кажется, опять вместе с братом отправились на вечер к Голеновским. Тут опять мне пришлось рассказывать о моих хлопотах, и все меня поздравляли с полною удачею… Ночевал я, по обыкновению, у сестры, а на другой день утром, 28 октября, написал объемистое письмо в Елисаветград к Домнике, в котором описал все случившееся со мною, а главное, во всей подробности мои явки к генералам Чевкину и Ростовцеву.
Последние два дня пребывания моего в Петербурге я провел спокойно, отдыхая и осматривая петербургские новинки. Я два раза был в театре, один раз в опере итальянской (давали «Риголетто»), тут я был даром в ложе брата и сестры, которые сообща были абонированы на весь зимний сезон, а другой раз в Александринском театре в складчину, где не помню, что давали. Новинок в Петербурге оказалось очень мало с 1849 г., когда я его покинул. В это семилетие он очень мало изменился. Исаакиевский собор хотя и близок был к концу, но еще не был окончательно готов и освящен. Его освятили только 30 мая 1858 года, т. е. еще спустя полтора года после моего пребывания в нем в 1856 году. Снаружи он был почти готов, и я любовался им. Из новинок было то, что вблизи Исаакия строили памятник императору Николаю I. Делали еще только фундамент. Проект же памятника я видел в строительном училище. Он решительно не понравился мне. Что за идея была представить императора на коне в полной парадной кавалергардской форме, как будто бы на каком-нибудь параде?.. Как будто император этот только и занимался парадами и разводами, как желчно писал об этом тогда Герцен в своем «Колоколе»? Когда я рассказал свои впечатления брату Михаилу Михайловичу, то он совершенно был со мною согласен, что идея памятника неприглядна, и притом высказал: «А знаешь ли, какую надпись для памятника сочинили здесь в Петербурге?» — «Какую?» — «А вот какую: „Императору Николаю I благодарная Россия за 18 февраля 1855 года“».{99} Действительно-то скандальная надпись эта была измышлением Герцена. Здесь, кстати, отмечу, что тогда же я услыхал курьезное четырехстишие следующего содержания:
Ставят памятник отцу, Стало дочери конфузно, Что такому молодцу Ей пришлось смотреть все в гузно[32].Кстати, о «Колоколе» Герцена{100}. Это издание было очень распространено в России в первые годы после смерти императора Николая и, несмотря на запрещение этого листка, он как-то проникал всюду. Достаточно того, что на одной почтовой станции от Курска к Харькову я на столе в общей комнате для приезжающих, к удивлению своему, нашел один из современных номеров «Колокола». Вероятно, распространители этого журнала нарочно оставляли номера его во всех подходящих местах. Станционный же смотритель и не подозревал, что это издание запрещенное. И в каждом-то номере этого «Колокола» помещались страшные нападки и инсинуации на покойного императора. Так, «Колокол» окрестил его названием Незабвенного, и как «Колокол» в первое время, то есть приблизительно до эпохи освобождения крестьян, был с удовольствием читаем в России, то название Незабвенного чуть-чуть было не привилось окончательно. Нередко было услышать в разговорах лиц самых благонамеренно-консервативных выражения вроде следующих: «Это было при Незабвенном…» и «При Незабвенном таких порядков не бывало!..» и т. п.
Помню, что в мое же пребывание в Петербурге мы узнали о радостной для нас вести, т. е. о производстве брата Федора Михайловича в чин прапорщика{101}. — Теперь до всепрощения его оставалось уже недолго, и можно даже было помышлять об этом.
Наконец 30 октября, во вторник, я окончательно распрощался с Петербургом впредь до 1864 года. С братом, увы, распрощался навеки! Его я уже более не видал. Он скончался, как об этом будет изложено ниже, в 1864 году.
Выехав из Петербурга 30-го утром, я утром же 31-го, в среду, был опять в Москве.
Приехав в Москву, я передал, конечно, всем нашу общую радость по поводу производства брата Федора Михайловича в прапорщики. Все были очень обрадованы этим, а дядя за обедом велел матушке-теще (так звал он бабушку Ольгу Яковлевну) распорядиться насчет шампанского. Все мои родные остались тоже очень довольными результатом моих хлопот относительно места, и все были уверены, что при обещании Чевкина и Ростовцева я долго не останусь в Елисаветграде.
Но вот, наконец, наступил канун моего отъезда. В понедельник 5 ноября я пообедал у тетушки и распрощался с добрыми дядей и теткой, — с первым уже навсегда, потому что он скончался в 1863 году. С теткой я еще виделся, но уже не с той умной и компетентной женщиной, а со старушкой, терявшей память и день ото дня с ослабевавшей головою.
Въехал я уже в Малороссию, т. е. в Полтавскую губернию, чуть свет в понедельник 12 ноября, проехал Полтаву и часов в 9 утра подъезжал к Решетиловке.
Но вот недалеко уже от дома… И вот я уже в объятиях дорогой семьи…
Наступил 1857 г., и 3 февраля, в воскресенье, Бог дал нам сына. Радость наша не имела пределов, и мы тут же порешили назвать нашего первого сына именем Александра,{102} в честь молодого государя, плодотворные действия которого и тогда уже предвещали те великие преобразования, которых мы были свидетелями впоследствии.
В октябре месяце я получил письмо от брата жены из Симферополя, в котором он уведомляет меня, что в Симферополе, т. е. в Таврической строительной и дорожной комиссии открывается вакансия архитектора для производства работ, а потому советовал не упускать времени и прямо хлопотать об этом месте в Петербурге.
Узнав об этом, я тотчас же написал докладную записку прямо главноуправляющему Чевкину, с просьбой о предоставлении этой вакансии мне.
Наступил новый 1858 год, я чувствовал и почти был уверен, что это последний новый год, встреченный мною в Елисаветграде. Так оно действительно и случилось. В феврале месяце я получил из штаба корпуса путей сообщения бумагу, уведомляющую меня, что в Симферополе вакансии нет и что мне предлагается должность производителя работ вместо инженера в Харьковской строительной и дорожной комиссии. Я согласился на это предложение и стал мечтать уже о Харькове.
Между тем мой брат, Николай Михайлович, который в то время служил уже в Петербурге и по моей просьбе следил за ходом моего дела, уведомил меня, что вакансия в Симферополе все-таки открылась и что Чевкин прямо назначил ее мне и приказал уже сделать по этому поводу соответствующие распоряжения.
По получении известия о скором своем переводе, ясное дело, у меня уже не лежало сердце к работе в Елисаветграде, а тут, как нарочно, подошли занятия по давно скопившимся в полиции делам по оценке недвижимых имуществ, т. е. домов, и я почти ежедневно в продолжение всего поста целые утра производил эти оценки.
12 апреля 1858 г. у нас родилась дочь Варвара.{103} В начале июня было получено в Елисаветграде официальное извещение о переводе меня в Симферополь, и с этого времени я de facto перестал быть городовым архитектором.
Первое, что озабочивало меня, это вопрос, в чем мы поедем. Едущих было: я, Домника, батюшка, трое детей, нянька и девочка Маша, следовательно, пятеро взрослых и трое малолетних. Дети были еще очень малы: старшей Женечке было около 6 лет, Саше около 1 ½ года, а Варечке всего лишь три месяца.
Мне удалось присмотреть случайно продававшуюся старую карету, постройки 30-х годов, которую я и купил за 50 рублей. Это был целый Ноев ковчег. И вот в назначенный к отъезду день, 15 июля, к 1 часу дня шестерик почтовых лошадей с ямщиком и форейтором были в совершенной готовности. Мы разместились в карете, и лошади легко сдвинули и покатили наш рыдван, который только покачивался из стороны в сторону на своих крепких и упругих круглых рессорах.
КВАРТИРА СЕДЬМАЯ
СЛУЖБА И ЖИЗНЬ В Г. СИМФЕРОПОЛЕ С ИЮЛЯ 1858 ГОДА ПО МАЙ 1860 г.
Первые впечатления в городе были для меня самые благоприятные. Все мне нравилось — и маленький чистенький городок, и климат, и люди. Говорю «и люди», не ознакомившись еще с ними, ввиду того, что в массе народа не было того подавляющего количества военных, которые встречались повсюду в Елисаветграде, так мне надоевшем.
Мы водворились в квартире брата жены М. И. Федорченко.
На другой же день, т. е. 19 июля 1858 г., в субботу, я, облекшись в мундир, явился по начальству: к губернатору, вице-губернатору и в строительную комиссию. В сей последней, по случаю субботы, никого не застал, а потому в воскресенье 20-го, облекшись во фрак, сделал визиты сослуживцам. Губернатор принял меня сдержанно, но приветливо. Это был генерал-лейтенант Григорий Васильевич Жуковский{104}.Он был назначен губернатором по окончании Турецкой войны, кажется, в 1856 или 1857 г., следовательно, был тоже внове в этой местности. Быв назначен без всякого подготовления, прямо из военных генералов, он, как очень умный человек, разом понял всю беспомощность своего положения, так как увидел во всех окружающих его людей ему несимпатичных. При здравом уме он соединял качество безупречной честности, а потому не мог терпеть около себя людей, живущих на счет нежно-любимого отечества. В таких обстоятельствах он оставил на время при себе бывшего правителя канцелярии, а сам начал учиться и учиться. С небольшим через год или два он достиг того, что мог сплавить бывшего правителя канцелярии и взять себе человека по душе. Он сделался очень популярным человеком ежели не между чиновниками, то во всем симферопольском обществе, равно как и жена его Екатерина Ивановна. Замечательно притом, что их никто не звал губернатором или губернаторшей, генералом или генеральшей (как других губернаторов), а называли не иначе как Григорием Васильевичем и Екатериною Ивановною. Они, кажется, были бездетны, по крайней мере, при них детей не было. Григорий Васильевич все время пребывания моего в Таврической губернии, т. е. в продолжение 1 ¾ года, был ко мне очень любезен и внимателен, и по его отличной аттестации меня главноуправляющему Чевкину, сей последний повысил меня сейчас же в должности (как и обещал), назначив меня губернским архитектором в Екатеринослав; но об этом после.
Скажу несколько слов о строительной и дорожной комиссии. Ее деятельность надо отнести к режиму старых, понемногу отживавших свой век учреждений, любивших попользоваться на счет нежно-любимого отечества. Конечно, я понимаю при этом казенных заправил комиссии, а не молодых техников, которые только состояли тогда при комиссии. Об упомянутом направлении комиссии я узнал подробно, бывши уже в Екатеринославской губернии, в свое же пребывание в Симферополе я ничего об этом не слыхал, потому что, как неоднократно уже упоминал, большую часть времени провел в разъездах по уездам. Во время моего пребывания в Таврической губернии вышло высочайшее повеление об отдаче частным лицам построек на их счет зданий для присутственных мест, тюрем и других казенных помещений. Главные основания сего нового закона были следующие:
1. Частные лица строят на свой счет сказанные помещения по проектам и сметам, утвержденным правительством.
2. Выстроенные таким образом здания, как собственность владельцев, отдаются казне в наем на срок не менее 30 лет за ежегодную плату, объявленную в контрактах.
3. В пособие предпринимателям построек выдается из казны ⅓ часть сметной суммы, которая затем с процентами вычитается из наемной платы, следуемой владельцам.
Это суть главные условия. Казалось бы, что может быть выгоднее для казны таковых построек? Казна, ни копейки не тратя (кроме ⅓ части ссуды, которая с процентами ей возвращается) как на постройку зданий, так и на их ремонт, имеет помещения, вполне приличные и соответствующие назначению. На самом же деле было далеко не так, и в результате выходило, что выгодный во всех отношениях для казны прием построек обращался в крайне убыточный абсурд.
Как только мы освоились немного в новом городе, как нашими первыми знакомыми оказались учителя гимназии, товарищи моего шурина Михаила Ивановича. Это были все молодые и интересные люди. И между ними был Николай Осипович Фену, учитель французского яз. Впоследствии он оставил свое учительство и, переселившись в Петербург, мало-помалу принялся за коммерцию, и теперь его книжный магазин на Невском и торговля учебными пособиями чуть ли не лучшая во всем Петербурге.
Первым возложенным на меня по службе поручением был надзор за постройкой мостов в колонии Альтенау. Колония Альтенау находилась на почтовом тракте от Мелитополя в гор. Орехов. Эта колония принадлежала к менонитскому обществу колонистов. При въезде в нее стоял каменный столб в виде обелиска с изображением двух рук, жмущих одна другую, и с надписью: «Menoniten Bruderschaft». Эти менониты составляют какую-то секту от лютеран, и должно отдать им справедливость, что они гораздо симпатичнее чистых немцев. Приехав из Симферополя в Альтенау, нанял очень хорошенькую комнатку, окнами на большую дорогу. Большие дороги на все протяжение, по которому идут колонии, содержатся в отличной исправности и почти все шоссированы, и вообще довольство и зажиточность колонистов видны на каждом шагу. Самые домашние работы, как, например, рубка капусты, убой свиней, изготовление колбас и приготовление окороков, мытье белья и т. п. манипуляции, исполняются у них сообща, двумя-тремя соседними семействами. Так, например, при мытье белья соединяются не менее трех семейств вместе и моют и убирают его сообща сперва в одном доме, потом в другом и, наконец, в третьем. То же соединение происходит и при убое свиней и прочих работах, отчего работы идут скорее и успешнее. Расчетливы и даже скупы они во всем, даже до смешного. Раз как-то я возвратился с прогулки поздно вечером, когда уже хозяева мои легли спать. На стук мой мне открыла молодая хозяйка в Евином костюме и, нисколько не стесняясь, зажгла и подала мне свечку. Оказалось, что они спят все нагими и притом зимою и летом одеваются не одеялами, а легкими пуховыми перинами. Как-то у меня зашла об этом речь с хозяевами, и сам хозяин объяснил мне, что этак все они привыкли спать, что ночью стыдиться некого, потому что все спят, да к тому же и темно, а что белье вследствие этого обычая служит двое дольше.
Мне не позволяли долго засиживаться дома, и потому я постоянно был в разъездах. При таких обстоятельствах наступил 1859 год.
К этому времени я, наскучив ездить на перекладных телегах, завел себе маленький, крытый парный тарантасик (на дрогах), по местному названию паклет. Этот экипажик был очень легким на ходу и, по местному обычаю, не с оглоблями, а с дышлом. Он сослужил мне порядочную службу в Таврической губернии.
Пасхальную неделю 1859 г. и первые три дня Фоминой недели я пробыл дома. Во вторник или в среду на Пасхе я был приглашен к губернатору на парадный завтрак. Все сливки служащего люда были у него, и собралось человек 35–40. Завтрак официально был назначен в 2 часа дня[33], а прошло уже и четверть третьего, а за стол не садились, и хозяин все только поглядывал на часы и, наконец, сказал:
— Поджидаю Фабра, но что-то нет его… Уж будет ли?
Тут кто-то из гостей заметил:
— Ежели ваше превосходительство ожидаете Фабра, то едва ли он скоро будет, я сейчас проходил мимо его квартиры и видел, что его белые с лампасами брюки еще проветриваются на дворе.
— Ну, нечего делать; семеро одного не ждут. Милости просим, садитесь, господа, — сказал хозяин.
Но только что мы уселись, как появился Фабр. Я давно уже слышал множество рассказов про живущего в Симферополе на покое бывшего екатеринославского губернатора, но мне ни разу не приходилось его видеть, а в этот день я с ним познакомился: говорю познакомился, потому что Григорий Васильевич меня представил ему, и после этого, встречаясь на улице, Фабр всегда останавливался и говорил со мною.
Итак, Фабр вошел{105}. Григорий Васильевич усадил его возле себя с правой стороны. Это был еще бодрый старик, сухощавый, высокого роста, с маленькой головой, гладко, под гребенку, остриженной и еще полной седых волос. Одет он был в мундир с тремя звездами и действительно в белых с лампасами брюках. Как только он уселся на место, то не только общий разговор, но и частные, между отдельными лицами разговоры прекратились. Все обратились в слух, а говорил один Фабр. Да как говорил! Говорил, как заведенные гусли, много, безостановочно, красноречиво и интересно. Говорил не про одно какое-либо происшествие, не про одну какую-либо историю, а говорил игриво, иногда с юмором, перебегая от одной истории к другой. Все время завтрака прошло незаметно, одушевленно и весьма весело, и был слышен говор только одного человека — Фабра. И после завтрака за кофе, когда все встали из-за стола, Фабр умел сгруппировать около себя всю публику.
Впоследствии, бывши уже в Екатеринославе, я слышал про Фабра, как бывшего губернатора, множество анекдотов. Чтобы покончить с этою личностью, расскажу некоторые из них; но сперва замечу, что Фабр был тайный советник, главную последнюю службу свою, до губернаторства, отбывал в Одессе, при князе Воронцове правителем генерал-губернаторской канцелярии, и оттуда как для успокоения, так и для почета был назначен губернатором в Екатеринослав. Он был женат, но с женою разошелся и с нею не жил.
В г. Екатеринославе, где губернаторствовал Фабр в конце 50-х годов, существовал еще старый деревянный губернаторский дом, где и жил губернатор. В 1860 году, когда я приехал в Екатеринослав, то дом этот был уже необитаем и предназначен к сломке. Вот в одно из весенних времен была произведена мелочная починка деревянной крыши, на незначительную сумму. Для освидетельствования этой произведенной работы Фабр назначил всех технических деятелей строительной комиссии. В назначенный день и час являются в губернаторский дом все техники строительной комиссии осматривать работу и находят ее произведенною добропорядочно. Затем велят доложить о своем приходе губернатору. Этот приглашает всех свидетельствующих к себе в кабинет. Свидетельствующие входят и видят картину: за письменным столом, за кипою бумаг сидит Фабр под сенью большого дождевого зонтика.
— Что вам угодно, господа?
— По приказанию вашего превосходительства мы свидетельствовали работы по исправлению крыши.
— Ну и что же?
— Работы произведены добропорядочно, ваше превосходительство, но крыша вообще плоха.
— Ну, а течи не будет, по крайней мере, у меня в кабинете?
— За это можно ручаться.
— Ну, так очень вам благодарен; значит, я могу сложить зонт, а то все время занимаюсь под зонтом, боясь течи. Мне-то ничего… но казенные бумаги… понимаете, господа, «казенные», должны быть в сохранности.
На тот же губернаторский дом отпускалась довольно значительная сумма на отопление, и сумма эта отпускалась в полное безотчетное распоряжение губернатора, как бы добавок к жалованью. Ввиду того что многие комнаты были необитаемы и не отапливались и ввиду того что со дня на день дожидались, что дом этот будет признан вовсе неудобным по своей ветхости для жилья, — Фабр не заготовлял годовой пропорции дров, а время от времени покупал их на базаре по несколько десятков возов, которые и расходовались с большой аккуратностью. Истопником печей был его же камердинер. За кабинетом губернатора была большая необитаемая комната, которую он обратил в кладовую и которая постоянно была на запоре, а ключ от нее был у самого Фабра. Вот когда рано утром разнесут дрова по печам, то Фабр, удалив под каким-нибудь предлогом камердинера, обойдет все печи и по несколько полен от каждой унесет и спрячет в кладовую. Через несколько времени выходят все дрова, и камердинер является к Фабру с докладом, что все дрова вышли и топить нечем.
— Как вышли?.. Как нечем?.. Этого не может быть!
— Право все вышли, — начинает чуть не божиться камердинер.
— Не может быть, не может быть! — настаивает Фабр. — Молись, почтеннейший, Богу, — вероятно, дрова окажутся.
И вот, зная чудачество своего барина, лакей становится на колени и начинает молиться… В это время Фабр отпирает свою кладовую и, указывая на дрова, говорит:
— А это что, разве не дрова? Посмотри… более чем на неделю станет… а ты говоришь нет дров! Теперь понимаешь, что значит экономия?
Всем техникам строительной комиссии через каждые три месяца выдавались казенные подорожные для разъездов по губернии. В это время был в комиссии непременный член, заведующий хозяйственной частью, некто Мицкевич. Он был родной брат Мицкевича, игравшего видную роль при главном управлении у Клейнмихеля, и потому был в фаворе у губернатора. У этого Мицкевича была усадьба близ Екатеринослава, и ему очень выгодно было бы иметь казенную подорожную, вследствие чего он и просил правителя канцелярии Михаила Матвеевича Козубского выхлопотать ее у губернатора. Козубский же вместо доклада об этом губернатору, рассчитывая, что Фабр не будет читать печатных бланков подорожных, всучил для подписи губернатору подорожную для Мицкевича, как будто для техника. Но, подписав все, Фабр, достигнув злополучной подорожной, почувствовал у себя под носом кофейную каплю (он нюхал табак) и, чтобы устранить ее, вынул из кармана платок и в это время успел невольно разглядеть фамилию Мицкевича.
— Вы, мой почтеннейший Михаил Матвеевич, какой имеете чин?..
— Коллежский асессор, ваше превосходительство.
— Мммммм… коллежский асессор! В таких молодых летах и уже штаб-офицер! Вот что значит университетское образование!
Козубский молчит, как воды в рот набравший, и предчувствует уже что-то недоброе.
— Ну, конечно, мой почтеннейший, вы на этом не остановитесь. С вашим образованием, с вашими способностями вы пойдете далее и далее; лет через пять-шесть будете советником, а там и вице-губернатором… и, конечно, достигнете и губернаторства!.. Ну а губернатор, мой почтеннейший, должен поддерживать связи и часто ездить в Петербург… И вот в одну из ваших туда поездок, перед въездом в Петербург, на заставе останавливают ваш экипаж, и высокий, седой гренадер подходит к окну вашей кареты и говорит: «Пожалуйте, ваше превосходительство, ваш вид для прописки»… Вы выглядываете из окошка, всматриваетесь в гренадера и невольно восклицаете: «Фабр! Это ты? Как сюда попал?» — «Неправильно и противозаконно подписал подорожную и за то разжалован в солдаты…» — Так как же ты, такой-сякой… смел подводить меня под ответственность?! Вон!!
Козубский убежал, не слыша под собой ног, и сейчас же рассказал обо всем Мицкевичу. Тот поехал к Фабру, объяснил ему, как было дело, и тут же получил просимую подорожную, а Козубский долгое время боялся показаться на глаза к Фабру.
В разгар военных действий в Крыму в Екатеринослав начали присылать большими массами раненых русских воинов. Во многих из обывательских домов были отведены помещения под лазареты. Один из богатейших домов, хорошо отделанный и роскошно убранный внутри, который служил только под отвод для квартир знатных посетителей города, в конце концов тоже был предназначен под лазарет для больных и раненых. Владелец дома, купец Белявский, идет к Фабру и просит его об освобождении своего дома от лазаретного помещения.
— Не могу, мой почтеннейший Белявский, ведь это последствия войны, мы все должны успокаивать раненых, да к тому же это распоряжение главнокомандующего… Вы понимаете, глав-но-ко-ман-дующего, — растягивает Фабр. — Главнокомандующий повелел!.. Что значит перед ним несчастный Фабр?! Главнокомандующий дунет… фьють… и нет Фабра, и не будет Фабра!.. Ведь что такое Фабр перед главнокомандующим?.. Ведь вот что, — показывает ему два пальца, сложенные в виде нуля, — вы понимаете, что это такое, мой почтеннейший Белявский?..
— Бублик, ваше превосходительство!
— Сам ты бублик, — закричал Фабр, убедившись, что богатый коммерсант уже хлопнул порядочно, — убирайся вон!!
Фабр имел обыкновение принимать всех просителей не в приемной, а у себя в кабинете. Вот однажды, уже не в первый раз, явилась к нему с какою-то просьбой одна молодая дама. Фабр, не находя возможным удовлетворить почему-то просьбы этой просительницы, все время ей отказывал в ее ходатайстве.
— Я вас убедительнейше прошу, ваше превосходительство! — настаивала дама.
— Не могу, сударыня, не могу! — отказывал Фабр.
— Ваше превосходительство, что для вас значит, исполните мою просьбу!..
— Не могу, сударыня, я уже сказал, что не могу!
— Ну, так я вам приказываю. Подпишите вот здесь ваше разрешение (вынимая и показывая ему заранее заготовленную бумагу) — сейчас же, а не то… иначе я… закричу и расскажу всем, что вы склоняли меня на преступную связь!.. — причем она мгновенно растрепала свою прическу и расстегнула корсаж своего платья.
Увидев это, Фабр, при всем своем уме, пришел в тупик и, убоявшись скандала, который действительно мог произойти, тем более что он жил в разводе со своей женой, не говоря ни слова, подписал свое разрешение. Но с тех пор, как рассказывали, перестал уже принимать в кабинете не только дам, но и малознакомых мужчин. Но будет о Фабре.
В конце января, уже 1860 г., мне дали командировку, и на этот раз очень приятную, — в Севастополь и Ялту. Эта поездка представлялась настолько интересной, что и жена захотела прокатиться вместе со мною. Мы посетили многие места южного берега…
В марте месяце 1860 г. я был приятно удивлен совершенно неожиданным официальным извещением о переводе меня в Екатеринослав на должность губернского архитектора.
Проведя пасхальную неделю в отдыхе, я с Фоминой начал усиленно собираться в дальний путь-дорогу со всем семейством, т. е. к переселению в Екатеринослав. Но в этот раз сборы были не столь затруднительны, как два года назад, при переезде из Елисаветграда в Симферополь, и не так суетливы — мы уже привыкли к переездам. Начать с того, что карета была снова готова служить нам. Мою повозку или паклет оставил за собою батюшка, уплатив мне за нее деньги. Часть мебели пришлось продать, а часть вместе с сундуками и проч. пожитками отправить на отдельной подводе.
Наконец, настал и день выезда, т. е. 24 апреля. К 8 часам утра карета была уже готова, запряженная шестериком лошадей. Мы уселись в свой рыдван и покинули Симферополь в 9-м часу утра.
КВАРТИРА ВОСЬМАЯ
ПЕРЕЕЗД В ЕКАТЕРИНОСЛАВСКУЮ ГУБЕРНИЮ. СЛУЖБА И ЖИЗНЬ В Г. ЕКАТЕРИНОСЛАВЕ С МАЯ МЕСЯЦА 1860 ГОДА ПО МАЙ МЕСЯЦ 1865 ГОДА
Приехавши в Екатеринослав, мы велели себя везти в лучшую гостиницу в городе. Разместившись кое-как в двух комнатах гадкой и грязной гостиницы, мы рады были очень, что дотащились наконец до места.
Но, впрочем, размыслив, мы пришли к убеждению, что наше путешествие, благодаря Богу, не только совершилось благополучно, но и довольно скоро. С большим семейством в грузном экипаже мы сделали 452 ½ версты в течение 3 ½ суток. На другой день, т. е. в четверг 28 апреля, я вышел из номера гостиницы очень рано, взял извозчика и объездил все более или менее видные улицы и, таким образом, хотя мельком, познакомился с физиономией города. Сказать по правде, внешний вид города мне не слишком понравился. После безукоризненно чистенького Симферополя Екатеринослав показался и грязным, и худо обстроенным, но значительно большим. Одно, что мне кинулось в глаза, — это Большая бульварная улица, прорезывающая город по всей длине его. Посреди ее устроено шоссе, по бокам которого идут в два ряда аллеи, обсаженные деревьями белой акации и каштановыми. Лучшие строения города находятся на этой улице.
После беглого ознакомления с городом мне предстояло знакомиться с обществом. Но, собственно говоря, я уже познакомился как с обществом города Екатеринослава, так и с бытом и жизнью города. Дело в том, что, еще не выезжая из Симферополя, я перечитал с большим вниманием ряд только что вышедших так называемых обличительных повестей и рассказов даровитого писателя Елагина{106}, уроженца и жителя г. Екатеринослава, печатавшихся в книжках журнала «Современник» в конце пятидесятых годов. Повести эти следующие: «Откупное дело», «Важное мертвое тело», «Губернский карнавал» и др. В повестях этих как в зеркале изображены многие из личностей города Екатеринослава с легко измененными фамилиями, так что мне оставалось только сличить оригиналы со списками и решить, насколько верно и искусно сделаны последние. Должен сказать, что дальнейшие мои наблюдения привели меня к убеждению, что ко всем сказанным елагинским повестям очень подходил бы эпиграф, приведенный в комедии «Ревизор», а именно: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». Все личности в повестях Елагина были фотографически, и ежели можно так выразиться, зеркально-подобны оригиналам.
Возвратившись с прогулки домой и поделившись впечатлениями с женой, я тотчас же облекся в мундирную пару и отправился явиться по начальству к губернатору и вице-губернатору.
Губернатор граф Александр Карлович Сиверс{107} (по Елагину и впоследствии по «Искре», граф Бородавкин). Это был человек еще не старый, смотря по занимаемому им посту, лет 40, не более. Он был вдов, имел двух маленьких дочек, при которых жила его родственница (кажется, тетка) Алябьева. Сиверс был очень симпатичной наружности с большою бородавкой на лице (отчего и назван Бородавкиным). Он слыл Дон Жуаном в городе. Как губернатор был очень и очень опытным администратором и с подчиненными был очень вежлив, хотя и держал себя на высоте своего положения. Он принял меня очень любезно, высказав, что, бывши недавно в Петербурге, он слышал в Главном управлении обо мне очень много хорошего и что он уже давно ожидал моего приезда, тем более что и постройки ожидают меня в г. Екатеринославе. Дело в том, объявил он, что в городе предстоит постройка нового гостиного двора, которую он и хотел бы возложить на меня. Постройка эта предполагалась к производству несколькими купцами-торговцами под один общий фасад вдоль по Большой бульварной улице. При этом он заметил, что постройка эта не казенная, а совершенно частная, и так как будет производиться несколькими лицами, то чтобы я не сплошал, а выговорил бы себе гонорар, вполне обеспечивавший мои труды, не от каждого участника постройки отдельно, а со всего общества строителей гуртом. Далее он полюбопытствовал о том, семейный ли я и, узнав, что семейный, спросил, где я остановился. Услышав о гостинице, он сказал, что это настоящий вертеп, и тут же познакомил меня с явившимся к нему с докладом полицмейстером подполковником Давидом Тимофеевичем Гескет, которого и просил оказать мне содействие в приискании квартиры. О моих будущих сослуживцах, т. е. о деятелях строительной комиссии, он отзывался очень сдержанно, вероятно, предоставляя мне самому ознакомиться с ними, без всякого с его стороны вмешательства. Но, впрочем, он сообщил мне, что в строительной комиссии нет в настоящее время непременного члена, заведующего искусственным отделением, т. е. инженера, и что мне придется заведовать отделением впредь до назначения нового инженера, так как бывший инженер, весьма симпатичная личность, подполковник Миллер-фон-Эреншвунг в недавнее время умер. В заключение он советовал мне, освоившись, заняться ознакомлением с делами комиссии, где за последнее время обозначилось много запущенного. Вообще прием графа Сиверса был очень приятный и вполне обвороживший меня. К сожалению, граф Сиверс оставался при мне в Екатеринославе не очень долгое время. О преемниках его расскажу в свое время и в своем месте. От губернатора я двинулся к вице-губернатору.
Вице-губернатор — статский советник Михаил Михайлович Большев (по Елагину, Меньшев). Это был человек пожилой, старый моряк, променявший компас на перо, но оставшийся в душе моряком. Добрейший и простой человек, был всеми любим в городе. При мне он был очень не долго, так что к осени 1860 года он был уже не у дел, и его заменил новый, коллежский советник Николай Иванович Баранович. Этот господин был вице-губернатором почти во все время пребывания моего в Екатеринославе. Это был человек очень дельный, поступивший к нам на место вице-губернатора из начальников отделения канцелярии бессарабского генерал-губернатора, а потому был очень сведущим человеком. По причине частой перемены губернаторов, Баранович часто и подолгу управлял губернией, и потому и я часто имел с ним сношения, ибо в тогдашнее время вице-губернаторы имели соприкосновение со строительными комиссиями только тогда, когда они исправляли должность губернаторов. О Барановиче мне не раз придется упоминать в своих воспоминаниях, а теперь закончу о нем тем, что он был человек болезненный, часто недомогал и вследствие болезни должен был оставить в начале 1865 года свою должность, и на его место с начала 1865 года поступил опять новый вице-губернатор — Александр Николаевич Лещов. Об этом новом вице-губернаторе я ничего не могу сказать, потому что до выезда моего из Екатеринослава мне привелось и видеть-то его всего раза два-три.
Затем я познакомился и со всеми членами строительной комиссии.
Между тем и работы мои начались производством. Два корпуса каменного гостиного ряда были начаты сразу. Отбивка линий, а затем и наблюдение за кладкою фундаментов заставляли меня вставать рано для обхода сказанных построек. Сверх того, граф Сиверс возложил на меня заведование арестантскою ротою и работами, производимыми арестантами по городу. Тогда было не то, что теперь. Городские работы все без исключения производились арестантами бесплатно. И вот под моим надзором и наблюдением начали моститься городские улицы, которые были почти все немощеные, кроме шоссированной улицы большого Екатеринославского проспекта. Для этого мощения арестанты предварительно должны были наломать дикого камня на берегах Днепра (булыжного камня не было), а иногда взрывать его порохом, перевозить добытый таким образом камень на городских воловых подводах на городские улицы, подлежащие мощению, и, наконец, производить самые работы по мощению улиц. Все это было довольно хлопотливо. Каждый вечер ко мне приходил из арестантских рот старший конвойный с рапортичкой о числе арестантов, и я каждый вечер назначал, сколько, каких арестантов и куда именно отослать на работы. Сверх того, нужно было ежедневно побывать во всех местах арестантских работ и изредка съездить на место каменной ломки. Но многочисленная работа, в особенности в молодых летах, никогда меня не затрудняла, и я никогда не тяготился ею. С купцами, начавшими постройку лавок, я сговорился по поводу гонорара и был доволен им вполне. При таких обстоятельствах я, как выше сказано, сделал обычай вставать очень рано, а именно в пятом часу утра и в пять выходить из дому еще до чаю.
В один из таких обходов по городу я как-то встретился часу в 6-м утра с графом Александром Карловичем Сиверсом. Он очень обрадовался, встретив меня, и попросил показать ему все мои работы. Он так остался доволен сделанною совместно со мною прогулкою, что упросил меня ежедневно заходить за ним часов в 5 утра, чтобы вместе совершать обход работ. Он пил минеральные воды, и утренний моцион ему был необходим. Хотя мне это было и не особенно удобно и заставило меня выходить из дома несколькими минутами ранее 5 часов утра, но все-таки, конечно, я с удовольствием принял предложение, и, таким образом, начались мои совместные ежедневные прогулки по городу с губернатором, сопровождавшиеся иногда неожиданными инцидентами.
Так, например, один раз мы были на постройке гостиного двора, в котором строения вышли уже из земли и производилась кирпичная кладка стен. Я заметил, что один из рабочих кладет кирпичи на известь, не обливая их предварительно водою, а потому я и покричал за это на рабочего. Стоявший возле меня граф, услышав мои слова, спросил: «А разве нужно сперва обливать кирпичи», и при моем утвердительном ответе и разъяснении схватил рабочего за волосы и за бороду и начал его сильно тискать, приговаривая: «Обливай, сукин сын, обливай, не жалей ручек, обливай!» Натешившись над ним вволю, он вынул портмоне и вручил наказанному какую-то мелочь, приговаривая: «Смотри, мошенник, другой раз я этим не ограничусь, а велю исполосовать тебе спину в полиции». И что же? При вечернем обходе той же постройки я услышал между рабочими-каменщиками следующий разговор: «Ишь, Митюшка, счастливец, утрось его графское сиятельство своими ручками отколошматил да еще полтинником наградил, в сорочке родился!» А другой на это отвечает: «Да, брат, не всякому такое счастье выпадает!» Это было говорено не то что с сарказмом, а действительно с завистью. Да, были времена!
Другой раз, помню, мы подходили к строящемуся тоже под моим надзором каменному мосту. Там происходила забивка свай под застои. Они забивались копром и довольно тяжелою бабою. Еще издали мы услышали неизбежную дубинушку. Граф пристал ко мне, чтобы я велел при нем пропеть самую нецензурную дубинушку, какую только знают рабочие. Хотя я говорил графу, что едва ли рабочие согласятся при нем исполнить эту пикантную пьесу, но граф настаивал на этом. И вот, подойдя к рабочим, мы услышали очень скучную, так называемую монастырскую дубинушку, а потому я, отозвав одного из рабочих, велел ему, чтобы он распорядился об исполнении самой скоромной дубинушки, которую они только знают, добавив, что верно они за это получат магарыч. После долгих пошушукиваний, выискался один смельчак-солист, который звучным тенором начал петь прибаутки одна другой скоромнее и за всяким таковым припевом хор, человек из 15-ти, начинал «ухать». Да и ухнули же они, никого не оставив незатронутым! Граф хохотал до слез и в конце концов дал на всю ватагу на целое ведро водки, кажется, трешницу.
Но не все и не всегда было тихо и мирно во время наших совместных утренних прогулок. Помню один инцидент, который вызвал сильнейший протест с моей стороны сиятельному начальнику. Это случилось следующим образом. Один раз, оканчивая уже свою утреннюю прогулку, мы зашли на арестантские работы по мощению улицы. Графу показалось, что работы идут очень медленно, и он распушил на чем свет стоит конвойных надзирателей и ротного офицера. И затем обратился ко мне, выговорив тоже, как будто бы с упреком: «Ведь не могу же я, Андрей Михайлович, сам стоять с хлыстиком в руках, чтобы погонять арестантов!» Это меня взорвало, и я сейчас же с дрожью в голосе ответил: «Равномерно и я, ваше сиятельство, не могу принять на себя обязанности стоять с хлыстиком при арестантских работах». Сиятельный граф долго смотрел на меня и на мое возбужденное состояние и ни слова не ответил. Молча ушел с работы, я тоже молча последовал за ним. Но дойдя до места, где мы обыкновенно расставались, я сказал: «Имею честь кланяться вашему сиятельству». Он ответил: «Прощайте», подал мне руку, и мы расстались. Весь этот день я размышлял: следовало ли мне на другое утро заходить к графу, чтобы вместе идти с ним на работы. Результатом моих размышлений было то, что зайти следует. И действительно, на другой день я к 5 часам утра был уже в приемной графа, и ровно с боем 5 часов дверь из кабинета отворилась, и вышел граф: «Ах, Андрей Михайлович, я очень рад, что вы на меня не сердитесь, доказательство чего вижу в том, что вы зашли за мной. Очень рад, благодарю вас, двинемся в путь!» И этим полуизвинением дело было кончено, и мы по-прежнему остались с ним в наилучших отношениях.
Выше я уже упоминал, что, едучи из Симферополя в Екатеринослав, я перечитывал обличительные повести Елагина, в коих выставлены личности гор. Екатеринослава. Это недавнее перечитывание и моя плохая память относительно названий и фамилий сыграли со мною очень гадкую штуку. Раз как-то, когда я докладывал графу какое-то дело, которое касалось отчасти земских повинностей, то граф сказал мне: «Вам бы следовало поговорить об этом со своим тезкой Андреем Михайловичем, вы ведь, вероятно, уже знакомы с ним?
Андрей Михайлович Миклашевский был действительный статский советник и губернский предводитель дворянства, но по Елагину, он имел фамилию Боклашевский. Я перемешал настоящую фамилию с вымышленной и брякнул не запинаясь: Да я уже говорил об этом с Боклашевским». — «Где? как? с каким Боклашевским?.. Да это вы и меня окрестите графом Бородавкиным!» Я испек такого рака, что даже и теперь, через 36 лет, становится совестно. «Верно, злодей, начитался Елагина?» Что мне было отвечать, я стоял как дурак и кое-как оправился.
Но не все же я работал и занимался. По вечерам я начал ходить в клуб, где мало-помалу ознакомился со всем городом. Конечно, меня избрали по первому же предложению в члены клуба, и я по вечерам очень часто стал посещать это злачное место. Этот клуб тогда был единственным в г. Екатеринославе, он был всесословный: тут были членами и дворяне, и чиновники, и купцы, а потому членов было, кажется, более 300 человек, и клуб благоденствовал. Много потом я видел клубов в различных городах, но такого благоустроенного, как Екатеринославский в период времени 1860–1863 гг., я не встречал.
* * *
При обстоятельствах, совершенно для нас благоприятных, наступил, наконец, и новый 1861 год. Служебные мои занятия были те же самые, что и в 1860 г.
Тут мне нужно будет сообщить еще об одном знакомстве, которое мною сделано еще с самого водворения моего в Екатеринославе. Знакомство это было с Василием Петровичем Ульманом. Василий Петрович Ульман был контролером приказа общественного призрения. Младший брат его, Роберт Петрович, выписанный старшим из Риги, открыл в Екатеринославе торговлю, которая тогда только что устанавливалась в городе. Впоследствии они образовали торговый дом Ульман и К°, и их дела шли очень хорошо. В магазинах производилась различная торговля. Тут был и маленький банкирский дом с доступными по тогдашнему времени операциями; тут же был и музыкальный магазин с продажею и выпискою различных инструментов и нот; тут был и мебельный магазин, и продажа земледельческих орудий и проч. Познакомился я как с магазином, так и с хозяевами его, когда приехал в Екатеринослав и понемногу стал обзаводиться мебелью.
Случилось следующее: губернатор граф Сиверс был в отпуску в Петербурге, и должность его исполнял вице-губернатор Баранович. Раз как-то мне нужно было сделать какой-то доклад от строительной комиссии, и я поехал к Барановичу. Но в кабинете были уже другие лица с докладами, а потому я и уселся в приемной, поджидая призыва меня. Как вдруг из кабинета вышел Василий Петрович Ульман; поздоровавшись со мною, он сказал:
— А что, Андрей Михайлович, вы докладывались уже?[34]
— Да, Баранович уже извещен, что я здесь.
— Да все равно, там у него Краевский держит доклад и, вероятно, минут 15 пробудет еще в кабинете. Не выйдем ли мы покамест на улицу, я хотел бы вам сообщить кое-что.
Краевский был незначительный чиновник, занимавший где-то место секретаря и ходивший ежедневно с докладом к губернатору. Мы вышли вместе на улицу, и тогда Ульман начал так:
— Андрей Михайлович, я очень вас уважаю и не хотел бы скрыть от вас того, что сейчас услышал в кабинете Барановича. Не для сплетен, но единственно для того, чтобы вам было известно, я считаю долгом сообщить вам, что сейчас услышал. Когда доложили о вашем приезде Барановичу и когда он велел попросить вас обождать, тогда Краевский выразился так: «А, явился предатель своих братьев!» Когда же Баранович, услышав это, вскинул вопросительно на Краевского глаза, то тот, не смущаясь, ответил: «А как же, ведь он предал своих двух братьев по делу Петрашевского и сам через это высвободился из дела целым и невредимым!»
Признаться сказать, услышав об этом, я в первый момент сильно взволновался… Лошади мои ехали за нами, и я сел в дрожки, предложив Василию Петровичу подвезти его до его магазина.
— А как же, ведь вам надобно к Барановичу, ведь вы уже докладывались?
— Ну, нет. Я к Барановичу пойду на днях, в другое время, и, ежели он спросит меня, почему я не дождался нынче, я скажу ему, что после того, что услышал сказанное обо мне, не мог явиться к нему и столкнуться с гнусною личностью клеветника-сплетника.
— Как, неужели вы выдадите меня?!.
— Нисколько! Я скажу, что обладаю очень развитым слухом и, сидя возле двери в кабинет, невольно слышал своими ушами все то, что дозволил Баранович говорить в своем кабинете гнусному сплетнику.
Так и случилось. Дня через три-четыре я был опять у Барановича, и когда вошел в его кабинет, то он высказал в виде упрека, что я не хотел в день своего недавнего приезда к нему подождать до тех пор, пока он освободится от доклада Краевского.
— Да я дожидался и, конечно, дожидался бы, ежели бы, сидя в приемной возле вашего кабинета, не услышал того, что вы дозволили говорить обо мне гнусному полячишке и клеветнику Краевскому; у меня тонко развитый слух, и я не мог не услышать всего сказанного обо мне. Согласитесь, что я не мог в то время хладнокровно явиться к вам, и ежели бы столкнулся с негодяем, то легко могло бы статься, что я надавал бы ему заслуженных им пощечин. Я хорошо сделал, что вышел тогда от вас.
Услышав эти слова и видя меня в возбужденном состоянии, Баранович все-таки был очень сконфужен высказанным мною; он что-то лепетал, что не обратил никакого внимания на пустые слова и т. п.
— Да полноте, Николай Иванович, я теперь совершенно спокоен и не обращаю никакого внимания на гнусные сплетни Краевского, равно как и на него самого! Мое прикосновение к делу Петрашевского известно всему Петербургу; с другой стороны, я очень любим и уважаем своими братьями и теперь, чего не могло бы случиться в случае моих неблаговидных с ними поступков! Но, впрочем, я питаю себя надеждою, что рано или поздно гнусная сплетня эта должна быть опровергнута.
И это случилось скорее, нежели я предполагал…
Раз как-то в конце октября мне нужно было съездить в магазин Ульмана или для того, чтобы купить что-то, или для того, чтобы навести какую-то справку. Приехав в магазин, я застал Василия Петровича занятым с каким-то незнакомым мне господином, на которого я не обратил особого внимания, а обратился за своим делом к Роберту Петровичу и, закончив с ним, вышел из магазина и поехал домой. Слякоть на дворе стояла страшная, и я, не ожидая никого из посторонних, думал облачиться в халат и, напившись в семейном кругу чаю, удалиться в кабинет для занятий. Как вдруг оглушительный колокольчик изменил мои намерения. По звону видно было, что звонит совершенно незнакомый или, по крайней мере, малознакомый человек, потому что коротко знакомые знали наш оглушительный колокольчик и звонили слегка. Домника сейчас же ушла из гостиной, где мы сидели, в столовую; она, бедная, всегда тяготилась бывать в обществе в последние дни своей беременности. Вышед в залу, я увидел двух господ, раздевающихся в передней; в одном из них я узнал Василия Петровича Ульмана, а в другом — незнакомца, которого видел несколько минут тому назад в магазине Ульмана разговаривающим с Василием Петровичем.
Незнакомец, молодой человек моих лет, брюнет, довольно красивой наружности, обратился ко мне со словами:
— Андрей Михайлович, мы, встретившись полчаса тому назад в магазине Василия Петровича, не узнали друг друга, но ведь мы старые знакомцы… Неужели и теперь вы меня не узнаете?
— Вам хорошо и легко было узнать меня после того как вы услыхали от Василия Петровича мою фамилию, я же… извините, виноват, не могу признать вас и теперь!
— А помните Юрьев день… 23 апреля 1849 года, когда мы вместе с вами сидели в зале III Отделения и когда, за недозволением говорить, обменивались записочками… Ведь я Григорий Данилевский…
— Григорий Петрович! (я знал его имя и отчество по литературе). Голубчик! Вы ли это?.. Как я рад и благодарен, что вы вспомнили обо мне!
— Да помилуйте… Только что вы уехали из магазина, я спрашиваю Василия Петровича: «Кто это?..» Он отвечает: «Достоевский». — «Как имя?» — спрашиваю я. «Андрей Михайлович», — сообщает мне Василий Петрович. «Да ведь это мой старый знакомый», — говорю я. Выглянули на улицу, а ваш и след простыл. Тогда я упросил Василия Петровича ехать к вам, — и вот мы здесь!
— Ну, спасибо, большое спасибо, очень рад вас видеть, — говорил я, усаживая гостей в своей маленькой гостиной.
Первые разговоры, конечно, вращались около приснопамятного дня (23 апреля 1849 г.). Вспоминали много и о многом.
— Да вот, кстати, — начал я, — хотя я и уверен, что Василий Петрович Ульман не верит сплетне, пущенной недавно обо мне в нашем городе, но я все-таки прошу вас, Григорий Петрович, подтвердить Василию Петровичу, что я не играл роли Иуды Искариотского в участи моих братьев по делу Петрашевского!.. — И я рассказал ему все подробности сплетни, пущенной про меня Краевским.
Данилевский сильно возмутился подробностями этой кляузы и тут же рассказал в кратких и точных словах весь процесс Петрашевского, а затем спросил:
— Да какой это Краевский?
Ульман сообщил ему имя и отчество Краевского[35].
— Ба, ба, ба! Да я несколько знаю эту личность и никак не думал, что он способен на такую грязь, а, напротив, считал его за порядочного малого!.. Ох, да ежели бы мне встретиться с ним, я бы отделал его на славу… — горячился Данилевский. — Я бы показал ему, чему подвергаются сплетники и т. д., и т. д. Но, впрочем, завтра я, может быть, и встречусь с ним, разыщу как-нибудь!
Беседа наша шла очень оживленной, мы напились чаю, и мне пришла в голову мысль пригласить их в клуб как своих гостей, тем более что жена была больна.
Предложение мое было принято, и мы сейчас же на двух извозчиках отправились в клуб.
Не успели мы войти в большую залу клуба, как Ульман обратил внимание мое и Данилевского, указывая на Краевского.
— А вот и кстати, на ловца и зверь бежит, — проговорил Данилевский. — Ну, погоди, голубчик, отделаю же я тебя!
— Только, пожалуйста, не при мне, — возразил я, не желая при этом присутствовать.
— Конечно, а вот Василия Петровича я буду просить быть свидетелем, — проговорил Данилевский, и они оба, оставив меня, пошли в ту сторону, где был Краевский. После, по рассказам Ульмана и Данилевского, я узнал все подробности их разговора. Вот как происходил он:
— А, здравствуйте, Краевский; мы с вами, кажется, немного знакомы? — начал Данилевский.
— Ах, Григорий Петрович, какими судьбами попали вы в наши Палестины?
— Да вот, по делам приехал в Екатеринослав и был очень счастлив, найдя в нем старого своего знакомого многоуважаемого Андрея Михайловича Достоевского, с которым и имел честь явиться в ваш клуб.
Слова «счастлив», «многоуважаемого» и «имел честь» Данилевский видимо подчеркнул, надеясь вызвать этим какое-нибудь замечание со стороны Краевского, в чем и не ошибся!
— Ну, я думаю, не большое счастье и честь для вас, Григорий Петрович, в знакомстве с г-ном Достоевским.
— Что я высказал, на том я и стою и подтверждаю, что был очень счастлив встретить в г. Екатеринославе многоуважаемого Андрея Михайловича и что я имел честь вместе с ним приехать сюда в клуб. Но так как ваше возражение, выраженное довольно резко относительно г-на Достоевского и притом при постороннем свидетеле (причем он указал на Ульмана), не может быть допущено мною без разъяснения, то я покорнейше прошу вас, г. Краевский, объясниться более ясно, почему знакомство с Достоевским не может доставить мне счастья и чести?
— Как будто бы вы сами не знаете?.. А его поступок с братьями?..
— Какой поступок с братьями?.. Говорите яснее и определеннее!.
— Да по делу Петрашевского; ведь он, говорят, их предал для того, чтобы освободить себя!
— Говорят, говорят!.. Послушайте, Краевский, чтобы говорить, а главное, публично повторять подобные вещи, надобно быть в них вполне уверенным. Спрашиваю вас, на каких данных вы усвоили себе эту уверенность?.. Или вы повторяете, как сорока, то, что случайно и мимоходом услыхали?..
— Нет, я говорю это с уверенностью, потому что слышал это из достоверного источника, — разгорячился в свою очередь Краевский.
— Сообщите мне сейчас же, из какого источника?
— Мне говорил об этом Калиновский…[36]
— Какой Калиновский?..
Тут Краевский сказал имя и отчество.
— Я знаю этого Калиновского…{108}. Сомневаюсь, чтобы он мог высказать это… Но, впрочем, я непременно выведу это на свежую воду! Теперь же вот что скажу вам: Калиновский очень мало знаком с Достоевскими, а Андрея Михайловича едва ли и знает, тогда как я был в один день с Андреем Михайловичем арестован по делу Петрашевского, сидел с ним в одной комнате III Отделения в продолжение целого дня, а затем я близко сошелся с братьями Андрея Михайловича и теперь состою с ними почти в дружеских отношениях, а потому мне в подробности известны как история ареста по делу Петрашевского всех трех братьев, так и взаимные отношения всех их между собою в настоящее время; и я могу констатировать, что отношения эти вполне родственные и братские, чего не могло бы существовать в том случае, ежели бы пущенные вами сплетни оказались не сплетнями, а были бы правдою! В заключение скажу вам, что вы очень счастливы тем, что Андрей Михайлович не обращает никакого внимания как на эту сплетню, так и на людей, пустивших ее в ход, да и хорошо делает! Потому что гадко и омерзительно обращать внимание как на подобные сплетни, так и на их распространителей! А с Калиновским-то я тоже сведу счеты!
Проговорив все это, Данилевский, не подав руки Краевскому, обернулся от него и прямо подошел ко мне, смеясь и разговаривая с Ульманом. Краевский, как оплеванный, пробыл несколько времени в клубе и затем скрылся из него. Мы же втроем остались в клубе, в карты не играли и разговаривали приятно и оживленно. Часу в первом ночи я угостил своих гостей скромным, но сытным ужином с бутылкой вина, и мы, оставшись очень довольными проведенным вечером, уже поздно ночью оставили клуб.
В заключение о Григории Петровиче Данилевском скажу здесь, что через несколько месяцев я получил от него письмо из Петербурга, которое и приведу в своем месте и в свое время, и что Григорий Петрович Данилевский был раза три или четыре у меня в Екатеринославе во время моего там пребывания, познакомился с моею женою и часто разговаривал с нею о своих будущих литературных произведениях. После переезда из Екатеринослава я более не видался с Данилевским и теперь очень жалею, почему, ежегодно бывая в Петербурге в конце 80-х и начале 90-х годов, я ни разу не был у Данилевского и не возобновил с ним знакомства. Теперь же это невыполнимо, потому что уже несколько лет как Григорий Петрович Данилевский умер.
Наконец кризис болезни дорогой Домники наступил, и 16 ноября, в четверг, в 8 часов 50 минут утра Бог дал нам сына, которого мы в честь батюшки Ивана Прокофьевича наименовали Иваном{109}.
* * *
В половине февраля 1862 г. я получил, наконец, и письмо от Данилевского. Как окончание гнусной клеветы на меня — помещаю это письмо здесь в точной копии.
С-Петербург. 7 янв. 1862 г.
«С новым годом, почтеннейший Андрей Михайлович! Слово свое я сдержал: Краевский сослался на Калиновского, как вы знаете; я приехал в Петербург, сообщил о ваших горестях вашим братьям — Федору и Михаилу; мы все трое встретили у Милюкова[37] Калиновского; хладнокровно ему сообщили об адской сплетне, пущенной им о вас, и вот он что ответил: „Я никогда не говорил этого г. Краевскому, а, напротив, всегда отзывался хорошо об А. М. Достоевском“; Краевский, после отъезда г. Данилевского из Екатеринослава, напуганный обещанием разоблачить эту сплетню, явился ко мне, Калиновскому, и сказал: „Вас ждет объяснение с Данилевским и братьями Достоевскими, то знайте, что я на вас насплетничал!“ Следовательно, оказывается, что всему виною сам Краевский. Этого от него я никогда не ожидал. Но чтобы делу дать еще большую гласность, братья ваши предложили Калиновскому написать сказанное им в письме и с этим письмом пришлют вам свое{110}. Словом, надеюсь теперь, что сплетня разбита. Я часто бываю у ваших братьев, они оба живут, т. е. трое в одном доме (в д. Пономарева на углу Малой Мещанской){111} — сильно заняты „Временем“, в котором хорошо идет подписка, много спрашивали о вас, поручили известить вас, что по-прежнему любят вас, чтут и помнят. Племянница ваша Мария — отличная музыкантша. Через воскресенье вечера у обоих; новый год я встретил у Михаила Михайловича; пили и ваше здоровье. Не будь Екатеринослав провинция — гнездо сплетен, они бы плюнули и на разбор этой сплетни. Мы все трое объявили Калиновскому: „Андрей Достоевский не только не предал братьев, но замечательно помог Михаилу, сыгравши его роль в двухнедельном заточении и тем спасши все бумаги и судьбу Михаила, за которого случайно, по ошибке, был взят“[38]. Прошу, прочтя, передать прилагаемую статью Як. Як. Савельеву. — В начале февраля я еду домой. Моя повесть „Беглые в Новороссии“ куплена „Временем“ и набирается для его 1 номера; но вряд ли хорошо пройдет цензуру. Мой адрес с 1 февраля: г. Чугуев Харьковской губернии, Григ. Петров. Данилевскому; а до того в Петербурге в департамент просвещения чиновнику Филиппову с передачей Г.П.Д. Кланяйтесь г-ну Ульману. Попросите его написать мне десять строк о ходе его торговли не далее февраля половины, для моих дальнейших хроник.
Братья ваши вчера просили вам передать, что вы свободнее их в это время и чтобы вы прежде им написали. Тогда и они напишут. Я с ними согласен. У них буквально минуты нет свободной. Особенно у Ф. М. бывает иногда падучая, сюрприз, нажитый в Сибири. Но вы ему об этом не пишите, не тревожьте его своим знанием этого…»
Далее заканчивается письмо просьбою прислать ему рисуночек башенки к строимому им в деревне дому, и конец этого письма не представляет ничего интересного, а потому мною и не приводится.
Чтобы совершенно покончить с гнусным поклепом на меня, выдуманным негодяем Краевским, нужно бы было привести письмо брата Федора Михайловича от 6 июня 1862 года. Но письмо целиком напечатано в собрании писем Ф. М. Достоевского (Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского, том I, изд. 1.1883 г. Отдел писем. Страницы 138,139 и 140). Но, ссылаясь на это печатное письмо, я все-таки должен оговорить следующие строки его: «Я помню, дорогой ты мой, помню, тогда мы встретились с тобой (последний раз, кажется) в знаменитой Белой зале. Тебе тогда одно только слою стоило сказать кому следует, и ты немедленно был бы освобожден, как взятый по ошибке вместо старшего брата. Но ты послушался моих представлений и просьб: ты великодушно вникнул, что брат в стесненных обстоятельствах, что жена его только что родила и не оправилась еще от болезни, вникнул в это и остался в тюрьме…»; слова эти совершенно несправедливы; объяснения по этому поводу мною уже высказаны на странице 189 этих воспоминаний.
В начале июня 1862 г. у нас заболел наш дорогой малютка Ваня и после 2–3 дней трудной и резкой болезни он скончался. Доктор Бойченко ничем не мог помочь ему. Болезнь закончилась родимчиком, и мы так и не узнали, какая, собственно, болезнь была у нашего малютки.
Около этого времени, т. е. около половины июня мне предстояла спешная поездка в город Ростов для освидетельствования работы острога; и я, недолго думая, предложил Домнике ехать вместе со мною, конечно, и со всеми тремя детьми. Жена с радостью ухватилась за это предложение, и мы, собравшись в 2 дня в далекое путешествие, с половины июня были уже в дороге. Конечно, мы поехали в нашей карете шестериком лошадей с одной прислугой (няней). Путешествие наше было очень приятно. Лучшее время года, стоявшая все время отличная и жаркая погода, свежий степной воздух, пропитанный ароматом только что скошенной травы, — все это делало тысячеверстное путешествие не тяжелым путешествием, а приятною прогулкою. Мы ехали, торопясь, засветло останавливаясь на ночлег и рано поднимаясь после ночлегов; и 473 ½ версты, считавшиеся от Екатеринослава до Ростова, мы сделали в течение 3 ½ суток.
Город Ростов с первого раза показался нам и грязным, и пыльным, и душным. Гостиницы оказались там отвратительные и донельзя грязные, но мы пользовались гостиницей только для ночлегов, потому что все время дня проводили или в гулянье по городу и его окрестностям или бывали в гостях у знакомых, случившихся тут еще по прежней моей службе. Вблизи города Ростова расположен другой значительный город — Нахичевань или Качевань. Это окружной город Нахичеванского армянского округа в Ростовском уезде Екатеринославской губернии. В 1862 году он был очень хорошо обстроен — 15 тыс. жителей. Правильное устройство улиц и чистота в них нам понравились более, чем в самом Ростове, вообще Нахичевань очень богатый город и населен преимущественно армянами. Четырехверстный проезд от г. Ростова в Нахичевань, по гладкому и ровному пути, производится просто на легковых извозчиках. И оба города как на ладонке видны друг другу. Нам тогда рассказали в г. Ростове анекдот про посещение императором Николаем I города Нахичевани.
Раз как-то император Николай I, бывши в Ростове, посетил, конечно, и Нахичевань. Там все армяне, дожидавшиеся государя в полном сборе, в громадной массовой толпе, лишь только завидели приближающиеся экипажи царского поезда, то, дождавшись их прибытия, закричали благом матом: «Караул! Караул!»… Государь, понявши сейчас, в чем дело, спросил, однако же, генерал-губернатора Воронцова, ехавшего с ним в одной коляске, что обозначает этот крик. Генерал-губернатор сконфуженно отвечал, что они, вероятно, хотели кричать «ура!», да вместо этого кричат «караул!»… Государь много смеялся этому проявлению радости и, говорят, заметил: «Их следовало бы поучить!» Воронцов, в свою очередь, передал это замечание государя — губернатору, а губернатор, конечно, — исправнику. Исправник это замечание намотал на ус и по выезде государя и всего начальства из уезда явился в Нахичевань с возами розог и начал по-своему учить армянских обывателей, и на кого был за что-нибудь зол, то тем всыпал гораздо большее количество розог. Это оригинальное учение покончилось в один день, и армяне вовсе не были в претензии на него. «Ежели надобно учить, так и учи», — говорили они. Но они были в страшной претензии за то, зачем учение было неровное: одному дано более ударов, другому менее. И только по поводу этого обстоятельства они, говорят, возбудили жалобу на исправника. Рассказывавшие мне этот анекдот добавляли: «Попробуйте сказать в присутствии армянина фразу: „Зачем не ровно?“, и вы увидите, какой эффект произведет эта фраза». Признаться сказать, я и сам испытал это.
Раз как-то, находясь в Москве в 1866 году по делам службы, идя вместе с мебельщиком Париковым по Армянскому переулку, я встречал на каждом шагу армян, и мне пришло на ум сошкольничать, и, повстречавшись с одним из них, я, как будто беседуя с Париковым, внезапно проговорил: «Зачем не ровно». Армянин неистово посмотрел на меня и, видя, что я беседую с Париковым, с остервенением плюнул и пошел дальше.
Покончив свои дела в Ростове, мы после трехдневного в нем пребывания собирались уже в обратный путь. Но мне хотелось воспользоваться очень близким расстоянием и побывать в г. Новочеркасске, который от Ростова в расстоянии всего 36 ½ верст. Хотелось сделать эту маленькую излишнюю поездку, чтобы повидать казацкую столицу. Я предложил этот добавочный вояж Домнике, и она очень была рада осуществить его. А потому мы и двинулись из Ростова на Новочеркасск.
Новочеркасск, областной и единственный в то время город Земли Войска Донского (ибо все другие поселения в виде уездных городов называются не городами, а станицами). В год нашего посещения, т. е. в 1862 году, город был очень неказист для Донской столицы; в нем считалось до 20 тысяч жителей, но хороших построек было мало, и город, хотя и стоящий на горе и имеющий издали вид очень красивый, на самом деле был очень заурядным городом. В то время в городе строился собор, несколько раз обрушивавшийся, и донцы, недовольные Платовым, говорили, что собор будет до тех пор обрушиваться, пока из него не удалят праха атамана Платова, который похоронен был в этом недоконченном соборе. Недовольны же донцы Платовым были за то, что он главный город, так сказать, столицу казаков, удалил от их родного Дона!.. Дона Ивановича!..
Около первых чисел июня мы были уже дома, сделав в приятных путешествиях до 1005 верст.
В половине или конце июля сделалось известным, что граф Александр Карлович Сиверс переведен губернатором в гор. Харьков. Конечно, этот перевод был для него как бы повышением. Не говоря уже о том, что г. Харьков по сравнению лучше Екатеринослава, он, сверх того, из губернаторов вассальных (Екатеринославская губерния была подведомственна генерал-губернатору) делался губернатором самостоятельным. Сборы его были недолги, и в июле же месяце он оставил Екатеринослав. Екатеринославское общество почтило его обедом, данным в клубе.
В конце же июля к нам приехал и новый губернатор, действительный статский советник Петр Александрович Извольский{112}. По первому приему он произвел не слишком хорошее впечатление. Видно было человека, только что скинувшего эполеты и из военного мундира облекшегося в штатское платье; даже подергивание плечами показывало, что он не забыл еще эполет, и мне, столько претерпевшему от военщины, было это не совсем приятно! Не успел он прибыть в Екатеринослав, как поехал уже по уездам для знакомства с губерниею.
* * *
К интересным событиям в городе Екатеринославе я должен отнести также и день 8 сентября 1862 года, т. е. день празднования тысячелетия России. Это празднование было обставлено довольно торжественно. Во-первых, в соборе после обедни было совершено торжественное молебствие, после которого был целодневный колокольный звон по церквам города, а вечером было устроено гулянье с музыкой в саду или парке при Потемкинском дворце (дом дворянского собрания). Город во весь этот день имел праздничную физиономию, хотя в то время не имели еще в обычае украшать улицы флагами в провинциальных городах, да что-то и в столицах не припоминается этого обычая. Все это выдумки нового времени.
Осень этого 1862 года ничем не ознаменовалась для меня в служебном отношении. В моем же семействе она ознаменовалась выяснением, что моя дорогая жена опять забеременела. Эта шестая беременность жены и радовала и пугала нас; пугала еще тем, что в городе не имелось в то время порядочной акушерки, что вызывало различные хлопоты и опасения.
Время шло, и приближался срок разрешения Домники от бремени. Мы дожидались развязки в первых числах апреля, что действительно и случилось. 3 апреля 1863 г. в среду, на Пасху, около 9 ч. вечера, Бог дал нам сына Андрея{113}.
Около же этого времени, т. е. в конце апреля, я узнал о запрещении журнала «Время», издаваемого братьями. Я с самого основания журнала был подписчиком на него. Апрельская книжка 1863 г. вышла и была получена мною. В ней была помещена статья Страхова «Роковой вопрос», которая действительно вышла «роковым вопросом» для брата Михаила Михайловича. Журнал «Время» по тогдашнему был подцензурным. Цензура беспрепятственно пропустила апрельскую книжку вместе с «Роковым вопросом»… и, несмотря на то, журнал, кажется, в конце апреля был запрещен. Майской книжки уже не выходило. Впоследствии, в своем месте, я расскажу историю запрещения журнала «Время». Она возмутительна!
В начале сентября месяца в городе сделалось известным, что наследник цесаревич Николай{114}, путешествовавший в то время по России, будет и в Екатеринославе. Все переполошились, не зная, чем ознаменовать приезд молодого наследника. Дворянство наконец решилось дать бал и испросило на то соизволение государя императора. Когда это соизволение состоялось, то дворяне, никак не предполагавшие, что их предложение будет принято, забили тревогу, как бы лучше и достойнее себя устроить этот бал. Помещение для бала, конечно, избрано в Дворянском доме, так называемом Потемкинском дворце, расположенном почти за городом, с роскошным парком, выходящим на берег р. Днепра. Бальная зала в этом доме была громадных размеров, в два света, с хорами, но с голыми, нештукатуренными, загрязненными стенами, наводящими тоску. Сколько-нибудь облагородить и освежить этот зал было необходимо. За это дело взялся и. д. губернского предводителя дворянства.
Добрейший мой тезка губернский предводитель дворянства Андрей Михайлович Миклашевский в то время вышел уже в отставку и вслед за графом Сиверсом выехал в Харьков и харьковские свои имения. Место губернского предводителя дворянства занимал временно, впредь до выборов, исправляющий должность отставной штабс-капитан Николай Дмитриевич Милорадович. Сей отставной штабс-капитан, несмотря на свою глупость, был преисполнен гордости и чванства. Эти его свойства послужили моему столкновению с ним при вопросе о приведении зала Дворянского собрания в порядок, и я от устройства зала категорически отказался.
Наследник прибыл в город 1 октября 1863 года. Железных дорог тогда еще не было, и весь царский поезд в дорожных экипажах, на лошадях, прямо с последней станции, т. е. не заезжая на отведенные квартиры, подъехал к собору, где почти вся интеллигенция города поджидала его приезда. Звон колоколов и оглушительное «ура» возвестили момент прибытия, и вслед за этим подскакал фельдъегерь, остановившись, впрочем, в стороне. Следом за ним открытая коляска наследника, а затем коляски свиты. Поздоровавшись с встретившим его предводителем дворянства (но только не с Милорадовичем, а с настоящим — не помню, кто тогда был[39]), так как губернатор встретил его на границе губернии, наследник под руку с кем-то из свиты, смеясь и разговаривая, прошел довольно большое расстояние от церковной ограды до собора. Смеялся же он тому, что был, как арап, черный от пыли; когда он отер лицо своим платком, то платок стал совершенно черным; посмотрев на него, он просто расхохотался!.. Ни важной осанки, ни напускной солидности не было заметно в приемах юного наследника — но всякий, смотря на него, невольно восхищался его добрым, молодым и веселым лицом! Ведь ему только что исполнилось в то время 20 лет! (родился 8 сентября 1843 г.). Из собора наследник и вся свита его в тех же экипажах приехали в город на отведенные квартиры. Вся публика разъехалась и разошлась от собора тоже. Квартира наследнику отведена в доме Щербакова, как лучшем в городе, а потому во все пребывание наследника в городе наша улица сделалась самою многолюдною.
На другой день состоялся бал; на этот бал по особо пригласительным почетным билетам было приглашено свыше 500 человек; был приглашен и я с женою.
Описывать бал теперь очень трудно. Многие подробности позабыты. Помню только, что танцевали немало, но мало было танцующих, т. е. ровно столько, сколько нужно для приличной обстановки. Все пары были назначены заранее. Танцующие занимали очень небольшое пространство посреди залы. Вся же остальная публика огораживала эту середину живою сплошною оградою и смотрела на танцующих, как на театральное представление. Наследник протанцевал все назначенные кадрили со всеми хозяйками бала. Бал, собственно говоря, был мало одушевлен и закончился рано. Мы же раньше конца бала оставили его.
Губернатор Извольский ждал себе перевода в Курскую губернию. Перевод этот в действительности скоро и состоялся, и Извольский уехал. Проводов этого губернатора я решительно как-то не припоминаю. Да сомневаюсь, и были ли они?! Извольский уехал как-то незаметно, невзначай. Я даже не помню, оставался ли он для встречи наследника цесаревича или поспешил для таковой в г. Курск.
После Извольского губернатором у нас был контр-адмирал Григорий Алексеевич Вевель-фон-Кригер, пробывший в Екатеринославе всего 1 ½ года. Отношения у меня с ним были не из добрых, вследствие столкновений моих с Милорадовичем, который при Кригере продолжал исполнять должность предводителя дворянства.
В начале декабря месяца этого года я на десять дней ездил в Ростов для освидетельствования работ по острогу, и в мое отсутствие было получено письмо из Москвы.
Письмо это было от зятя моего Александра Павловича Иванова, с уведомлением, что дядя Александр Алексеевич Куманин умер и оставил мне в наследство 3 тыс. рублей. Но вот выдержка из самого письма Иванова: «По духовному завещанию покойного дяди Александра Алексеевича Куманина назначено выдать Вам три тыс. рублей билетами. Для получения этой суммы необходимо или личное Ваше присутствие в Москве, или чтобы Вы прислали доверенность на чье-либо имя, если угодно, то хотя на мое». Письмо это было писано от 4/XII и не обозначало дня смерти доброго моего дяди, истинного благодетеля всего нашего семейства, но, сколько мне помнится из разговоров, смерть дяди последовала в начале сентября месяца 1863 г.
Доверенность на получение денег я послал Александру Павловичу Иванову только 21 января уже 1864 года. Что было причиною этой медленности, теперь не помню, вероятно, я сам подумывал ехать в Москву, но, вероятно, этому что-нибудь воспрепятствовало. Этим и закончился 1863 год, и наступил 1864-й.
Первые три месяца наступившего нового года прошли незаметно в обычных занятиях; в конце марта я получил от зятя Александра Павловича Иванова по почте пакет с деньгами, и при этом получении случился между мною и губернским почтмейстером Плотниковым пресмешной эпизод, который и опишу здесь.
«Глуп как Плотников» — была у нас в Екатеринославе общая поговорка. И, действительно, глупость Плотникова доходила до геркулесовых столпов. С последних чисел марта, как теперь помню, в Екатеринославе наступили не только теплые, но даже жаркие дни, таковой день был и 1 апреля. В доме почтовой конторы производились строительные работы, над которыми я надзирал и, бывая в конторе ежедневно, часто встречался с Плотниковым. По причине жаркого дня я надел для легкости без сюртука прямо летнее пальто, коротенькое, в виде нынешней тужурки, и встретился на работах в почтовой конторе с Плотниковым, который еще в халате, но в шинели, надетой сверху, расхаживал по работам. Поздоровавшись с ним, я, между прочим, сообщил, что я к нему с просьбой, причем показал повестку. Он сказал, что, одевшись, сейчас выйдет в контору и выдаст мне пакет, а до тех пор просил меня в свою квартиру. Конечно, я пошел за ним.
— Человек, сними с Андрея Михайловича пальто, — было первым словом Плотникова, когда мы вошли в переднюю и когда он сбросил с себя шинель и остался в халате. Я уклонился от этого, показав ему, что у меня под пальто не было сюртука. «Как же это вы ко мне в дом войдете в пальто?..» — «Что?.. Да я в этом пальто у губернатора бываю». — «У губернатора? Ну в таком случае, милости просим и ко мне».
Мы пришли и уселись в гостиной: он в халате и на диване, а я возле на кресле. Он долго смотрел на меня и на мое (весьма приличное) пальто и проговорил: «Так вы и у губернатора бываете в этом пальто?» — «Да, и у Извольского, и у графа Сиверса; конечно, не в гостиной, а в приемной и кабинете неоднократно бывал». — «Вот видите ли, не в гостиной же!»
— Так что же мешает нам перейти из гостиной в другую комнату?
— Да уж лучше перейдемте в кабинет.
— Как же это, Николай Иванович (кажется, его звали так, а впрочем, не помню), понять? Вот вы меня и в своей гостиной, и в своем кабинете принимаете в халате, ведь я тоже могу почесть это за невежливость с вашей стороны?
— Ах да, извините, — тут он ударил себя по лбу, — ей, человек, одеваться!
— Но уж только не при мне; это, пожалуй, выйдет еще неприличнее.
— Так как же быть?.. Эй, человек, перенеси все платье в спальню!
— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, одевайтесь скорее, я лучше сам выйду в гостиную.
— Нет, уж только не в гостиную, а лучше в залу, ведь она тоже служит у меня приемной.
Я перешел в залу, внутренне и даже наружно хохоча. Вскоре туда же явился и одетый Плотников, и мы пошли с ним в почтовую контору, где я под расписку и получил от него присланный мне денежный пакет. В рассказе этом я ничего не прибавил и ничем не прикрасил. Так вот каких оригиналов случалось мне встречать!
В половине июля месяца я прочел в газетах неожиданное и очень прискорбное для меня известие о смерти брата Михаила Михайловича. Это краткое газетное известие так поразило меня, что я сейчас же написал письмо к брату Федору Михайловичу, прося его в подробности известить меня о случившемся несчастье. На это письмо свое я вскоре, а именно в первых числах августа, получил письмо от брата Федора Михайловича от 29 июля. Письмо это лучше меня разъяснит все подробности смерти брата Михаила Михайловича, а равно и положение, в котором осталось его осиротелое семейство. Вот письмо это, привожу его в точнейшей копии{115}:
29-го июля 64 г. Петербург.
«Любезнейший брат Андрей Михайлович,
Спешу удовлетворить твою просьбу, хотя времени ни капли. Все дела брата легли, естественно, на меня, и я, вот уже скоро три недели, ног под собою не слышу.
Брат Миша умер от нарыва в печени и от последовавшего при этом излияния желчи в кровь. Вот болезнь. Болен он был давно. Доктора сказали, что года два. Но ведь с больной печенью можно долго ходить, не обращая на нее внимания, особенно если много дела. А дела у него было всегда бездна. Прошлого года запретили журнал. Это его тогда как громом поразило и произвело вдруг такое расстройство во всех его делах, грозило такой грозной катастрофой, что он весь последний год был постоянно в тревоге, в волнении, в опасениях. Трудно это все тебе объяснить подробно. Вот в нескольких словах: дела его давно еще, вследствие войны и последовавшего затем денежного кризиса и упадка общего кредита, — пошли очень худо. Накопились большие долги. Начали мы издавать журнал, затратили деньги, но без долгов не обошлись. Зато было со второго же года 4000 подписчиков, след. 60 000 р. оборота, и так продолжалось всегда, есть и теперь для „Эпохи“. Но долги все не могли уплатиться. Оставалось их всего на все старых и новых — тысяч 20 000, когда запретили „Время“. Подписку брат уже успел истратить, заплатив долги. Но при аккуратной выплате долгов — оставался кредит и необходимые обороты (о которых долго объяснять), при которых можно, без затруднений, довести годовое издание до конца с честью. Вдруг все рушилось, рушился и кредит с запрещением журнала. Год был трудный, и здоровье брата крепко потерпело. Наконец выхлопотал он право издания „Эпохи“. Но издавать пришлось в убыток; ибо всем 4000 подписчиков надо было выдать книгу за 6 рублей, а не за полную подписку (15 руб.). Но брат распорядился хорошо: занял и имел в виду в продолжение года один верный оборот (заведение своей типографии на ⅔ в кредит что и начал уже) и посредством этого оборота мог довести журнал до будущей подписки очень хорошо. По его расчетам через 1 ½ года не было бы ни копейки долгу. Но Бог судил иначе. За три недели с небольшим перед смертью он слегка заболел — рвотой, расстройством желудка, и потом вдруг разлилась желчь. Надо сказать, — он пренебрегал и хотя советовался с докторами и лекарство принимал, но не соглашался перестать работать и засесть дома. Дача у них в Павловске. Он часто ездил в город, хлопотал по журналу, по типографии, по делам. Я хотел ехать по нездоровью за границу, получил паспорт и съездил на неделю в Москву. Воротясь из Москвы в конце июня, с ужасом увидел, что болезнь, которую он называл пустяками, провожая меня в Москву, усилилась. Наконец, Бессер (очень знаменитый здесь доктор) испугал его, сказав, что это очень серьезно и надо лечиться. Брат засел на даче. Я за границу не поехал, ездил в Павловск каждый день, а он поминутно порывался в город и ждал выздоровления. Наконец, стал слабеть. В воскресенье 5 июля ему стало вдруг легче. Бессер не терял надежды, хотя и объявил, что нарыв в печени. Да мы все никто и не предполагали худого исхода, совершенно никто, даже доктора. Но вдруг он, обрадовавшись, что ему легче, стал вечером заниматься делами. В понедельник вечером ему доставили одно известие о запрещении цензурой одной статьи. На другой день он мне сказал, что чувствует себя очень дурно и всю ночь не спал. В его состоянии не надо было совсем заниматься какими бы то ни было делами. Малейшая неудача, какое-нибудь неприятное известие, и в болезненном состоянии его — это яд. Он из мухи слона мог сделать, не спать и тревожиться всю ночь. Позвали Бессера, и тот, отведя меня в сторону, вдруг объявил мне, что нет никакой надежды, потому что в эту ночь произошло излияние желчи в кровь, и кровь уже отравлена. Бессер сказал, что брат уже ощущает сонливость, что к вечеру он заснет и уже более не проснется. Так и случилось; он заснул, спал почти покойно, и в пятницу 10 числа, в семь часов утра, скончался, не проснувшись. Были три консилиума. Употреблены были все средства. Привозили докторов из Петербурга, — ничего не помогло.
Сколько я потерял с ним — не буду говорить тебе. Этот человек любил меня больше всего на свете, даже больше жены и детей, которых он обожал. Вероятно, тебе уже от кого-нибудь известно, что в апреле этого же года я схоронил мою жену, в Москве, где она умерла в чахотке. В один год моя жизнь как бы надломилась. Эта два существа долгое время составляли все в моей жизни. Где теперь найти людей таких? Да и не хочется их и искать. Да и невозможно их найти. Впереди холодная, одинокая старость и падучая болезнь моя.
Все дела семейства брата в большом расстройстве. Дела по редакции (огромные и сложные дела), все это я принимаю на себя. Долгов много. У семейства ни гроша, и все несовершеннолетние. Все плачут и тоскуют, особенно Эмилия Федоровна, которая, кроме того, еще боится будущности. Разумеется, я теперь им слуга. Для такого брата, каким он был, я и голову и здоровье отдам.
Дела представляются в следующем положении. Журнал имеет 4000 подписчиков. В будущем году будет, наверное, иметь еще более. Следовательно, — это, по крайней мере, 60 000 годового оборота. В два года семейство может уплатить все долги и, кроме того, само прожить не только не нуждаясь, но и хорошо. Я остаюсь в сущности редактором журнала. От правительства, кроме того, назначен еще и другой. На третий год семейство уже может откладывать тысяч по десяти в год, — цель, к которой стремился брат, потому что она верная, и которую так отдалило прошлогоднее запрещение журнала. Но весь нынешний год издается себе в убыток, так как большей часта подписчиков выдается он за 6 р., а не за 14 р. 50 к. в виде вознаграждения за недоданные им прошлого года и 8 номера запрещенного „Времени“. Этот год для брата был трудный. Но он в начале года занял в Москве 9000 у тетки (на два года сроком) и 6000 р. у Александра Павловича (акциями, которые и заложил здесь за 5000). На это он стал заводить свою собственную типографию, которую имел намерение заложить тысяч тоже за 5 (она стоит 10). Таким образом он надеялся довести дело до конца (т. е. до будущей подписки, которая бы дала minimum 60 000) успешно. Того только и надо было. Здешних долгов, кроме того, до 8000. Но он умер, и, хотя Эмилия Федоровна уже назначена опекуншей, журнал утвержден как собственность семейства, но с братом исчез во многом и кредит его. Одним словом, всего на все в наличности у нас 5000 р., которые следует получить за заложенные акции, тысяч до 3000, которые еще придется получить в этом году, да типография, только отчасти оплаченная. Затруднение в деньгах есть, но с Божьей помощью мы дойдем благополучно. Теперь вот что скажу тебе, любезный брат. Никогда еще это семейство не было в более критическом положении. Я надеюсь, мы справимся. Но если бы ты мог дать взаймы хоть 3000 руб. (те, которые достались тебе после дяди и которые ты верно не затратил) семейству на журнал до 1 марта и за 10 %, то ты бы сделал доброе и благородное дело и помог бы и утешил бедную Эмилию Федоровну чрезвычайно. Отдача к 1 марту — вернейшая. Я готов также за нее поручиться. Теперь как хочешь. Рассуди сам. Нам очень трудно будет, хоть я твердо уверен, что выдержу издание до генваря. Лишних 3000 руб. нас бы совершенно обеспечили. Но как хочешь. Александр Павлович не побоялся дать брату весной. Пишу это от себя. Эмилия Федоровна кланяется тебе. Писать она еще никому не может. Прощай. Размысли о том, что я написал тебе. Дело будет доброе и благородное и в высшей степени верное. Мой задушевный и братский поклон твоей супруге и поцелуй твоим детям. До свиданья, голубчик.
Твой брат Ф. Достоевский.
Кстати: ты неоднократно винил нас всех, что тебе ничего не пишут. Брат все последние два года был постоянно в тревоге. Я же жил последний год подле больной в чахотке бедной моей Маши. Нынешним летом я рассчитывал ехать за границу в Италию и Константинополь и на обратном пути, через Одессу, думал прогостить у тебя три дня в Екатеринославе, хотя бы пришлось сделать крюку».
Получив письмо это, мы перечитывали его не один раз и готовы были уже исполнить просьбу брата и дать семейству покойного брата Михаила Михайловича на поддержку журнала просимые братом Федором Михайловичем три тысячи рублей, но мы не могли этого исполнить. Дело в том, что три тысячные билета были именные (на мое имя) и по получении их в апреле месяце были отданы мною торговому дому Ульман и К° для их торговых оборотов (без права разменивать их как именных) на целый год из 5 годовых процентов. Когда я было обратился с просьбой к Ульману, не может ли он возвратить мне билеты, то он высказал решительную невозможность, так как билеты эти лежат у него в залоге по одному предприятию и не могут быть освобождены ранее будущего года. Получив такой ответ от Ульмана, я и отписал об этом брату Федору Михайловичу, что я при всем желании не могу исполнить его просьбы по вышеизложенным обстоятельствам. Но буду продолжать описание случившегося в 1864 году. С конца июля и весь август и даже сентябрь город Екатеринослав был в напряженном состоянии. Дело в том, что в это время начали случаться в городе частые пожары, почти ежедневные. Слухи приписывали это простой несчастной случайности, но впоследствии начали убеждаться, что это были поджоги. Это действительно и было так. Обывателями получались подметные письма с предварением о пожарах, и предварения эти в большинстве случаев подтверждались и оправдывались. На город напала паника. Пожарная команда, очень недостаточная и в спокойное время, теперь являлась вполне атрофированной. Часто случалось, что в одно время возникало два-три пожара в различных местах, тогда на некоторые из них пожарные команды и вовсе не появлялись. Но замечательно было то обстоятельство, что пожары случались преимущественно днем, но не ночью. Говорили, что стены зданий намазывались каким-то составом, который от солнечной теплоты воспламенялся и происходил мгновенный пожар. Тревога давалась знать колокольным звоном или набатом, который удручающим образом действовал на нервы. Все обыватели ежеминутно находились начеку. Я помню, что и мы сложили свои главнейшие и более ценные пожитки в два больших сундука, держали их запертыми, связанными крестообразно веревками и запечатанными и денно и нощно на дворе, чтобы при первой тревоге отнести их в более безопасное место. Поджоги приписывались и, вероятно, не без основания влиянию польской пропаганды, которая вроде отрыжки действовала поджогами и во внутренних губерниях. Но благодаря Богу с сентября месяца тревога начала утихать, и пожары постепенно прекратились.
С приближением зимы мы с Домникой начали серьезно подумывать о совместном путешествии в Москву и Петербург. Домнике давно хотелось побывать в столицах и познакомиться с моими родными, да и мне было очень желательно свидеться с родными после столь долгой разлуки. После долгих размышлений мы решились ехать в начале декабря месяца, чтобы пробыть в Москве и Петербурге праздники и воротиться домой в начале января уже 1865 г. Главнейшим образом нас озабочивало то обстоятельство, как пристроить на время нашего отсутствия младших детишек, т. к. двух старших мы решили взять с собою. Но это дело скоро уладилось благодаря нашим добрым друзьям-знакомым, и мы пустились в дальний путь.
На 12-й день с более длительными остановками в Харькове, Курске и Орле мы прибыли в Москву и остановились в гостинице Челышева, не зная, в каком положении находятся родственные нам дома. Номера Челышева были расположены в самом центре города близ Большого Московского театра. Устроившись наскоро в гостинице, я поехал сперва один к своим родным. Был у сестры Варвары Михайловны, а затем у сестры Веры Михайловны, а затем у тетушки Александры Федоровны. Сестер застал здоровыми и живущими по-прежнему. Тетушку же нашел в очень плачевном состоянии. Она уже почти потеряла всю память и быстро впадала в сумасшествие. Впрочем, меня она узнала, долго целовала и все повторяла: «Ключики, ключики, ключики…». Единственное слово, которое она сохранила в своей упадающей памяти. Но, впрочем, я имел неоднократный случай убедиться, что в этот период времени, т. е. в декабре 1864 года и в январе 1865 года, она, хотя и не могла говорить, потому что позабыла слова, но все еще понимала. Так, например, я был свидетелем, как она не на шутку рассердилась на бабушку Ольгу Яковлевну, когда та, уехавши куда-то в гости, запоздала к ужину; тетушка долгое время не хотела смотреть на нее, и только после того, как та подала ей персик или какой-то другой гостинец, она улыбнулась и согласилась идти к запоздалому ужину. Значит, тогда она еще чувствовала, что она хозяйка дома, и требовала к себе уважения. На другой день по приглашению бабушки мы переселились из гостиницы в тетушкин дом, пробыли в родственном кругу несколько дней и 29 декабря выехали в Петербург.
Путешествие прошло весьма благополучно, и на другой день утром мы были на вокзале железной дороги в Петербурге. Сейчас же запаслись извозчиком и поехали отыскивать себе пристанище. Тогда это было не так трудно, как теперь. Нам еще в Москве советовали одни меблированные комнаты, содержимые близ Казанского собора, куда мы и направились и там приютились, наняв номер из двух комнат за сравнительно очень недорогую цену, т. е. за полтора рубля в день с самоварами. Устроившись кое-как в этом номере, я один поехал к своим родным. Сперва, конечно, разыскал помещение редакции журнала «Эпоха», где жило семейство покойного брата Михаила Михайловича, думая там застать и брата Федора. Но оказалось, что брата Федора не застал, он занимал комнату вблизи редакции и, как я справился, не был дома. Вдова брата, т. е. моя невестка Эмилия Федоровна, приняла меня очень радушно и очень обрадовалась, узнав, что я приехал с семейством. Она пригласила нас в тот же день на вечер, уверяя, что и брат Федор Михайлович тогда будет у них. От невестки я поехал на Петербургскую сторону к Голеновским, которые тоже очень удивились и обрадовались моему приезду. К ним я обещал явиться с женою и детьми на следующий день. Тут же у Голеновских я увиделся и с братом Николаем Михайловичем. Он уже не состоял на службе и занимал квартиру в одном из флигельков сестрина дома. Увидев его, я был очень огорчен его положением. Молодой еще человек и так вдруг опустившийся! Руки у него тряслись. Все движения и походка были как у расслабленного! Бедный брат, вот что значит невоздержание! Но я нашел в нем того же добряка, как и прежде!
Воротившись домой в номер и сообщив о своих встречах, мы, дождавшись вечера, — кажется, часов около 7, поехали на двух извозчиках к Эмилии Федоровне. Тут я представил свою жену и семейство, а затем вскоре, услышав о нашем приезде, явился из кабинета редакции и брат. И я свиделся с ним более чем через 15 ½ лет после нашей последней встречи в Белой зале III Отделения! Конечно, встреча была очень трогательная и радушная. Затем брат, посидев с нами недолго, отправился опять в кабинет, где довольно долго занимался, а в более позднее время опять явился в гостиную, и мы провели вечер очень приятно.
На другой день было 31 декабря. Мы были у Голеновских и утром, были и вечером, где встречали Новый год все наши родные, т. е. семейство брата Михаила и брат Федор, мы и брат Николай Михайлович. Покойная сестра Александра Михайловна отнеслась очень радушно и родственно к Домнике и двум нашим деткам. В промежутке между вечерним и утренним посещениями Петербургской стороны мы много ездили по городу и, между прочим, запаслись билетами на два спектакля в театре: на 1 генваря мы взяли 4 билета в Мариинский (т. е. тогда Драматический театр), а на 2 генваря мы взяли билет на ложу (8 руб.) в Большой театр на итальянскую оперу. Тогда приобретение билетов было более доступно, чем теперь.
Встреча Нового года была очень оживленна. Брат Федор был в отличнейшем расположении духа, равно как и все присутствующие, и мы возвратились домой далеко за полночь, как и подобало при встрече Нового года. Для меня же, собственно, первая половина наступившего нового 1865 года была очень тревожна, как увидим впоследствии.
Первого и второго генваря мы были в театре; первого в Мариинском театре только вчетвером, а второго в Большом театре, в ложе, куда пригласили и сестру Александру Михайловну с мужем. Невестка и семейство ее, как носившие еще траур, в театре быть не захотели. Кстати, здесь расскажу о членах семейства Михаила Михайловича{116}.
1) Дочь Мария Михайловна была в это время уже взрослой девицей, невестой. За ней очень ухаживал поэт Полонский и даже делал ей предложение, но получил отказ. Она, кажется, и тогда уже была более заинтересована будущим своим мужем М. И. Владиславлевым. По поводу сватовства Полонского помню еще одно qui pro quo, случившееся между Эмилией Федоровной и моей женой. Эмилия Федоровна, плохо владея русскою речью, высказала Домнике по секрету, показывая на Полонского, что этот господин делал недавно ей предложение.
— Ну что же, как же вы порешили? — спросила ошеломленная этим известием Домника.
— Да не знаю… я бы ничего, да Машенька что-то не совсем склонна к этому браку!
Тут только Домника увидела свою ошибку, и они обе долго потом смеялись вышедшему между ними недоразумению.
2) Сын Федор. Он был уже взрослый молодой человек, пианист по профессии, и очень хороший пианист.
3) Сын Михаил, тогда юноша лет 16, нигде хорошо не учившийся.
4) Дочь Катенька, лет 11–12, почти ровесница с Женечкой, и они обе при всяком свидании проводили вместе время, как кузины и товарищи-однолетки (смотри на странице 249 этих воспоминаний).
В этот свой приезд в Петербург я, по просьбам и настояниям Домники, хотел явиться и по начальству, а потому 4 генваря 1865 г., взяв в Гостином дворе напрокат шпагу и шляпу, отправился в штаб путей сообщения. На вопрос мой, можно ли мне представиться министру, мне сообщили, что ежели я имею какую-либо просьбу, то, конечно, могу, ежели же никакой просьбы не имею, то представляться не следует. Так я и воротился домой, не солоно хлебавши и только потратив 1 ½ руб. за прокат шпаги и треугольной шляпы. Конечно, ежели бы я мог предугадать ту каверзу, которую готовит мне, как потайная собака, губернатор Кригер, то я изыскал бы какие-либо средства к ходатайству об оставлении меня в Екатеринославе и при преобразовании строительных комиссий в строительные отделения, — но я ничего не знал и не предполагал, следовательно, и хлопотать мне было не о чем.
5-го числа во вторник мы посвятили день осмотру Эрмитажа, где долго пробыли, любуясь картинами и прочими редкостями; а в среду, в день Богоявления, мы делали прощальные визиты всем родным и обедали у Голеновских. Позабыл отметить также то, что 4-го или 5-го мы были на довольно парадном вечере, который редакция «Эпохи» давала всем своим сотрудникам. Конечно, на вечер этот приглашены были и мы; тут я встретился и познакомился, между прочим, со Страховым, Полонским и некоторыми другими, которых не припомню. На вечере было человек до 20, и вечер прошел очень оживленно. Ужин был великолепный.
Брат Федор Михайлович, бывший у меня и ранее в номерах, отдавая мне как бы визит, 6-го, когда я был у него с прощальным визитом, обещался приехать ко мне вечером, чтобы окончательно проститься со мною и женою, так как мы предположили выехать из Петербурга 7-го января. На этот вечер я запасся бутылкою шампанского, пирожными и фруктами. Кстати упомяну, что шампанское тогда было гораздо дешевле; в самом лучшем винном магазине я купил 1 бутылку Редерера за три рубля серебром. Часу в 8-м вечера действительно приехал брат. Немного спустя после обычного чая, который за разговорами продлился долго, я велел подать шампанского, и мы за бутылкою просидели до 1-го часа ночи. Брат был очень любезен и разговорчив. Между прочим, он сообщил, как произошло запрещение журнала «Время». Вот рассказ этот, который сохранился совершенно ясно в моей памяти.
«В апрельской книжке журнала „Время“ за 1863 год помещена была статья Страхова „Роковой вопрос“. Статья более патриотическая, чем вольнодумная. Журналы тогда еще не выходили без предварительной цензуры, а все подвергались цензуре, да еще какой!!. И, несмотря на это, существовавшая строгая цензура того времени пропустила к печатанию как эту статью, так и всю апрельскую книжку. Кажется затем, какая могла быть причина к обвинению и преследованию редактора? Уже ровно никакой, а между тем преследование, и жестокое преследование, совершилось через запрещение журнала, и запрещение не на время, а навсегда!
В Москве статью эту поняли не так, а приняли ее за вольнодумную, будирующую, да пресса, во главе с „Московскими Ведомостями“, нашла несвоевременною, ввиду неокончившегося еще польского восстания. Все это побудило Москву кричать о полонофильствующем направлении журнала „Время“. В это время московский генерал-губернатор, кажется, Офросимов вел довольно частую переписку с государем императором. В одном из своих всеподданнейших писем, он, между прочим, прибавил: „Москва возбуждена статьею „Роковой вопрос“, помещенною в петербургском журнале „Время““. — Валуев{117}, ничего не подозревая, в один из дней своего доклада государю, едет в Царское Село и на дебаркадере Царскосельской железной дороги встречается с каким-то тузом-москвичом. Встретившись, они разговорились, и москвич сообщил Валуеву, что Москва возбуждена статьею „Роковой вопрос“. Валуев же ответил, что все это вздор, что статья очень благонамеренная и пропущена цензурой и что Москва вечно из мухи слона делает, лишь бы о чем-нибудь покричать. На этом они расстались, и Валуев отправился к государю. При окончании доклада государь вдруг сказал Валуеву: „Что это у тебя за „Роковой вопрос“ появился, Москва возмущена им!“ — „Журнал „Время“ запрещен, ваше императорское величество“, — поспешил ответить опешивший Валуев, удивленный, что и до государя дошел этот „вопрос“. И вот, возвратившись в Петербург, Валуев делает распоряжение о закрытии задним числом журнала „Время“. Он поступил как настоящий Виляев, как у нас теперь называют Валуева», — добавил при этом брат Федор Михайлович.
Мы распростились с братом на долгое время. Мне пришлось с ним вновь свидеться уже в сентябре месяце 1872 года, когда я по своим делам был в Петербурге и когда брат был снова уже женат. При расставании с братом я передал ему 16 рублей на высылку журнала «Эпоха» в 1865 году ко мне в Екатеринослав, но получил только две первые книжки, а затем журнал этот прекратил свое существование.
На другой день, т. е. 7 января, мы с утренним пассажирским поездом выехали из Петербурга, а утром 8-го благополучно возвратились в Москву, прямо к тетушке Александре Федоровне, где и пробыли до 12 января, а в этот день выехали обратно к себе домой.
Не буду останавливаться на подробностях этого обратного своего пути, скажу только одно, что мы, опасаясь сперва снежных сугробов и заносов, бедствовали и в обратном пути не от обилия снегов, но, напротив, от недостатка его. И в обратный путь мы ехали преимущественно по обочинам шоссе, но все-таки, хотя снегу было и немного, но путь был значительно лучше. Ночлеги наши были почти в тех же местах, где и в предшествующий путь.
Последний, 9-й, ночлег мы имели уже на станции Подгородной, только в 15 верстах от Екатеринослава, которые мы и сделали с небольшим в час, выехав из Подгородной с рассветом. Еще в Подгородной мы узнали, что вследствие теплой погоды лед на Днепре сделался ненадежным, что экипажи, а особенности грузные, переправляют людьми, отпрягая лошадей и проводя их отдельно. А потому, подъехав к реке Днепру, мы распорядились нанять рабочих переправить карету, а самих нас перевезли на салазках тоже рабочие. Переехав Днепр, мы вскоре дождались и своего экипажа. Сейчас же расплатившись с рабочими, запрягли лошадей и с нетерпением поехали домой, куда и прибыли часу в 11-м утра в четверг 21 января.
К вечеру же в этот день я узнал, что губернатор представил в министерство об устранении меня от должности губернского архитектора и к зачислению в заштатное состояние. Я не хотел было этому верить, но скоро все разъяснилось: передача строительной части из министерства путей сообщения в министерство внутренних дел была произведена как-то вдруг, без всякого подготовления в министерстве внутренних дел к принятию в свое ведение этой значительной отрасли управления. При таковых обстоятельствах министр внутренних дел предложил губернаторам избрать, по своему усмотрению, из техников строительной комиссии четырех техников для строительных отделений губернских правлений и представить в министерство на утверждение; всех же остальных, как излишних, представить в то же министерство в заштат. Губернатор Кригер, единственный, как узнал я впоследствии, решился представить на утверждение вместо существующего губернского архитектора — нового, из младших техников, а существующего, т. е. меня, зачислить в заштат. Дело это было решено окончательно, и все мои протесты и хлопоты не привели ни к чему.
Размышляя о том, что предпринять, мы решили переселяться в Петербург. Мой расчет был тот, что ежели я хоть год-два проживу без заработка, то, вероятно, на третий год заработок явится.
И вот опять наступила пора распродажи всего имущества. Наконец, наступил и день 30 мая, — день, который мы предназначили для своего выезда из Екатеринослава. Это было в воскресенье. В квартире нашей был ералаш страшнейший, вся мебель и вся обстановка, кроме нужной для ночлега в последний день, была уже вынесена, и комнаты представляли вид чисто пустынный. Ежели прибавить к этому, что домохозяева Рябинины просили, ввиду какой-то приметы, не выметать сору из комнат в последние дни нашего у них пребывания — то можно будет представить себе весь беспорядок, существовавший в квартире. С самого утра все были на ногах, все суетились, и все думали, что что-то делают, а, в сущности, дела никакого не делали.
К полудню прибыли многие из наших знакомых, чтобы проводить нас. Лошади, шестериком в карету и, кроме того, пара в перекладной, были уже запряжены и стояли около крыльца. Мы уселись в карету и двинулись в путь.
Не скажу, чтобы я испытывал какую-либо жалость, покидая Екатеринослав. Я выезжал из него после пятилетнего в нем довольно счастливого пребывания совершенно хладнокровно. Не могу подыскать причины этому.
КВАРТИРА ДЕВЯТАЯ
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГ, ВРЕМЕННОЕ В НЕМ ПРЕБЫВАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ НА СЛУЖБУ В ЯРОСЛАВЛЬ И ЖИЗНЬ В НЕМ (С 30 МАЯ 1865 ПО АПРЕЛЬ 1871 Г.).
Время в Москве мы проводили очень однообразно. Всякий день я ходил справляться, не пришли ли сундуки, и всякий день получал ответ, что еще не приходили. Карету мне удалось продать. Долго ходили ко мне кузнецы-старьевщики, но давали цену неподходящую. Наконец, в один день они надавали мне 40 рублей, и я, стукнув, как говорится, по рукам, продал свою карету, семь лет служившую мне верою и правдою. Жалко мне было продавать ее, но нечего было делать! Итак, на ней я имел убытку только 10 рублей (купил ее за 50 руб.), за которые пользовался семь лет. Когда Домнике не хотелось ходить по городу, я отправлялся с детьми в дальние прогулки. Так, один раз в воскресенье, 11 июля, мы ходили в церковь Московской Марьинской больницы. Там я нашел все без перемен и вспоминал о своем младенчестве и детстве. Из церкви Марьинской больницы мы прошли на Лазарево кладбище, и я, отыскав могилу матери, поклонился праху ее{118}. Из кладбища мы прошли в Марьину рощу, где немного отдохнули и погуляли, и затем вернулись домой.
* * *
В один из дней мы всем семейством ездили к сестре Верочке на дачу в Люблино. В Петербург мы прибыли в четверг 15 июля. Время, в которое мы приехали в Петербург, было совершенно глухое, все были на дачах, и город был полон одними мастеровыми, повсеместно почти производившими различные ремонтные по домам работы. — На первых же порах я узнал, что брата Федора Михайловича в Петербурге нет; он уехал за границу. Семейство покойного брата Михаила Михайловича жило на даче в Павловске. В городе же находились только Голеновские.
Скоро мы переселились на свою квартирку около вокзала, в Орловском переулке.
4 августа, в среду, я надумал, наконец, поехать к генералу Марченко. Цель моя была та, чтобы заручиться его рекомендациею для поступления хотя сверхштатным техником в С-петербургскую управу, потому что все таковые техники, как узнал я, имеют много частных работ. Что же касается до просьбы о предоставлении мне казенного места где-нибудь в губернии, то у меня в то время не было об этом помышления.
Облекшись во фрак (хотя я мог, как заштатный, пользоваться прежним мундиром путей сообщения), я отправился на квартиру генерала Марченко. Его встретил на лестнице выходящим из своей квартиры, чтобы ехать в техническо-строительный комитет.
— Вы ко мне?.. Что вам угодно?..
— Честь имею представиться вашему превосходительству — Достоевский.
— Ах, Господи, да кто же вас узнает!.. Пойдемте ко мне, — и он позвонил в дверь своей квартиры.
— Ну что у вас делается в Екатеринославе? Ведь вы, кажется, в Екатеринославе?
— Что делалось месяца три-четыре назад, то я знал, что же делается теперь, то я совершенно не знаю, потому что я оставлен за штатом. — И тут я рассказал всю свою историю.
— Да, много было казусов в это переходное время, но такого курьезного я еще не слыхивал. Ну что же вы теперь думаете делать?..
Тут я объяснил ему свои намерения, но он не дозволил мне и кончить свой рассказ, прервав словами:
— Пустяки, пустяки, пустяки! Частная практика от вас еще не уйдет. Вам надо служить в казенной службе!.. Да кому же и служить, как не вам?.. Как раз у меня есть три вакансии губернских архитекторов в очень хороших городах: 1-я — в Ярославле, 2-я — в Самаре и 3-я — в Саратове; проситесь на любую, и она будет ваша!
Выслушав это неожиданное для себя предложение, я ответил генералу Марченко, что мне об этом надобно посоветоваться с женою, а потому и просил время для этого предложения. Конечно, при этом я поблагодарил генерала за его ко мне доброе расположение.
— Думать здесь долго нечего. Вот я еду в технический комитет и пробуду там до 6-ти вечера. Теперь только час; поезжайте к супруге, посоветуйтесь и, решив, напишите на мое имя прошение, которое и привезите нынче же ко мне в комитет. До свиданья!
Ошеломленный таким внезапным поворотом дела, я поехал к себе и объявил обо всем жене. Тут как она, так и я, во-первых, решили вопрос, принимать ли коронную службу или нет. Решили этот вопрос утвердительно, что принять нужно на том основании, что частные занятия как еще пойдут — неизвестно, а тут все-таки служба и верное обеспечение в 1400 руб. в год. Порешив с этим вопросом, нам не трудно было решить второй, т. е. куда проситься. Самара и Саратов, хотя и хорошие города, в особенности последний, но очень далеки от столиц. Ярославль же был самым близким от столиц и в нем были не только гимназии, как мужская, так и женская, но даже и лицей. Все это подкупало нас, и мы остановились на Ярославле. Порешив и с этим вопросом, я сейчас же написал прошение на имя Марченко и в тот же день повез его к нему.
— Ну что, куда надумали? — встретил он меня вопросом. Вместо ответа я подал ему прошение.
— Ну я так и думал, что вы остановитесь на Ярославле, — сказал он, помечая мое прошение.
— Вот видите ли, Достоевский, сегодня вы ко мне явились, сегодня 4 августа вы подали прошение и сегодня же 4 августа вы определены на службу в Ярославль, — и сделал пометку: «Определить губернским архитектором в Ярославль».
* * *
Мы прибыли в Ярославль 26 августа 1863 года. Первое впечатление по осмотру города было не совсем благоприятно. Все губернские города, в которых я живал и которые проезжал, имеют всегда одну показную улицу (большею частью под названием «Большой» или «Петербургской», или «Дворянской» улиц), в которой сосредоточены лучшие строения и которая составляет гордость города. В Ярославле же я такой улицы не нашел! Все улицы были порядочно обстроены, но зато и лачуг, которые сплошь и рядом в изобилии встречаются в других городах, я в Ярославле не встретил, а потому и большого эффекта поверхностный обзор города на вновь приезжего и не производил. Но взамен показной улицы здесь почти на каждом шагу встречались грандиозные постройки церквей, таких церквей, которые невольно заставляют засматриваться на них! Все это, взятое вместе, делает город Ярославль как бы исключением из всех других губернских городов, и ежели не по первому обзору, то в очень скором времени этот город производит впечатление очень хорошего, красивого и притом древнего города. Ко всему этому надобно прибавить, что даже по первому впечатлению город кажется отменно чистым и содержимым в полной исправности. Это тоже не малое достоинство.
Ярославский губернатор, свиты его величества контр-адмирал Иван Семенович Унковский{119}, только что начал тогда свое губернаторское поприще. Покинув корабль капитаном I ранга[40], он был сделан флигель-адъютантом и был послан в одну из губерний для прекращения беспорядков, возникших вследствие освобождения крестьян, и затем в 1861 году был произведен в контр-адмиралы, был назначен губернатором в Ярославскую губернию. Конечно, на первых порах он не мог быть хорошим администратором (да и впоследствии таковым не оказался), но он был человек далеко не глупый, а даже умный, и умел окружить себя умными и благонамеренными руководителями, советами которых в большинстве случаев и пользовался. К этим его качествам можно прибавить еще то, что он был настойчив и сильно упрям в раз принятых решениях, а потому и мне долгое и долгое время приходилось претерпевать его нерасположение, вовсе мною не заслуженное!
Нашим другом семейства оказался Леонид Николаевич Трефолев, делопроизводитель строительного отделения{120}. Во время нашего водворения в Ярославль он был еще молодым человеком, лет 24–25 не более. Он был родом ярославец, сын чиновника, служащего в Любимском уезде. Вероятно, вследствие крайней недостаточности средств у родителей он окончил курс только в Ярославской гимназии и не пошел в университет, а прямо поступил на службу. В столь юных летах он был уже лет пять как женат. Умный, добрый, с проявлениями ко всему хорошему и со стремлениями не только жить честно, но и быть полезным ближним окружающим, — вот мечты и пожелания Леонида Николаевича Трефолева. Почти с первого свидания мы сошлись, и Леонид Николаевич был принят в нашем доме как родной. Он бывал у нас очень часто, чуть ли не ежедневно, и полюбил наших деток. Бывало, в летнее время он часто совершал прогулки за город с моим Сашей, и мы доверялись в этом совершенно Трефолеву. Хотя в одну из таковых прогулок Саша чуть не утонул. Дело в том, что они вздумали однажды купаться с плотов, а Саша, не умевший еще тогда хорошо плавать, попав в глубокое место, не мог справиться и начал тонуть. Промедление одною минутою стоило бы жизни нашему мальчику, но Трефолев вовремя подоспел, вытащил тонувшего и насилу привел его в сознание. Конечно, об этом случае мы узнали далеко после.
В заключение добавлю, что Леонид Николаевич Трефолев не только поэт в душе, но и поэт на самом деле: его томик стихотворений, изданный в 1894 году, преисполнен очень симпатичными и иногда щемящими душу произведениями. Его стихотворение, сказанное над гробом моей незабвенной жены, я помещу своевременно в своем месте. Здесь же, в заключение, помещу стихотворение, написанное им по поводу исполнявшегося 50-летия со дня появления в свет «Бедных людей» Ф. М. Достоевского. Но прежде изложу маленькую историю этого стихотворения. В начале нынешнего 1896 года в Ярославском артистическом кружке предположено было устроить вечер чествования памяти Ф. М. Достоевского по поводу исполнявшегося 50-летия со дня появления произведения его «Бедные люди» в свет. В программу этого чествования, между прочим, входило и прочтение стихотворения «Бедные люди» Трефолева, написанного им именно к этому случаю. Долго длилась процедура разрешения этого чествования; наконец разрешение пришло, и вечер назначен был на 15 марта, в пятницу; устроители вечера не разобрались в подробностях разрешения, и оказалось, что чтение стихотворения Л. Н. Трефолева «Бедные люди» было разрешено, но сам Леонид Николаевич не был утвержден как лектор. Узнав об этом и крайне разобидившись, он отобрал свое стихотворение и не позволил его прочесть постороннему лицу. При этом в городе прошли слухи, что недозволение это нужно мотивировать тем обстоятельством, что будто Трефолев находится под негласным присмотром полиции, а потому и сочтено неудобным допустить его публично как лектора. Так стихотворение и осталось непрочитанным, и так как оно нигде не напечатано и едва ли будет когда-либо напечатано, то я и привожу его здесь целиком:
БЕДНЫЕ ЛЮДИ
«Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах и говорит о них обитателям раззолоченных палат, „ведь это тоже люди, ваши братья!“».
Соч. Белинского, т. X, стр. 345. Бедность проклятую видят все смолоду: Словно старуха, шатаясь от голоду, В рубище ходит она под окошками, Жадно питается скудными крошками; В тусклых глазах видно горе жестокое, Горе, как море, бездонно-глубокое, Горе, которому нет и конца. Эта старуха мрачней мертвеца Не за себя возглашу ей проклятия: О человеке жалею я, братия!.. Ты надругалась руками костлявыми Над благородными, честными, правыми. Сколько тобою милльонов задавлено. Сколько крестов на могилах поставлено!.. Ты же сама не умрешь никогда; Ты вековечна, старуха-Нужда! «Бедные люди» — создание гения — Живы и вы!.. Вот уж два поколения (Ровно полвека) пред вами склоняются… «Бедные люди» живыми являются. Шествуют тихо толпою убогою Прежней печальной, тернистой дорогою, — Как при Белинском страдали они, Так и теперь — в современные дни! Девушкин бедный, чиновничек старенький, Верно, что жив ты; по-прежнему с Варенькой, С «маточкой» письмами часто меняешься; Верно, что ты пред начальством склоняешься. — Это начальство — бездушное, важное, Ценит ли сердце твое непродажное?.. Сердце — живой и святой чародей — Бьется в груди и у бедных людей. Сердце!.. Ты платишь проценты жидовские Жизни суровой: Горшковы, Покровские, Варенька, «маточка», страшною платою Вы расквиталися с жизнью проклятою! Но не убила она — бессердечная — Душу живую: Любовь вековечная Вас подкрепила! И слава тому, Кто осветил вас в кромешную тьму! (Обращаясь к портрету Ф. М. Достоевского) Слава тебе за бессмертный твой труд, В нем ты открыл «человека», — «Бедные люди» твои не умрут! Слава отныне до века!.. Л. Трефолев.Этим стихотвореньем теперь я и закончу свое повествование о Л. Н. Трефолеве.
* * *
Среди наших знакомых был и Владимир Иванович Веселовский, он занимал тогда место товарища председателя уголовного суда в чине коллежского асессора, был человек еще молодой, лет 35 или даже менее; бывший студент Московского университета, слушатель и почитатель Грановского, он представлял собою самого передового человека по тогдашнему времени. Милый собеседник, красно и дельно говорящий (хотя иногда и парадоксами), он невольно подкупал к расположению всякого вновь с ним познакомившегося. Этим же самым и мы были прельщены и укрепили наше знакомство еще крепче и теснее. С открытием новых судебных учреждений Веселовский был переведен в г. Пензу, а затем и членом окружного суда в Москву. Казалось бы, что наше знакомство должно было этим закончиться; но судьба судила иначе! В январе месяце 1868 г. умер мой зять Александр Павлович Иванов, заведовавший делами выживающей из ума тетушки Александры Федоровны Куманиной. Я тогда случайно был в Москве, и ко мне приступили все родные с бабушкою Ольгою Яковлевною во главе, чтобы войти в положение больной и престарелой тетки.
Я согласился хлопотать о признании тетушки лишенною ума и о назначении над ней опеки. Все родные опять-таки обратились ко мне с просьбою принять на себя звание опекун. Я отговаривался тем, что, как отсутствующий и не живущий постоянно в Москве, не могу принять на себя этого звания. Тогда меня упросили взять себе товарища, живущего в Москве, но только чтобы я был непременно опекуном. Я вспомнил тогда про Веселовского, объяснил ему все дело, и он согласился быть моим соопекуном, и мы оба назначены были в том же 1868 году опекунами над личностью и имуществом А. Ф. Куманиной.
Это обстоятельство нас сблизило очень, и я вплоть до окончания опеки, т. е. до смерти тетушки, был в постоянных сношениях с Веселовским. Впоследствии же, после смерти тетушки и по окончании опеки, он по просьбе моей был моим поверенным и руководителем по причитающемуся мне наследству. Обо всем этом будет подробно рассказано в своем месте и в свое время. Теперь же я упомянул вскользь об этом для того, чтобы выяснить причину моего дальнейшего знакомства с Веселовским.
Впоследствии Веселовский вышел в отставку из членов московского окружного суда и занялся в Москве адвокатурой. Сперва дела по адвокатуре пошли у него блестяще, но затем он начал манкировать работою и, кажется, вел дела не всегда честно, и дела его сильно пошатнулись. К тому же он начал сильно покучивать и, кажется, сделался деспотом в семействе. Жена его Александра Александровна этого не вытерпела и в одну из поездок мужа в провинцию по адвокатским делам, забрав все деньги (т. е. только свое приданое) или денежные документы, выехала от него с детьми, оставив записку, что более к нему не вернется.
Это окончательно свихнуло с панталыку Веселовского, и он начал пить. Впоследствии он поступил на службу товарищем-прокурора в одну из польских губерний, и я вовсе и окончательно потерял его из виду.
* * *
В ноябре месяце 1865 г. я, как губернский архитектор, был экстренно вызван в Петербург для участия в заседаниях по устройству зданий для новых судебных установлений, вводимых в 10 губерниях. Эта неожиданная командировка очень меня порадовала, так как губернатор все время относился ко мне недружелюбно, а командировка пришла помимо его воли, прямо из министерства. Я быстро собрался и 24 ноября был в Петербурге. Заседания происходили под председательством Марченко и длились до 2 декабря, когда нам было назначено представление министру Валуеву. Это был высокий, костлявый и сухой мужчина, лет 50–55, с чиновничьими петербургскими бакенбардами. Он произнес подобающую случаю речь, поклонился и пожелал доброго пути.
* * *
В Петербурге я виделся несколько раз с братом Фед. Мих. Он, между прочим, был у меня на вечеринке, которую я устроил у себя 30 ноября по случаю своих имении. Он был весьма оживлен, я редко видал его таким. Оказалось, что он, как и всегда, очень нуждался в деньгах.
По делам устройства помещений для новых судов мне несколько раз приходилось ездить в Москву для наблюдения за различными заказами. В одну из таких поездок, в июле 1866 г, я взял с собою старшую дочь Женечку и оставлял ее на несколько дней погостить в Люблине на даче у Ивановых. Там в это время жил и брат Федор Михайлович, который нанимал вблизи от Ивановых отдельную дачку. Он также принимал меня отлично, а мою дорогую Женечку просто на руках носил{121}.
* * *
В августе 1866 г. в Ярославле ожидался приезд наследника Александра Александровича. К приезду его устроили триумфальную арку. Постройка велась от города и строительного отделения не касалась. Раз как-то подрядчик, производивший работы, подбегает ко мне, когда я случайно проходил мимо ворот, и просит меня осмотреть постройку, так как он не уверен в ее прочности. Хотя это было и не мое дело, но я осмотрел сооружение и убедился, что, действительно, оно непрочно. Я рассказал об этом случае в строительном отделении и у вице-губернатора. Решили, чтобы я подал губернатору рапорт о виденном мною. Я рапорт подал от себя, не сообразив того, что лучше бы его подать от всего состава отделения. Губернатор положил резолюцию: «осмотреть всем составом технич. строит, комитета». Когда мы осмотрели и явились к губернатору с докладом, то у губернатора было какое-то заседание, но, впрочем, он сейчас же вышел к нам.
Казалось бы, он должен был обратиться с вопросом о положении дела к старшему по службе, т. е. к инженеру Бокшанскому. Но он, сверх ожидания моего, обратился ко мне, вероятно, как к лицу, возбудившему этот неприятный для него вопрос, причем в голосе его было слышно и раздражение, и угроза, и негодование, что сразу поставило меня тоже в оборонительное положение.
— Что ворота?
— Отвратительны и не представляют никакой гарантии в устойчивости.
— Я поручаю вам и возлагаю на вашу ответственность немедленно приступить к исправлению их и к приведению в прочное состояние.
— Этого поручения я принять на себя не могу, ваше превосходительство.
— Почему?..
— Потому что их нельзя исправить, их надо сломать и построить вновь.
— Какой же вы архитектор, когда отказываетесь и говорите, что не можете исправить такой пустяшной постройки?..
— Я такой архитектор, — возразил я более и более горячим тоном, — который умеет строить строения, которые бы не обваливались. Этим же воротам придана такая конструкция, что исправить нельзя. Их надо перестроить вновь; ежели вашему превосходительству угодно, то я возьмусь за перестройку их, и они будут готовы вовремя. Времени еще много, но, конечно, с тем условием, чтобы город предоставил мне к этому все средства.
— Теперь думать о перестройке поздно… Зачем вы раньше не донесли об этом? Вы живете там близко и всякий день ходили мимо строящихся ворот!..
— Ворота строились от города, и я считал себя не в праве осматривать постройку, которой не заведую. Нынче же, обратив случайно внимание на ее крайнюю непрочность, я счел долгом донести об этом губернскому правлению.
— Вы тормозите дело чествования городом ожидаемого наследника цесаревича; я буду писать об этом министру внутренних дел.
— У меня самого есть и голова и руки, я сам буду писать министру, — брякнул я, выйдя совершенно уже из всех границ терпения.
— Я буду жаловаться наследнику-цесаревичу, — разгорячился в свою очередь губернатор.
— Ну, этого, конечно, я уже не могу, — ответил, улыбаясь, я.
После этих слов губернатор, обратившись к Бокшанскому, попросил его остаться, а мы трое удалились и разошлись по домам. После я узнал от самого Бокшанского, что губернатор просил его, как говорится, Христом-Богом, принять на себя труд по исправлению и укреплению ворот, на что Бокшанский ответил, что постарается исполнить желание его превосходительства. Услышав это от самого Бокшанского, я пожелал ему полного успеха в этом деле!..
В назначенное время наследник-цесаревич приехал; он пробыл в Ярославле 2–3 дня. Погода была восхитительная, и весь городской прием вполне удался. Проводив наследника, город не торопился сносить устроенную триумфальную арку, которая была уперта четырьмя безобразными подпорками. Прошел весь август и почти весь сентябрь, погода все время стояла безветренная, и триумфальная арка, красуясь своими упорами, все еще оставалась неразобранною, и я слышал уже, что губернатор по желанию города хотел возбудить вопрос в министерстве о нанесении этой арки на городской план и оставлении ее навсегда в память посещения города наследником-цесаревичем; и все это, конечно, затевалось с тем намерением, чтобы высказать при этом министерству мое противодействие и торможение этого дела!
Так дело прошло до 26 сентября.
Был отличнейший солнечный день, но с небольшим северным ветром. Я заметил подъехавшего к моей квартире архитектора Линицкого, и вслед за этим он вбежал в мою квартиру, громко восклицая:
— Андрей Михайлович, Андрей Михайлович, что вы тут делаете, одевайтесь, поедемте смотреть, ведь ворота-то упали!..
Я мгновенно оделся, и мы через минуту были уже на месте обвала. Все сооружение, и вместе с упорами, было как косою подкошено под самое основание. На месте не было уже ни одного бревна, и мы увидали только вдали отъезжающие подводы, нагруженные оставшимся от падения материалом. Город моментально озаботился уборкою своих срамных деяний. На месте только остались нижние части стоек, возвышающиеся не более как на аршин выше земли. Они были срезаны все на одной высоте и оставались еще не вытащенными из земли. Но, впрочем, к полудню и их убрали.
* * *
Расскажу про одно курьезное происшествие, случившееся с ярославским городским головою в конце 1866 г. Это происшествие наделало тогда шуму и говору не только в Ярославле, до даже было описано почему-то в одесских газетах, так что батюшка в декабрьском своем письме спрашивал нас, правда ли все то, что описано в одесских газетах. Я не читал этой статьи, но здесь постараюсь рассказать все, как это случилось на самом деле в городе Ярославле.
В то время ярославским городским головою был 1-й гильдии купец Спиридон Анисимович Полетаев. Он торговал хлебом и имел свои мельницы и пароходы; торговлю вел бойко и считался тогда богатейшим человеком (впоследствии он обанкротился). Он был очень честолюбив, кроме медалей на шее имел орден Станислава в петлице, и все помышления его были сосредоточены на том, чтобы получить орден на шею. Он имел в Ярославле громадный дом, как бы дворец, который занимал весь сам. Дом этот впоследствии перешел во владение купца Черногорова, а в недавнее время куплен духовным ведомством под консисторию и ее учреждения.
Вот однажды в осень 1866 года к этому-то Спиридону Анисимовичу Полетаеву является какой-то полковник, увешенный орденами и с аксельбантами на плече, и спрашивает его, может ли поговорить с ним наедине. Хозяин ведет гостя в свой кабинет и усаживает на диван.
— Могу ли я с вами говорить здесь по секрету, нет ли поблизости посторонних ушей, которые могли бы подслушать нас? — спрашивает гость.
— Совершенно можете, господин полковник, не только в соседних, но даже и в отдаленных комнатах нет никого постороннего.
— Вот видите ли, г-н Полетаев, сюда в Ярославль под страшным инкогнито собирается приехать великий князь Константин Николаевич. Причину, зачем он приедет, я вам сообщить не могу, да вам не нужно ее и знать, но великий князь должен прожить здесь в Ярославле, в строгом инкогнито, дней десять или несколько более. Долго обдумывалось, где бы ему приличнее было остановиться. Наконец, выбор пал на вас и на ваш дом. Можете ли вы, в крайнем случае, недели на две уступить свой дом и принять великого князя?
— Помилуйте, господин полковник, даже за особую к себе милость и за особое счастье почту это!
— Ну да, ну да… Правительство так и думало, что не ошибется в вашем патриотизме. Но при этом одно условие, чтобы сохранена была строгая тайна во всем, что предстоит случиться; в доказательство же своего благоволения великий князь Константин поручил мне вручить вам следующее… — Тут полковник отпер свой портфель и, подавая Полетаеву запечатанный большой пакет, сказал:
— Тут знаки ордена св. Станислава 2-й степени и грамота на этот орден, который великий князь выхлопотал для вас у государя императора. Носите на здоровье, и дай Бог вам получить и высшие награды.
Полетаев распечатал пакет и в действительности нашел в нем и орден и грамоту на него на свое имя, с приложением орденской печати.
— Я нынче же должен выехать обратно в Петербург, чтобы доложить о вашем согласии, но мне первоначально нужно съездить в отделение банка, где я должен получить по переводу 5 тысяч рублей.
— А на обратном пути я буду просить вас, господин полковник, к себе откушать хлеба-соли…
— Принимаю ваше предложение и благодарю вас, только, пожалуйста, не задержите меня. Я очень спешу. Нельзя ли, чтобы к концу обеда были приведены и почтовые лошади, я и выехал бы от вас. Повторяю, я очень спешу.
Часа через два возвращается полковник прямо к обеду и в дорожном уже платье, с небольшим чемоданом. Во время обеда Полетаев заметил, что гость его не в духе, и полюбопытствовал о причине.
— Да гадкая история со мною приключилась; в вашем отделении банка еще не получено перевода на мое имя, так что я денег не получил. Теперь придется делать остановку в Москве и хлопотать по телеграфу о скорейшем переводе денег, а я крайне спешу в Петербург. Досада да и только!
— А много нужно денег, господин полковник?
— Да я ожидал перевода в 5 тысяч, но мог бы обернуться и тремя тысячами, ведь мне только на несколько дней.
— Да помилуйте, стоит ли и беспокоиться об этакой ничтожной сумме, да я сочту за счастье ссудить вас ею.
— Очень, очень вам благодарен, это избавит меня от остановки в Москве, а дня через три и никак не позже как через неделю вы получите переводом через отделение банка на свое имя эту сумму обратно. Еще раз благодарю вас.
— Так какими прикажете ассигнациями, крупными или мелкими?..
— Помельче, помельче, ведь мне не в складку, а для трат… Пообедали. Спиридон Анисимович вручил своему гостю объемистую пачку мелких ассигнаций на три тысячи рублей, и гость его сейчас же после обеда отбыл из Ярославля, не оставив и сведений, куда выехал.
Ждет Полетаев неделю, ждет две, нет ни перевода денег, ни слуху о приезде великого князя; только и утешается Спиридон Анисимович тем, что повесит себе на шею Станиславский орден и ходит по своим громадным залам, любуясь в каждом зеркале, как заманчивый орденок двигается из одной стороны в другую; поправляет его любовно и старательно Спиридон Анисимович и продолжает свою прогулку по комнатам.
Наконец, прождав месяц или полтора, невтерпеж стало долее ждать, и надевает Спиридон Анисимович на шею свой орден и отправляется к губернатору Ивану Семеновичу Унковскому.
Тот принимает его и большими глазами смотрит на его орден.
— А, здравствуйте, почтеннейший Спиридон Анисимович, что скажете новенького?.. — проговорил губернатор.
— Да вот, ваше превосходительство, хотел осведомиться у вас, скоро ли приедет в г. Ярославль его высочество великий князь Константин Николаевич?
— Да его вовсе и не ожидают в Ярославле…
— Ожидать-то, конечно, не ожидают, но он хотел приехать инкогнито. У меня был его адъютант и сообщил, что его высочество должен остановиться у меня… да вот все что-то нет!..
— Да вы по какой причине, Спиридон Анисимович, надели на шею этот орден?..
— Удостоился получить от великого князя Константина Николаевича через адъютанта его высочества, полковника М.
Тут Унковский взял колокольчик и, позвонив, сказал пришедшему на зов лакею:
— Тут сейчас прошел вниз доктор Недзвецкий, если он еще в канцелярии, то попроси его ко мне.
Через несколько минут является доктор, которому губернатор и говорит:
— А вот, Эдуард Фомич, освидетельствуйте, пожалуйста, нашего почтенного Спиридона Анисимовича; он как будто бы стал немного заговариваться!
Полетаев начал из себя выходить, утверждая, что к нему действительно приезжал адъютант великого князя и проч., рассказывая все подробности случившегося.
— Да не взял ли он у вас денег?..
— Занял на несколько дней небольшую сумму…
— А именно?..
— Да безделицу, всего три тысячи.
— Хороша безделица!.. А отдал он эту безделицу?
— Нет, обещал выслать переводом через отделение банка, но я еще не получил.
— Ну, так вот что я вам скажу, почтеннейший Спиридон Анисимович: эту безделицу в три тысячи вы выпишите в расход. Вы их никогда не получите. По всему видно, что у вас был мошенник… московский мазурик. И еще благодарите Бога, что не очень сильно поддел вас!.. А орденок снимите да спрячьте подальше… он вам не дешево обошелся, спрячьте… Может быть, вы удостоитесь получить его и не в виде награждения за мнимый прием великого князя, а за действительные заслуги. Жаль ваших денежек, плакали они… да что же делать!..
Так действительно и убедили в этом Полетаева, а впоследствии своим очень близким друзьям он говаривал: «Ведь не денег жаль… ну, их!.. А досадно то, что он и не просил их, ведь я сам навязался к нему с ними!»
Ну а чем же этот эпизод хуже фабулы, описанной Гоголем в «Ревизоре»? Некоторые говорят, что фабула «Ревизора» неправдоподобна; ну, а наш эпизодик есть действительное происшествие, случившееся не в каком-нибудь уездном захолустье, а в значительном губернском городе, и не в начале 30-х годов, а почти в начале 70-х!!
* * *
Настал 1868 г., и мы с женою 2 января, оставив детей на попечении близких знакомых, поехали в Москву и Петербург. В Москве мы виделись со всеми родными, но у нас и в помыслах не было, что один из них близок к смерти.
На обратном пути из Петербурга, приехав к тетушке часу во втором дня, мы были удивлены, что не застали дома бабушку Ольгу Яковлевну. На вопрос наш, куда она уехала, нам сказали, что она у Ивановых, потому что Александр Павлович Иванов при смерти болен. Оставив Домнику у тетушки, я сейчас же, даже не переодеваясь, поехал к Ивановым, которые тогда жили в казенной квартире при Константиновском межевом институте. Я застал Александра Павловича уже в предсмертной агонии, и он вскоре при мне же и скончался. Уезжая в Петербург, мы видели его бодрым и здоровым и вот через 10 дней застали его уже мертвым! Причина столь неожиданной кончины, как говорили тогда, была следующая: у одного из воспитанников межевого института сделалась какая-то злокачественная опухоль под мышкою правой руки. Александр Павлович, как институтский врач, пользовавший этого воспитанника, оказался вынужденным сделать операцию и вырезать эту опухоль, что успешно и исполнил. Но делая операцию, он не обратил внимания, что у него самого на руке была небольшая язвинка. Гной больного, попавши на эту язвинку, заразил и самого оператора, и он заболел тою же болезнью, как и студент, т. е. тою же злокачественною опухолью. Удачная операция спасла студента, и он выздоровел, и была причиною смерти самого оператора! Бедная сестра Верочка была вне себя от ужаса. Остаться в молодых летах (39 лет) беспомощною вдовой с десятью сиротами, из коих старшая была уже совершеннолетняя, а младшие совершенные еще дети. Сам Александр Павлович умер далеко еще не стариком, ему было с небольшим 50 лет (52–53 года).
Александр Павлович последнее время заведовал делами тетушки и был назначен ее душеприказчиком. Дела же тетушки были в сильном расстройстве. Дело в том, что бабушке Ольге Яковлевне, которая, за болезнью тетушки, почти всем распоряжалась самовольно (и некому было сдержать ее в границах законности), показалось мало законных 5 %, которые они получали с капитала, оставленного дядею, каковых процентов получалось ежегодно свыше 8 тысяч рублей. И вот с помощью Александра Павловича были подысканы частные лица, которые взяли все почти капиталы тетушки из 10 % под залоги недвижимых имений; они внесли вперед проценты за первый год, а на втором уже отказались платить их, говоря и распространяя слухи, что дураков еще в Москве не мало, которые дают чистые денежки под залоги, не стоящие и половины взятой суммы. Таким образом, тетушка осталась и без капиталов, и без процентов, на которые можно было бы жить. Видя такое безвыходное положение, бабушка Ольга Яковлевна хватилась за меня, как утопающая за соломинку, и случилось то, что описано мною выше на страницах этих воспоминаний, т. е. что меня упросили согласиться быть опекуном над личностью и имуществом тетушки Александры Федоровны, совместно с Владимиром Ивановичем Веселовским.
Для официального освидетельствования тетушки в ее умственных способностях к ней, как уважаемой личности, все присутствие приехало на дом в лице губернатора, обер-полицмейстера и советников губернского правления и, конечно, докторов. На все вопросы должностных лиц тетушка только и говорила: «Ключики, ключики, ключики…» и «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй!» Конечно, ее признали больною. Я еще не был назначен опекуном над теткою, а уж меня начали бомбардировать письмами сестры. В письме ко мне сестра Варвара Михайловна жалуется на бабушку Ольгу Яковлевну, говоря, что она в один год прожила более 15 тысяч рублей, и что в настоящее время, видимо, передает многие вещи (как, например, некоторую мебель) лакею Василию, который со смерти дяди все еще продолжал у них жить со всем своим семейством. При этом сестра комично говорит, что хочет высказать все это бабке и поссориться с ней… но тут же, как бы спохватившись, спрашивает, можно ли это, т. е. не великий ли в этом риск? Видимо, что они все понимали, что бабка поступает неправильно и незаконно, но все боялись и слово вымолвить против ее распоряжений, боясь заслужить ее гнев.
В другом письме от 12 июня Варвара Михайловна вновь жалуется на своевольство бабки Ольги Яковлевны, но грубить ей, как видно, не решалась, и проводит мысль, нельзя ли устранить бабку от заведования делами тетки с пенсиею в 500 рублей (каково!!), а тетушку поместить у сестры Верочки. Такие грандиозные планы как пенсион бабке в 500 рублей и отдачу тетки на прокормление сестре Вере Михайловне возникли в головах сестер, верно, при том предположении, что на содержание тетки по-прежнему можно будет тратить по 7–8 тысяч в год. Но как это оказалось впоследствии невозможным, то и мечты их разлетелись как мыльные пузыри.
Сестра Вера Михайловна тоже писала ко мне 3 июня и просила вообще о помощи из опекунских средств. Какой наивный цинизм! Как будто бы это можно было сделать, не делая обманов и подлогов! И, в конце концов, тоже проводила мысль о передаче ей тетушки на прокормление. Но эти мечты, как и помянутые выше, оказались только мыльными пузырями.
Наконец 16 июня я получил уведомление от Веселовского о назначении нас обоих опекунами над личностью и имуществом дворянки А. Ф. Куманиной. Указ об этом дворянской опеки последовал 10 июня 1868 года, общий на нас обоих. В письме своем Веселовский просил меня немедленно приехать в Москву для совещаний о совместных наших действиях как опекунов.
Я в Москву поехал и тут в первый раз в подробности познакомился с завещанием тетушки. Об нем я слышал мельком от бабушки, которая упомянула, что в этом завещании и я не забыт и что мне назначено 10 тыс. рублей, но в точности я завещания не знал и не был уверен, что и я состою одним из наследников к имуществу тетушки. Вот этот документ:
Во имя Отца и Сына и Святого духа, аминь. Я, нижеподписавшаяся, дворянка Московской губернии Александра Федорова, дочь Куманина, находясь в здравом рассудке и твердой памяти, пожелала заблаговременно распорядиться принадлежащим мне денежным капиталом и движимым имуществом, которое после смерти моей назначаю последующим лицам таким образом: из капитала моего, заключающегося в государственных банковых 5 % билетах, выделить родным племянникам моим: коллежскому асессору Андрею Михайлову Достоевскому десять тысяч рублей. Коллежскому асессору Николаю Михайлову Достоевскому девять тысяч рублей. Племянницам моим: супруге действительного статского советника Вере Михайловне по мужу Ивановой двадцать тысяч пятьсот рублей. Супруге полковника Александре Михайловне по мужу Голеновской двадцать тысяч пятьсот рублей. Вдове надворного советника Варваре Михайловне по мужу Карепиной десять тысяч двести пятьдесят рублей. Вдове коллежского советника Анне Григорьевой по мужу Казанской две тысячи пятьдесят рублей. Вдове коллежского секретаря Марье Григорьевой по мужу Ивановой две тысячи пятьдесят рублей. Дочерям коллежского советника Дмитрия Ивановича Ставровского девицам Ольге и Анне каждой по две тысячи рублей. Внукам моим капитану Павлу Петровичу Казанскому две тысячи шестьсот рублей. Поручику Петру Петровичу Казанскому и прапорщику Константину Петровичу Казанскому каждому по одной тысяче рублей. Дочерям отставного подпоручика Михаила Михайлова Достоевского девицам Марии три тысячи триста рублей и Екатерине три тысячи рублей, которые и предоставляю душеприказчику выдать им по выходе их в замужество или по достижении совершеннолетия.
Сестре моей, супруге коллежского секретаря Ольге Федоровне по мужу Шер десять тысяч двести пятьдесят рублей. Московской купчихе вдове Ольге Яковлевне Нечаевой десять тысяч двести пятьдесят рублей. Воспитаннице моей московской мещанке Лидии Васильевне Поляковой пять тысяч рублей. Дочери покойного духовника моего, бывшего священником при Козьмодемьянской, что на Покровке, церкви, отца Симеона девице Елисавете Семеновой две тысячи рублей. Служившей при мне московской мещанке девице Ирине Архиповой триста рублей. Из четырнадцати тысяч рублей, остающихся за вышесказанным выделом капитала моего назначаю: восемь тысяч на погребение тела моего и для подачи на поминовение моей души, равно и на расходы по исполнению моего духовного завещания и шесть тысяч в Козьмодемьянскую, что на Покровке, церковь, с тем, чтобы с полученных с сего капитала процентов половина поступала бы на украшение церкви, а другая половина в пользу священно-церковных служителей той церкви на вечное поминовение души моей. Что касается до движимого имущества, принадлежащего мне, то назначаю из оного: все серебро, заключающееся как в столовой и чайной посуде, так и в разных вещах, равно весь гардероб мой, меховые вещи, посуду фарфоровую, фаянсовую, хрустальную и медную, часы и бронзу предоставляю трем племянницам моим: Вере Ивановой, Александре Голеновской и Варваре Карепиной, которым разделить все означенное между собою поровну и полюбовно. Экипажи мои, лошадей, всю находящуюся в занимаемом мною доме мебель, библиотеку, картины, ковры, зеркала, кухонную каменную, деревянную, железную посуду и громоздкие хозяйственные принадлежности завещаю продать и из вырученных денег одну часть употребить на раздачу прислуге моей, которая во время кончины моей будет находиться при мне, а другую часть раздать бедным на поминовение моей души. Буде, волею Божьею, кто-либо из упомянутых здесь наследников моих окончит жизнь прежде меня, то назначенная ему от меня часть должна поступить его законным наследникам. Так как племянники мои отставной подпоручик Михаил Михайлов Достоевский и отставной подпоручик Федор Михайлов Достоевский и остальные мои родственники получили уже от меня награды, то дальнейшего участия в наследстве по сему завещанию иметь не должны. Для исполнения воли моей, изъясненной в сем завещании, назначаю душеприказчиком действительного статского советника Александра Павловича Иванова, которого и прошу исполнить все выраженное здесь в точности. В распоряжениях его по продаже движимого имущества и назначению вырученных за то денег никому из наследников моих от него, Иванова, отчета не требовать, равно и восемью тысячами, назначенными мною на погребение и раздачу бедным и на другие расходы волен он распорядиться безотчетно по своему усмотрению. Так как принадлежащий мне капитал заключается в государственных 5 % банковых билетах, то для выдачи каждому из наследников моих назначенной ему части имеет г. душеприказчик сказанные билеты обменять на таковые же, причем предоставляется на усмотрение его: написать ли билеты на имя каждого наследника или на предъявителя. При выдаче назначенных частей, те суммы, которые не могут быть обращены в 5 % банковые билеты выдавать наличными деньгами, применяясь к биржевому курсу билетов. Причем присовокупляю, что если по смерти моей останется капитала моего недостаточно для выдачи сполна наград наследникам, то душеприказчик обязан сделать расчет, сколько придется каждому из моих наследников на рубль назначенной ему награды, а если после смерти останется лишний капитал за выдачею наследникам наград, то остающуюся сумму душеприказчик может употребить на раздачу бедным по его усмотрению. Аминь. Москва. Сентября 20 дня 1865 года. — Сие духовное завещание со слов завещательницы дворянки Александры Федоровны Куманиной, при здравом ее рассудке и твердой ее памяти, сочинял и набело писал губернский секретарь Матвей Петров Алябин. К сему духовному завещанию дворянка Александра Федоровна Куманина руку приложила. — Что сие духовное завещание по юле завещательницы дворянки Александры Федоровны Куманиной писано губернским секретарем Матвеем Петровым Алябиным и ею лично при мне подписано, при здравом ее уме и твердой памяти, в том свидетельствую и подписуюсь коллежский асессор, доктор медицины, Эрнест Федорович Шуберский. — Что сие духовное завещание по воле завещательницы дворянки Александры Федоровой Куманиной писано губернским секретарем Матвеем Петровым Алябиным и ею лично при мне подписано, при здравом уме и твердой памяти, в том свидетельствую и подписуюсь подполковник Павел Лаврентьев Протопопов. — Что сие духовное завещание по воле завещательницы дворянки Александры Федоровны Куманиной писано губернским секретарем Матвеем Петровым Алябиным и ею лично при мне подписано, при здравом ее уме и твердой памяти, в том свидетельствую и подписуюсь поручик Владимир Михайлов Сахоцкий. В том же свидетельствую и подписуюсь коллежский секретарь Гавриил Федоров Асафов.
Нельзя лучше и обстоятельнее познакомиться с каким-либо документом, как переписав его своеручно. И теперь, переписав вполне документ завещания тетушки Александры Федоровны, я несколько поражаюсь следующими аномалиями:
1) Отчего свидетелем при этом домашнем завещании не числится приходский священник церкви Козьмы и Демьяна и духовник завещательницы Петр Алексеевич Смирнов (ныне протоиерей и настоятель Исаакиевского собора в Петербурге)? При религиозности тетушки и при сложившемся мнении, что свидетельство священника и духовника сильнее других свидетельств, — этот пробел ничем иначе нельзя объяснить, как тем, что Петр Алексеевич Смирнов затруднился в свидетельстве и удостоверении, что завещательница в сентябре 1865 года была в здравом уме и твердой памяти. Как я знаю, действительно этого здравого ума и этой твердой памяти 20 сентября 1865 г. у тетушки уже не было.
2) Отчего все свидетели, кроме доктора Шуберского, который был домовым врачом и знал хорошо завещательницу, собраны были, как говорится, с бору да с сосенки, вовсе незнакомые и не знавшие тетушки люди, а именно: подполковник Протопопов, поручик Сахоцкий и Асафов, который, как пиявка, успел присосаться и к этому делу!.. Отчего не было приглашено лиц хорошо знакомых и знающих тетку и не состоявших ее наследниками, например никто из Куманиных, которые все, состоя в дворянстве, могли быть свидетелями у тетушки?.. Делая такое замечание, я невольно навожу тень на добросовестность свидетелей, но из этого долгом считаю исключить доктора Шуберского, который знал тетку с давних времен и был свидетелем на первом ее завещании, составленном в начале 1864 года, когда тетка действительно еще обладала памятью. Завещание же 1865 года ничем существенным не отличалось от первого, составленного в 1864 году.
Далее, разбирая в подробности завещание 1865 года, видно, что со времени этого завещания у тетки находился капитал в 5 % бумагах на сумму 131 тыс. руб. серебром. Ежели прибавить к этой сумме 20 тыс., которые взяли братья Михаил Михайлович и Федор Михайлович сперва взаймы по векселю, а затем по завещанию исключенные из наследников (так как эта сумма зачлась им в награду), то образуется сумма в 151 тыс.; а ежели к этой сумме прибавить 15 тыс., на которые надул тетушку душеприказчик по первому завещанию Александр Тимофеевич Неофитов{122}, то образуемая сумма в 166 тыс., очень близкая к 170 тыс., оставленным тетке дядею. Значит, со смерти дяди почти в два года издержано было из капитала только какие-нибудь 4 тыс. Но ведь бабулечка совершила в июне — июле 1865 года грандиозную поездку в Киев (в то время не было железнодорожного пути) в двух экипажах, т. е. с приживалками и с прислугою, — а это ведь стоило денег! Но во всяком случае к сентябрю 1865 года имелся еще наличный капитал в 131 тыс. руб., приносивший процентов 6550 рублей. Казалось бы, жить бы да и жить припеваючи на эти более чем достаточные средства, при готовой квартире и обстановке. Ведь жили же они впоследствии, тоже ни в чем нужном себе не отказывая на средства в 2–3 тысячи рублей. И ежели бы предположить, что душеприказчиком и главным советником и руководителем была личность поопытнее и поэнергичнее Александра Павловича Иванова, то, конечно, тетушка до конца жизни была бы при капитале, а по смерти ее были бы удовлетворены полностью все наследники следующими им частями. Но Бог судил иначе. Бабушка любила-таки потранжирить, Александр Павлович очень был неопытен в денежных делах и притом очень доверчив, как же пиявке Асафову, знакомому со всем этим, не погреть было руки! И вот он сосводничал Александру Павловичу Яковлевых и Лазаревых-Станищевых, доказывая ему, что 10 % лучше 5 %, а что люди эти богачи, и имения, предложенные в залог, чуть ли не золотое дно; и что занимая у тетки деньги из 10 %, они чуть ли не благодеяние делают этим. Александр Павлович соблазнился, и дело было сделано.
Теперь посмотрим, в каком виде и в каком положении были дела в июне 1868 года, когда опека приняла в свое заведование все имущество тетки Александры Федоровны.
Вот что значилось в первом нашем отчете в дворянскую опеку за 1869 год:
Имение госпожи Куманиной при поступлении в опеку заключалось:
а) в закладной крепости на имение госпожи Яковлевой Рязанской губернии и уезда, заложенной 21 октября 1865 года, в сумму 45 000 руб.;
б) в закладной крепости на дом в г. Туле госпожи Лазаревой-Станищевой, на сумму 20 000 руб.;
в) в закладной крепости на имение г-на Лазарева-Станищева Тульской губернии и уезда, на сумму 20 000 руб.;
г) в закладной крепости на дом господина Карепина в Москве, на сумму 10 000 руб.;
д) в закладной крепости на землю, оставшуюся от надела крестьян Смоленской губернии, Ельнинского уезда, принадлежащую г-ну Баталину, в сумме 4600 руб.;
е) в векселе статской советницы Елизаветы Егоровны Неофитовой от 15 августа 1867 года на один год, на сумму 5000 руб.;
ж) в сохранной расписке жены полковника Голеновского от 8 июня 1866 г., на сумму 1000 руб.;
з) в долговой расписке умершего действительного статского советника Александра Павловича Иванова, на сумму 1300 руб.;
и) в 5 % банковых билетах первого выпуска с отрезанными купонами на 1 мая 1868 года, на сумму по номинальной цене 6000 руб.;
к) в различной движимости и домашних принадлежностях, подробно описанных и исчисленных в представленной в опеку описи.
Итого денежных документов оказалось на сумму 1 12 900 руб. Менее против бывшего при написании духовного завещания на сумму 18 100 руб.
Ежели к этим 18 100 руб. прибавить проценты за один хотя год (потому что при выдаче капиталов они, вероятно, удержали проценты за год вперед) с общего выданного капитала (а, б, в, г и д) 99 600 руб., 10 % с которого составляют 9960 руб., и затем ежели с остального капитала 13 300 положить хотя половинную часть % (ввиду того, что капитал этот за выдачею различных подачек родственникам уменьшался), то за три года получится % 1990 рублей, — получается результат, что не в полные три года прожито в общей сложности свыше 30 тыс. рублей, что составит в год свыше 10 тыс. рублей! Видно, что бабулечка жила на славу!! Правда, при этом расчете не было взято в соображение, что при размене билетов капитал несколько уменьшился, но, во-первых, уменьшение это не столь значительно, а во-вторых, распорядители были не дети и должны были рассчитать эту убыль, что и должно быть поставлено им в счет.
Но обращаюсь к прерванному рассказу.
Подробную опись всему имуществу тетушки я поторопился составить как можно скорее. Опись эту я составлял в присутствии сестры Варвары Михайловны, которая, зная все мелочи жизни тетушки, лучше знала и имущество ее. Опись была окончена, но тут-то пришлось дожидаться члена опеки, который наконец и соблаговолил пожаловать только в пятницу 28 июня. В этот же день опись была окончательно всеми подписана, которую я и отдал Веселовскому для представления в опеку.
В июле я получил письмо и от бабушки Ольги Яковлевны, которая уведомляла меня, что они переезжают из дома Куманиных (по завещанию дяди, в доме этом должна была жить тетка до смерти, а после смерти дом поступал в род Куманиных) на частную небольшую квартиру, в том же Козьмо-Демьянском переулке в доме Чернова близ самой церкви Козьмы и Демьяна. Переезд этот был решен еще в мое пребывание в Москве по той причине, что содержание в исправности большого дома должно вызвать необходимость содержать прежнее число прислуги, что при предстоящих средствах допустить было невозможно. Бабушка писала, что переезд их состоится в начале августа. Итак, выезжая в июне месяце из дома тетки, я последний раз простился с этим домом, столь долгое время бывшим для меня чем-то особенно родственным и приятным.
В марте 1869 г. я опять ездил в Москву по делам опеки, и тогда же мы с Веселовским решили выдавать на содержание тетушки по 250 рублей в месяц, т. е. не более 3 тыс. руб. в год. Конечно, решение это мы тогда же высказали сестрам, и они не только не находили, что это много, но даже выражали мнение, что подобное содержание для тетушки, привыкшей жить в роскоши, довольно скудно!
В письме, полученном мною от Веселовского 29 сентября, Веселовский переслал мне письмо, адресованное ему из Дрездена братом Федором Михайловичем. Письмо это настолько интересно, что я помещаю его здесь целиком; вот оно{123}.
Дрезден 14/26 августа 69 г.
Милостивый Государь Владимир Иванович!
На днях я получил от Аполлона Николаевича Майкова, из Петербурга, первое известие о смерти тетки моей, Александры Федоровны Куманиной, в Москве, и о том что Вы, вместе с братом моим Николаем Михайловичем, — опекун Достоевских, т. е., конечно, детей брата моего, покойного Михаила Михайловича Достоевского. Вместе с тем Аполлон Николаевич сообщает мне (узнав об этом от знакомого Вашего г-на Кашпирева, издателя журнала «Зари»), что Вы выражали мнение, что так как в завещании Алекс. Фед. Куманиной есть статья, по которой 40 000 руб. назначаются в какой-то монастырь и что так как покойная Александра Федоровна была уже не в своем уме, когда это завещание писала, «то статью эту и завещание можно легко[41] уничтожить». При этом Аполлон Николаевич присовокупляет Ваши слова (узнав о них все через того же г-на Кашпирева), что если б я изъявил Вам, хотя бы письмом, свое согласие о начатии дела, то Вы бы не отказались начать хлопотать о нарушении завещания.
Прежде всего позвольте Вам изъявить искреннюю мою благодарность за внимание к интересам моим и Достоевских, а затем позвольте прямо приступить к делу.
Во-первых, я только что теперь узнал от Аполлона Николаевича не только о статье завещания, но даже о самой смерти тетки. Никто меня не уведомил. А потому позвольте прежде всего обратиться к Вам с убедительнейшею просьбою сообщить мне письмом сюда, в Дрезден, о том: когда именно умерла тетка? в чем (хотя бы вкратце) состояло ее завещание? Что досталось Достоевским и Николаю Михайловичу? что досталось Ивановым и Андрею Михайловичу Достоевскому? Затем что досталось остальным родственникам, племянникам и внукам Александры Федоровны и, главное, Ольге Яковлевне Нечаевой (жившей с нею и ходившей за ней), которую мы все, Достоевские, называем нашею бабкой, жива ли она и совершенно ли здорова? (Я считаю, что в деле о нарушении завещания, если б оно началось, мнение Ольги Яковлевны может иметь чрезвычайную важность.)
Во-вторых, прямо и окончательно спешу Вам высказать, что если действительно завещание тетки подписано ею уже в то время (т. е. в те последние годы ее жизни), когда она была не в своем уме, то я со всею готовностью рад начать дело о нарушении завещания и убедительнейше просить Вас принять в этом деле участие и руководство. В последние годы ее жизни (т. е. в 1866 и 67-м годах, — ибо в 68 и 69-м годах я уже был за границей) я видел тетку несколько раз и очень хорошо помню, что она была, в то время, совершенно не в своем уме. Хотя я ничего не знаю о завещании, но, может быть, действительно ее первоначальное завещание (если таковое существовало) подверглось изменению в эти последние годы. — Вам, конечно, до точности это известно. Но если мысль об оставлении такого капитала монастырю зародилась еще прежде, давно, в то время, когда тетка была в полном своем разуме, и, стало быть, была действительным и сознательным желанием ее, то как же мог бы я идти против ее воли? И как же можно в таком случае надеяться на успех дела, когда монастырь докажет через свидетелей, что завещание ему капитала было первоначальною и всегдашнею мыслию тетки?
Излагая это, обращаюсь к Вам, многоуважаемый Владимир Иванович, единственно с убедительнейшею просьбою об разъяснении мне главной сущности этого дела и какие, собственно, могут быть главнейшие надежды его выиграть? Затем обращаюсь к Вам — в случае, если Вы все в тех же мыслях и при тех же взглядах, как передавал Аполлону Николаевичу г-н Кашпирев, — с просьбою руководить меня, наставить меня в подробностях, разъяснить мне некоторые пункты, о которых я не имею понятия (например, надо ли, чтоб еще кто из Достоевских и вообще из наследников начал дело вместе с нами, если нет, то не будет ли кто из них заинтересован противустать ходу этого дела и вредить ему?).
Вообще, я вижу, что неразъясненных вопросов и фактов в этом деле для меня чрезвычайно много. Во всяком случае покорнейше прошу Вас написать мне обо всем этом сюда, в Дрезден. Сообщенному мне Аполлоном Николаевичем известию о Вашем мнении и взгляде на это дело и о выраженном Вами участии к моим (и Достоевских) интересам я не могу не дать полной веры или предположить в передаче г-на Кашпирева Аполлону Николаевичу ошибку. А потому, повторяя Вам мою благодарность, льщу себя надеждою, что Вы не рассердитесь на меня за то, что отягощаю Вас просьбою о подробном разъяснении оных обстоятельств. Если право за нас и надежда выиграть дело с нашей стороны, то как же можно не воспользоваться обстоятельствами и не начать дела? Вот мое мнение.
Адрес мой: Allemagne, Saxe, Dresden a M-r Theodore Dostoiewsky poste restante.
Примите уверение в моем искреннем к Вам уважении.
Честь имею пребыть, милостивый государь, покорнейшим слугою Вашим
Федор Достоевский.
P. S. В Дрездене, по обстоятельствам, я пробуду довольно долго, по крайней мере всю зиму. Достоевский.
Пересылая это письмо ко мне, Веселовский предоставил мне отвечать на него брату, так как мне также известно все дело, как и ему. Насчет неверности сообщения Кашпирева он, хотя и уклончиво, но выразился, что это пустые сплетни. Очень жалею, что письмо Веселовского, при котором он переслал мне письмо брата, какими-то способами затерялось, и я не помню выражений его разъяснения.
Получив это письмо, я тотчас же, т. е. на 2-й день, ответил брату Федору Михайловичу в Дрезден. Деловая часть письма этого осталась у меня в копии, и хотя оно есть в некоторых частях повторение уже изложенного выше, но я все-таки помещаю здесь целиком эту деловую часть ответа своего. — Вот что и в каких выражениях отвечал я брату Федору Михайловичу.
Ярославль. 30 сентября 1869 года. Милый и дорогой брат мой Федор Михайлович!
Ты, я думаю, очень удивишься, получив от меня это довольно длинное письмо после долгого обоюдного молчания. Письмо это есть ответ на твое, адресованное из Дрездена к Владимиру Ивановичу Веселовскому от 14/26 августа сего года, которое Веселовский в подлиннике переслал мне, с просьбою отвечать тебе, так как дело, которым ты интересуешься, известно мне столько же, как и ему.
Прочитав письмо это, я увидел, что до тебя дошли ложные слухи через гг. Майкова и Кашпирева и что ты совершенно незнаком с делом, о котором пишешь Веселовскому: а потому нынче же, т. е. в день получения твоего письма, берусь за перо с целью посвятить тебя во все подробности дела. Но предварительно скажу тебе, что тетушка А. Ф. Куманина жива и по настоящее время, и как слышно, по письмам, пользуется, принимая во внимание лета, хорошим здоровьем, ежели не включать сюда состояния ума и памяти, которые она давно уже совершенно потеряла. Сделав эту оговорку, приступаю к изложению дела и постараюсь познакомить тебя с ним сколь возможно подробнее.
О существовании завещания, сделанного тетушкою А. Ф., я впервые узнал в декабре 1864 года, когда приезжал из Екатеринослава в Москву и Петербург. Узнал я это тогда от бабушки Ольги Яковлевны, которая при этом сказала мне, что и на мою долю завещано 10 тыс. рублей и что душеприказчиком назначен некто Александр Тимофеевич Неофитов (не знаю, известна ли тебе эта личность, но я знавал его еще мальчиком, когда жил в доме дяди Александра Алексеевича после смерти папеньки); вот и все, что узнал я тогда и, кажется, сообщал об этом и тебе (ты, вероятно, помнишь приезд мой в Петербург с женой и семейством в конце 1864 г.). После этого я несколько раз бывал в Москве и Петербурге и постепенно знакомился с делом. В проезд мой через Москву летом 1865 г. я ничего не мог узнать за выездом тетки и бабушки в Киев. В конце 1865 года, когда я был в Петербурге по делам службы и виделся с тобою, я во время пребывания в Москве узнал, что вследствие арестования Неофитова по случаю подделки им свидетельства на 5 %-ные билеты и вследствие того, что он обманул и тетушку на 15 тыс. руб., — завещание переписано, что Неофитов вовсе исключен из числа наследников и что душеприказчиком назначен Александр Павлович Иванов. Тогда же мельком услыхал я от сестры Верочки, что А. П. для усиления процентов распорядился капиталами тетушки, разменяв 5 %-ные билеты и отдав деньги в частные руки под залог различных имений, но дальнейших подробностей никаких не знал. После этого я неоднократно бывал в Москве и в Петербурге в 1866 и 1867 годах, но ничего положительного о ходе дел мне не было сообщаемо, потому что покойник Александр Павлович как-то всегда избегал об этом в разговорах. Наконец, в поездку мою в Петербург в генваре 1868 года дело это для меня совершенно объяснилось: в Москве от сестры Варвары Михайловны, а в Петербурге от сестры Саши я постоянно слышал, что дела тетушки приходят в совершенный упадок, что бабушка Ольга Яковлевна распоряжается всем без всякого контроля, что Александр Павлович, по доброте своей, нисколько ей не препятствует и т. п., и т. п. Обе сестры сильно подстрекали меня войти в это дело и познакомиться с ним обстоятельнее. Но обстоятельства познакомили меня с этим делом помимо всякого с моей стороны домогательства. Дело в том, что на возвратном пути домой я приехал в Москву в день смерти Александра Павловича. Тогда-то бабушка ухватилась за меня, как говорится, обеими руками и просила рассмотреть дело и помочь ей советом. Оказалось, что все почти капиталы розданы в частные руки под залоги, что ни один из кредиторов не только не уплатил к сроку капитала, но даже не уплатил и процентов; что наличных денег очень мало. Что с кредиторами нужно судиться. Что вследствие потери памяти тетушка не может сделать никакой законной доверенности по вытребованию денег от кредиторов. Что было делать в таком случае?.. Судили… рядили… и все-таки пришли к убеждению, что нужно просить о назначении опеки над тетушкою и ее имением вследствие расстройства ее здоровья. В это-то время я познакомил господина Веселовского со всеми нашими московскими родными, с ним я давно уже дружески знаком, и он-то, как юрист (ныне член московского окружного суда), был приглашен на семейное совещание по делу тетушки.
Пробыв лишнюю неделю в Москве, я был свидетелем, как сестры и другие московские родные подали прошение к генерал-губернатору о назначении опеки, прописав вышесказанные обстоятельства. После этого я уехал домой в Ярославль. Следствием этого прошения было формальное освидетельствование тетушки в ее умственных способностях через всех членов губернского правления в присутствии губернатора. Конечно, оказалось, что способности все утрачены. Через несколько месяцев сенат утвердил опеку. Но кого избрать опекуном?.. Нужно было и честного человека, и притом юриста. Сестры обратились с просьбою к Владимиру Ивановичу Веселовскому, который после долгих отказов принял на себя эту обузу, с единственным условием, чтобы и я, хотя и отсутствующий, был назначен опекуном ему в товарищи. Меня просили, и я тоже должен был согласиться.
Итак, видишь, любезный брат, что г-н Веселовский и я (а не Николя, как видно из твоего письма) назначены опекунами собственно над тетушкой и ее имуществом, а вовсе не над малолетними Достоевскими и что обязанности наши по опеке должны сами собой уничтожиться со днем смерти тетушки.
В июне месяце 1868 года я получил указ из московской дворянской опеки о назначении меня опекуном и о том, чтобы я с другим опекуном, г-ном Веселовским, принял в заведование все имущество тетушки и чтобы опись всего имущества была представлена в опеку. Вследствие этого я немедленно отправился в Москву и там в присутствии сестер была сделана подробная опись имущества.
Имение г-жи Куманиной (как значится в описи) при поступлении в опеку заключалось[42].
Вот, что осталось от 170-тысячного капитала, оставленного тетушке дядею: до 107 тысяч долговых свидетельств и 6000 билетами, что составляет менее 5 тыс. руб. наличными! Не правда ли, мыльный пузырь! Из показанных кредиторов только один Карепин по первому требованию уплатил весь капитал в 10 000 р. Остальные же кредиторы не только не уплатили денег и процентов, но еще подсмеиваются, говоря, что в Москве непочатый угол дураков, чтобы давать такие суммы.
Имение Лазаревых-Станищевых, под залог которого выдано 40 000 рублей, при продаже оценено менее 10 000 руб., а потому оставлено за тетушкою, и она уже введена во владение. По закладной Яковлевых ведется процесс, и имение назначено в продажу. Не знаю, сколько за него будут давать, вероятно, тоже безделицу. По баталинской закладной тоже ведется процесс. По остальным закладным и распискам ничего еще не предпринято, вследствие родственных отношений кредиторов к опекаемой и вследствие того, что и взять-то с них нечего! Но, вероятно, опека скоро намылит нам за это голову!
В это же время, т. е. при составлении описи имущества, я прочел в первый раз и духовное завещание тетушки, т. е. последнее, составленное 20 сентября 1865 года. Вот тебе подробная выписка содержания его[43]:
Итак, по завещанию, составленному 20 сентября 1865 г., имелось денег 5 %-билетами 131 050 руб.! (вероятно, несколько более, что оставлялось на прожитие), а в июне месяце 1868 года осталось только 6000 руб. и мыльные пузыри в долгах. Жалко, очень жалко!!
Итак, прикинем и расчислим: тетушка может прожить еще года два-три и более, следовательно, 6 тыс. р. в билетах, т. е. около 5 тыс. чистыми деньгами, да 10 т. р., полученных от Карепина, едва хватит на прожитье, ведение процессов и погребение. Они проживают и теперь до 4 тыс. р. в год, хотя переменили квартиру и живут скромнее; остается 96 900 рублей в долгах. Счастливы будут наследники, ежели за продажею закладов и взыскания долгов получат ¼ часть, т. е. с небольшим 24 тыс.; тогда на 131 050 руб. завещанного капитала придется каждому по 18 коп. на рубль, т. е. вместо каждых 10 т. р. наследники получат 1800 рублей!!![44]
Теперь поговорим о самом щекотливом предмете, т. е. о правильности и законности духовного завещания. Но прежде сделаем отступление и предположим, что духовная опровергнута, т. е. что ее нет. Тогда все имущество тетушки должно перейти в род Достоевских, т. е. детям Марьи Федоровны Достоевской, ибо по закону родная сестра (Марья Федоровна) исключает из наследства сестер единокровных (Шер и Ставровскую); о прочих дальнейших наследниках и говорить нечего. Предположив, что все имущество, обращенное в деньги, достигнет до 28 тыс. рублей и что мы по-братски поделим поровну, то тогда на каждого брата и на каждую сестру придется по 4 тыс. рублей.
Из этого расчета видно, что сестры Вера и Александра Михайловны, коим по завещанию назначены самые большие части, т. е. по 20 т. р., нисколько не потеряют, ибо согласно завещания им достанется по 20 к на рубль, т. е. те же 4 тыс. Сестра же Варвара Михайловна и все братья, понятно, много от этого выиграют. А потому всему нашему роду Достоевских, конечно, было бы выгоднее, ежели бы завещания не было.
Но духовное завещание существует и хранится у меня как у одного из опекунов. Я был слишком далеко от Москвы до 1865 года, чтоб судить о том, была ли тетушка в здравом уме в 1864 году, когда сделано первое завещание. Но в декабре 1864 г. я ее увидел в первый раз после 8-летней разлуки и помню, что нашел ее с не совсем еще расстроенным умом. Правда, она страдала беспамятностью, но смысл в ней был, а потому можно с достоверностью сказать, что духовное завещание написано было по желанию и согласию тетушки. Второе духовное завещание, т. е. в настоящее время действительное, хранящееся у меня, составлено было вследствие перемены душеприказчика 20 сентября 1865 года. Но чем разнится последнее от первого? Оно разнится только переменою душеприказчика, меньшим назначением на погребение и церковь и совершенным исключением тебя и покойного брата Михаила Михайловича от наследства, как получивших уже свои части{124}. Вот и все! Следовательно, предположив, что все изменения сделаны правильно и совестливо, можно сказать, что и последнее завещание есть действительная воля завещательницы, ежели предположить, что первое было таковым. Вот почему, несмотря на выгоду для себя, я никогда не решусь оспаривать правильность духовного завещания, да едва ли кто решится и из остальных наших родных. Притом же опровергнуть его действительность очень трудно; завещание хотя и домашнее, но удостоверено четырьмя лицами из дворян в том, что оно написано по воле завещательницы, находившейся в то время в здравом уме и твердой памяти. Следовательно, надо преследовать всех этих лиц, как за подлог уголовным судом. — Вот все, что я мог тебе сообщить, любезный брат, по делу, тебя интересующему.
Этим я и закончил деловую часть письма.
Но письмо брата Веселовскому наделало большой переполох между сестрами и другими наследниками. Дело в том, что брат не ограничился письмом к Веселовскому, а написал об этом же, с теми же подробностями, Сонечке Ивановой{125}, с которой иногда переписывался. Сонечка, конечно, показала это письмо матери… и вот по Москве разразился слух, что хорош, должно быть, опекун Веселовский, когда предлагает лицу, хотя и постороннему в этом деле, но все-таки заинтересованному, свое содействие в опровержении духовного завещания!! Узнав об этом, я насилу мог разубедить сестер Варвару и Веру Михайловен в противном, доказывая, что ежели бы Веселовский действительно имел такое намерение, то он не только не передал бы мне письма брата, но даже скрыл бы его от меня, притом же я познакомил сестер и со своим ответом брату, дав им прочесть чернетку. Но, впрочем, я оговорился, что вовсе не стою и не защищаю Веселовского, потому что не имею в этом интереса и что они сами выбрали опекуном Веселовского, а потому и должны сами на себя пенять, ежели он оказался худым! — Разразился я такою тирадою оттого, что мне тягостны были упреки на Веселовского, высказываемые мне, как будто бы я был главною причиною этого.
С осени этого, 1869, года решено было преобразование местного Демидовского лицея в Демидовский юридический лицей{126}, и я усердно занимался надзором и руководительством по перестройке зданий этого учреждения, а в ноябре месяце ездил по делам опеки в Москву и Петербург. В мое отсутствие в городе произошла перемена: на место вице-губернатора Мейера был назначен новый — Николай Александрович Т. Он почему-то не взлюбил Леонида Николаевича Трефолева, который всегда говаривал, когда нужно было идти к Т. с докладом, что идет к нему с особым отвращением. Надо сказать, что в то время, т. е. в конце 60-х и начале 70-х годов, Леонид Николаевич, кроме делопроизводителя строительного отделения, занимал еще должность редактора неофициальной части «Ярославских губернских ведомостей». И надо отдать справедливость, что под его редакцией неофициальная часть доведена была до высшей степени порядочности, так что и столичные газеты не раз высказывали этот отзыв. Т., в качестве вице-губернатора, был цензором этой неофициальной части, а потому Трефолеву довольно часто приходилось объясняться с Т. и по редакции газеты. Вот случай, происшедший в конце 1870 г. между Т. и Трефолевым как редактором газеты. (Трефолев не был уже делопроизводителем строительного отделения.) Этот инцидент я передаю здесь по тогдашним рассказам Трефолева.
— Вхожу я к Т., — рассказывал Трефолев, — и вижу его сидящим над номером газеты, которую он должен был в тот день дозволить к печатанию. Увидев меня вошедшего, он обратился ко мне со словами:
— Скажите, пожалуйста, что это за Ушинский, о смерти которого вы объявляете в черных каемках и обещаете еще впоследствии полную биографию его?..
— Неужели вам неизвестна, г. вице-губернатор, фамилия Константина Дмитриевича Ушинского, этого знаменитого русского педагога, составителя книги «Родное Слово», по которой сотни тысяч русских детей обучались грамоте?..
— Все это хорошо, но я полагаю, что это не подходит к той программе, что может, по закону, быть помещаема в неофициальной части губернских ведомостей, — сказал, как рак, покрасневший Т.
— Я полагал это подходящим в том внимании, что покойный Константин Дмитриевич Ушинский первоначально начал свою службу в Ярославле, в Ярославском Демидовском лицее, где был некоторое время профессором.
— Ну так с этого нужно было и начать… а то не всякий знает, кто такой Ушинский!
На этом разговор их и кончился, но Т. затаил, кажется, злобу на ни в чем неповинного Леонида Николаевича Трефолева и принудил его оставить и эту должность, т. е. редактора неофициальной части губернских ведомостей; что же касается до должности делопроизводителя строительного отделения, то ее Леонид Николаевич должен был оставить еще ранее, а именно в феврале 1870 года. Вот как это случилось.
Однажды в феврале 1870 г. Леонид Николаевич, докладывая бумаги строительного отделения, имел неосторожность вложить руку в карман брюк; Т., зорко следя за всеми движениями Трефолева, сейчас же заметил это и разразился словами:
— Прошу вас как следует стоять перед начальством, извольте, сударь, вынуть руку из кармана!..
Конечно, такого скандала Леонид Николаевич вытерпеть не мог и на другой же день подал в отставку, а 13 февраля 1870 года был уволен. — Не знаю, что побудило Т. к преследованию Трефолева, не думаю, чтобы он имел в виду очистить место делопроизводителя для своего протеже Михаила Ивановича Холмогорова, которого он выписал из Самары, но который приехал и поступил на место Трефолева делопроизводителем строительного отделения только в сентябре месяце 1870 г. Думаю, что он просто возненавидел его по тем своим промахам, которые учинил для Леонида Николаевича, и ему неудобно было смотреть на него, как на вечный укор своей бестактности.
В конце декабря 1869 года я получил письмо от брата Федора Михайловича из Дрездена в ответ на мое письмо, писанное 30 сентября 1869 года. Письмо это, как важный документ, целиком и в подлинных выражениях переписываю сюда с пунктуальной точностью. Вот письмо это.
Дрезден 16/28 декабря 69 г.
Милый и дорогой брат мой Андрей Михайлович.
Письмо твое, обозначенное тобою от 30 сент., но, по почтовому штемпелю судя, отосланное двенадцатого октября, поручил я здесь первого ноября здешнего счисления, т. е. 19 октября нашего [45] счисления. Все-таки ужасно долго тебе не ответил. Но это единственно потому, что был буквально день и ночь занят срочной{127} работой, которую теперь только окончил и отослал. Когда же я занят срочной работой, то никому не могу отвечать на письма — иначе это меня на три дня расстроит и отобьет от работы.
Ты напрасно стыдишь меня за то, что я не отозвался на твой привет, когда я женился. Если я и не ответил, то это потому, что тогда было много кой-каких особенных хлопот и день за день отлагалось. Кончилось тем, что я уж и не знал, наконец, куда тебе ответить. Соглашаюсь, что во всяком случае это было с моей стороны непростительно; но одно скажу верно: если не ответил тогда, то не от равнодушия. Я искренно тебя люблю и ценю, и жена моя уже много знает и о тебе, и о семействе твоем из моих рассказов и непременно желает познакомиться лично и искренно, по-дружески, с тобой и с твоей супругой. Благодарю тебя очень за письма твои и за прежнее и за теперешнее. В чувствах же моих к тебе будь всегда уверен. А за то, что не ответил, повторяю — виноват. Прежде всего прямо к делу. Если ты мне написал: «Стыдно тебе, что не отвечал мне на приветствие мое», то я взамен напишу тебе: стыдно тебе, что предположил во мне сутягу и стяжателя, что я и заключил по окончанию твоего письма, в том месте, где ты, выставляя мне на вид фактами невыгоду и невозможность уничтожить завещание тетки, тем самым как бы и предполагаешь во мне это желание, т. е. ни более и ни менее, как отнять у множества других бедных дальних родственников наших то, что они ожидают получить по завещанию тетки. Лучше всего изложу тебе вкратце историю дела.
В сентябре, в начале, я получаю от А. Н. Майкова, человека чрезвычайно дружественно ко мне расположенного и в высшей степени солидного и не празднословца, письмо, в котором он пишет мне (NB — он ничего не знал о нашем семействе, о тетке и о делах), что знает от Кашпирева, который — друг с Веселовским, что тетка наша умерла, что по завещанию ее 40 000 идут на монастырь; что Веселовский — душеприказчик (?) тетки, — говорил Кашпиреву, что из всех Достоевских он уважает всех больше меня и, если б знал мой адрес, то наверно обратился бы ко мне, чтоб начать дело по завещанию тетки, оставившей сорок тысяч монастырю, будучи не в рассудке. А. Н. Майков горячо убеждал меня вступиться в это дело, чтоб спасти интересы наследников и между прочим семейства брата Миши, находящегося в большой бедности (и о котором я же, по мере сил, заботился). Повторяю, Майков ничего никогда не знал ни о тетке, ни о завещании, ни о каких бы там ни было наших семейных делах. Естественно стало быть, что все эти известия (т. е. о завещании, о тетке, о 40 000 р., о Веселовском) он получил от Кашпирева, с которым, как я знаю верно, он знаком дружески. Кто тут соврал или приврал, или приумножил от своего сердца чье-нибудь первоначальное вранье — не могу до сих пор понять; тем более что на запросы мои потом мне отвечали уклончиво, как бы со стыдом (что это какой-то глупый слух, обман и проч.). Но согласись сам, дорогой брат мой, что я, три года уже не бывший в Москве и не знающий, стало быть, что там делается, — по получении таких точных известий (т. е. о смерти, о 40 000 р. монастырю, о собственных словах Веселовского, сказанных ни более ни менее как другу Веселовского Кашпиреву), естественно и по крайней мере должен был спросить объяснений. Я написал к Веселовскому, и письмо это, как ты пишешь, в твоих руках. Помню, что я в нем прошу у Веселовского, во-первых, точнейших известий, а во-вторых, что если надо начать иск, то я готов, но опять-таки прошу предварительных объяснений.
Сообрази следующее: я имел довольно точное понятие о завещании тетки еще в 1865 году. Я положительно знал, что в нем нет ни единого слова о 40 тысячах монастырю. С другой стороны, сообрази и то, что не мог же и Александр Павлович при жизни своей уговорить тетку о переделке завещания в пользу монастыря, — что было бы нелепостью, ибо не мог же Александр Павлович действовать в ущерб собственным выгодам. Стало быть, переделка завещания в пользу монастыря последовала (я предполагал по полученным от Майкова известиям) уже после Александра Павловича. — Все это было чудно, но не невозможно, ибо я знаю, что тетка не в своем уме и если попалась на удочку каким-нибудь монахам, то могла переделать завещание (заметь себе, что я уже без малого три года не получал о тетке никаких сведений, стало быть, совершенно не знал, что там произошло). Но если, думал я, явилась действительно в завещании покойной тетки статья о 40 000 руб. монастырю, то непременно через чье-нибудь мошенничество; ибо положительно знаю об умственном расстройстве тетки. В таком случае, после таких определительных известий (о словах Веселовского, например), я и написал Веселовскому.
Но так как письмо у тебя в руках, то ты без сомнения можешь (и мог и должен был) заметить в нем фразу, смысл которой (ибо слово в слово не помню) таков: если тетка завещала 40 000 монастырю в своем уме, если это было и прежде в ее завещании (я хоть и слышал о завещания, но никогда не читал его) — одним словом, если это действительно ее воля, — то «кто же я, чтобы идти против ее воли»? Если же завещание сделано не в своем уме, то и т. д. Повторяю: слов моего письма буквально не помню, но за смысл ручаюсь, и уже по этому одному ты мог бы, любезный брат, рассудить, что я не пойду против действительной воли тетки. Ты же мне как бы приписываешь намерение вообще восстать против завещания тетки и кассировать его в нашу (т. е. в свою) пользу!.. Да поверишь ли ты, что я только из твоего письма в первый раз в жизни заключил и догадался, что это было бы для нас, Достоевских, выгодно. Никогда и мысли такой у меня в голове не было — уж потому одному, что я в 1864 году получил от тетки (по смерти брата Миши) все, что мне следовало получить по завещанию, то есть 10 000 рублей, — и даже по совести моей сознаюсь, что должен ей за эти 10 000 проценты, о которых она просила меня в случае успеха журнала (я брал на журнал покойного брата — «Эпоху»), Вот тебе, опекуну, на всякий случай мое сознание о долге тетке процентов с 10 000, мне выданных.
В заключение скажу, что здесь, за границей, я совершенно отчудил себя от всех дел подобных, о завещании же теткином никогда и не представлял себе, как о какой-нибудь для меня выгоде, зная вполне, что я ломоть отрезанный и получил все, что мне следовало. Только эти чудные и точные известия понудили меня написать это письмо к Веселовскому (на суде, например, свидетельство очевидца считается точным свидетельством; как же мне не считать было точным свидетельство Кашпирева о собственных словах Веселовского). Известия эти были чудные, как я написал выше; но чудные известия, если подтверждаются положительно, кажутся всегда именно через чудность свою наиболее достоверными.
Во всяком случае очень жалею о бесчисленных слухах и толках, вероятно, поднявшихся между наследниками тетки, по поводу моего письма к Веселовскому (все должно быть всем известно). — Мне противно все это, хотя вижу опять, что не мог же я не написать этого письма к Веселовскому. Прибавлю одно: что 10 000 р., взятые мною от тетки в 1864 г., сейчас по смерти брата, были мною тотчас же употреблены все до копейки для уплаты самых беспокойных долгов брата и на поддержку братниного журнала, которого я сам собственником не был ни с которой стороны. Деньги же отдал без всяких документов. А между тем эти деньги были вся надежда моя в жизни. Ведь ты знаешь, что у меня ничего ровно нет, а живу я своим трудом. Отдав эти 10 000 в пользу семейства брата, я отдал им и мое здоровье: я целый год работал как редактор день и ночь. — Расчет был ясный: если удастся подписка в будущем году, то, во-1-х, все долги брата заплачены, а во-2-х, останется и на журнал, и даже на основание капитала семейству брата. Продержав же еще год журнал, при следующей подписке образовался бы капитал в 30 000 для семейства. Журнал всегда имел 4000 подписчиков, половина денег употреблялась на издание его, а другая оставалась в руках у брата (я у покойника работал как сотрудник и только). Если же, рассчитывал я, взяв 10 000 у тетки не поддерживать журнал, то у семейства останется 0 имения, тысяч 18 по долгам брата и журнал, который не на что было продолжать. Журнал с недоданными восемью книгами и без копейки средств ничего не стоит. Итак я решился убить тогда эти 10 000 на чужое дело, не взяв никакой расписки или документов. Но журнал лопнул (хотя и оказалось 2000 подписчиков, но деньги подписки ушли на уплату долгов, а мне не у кого уже было достать денег), и я продолжал платить за долги и брата и журнала, принадлежавшего не мне, а семейству. Я выплатил наличными (кроме 10 000 теткиных) еще до одиннадцати тысяч из своих денег. Тогда я «Преступление и наказание», мой роман, продал вторым изданием за 7000 р. да 2000 р. из полученных за полное собрание сочинений моих пошли в уплату же по журналу и братниных долгов, да с Каткова получил тогда 6000 р. за первое издание (в его журнале) «Преступления и наказания». Кончилось тем, что я и теперь еще 4000 р. должен по векселям за журнал и за долги брата (и рискую сидеть в тюрьме, если не исправятся мои обстоятельства). Мог бы я сказать и еще, куда я истратил много денег без всякой для себя пользы, а единственно на пользу других, тоже через смерть брата, но умолчу; все что я говорил сейчас и без этого похоже на похвальбу. Но не осуждай и размысли — я не хвалюсь, а оправдываюсь. Ну какой я стяжатель, и можно ли меня-то уж назвать стяжателем? Все же, что я рассказывал о том, как я истощил себя и здоровье мое, платя чужие долги, есть истина, ибо всему этому сто свидетелей…
* * *
Я уже три года, без малого, женат и очень счастлив, потому что лучше жены, как моя, и не может быть для меня. Я нашел и искреннюю самую преданную любовь, которая и до сих пор продолжается. Жене моей теперь 23 года, а мне 48 — разница большая; а между тем эта разница в летах ни мало не повлияла до сих пор на наше счастье. — Как мы выехали за границу, то лето пробыли в Германии, а осенью поселились в Женеве: жена забеременела. К весне Бог дал дочь Софью, и мы благословляли Бога и были бесконечно рады. Радость не долго продолжалась; сами мы не сумели сберечь ребенка, здоровенького и сильного. Доктора тоже порядочно испортили дело, не узнав болезни (ах, друг мой, славны бубны за горами; наши доктора в России и внимательнее, да, может, и лучше), что оказалось потом и в чем один из них сам сознавался. Соня умерла трех месяцев{128}. Мы переехали на Женевское озеро, в Вевей, а к зиме в Италию, в Милан; к новому же году во Флоренцию, где и прожили месяцев восемь. Тут жена опять стала беременна; наконец, я получил средства и через Венецию и Вену мы перебрались сюда, в Дрезден, в августе, чтобы быть все-таки поближе к России. 14 сентября (ровно три месяца назад) родилась у меня опять дочь, Любовь, и, кажется, здоровенький ребенок. Опять мы теперь радуемся. Одно худо — что не в России мы. Такая тоска нам обоим, что и представить не можешь. Но возвратиться в Россию мешали до сих пор долги по векселям. Выезжая за границу, я думал следующим сочинением добыть эти деньги, заплатить долги и воротиться гораздо раньше. Но до сих пор это не удалось, тем более что, за личным отсутствием, не мог продать с выгодой второго издания моего сочинения, здесь написанного{129}. В настоящую минуту имею некоторые надежды повернуть мои дела повыгоднее, чем до сих пор. Но так или этак, а я решил, во всяком случае, будущим летом воротиться в Россию. Тогда, может быть, и увидимся скоро. Вот тебе краткий отчет о моих делах и странствованиях. А теперь повторю тебе, что я тебя люблю искренно, — и по последним встречам нашим и по воспоминаниям. Жена искренно желает сойтись с вами и полюбить вас, и это не праздное слово с ее стороны. Она много раз напоминала мне о том, что я тебе не ответил — и пеняла мне. Повторяю — виноват перед тобой. — Адрес мой тот же надолго. Напиши мне; это мне доставит большое удовольствие, слишком. Передай мой поклон и горячее уважение мое твоей жене. Поздравляю вас с наступающим праздником, а вместе и с Новым годом. Обнимаю тебя и целую. Искренно любящий тебя твой брат Федор Достоевский.
Здоровье мое ни хуже, ни лучше, чем прежде. Припадки падучей с некоторого времени реже. Но в Италии все-таки было для меня здоровее, чем здесь в Дрездене.
Жена сейчас напомнила, что ты просил у меня издания моих сочинений. В настоящее время, здесь, и сам не имею. — Ворочусь в Россию — тотчас вышлю. Карточки нет, а то бы послал. Благодарю, что свою выслал.
* * *
28 марта 1870 года я неожиданно получил телеграмму от доктора Шуберского, в которой значилось, что бабушка Ольга Яковлевна Нечаева вдруг умерла вечером 27 марта. Получив эту телеграмму, я сейчас же выхлопотал у губернатора себе отпуск в Москву и на другой же день утром выехал из Ярославля. В Москву прибыл в тот же день 29 марта вечером или, лучше сказать, ночью (был уже 1 час ночи). Подъезжая к Москве, я думал о том, как бы поскорее найти извозчика и достучаться у сестры Варвары Михайловны, у которой думал остановиться. Но вышедши из вагона, я услышал, что меня кто-то окликает. Это был Влад. Ив. Веселовский, который выехал встретить меня. С ним поехал я на его квартиру, где уместился. На другой день, в понедельник 30 марта, облекшись в черный фрак, я ранним утром отправился в квартиру тетушки и попал к самому выносу тела бабушки из квартиры в Козьмо-Демьяновскую церковь для отпевания. — Поклонившись гробу почившей, я не мог другим образом проститься с ней, так как труп ее сильно разложился. После отпевания в Козьмо-Демьянской церкви труп перевезли на Лазарево кладбище и похоронили ее возле деда Федора Тимофеевича. По окончании похорон, Шеры пригласили меня в ресторан, расположенный близ кладбища, в коем был устроен поминальный обед по усопшей. Отказаться было нельзя, и я освободился от похоронных обрядностей только в 5 часу дня, когда вместе с сестрами поехал на квартиру тетушки Алекс. Федор., которая, по-видимому, вовсе не сознавала, что лишилась своей сожительницы, с которой жила почти неразлучно со смерти деда, т. е. мужа Ольги Яковлевны. — Ночевать я поехал к Веселовскому.
На другой день было опечатано полицией имущество тетушки, отданное на сохранение покойной бабушке Ольге Яковлевне, и происходили дебаты о том, как содержать тетушку на будущее время. Сестра Варвара Михайловна ни за какие деньги не согласилась взять тетушку к себе на квартиру, сестра же Вера Михайловна заявила, что не может сделать этого ранее сентября месяца, потому что сейчас после Пасхи выезжает в деревню. Думали и гадали и порешили на следующем: 1) для главного домашнего надзора пригласить за особое жалование сердобольную даму из вдовьего дома, которой поручить и мелочное хозяйство; 2) договорить повара, служившего прежде у них, чтобы он из своего материала, т. е. провизии, готовил для тетушки ежедневные обеды и ужины, как было и при жизни бабушки, равным образом готовил обеды и ужины для сердобольной и одной прислуги (т. е. Ариши); 3) предложить доктору Шуберскому на прежнем же основании пользовать больную; 4) затем покупку чая и сахара и прочие мелочные траты возложить на ту же сердобольную. — Порешив с этим и поговорив с Веселовским о будущем действии опеки, а равно и подготовив все данные для отчета опеки за 1869 год (каковой отчет, по сказанным данным, составлен был дома в Ярославле и переслан Веселовскому по почте), я провозился в Москве до 4 апреля и вернулся в Ярославль только 5 апреля{130}.
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПИСЬМО МАРИИ ФЕДОРОВНЫ ДОСТОЕВСКОЙ К МУЖУ МИХАИЛУ АНДРЕЕВИЧУ ДОСТОЕВСКОМУ{131}[вероятно, 1833]
Вот тебе и подворная опись Чермошни; она мне сама нечаянно попалась в руки, сейчас тебе скажу: от обедни зашел ко мне Конон засвидетельствовать свое почтение и говорит, что слышал зимою, бывши в Москве, что мы покупаем Чермошню. Я сказала, что тогда бы, может быть, и купили, ежели б его барин не дорожился, а теперь и мы отдумали, потому что не за что дать такой цены, да и не до ней; дай Бог с Даровой управиться в таком несчастном случае. Он задумался, потом сказал: сударыня, ежели б вы имели терпение прочесть подворную опись и со вниманием взглянуть на Чермошню, то верно бы не сказали, что не за что больше дать, я знаю, что вы давали 10 тысяч. Сравните же теперь с Даровой, что она вам стоит; а правду сказать, сударыня, мой барин теперь нуждается в деньгах и много уступит. Что он ни говорил, а я начисто показала вид, что не купим; он ушел. Через неделю в один день меня не было дома: прихожу, говорят люди, что был Конон и оставил какие-то бумаги, погляжу — а это подворная опись. Веру отпустила с детьми гулять, Федосья пошла на скотный смотреть коров, доит; а я поскорей села переписывать, благо никто не видит. Вот дружок, 100 поцелуев за тобой, и ежели что впредь узнаю, то напишу. Я писала, что пустоши одни с нами, да еще что-то слышала мельком, что деревня Алферьева подходит к нам с другой стороны, то есть чересполосно, узнаю поверней и напишу.
ПИСЬМА МИХАИЛА АНДРЕЕВИЧА ДОСТОЕВСКОГО
К жене Марии Федоровне
Августа 23 [вероятно, 1834]
Здравствуй, неоцененная, милейшая моя!
Уведомляю тебя, дражайшая моя, что милые наши соколы сегодня в одиннадцатом часу утра прибыли здоровы и благополучны, они доехали до Москвы в двое суток, меня они встретили здорового и на дороге близ пруда. От всех чувств моих желаю и молю всещедрого Творца, чтобы и ты, мой ангел, была здорова и благополучна для моего счастия. Благодарю тебя, мой дружочек, за изготовленный тобою для меня гостинец, я прочее все получил сполна, выключая двух бутылочек наливки, которые, по словам Григория, разбились; ты пишешь, что незаслащенная с сургучом на пробках в двух бутылках, а он мне доставил пять, из коих на троих есть сургуч по краям, а две просто завязаны; то я, друг мой, сомневаюсь, сами ли они разбились или же их сперва опорожнили, а после разбили, и толку не мог добиться. Тебе взамен сего посылаю полфунтика чайку и маленькую головку сахарцу, да еще фунтов 10 песочку сахарного и еще Верочке башмачонки, поцелуй ее за меня и скажи ей, что башмачки папа ей посылает, чтобы была умница, а я ей за это куплю гостинцу. — Тебя же буду ожидать денно и нощно и просить Бога, чтобы он соблаговолил тебе доехать здоровой и благополучной. Слышу, дружочек, что и гречиха поспела, то я полагаю, что ты не станешь медлить уборкой оной, а может быть, уже и начали убирать. Дай Творец, чтобы ты все убрала благополучно; а между тем прошу тебя, милый друг, приказать молотить; ежели погода будет суха, я полагаю, что можно и сыромолотью молотить, оно, кажется, обошлось бы дешевле, и прикажи старостам, чтобы как можно смотрели, а я Григорию здесь и сам прикажу; главным образом прикажи иметь хороший присмотр за скотом, чтобы хорошо кормили. Я отчасти покоен насчет Чермошенского скотника, а Харлашка, слышу, бездельник ленив, надобно за ним смотреть строже, а ежели нужно будет, то и посечь. Насчет наших дел в Кашире, советую тебе послать Григория, напиши к Дружинину, что тебе предстоит время ехать в Москву, то ежели будет оценка без тебя, то чтобы он тебе дал совет, как в этом поступить, и на случай, ежели захотят дать Хотяинцеву свидетельство на апелляционную жалобу, то проси его, чтобы он потрудился и уведомил нас хотя письменно в Москву, о 14 части. Я полагаю, что сие дело можно отложить до весны, и хоть ты и прислала разделы, но я до твоего приезду не стану ничего предпринимать, разве только посоветуюсь кое с кем, тем паче, что еще и указ тебе не объявлен. От детей я слышу, что у… будто бы не было денег и он ехал:… ел и пил и лошадь кормил на наши деньги, таким образом подвода ему не слишком дорого обошлась. Пишешь ты, милый друг, что тебе Бог дает крестника, поздравляю тебя, милая, с крестным сынком, что делать, дружочек, не тужи… люди добрые всегда нужны, жаль только, что у тебя не все как следовало бы готово, и кланяйся своим новым кумовьям и поздравь их от меня с новорожденным. Рад, друг мой, что с нас не следует еще рекрут, старайся также познакомиться с Повалишиными. Распорядись также прежде своего отъезда и насчет скотниц и будущей пряжи и всего до женской части касающегося. — Ты, дружочек, не пишешь, есть ли у тебя деньги или нет на дорогу; также поговори, милая, мужикам, не уплатят ли хотя некоторые из них хоть сколько-нибудь денег. Прощай, дружочек мой, ангел мой, жизнь моя, сокровище мое, родная моя. Препоручаю тебя Господу Богу, а сам останусь весь живьем твой
М. Достоевский.
На полях следующие приписки:
Посылаю тебе телочку, она еще очень нежна, то приказывай ее особенно попаивать с прибавкою хоть немного снятого молока. Я хотел ее отослать с подводою, но слышу, что будет Андриан, то я поуклонился посылать с ним и рассудил лучше послать ее с Григорием, хотя в кибитке… испорчено, но нечего было делать.
Друг мой милый, ежели тебе будет надобность в деньгах, то напиши мне: я хоть как-нибудь извернусь и пришлю тебе хоть сколько-нибудь.
Друг мой, лошади наши чрезвычайно худы, прошу тебя распорядиться, чтобы их лучше кормили: теперь может быть станут молотить овес, то будут оставаться последы, то прикажи их кормить, ибо, может быть, они и тебя довезут до Коломны и ежели станешь хорошо кормить, то они дотащат тебя и до Москвы.
На странице четвертой письма:
Дражайшая Маминька!
Мы уже, слава Богу, приехали к папиньке. Он, слава Создателю, здоров, 22-го августа мы были с папинькой на Покровке у маминьки крестной, они все также, слава Богу, здоровы и Вам кланяются. Позвольте Вам сказать, любезнейшая маминька, что мы довезли благополучно наших воспитанников: т. е. двух зайчиков и белку, первые не дали папиньке почивать, скреблись прыгали и бегали. Сделайте милость, любезнейшая маминька, если вы еще не выслали подводу, то пришлите мой ножичек, он остался в шкапу, а ежели ж уже вы и отослали, то не забудьте привести его с собой. Желая вам доброго здоровия и всех благ от Бога и целуя Ваши ручки, честь имею пребыть Ваш покорный и послушный сын Михайла Достоевский.
Любезнейшая Маминька!
Мы уже приехали к папиньке, любезнейшая маминька, в добром здоровьи. Папинька и Николинька также находятся в добром здоровьи. Дай Бог, чтобы и вы были здоровы. Приезжайте к нам, любезнейшая маминька, остальной хлеб, я думаю, не долго убрать и гречиху, я думаю, вы уже понемногу убираете. Прощайте, любезная маминька, с почтением целую ваши ручки и пребуду ваш покорный сын Федор Достоевский.
* * *
Мая 12 дня 1835 года.
Здравствуй милый друг мой! ничем неоценимое сокровище мое!
Письмо твое, любезнейшая моя, я получил, благодарю тебя, душа моя, за оное. Молю Творца, чтобы ты с малютками была здорова и благополучна; обо мне не сомневайся: я, слава Богу, здоров, дети тоже. Я уведомлял тебя в прошедшем письме, что в это ненастное время у меня немного поболела голова, но теперь я, слава Богу, здоров, и это так верно, как Бог свят. Будь покойна, дружочек мой, теперь погода прекрасная, и сегодня под вечер был маленький дождик. Пишешь ты, что в пятницу намерена была выслать подводу, то я и дожидался до девяти часов вечера, но как ее нет, то я спешу уведомить тебя, хотя кратко, что я здоров. У тебя-таки довольно осталось овса, и ты уже успела продать 10 четвертей, хотя и дешево, но что делать. Я полагаю, что еще можно четвертей пять продать. Только то мне удивительно, что даровские крестьяне у тебя не просили овса. Жаль и того, что дойных коров у нас не много. Жаль также, что корму не стало, но теперь много уже не понадобится, чтоб ты из последних денег должна была покупать. Дарии очень буду рад и с нетерпением ее ожидаю, потому что моя нанятая кухарка довольно ленива и плоха. Счет читал, он довольно значительный, так что из денег, полученных за овес, останется за уплатою долга только 22 р.; очень скудный остаток. Теперь покуда написал все. Прощай, ангел утешитель мой, дражайший друг мой; будь здорова и по возможности счастлива, а я пребуду тебя истинно и нелицемерно тебя любящий и до гроба верный друг
М. Достоевский.
Мая 13. 5 часов утра.
Сегодня я проснулся в 5 часу и первый вопрос: не приехали ли из деревни? Ответ — что приехали ночью. Очень рад, милый друг мой, что ты прислала Дарию и с оною гостинца, яичек и маслица. Благодарю тебя, дражайшая, за твою обо мне печность. Сорочки три готовых и две не шитых получил. Корпию также получил, за которую тебя, друга моего, и Елену Фроловну благодарю, и сию последнюю с наступающим тезоименитством поздравить честь имею. Спаржи 10 фунтов и детям пряничков посылаю. Старику на дорогу и для телки на молоко я дал 5 р. асс., то бери счет. Прощай, милый друг мой, поцелуй за меня малюток и скажи мой поклон тем, что его заслуживает. Остаюсь твой неизменный друг
М. Достоевский.
* * *
Мая 16 дня 1835 года
Дражайший, милый мой друг!
Уведомляю тебя, любезнейшая моя, что я и дети, слава Всевышнему, здоровы; сегодня мы обедали на Покровке, там все здоровы и тебе кланяются; Варя целует твои ручки и мы все с нею. После обеда А. А. с Шером и Неофитовым, с тещей, дочкой и племянницей отправились в Сокольники, а мы с сестрицей остались пить чай и отпивши отправились пешком домой; раздевшись сажусь беседовать с тобою, милым другом, на бумаге. Во-первых, скажу тебе, что у нас в доме всё покуда спокойно, хотя Василиса в некоторых случаях оказалась подозрительною, но я смотрю теперь за нею в оба глаза. Погода у нас всё холодная и ветреная, и я, отправивши старика Павла в деревню, начинаю опасаться, чтобы он не умер в дороге, притом же Андриан мужичонка слабосильный, не знаю, как-то он справится с тёлкой; о последующем уведомь меня, сделай милость. Здорова ли ты, голубушка моя, мне сей недели очень грустно, не знаю, куда деваться. Спаси тебя Царь Небесный под всещедрым своим покровом. Насчёт меня не беспокойся, я здоров, насчёт финансов также, у меня проявились кое-какие доходишки и смело могу биться об заклад, что я тебя богаче, имевши в комоде рубликов 60 ассиг. да на визитах в долгу 20. Это не безделица. Молоко нейдет с рук, что делать, велю Дарье делать масло простое. Уведомь, сделай милость, каковы хлеба, не все ли такие, как за садом. Сделай милость, не скрывай от меня ничего, пиши обо всем. Нет ли у вас чего нового, а у нас только то нового, что государь с государынею на будущей неделе слышно уедут в Ст. — Петербург. Теперь больше кажется писать нечего, прощай, ангел мой, счастие мое, будь здорова, береги себя, обо мне не беспокойся и поверь, что никто тебя искреннее любить не может, как твой
Михайло Достоевский.
Поцелуй за меня милых детей наших, скажи им, чтоб были умники, я еще им привезу гостинцу. Скажи Николе, что, ежели своими бибижками и впредь станет хвастаться, то привезу ему гостинца розгу. Няньке скажи мой поклон.
Напиши, дружочек, сколько у тебя в чулане полштофов и бутылок с наливкою.
Любезнейшая Маминька!
Душевно радуемся, что можем хотя в нескольких строках поговорить с Вами. Нынче провели мы у папеньки; ходили к маминьке крестной, где нам было довольно весело. Варинька просила нас, чтоб мы за нее расцеловали в письме у Вас ручки. Скоро у нас будет экзамен, и теперь мы к оному готовимся, после коего, может быть, скоро с Вами увидимся, о! как приятна будет та минута, когда мы прижмем Вас к нашему сердцу. Прощайте, любезная маминька, пожелав Вам всего лучшего в мире, честь имеем пребыть покорные дети,
Михаил, Федор, Андрей Достоевские.
Но полях около приписки от детей:
Верочку и Николеньку за нас поцелуйте.
* * *
Мая 23 дня 1835 года.
Здравствуй, бесценное сокровище мое, единственный друг мой!
Уведомляю тебя, душечка, что я слава Богу здоров, детей хотя и не видел от понедельника, но Бог милостив, они должны быть здоровы. Сегодня Семик{132}, но я в роще на гулянье не был, тоска смертельная, нигде места не сыщу, наяву и во сне Бог знает что в голову лезет; сегодня у меня были Шеры, они тебе кланяются. Пишешь ты, друг мой, что тебя мучает изжога и что избавляешься от оной пряничками; Бог знает откуда она у тебя, ты в прежних беременностях никогда оной не имела, советую тебе послать в Зарайск за магнезиею, она тебе лучше всего поможет; жаль, что я мало послал пряников, побоялся, что в случае дождя и те испортятся. В доме у нас со времени приезда Дарии все тихо, и та теперича поуселась; продажа молока очень мала, овса же, друг мой, перемерить нельзя. Насчет Дарии будь покойна, я в ней совершенно уверен. Мишку я не оставляю, и когда я дома, то он мой собеседник; теперь я его отпустил на гулянье с кучером, просился со слезами. Жаль, друг мой, что погода холодная и во вторник такой был мороз, что и в ноябре быть в пору. Пишешь, что ваза в Черемошне на навозной десятине худа, что бы это значило, уж не худо ли ее засеяли. Новостей у нас нет никаких, император уехал. Он у нас был чрезвычайно доволен, императрица также, Рихтеру 2-й степени Станислава со звездою, а нам, разумеется, ничего, оттого я тебе и не писал ничего, впрочем это так всегда водилось и будет водиться, овцы пасутся, а пастух доит молоко, стрижет шерсть и получает барыш. Насчет моих финансов будь покойна, ибо хотя у меня и немного денег, но для домашних расходов достаточно и детям сделаю кой-что летнее, только меня беспокоит поездка в деревню, не знаю, как-то я извернусь, а доходов не предвидится: от Куманиных, сомневаюсь, получу ли, с некоторого времени дуются, а Чермаку надобно отдать непременно.
Теперь писать нечего, не взыщи, милая моя, на моем коротком письме, прощай до понедельника. Уведомляй меня подробно обо всем, это меня теперь одно только и утешает. Поцелуй за меня детей. Сорокопудовой бочке скажи мой поклон, прочим, ежели сего заслуживают, также. Прощай, дражайшая моя, да будет над вами милыми моему сердцу милость божия, да сохранит тебя любовь моя от всех несчастий, да возлюбит тебя Бог так, как тебя любит и до гроба любить не перестанет
М. Достоевский.
P. S. Хотя я тебе и не отвечаю насчет твоих хозяйственных занятий, то это потому, что я совершенно уверен, что все то, что ты устроишь, будет хорошо. Береги свое здоровье и ежели хотя немного погода позволит, то гуляй побольше, работы все брось. Еще тебе скажу, что ты напрасно сделала, что прислала нешитые рубашки: они останутся нешитыми до твоего приезда, все отговариваются недосугом.
* * *
Мая 26 дня 1835 года.
От всей души радуюсь, что Творец Небесный хранит вас под всеблагим покровом своим здоровыми и, по словам твоим, благополучными. О себе также скажу тебе, что и мы все здоровы. Сегодня я дежурный, а потому я в больнице, а дети сидят дома. Нового у нас ничего нет, все старое. Насчет моих финансов не удивляйся, друг мой, что они необширны, я и за это благодарю Творца, ибо они суть остатки жалованья, а приобретать их нет средств, я очень удивляюсь, откуда и ты так богата, разве ты имела свои деньги, о которых мне не сказала. Рад очень, что хлеба, по твоему взгляду, хороши. Погода у нас с нескольких дней поправилась, вчерашний день был очень теплый, а ночью был отличный дождик, сегодня тоже очень тепло. Желательно, чтобы так попродолжалось долее. Пишешь, между прочим, что в Чермошне корова отелилась неблагополучно, а не упоминаешь, от чего это, ежели виновата скотница, то ты очень худо поступила, что только слегка побранила и не наказала для примера прочим. Теперь поговорим о важнейшем: экзамен детям назначен по прошлогоднему в конце июня, между 25 и 30 числом, следовательно, мы не можем иначе приехать, как в конце июня или в начале июля; разочти и то, что мой отпуск не может быть долее как на 20 дней, то прошу тебя сообрази все сие с своим положением{133}, размысли хорошенько, что ежели бы ты и при мне родила, положим, что все это случится и благополучно, то может случиться и после родов болезнь, а я, по причине короткого отпуска не могши долее оставаться, должен буду уехать и оставить тебя больную, посуди, каково бы тогда было тебе и мне, то рассуди хорошенько и дай мне свое мнение, а я так расстроен духом, что более писать не в состоянии. Прощай, дражайшая надежда жизни моей, не забывай меня в растерзанном моем положении души моей, какого я еще с начала жизни моей не испытывал. Касательно Евлампии Николаевны уведомляю тебя, что она сегодня или завтра едет с Фомиными в деревню. Прощай, друг мой, и я твой до гроба неизменный
Михайло Достоевский.
Детей за меня поцелуй, насчет гостинца для няньки после видно будет, что я в состоянии буду сделать.
На 4-й странице письма:
Любезнейшая Маминька!
Душевно радуемся, видя из письма Вашего, что Вы находитесь в добром здоровьи, а мы эти два праздника проводим у папиньки. Экзамен наш, к сожалению, отложен и, говорят, что будет между 24 и 30 июня. Погода у нас превосходная, в ночи был сильный дождь, а день прекрасный: солнце не перестает ни на минуту греть; я думаю и у Вас то же, и Николинька и Верочка вполне награждены за прежние холода. Поздравьте Елену Фроловну с днем ее ангела и скажите ей, чтобы она не прогневалась на меня, что я этого прежде не сделал. Позвольте мне пребыть покорным сыном Вашим
Михаил Достоевский.
Любезнейшая Маминька!
Очень радуюсь, что вы по всеблагому промыслу Создателя находитесь в хорошем здоровьи. Сии два дня, т. е. Троицын и Духов, мы проводим дома у папиньки. Погода у нас, я думаю, такая же, как и у вас, все сии дни стояла все переменчивая, но суббота и нынче прекрасная, хотя и был большой дождь, но во время ночи, и погода после сего освежилась и сделалась превосходною, но я не думаю, что сей дождь не был у вас, ибо он не окладной. Экзамен наш будет по-прошлогоднему в конце июня, и посему мы лишаемся надежды вскоре вас увидеть. Пишете Вы, что детям весело и что Николя даже потолстел, то теперь погода самая хорошая, и, следственно, он может ею наслаждаться на чистом воздухе; поцелуйте их за меня, скажите, чтобы они были умники и что мы к ним скоро приедем. Прощайте, любезная маминька, более писать нечего; остаюсь покорный сын ваш Федор Достоевский и Андрей Достоевский.
* * *
К дочери Варваре Михайловне Достоевской
19 ноября 1838 г.
Любезный друг Варинька!
Письмо твое я получил, благодарю тебя, что ты не забыла 8 число, т. е. дня моего ангела, дня, в который, как тебе до сих пор известно, я отлагаю все заботы жизни, а посвящаю его, во-первых, Богу — единственному утешителю моему в этой горестной жизни, а во-вторых, себе; но и этот был для меня не на радость. — Я уведомлял тебе о моем нездоровье, которое со дня на день делалось худшим и наконец совершенно положило меня в постель. Тебе известно, что я по летам моим, а более по неприятностям жизни привык отворять кровь, но как в Зарайске нет хорошего фельдшера, то из опасения, чтобы он мне не испортил руки, я сделал большую просрочку, болезнь со дня на день делалась худшею, к несчастию в это самое время я получил от брата твоего, Фединьки, письмо, для нас всех неприятное; он уведомляет, что на экзамене поспорил с двумя учителями, это сочли за грубость и оставили его до мая будущего года в том же классе, это меня, при болезненном состоянии, до того огорчило, что привело в совершенное изнеможение, левая сторона тела начала неметь, голова начала кружиться; тут я призвал Бога на помощь, послал за фельдшером, который измучил меня четырьмя разрезами до того, что я претерпел 4 обморока, не помню, как наконец он успел мне пустить кровь, эта операция меня пооблегчила. Помню только, как во сне, Сашинькин плач, что папинька умер. Я жив, да и удивительно ли, жизнь моя закалена в горниле бедствий.
Где мне и в ком искать утешения, ты пишешь, что ты совершенно здорова, но все так же бледна. — Друг мой! в твои ли лета! Побереги себя и меня пощади, мне и так горько: не устройство состояния нашего, долги, нужда, недостатки, лишения и без вас истощают по каплям мое здоровье. Кланяйся от меня Александре Федоровне и поздравь с именинником. Верочку поцелуй, скажи ей от меня, чтоб хорошо училась. Прощайте, да благословит вас Господь Бог, как благословляет вас нежно любящий отец
М. Достоевский.
ПИСЬМА МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА И ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА ДОСТОЕВСКИХ
К отцу
Петербург, 20 августа [1837] года.
Любезнейший Папинька!
Слава Богу! Наши сомнения и догадки наконец уничтожились. Письмо Ваше мы получили, из которого, к нашей радости, мы видим, что Вы находитесь в добром здоровье. За посылку мы Вас сердечно благодарим; она к нам пришла гораздо позже письма. Шидловский и Карронад Филиппович также получили письма Ваши, и первый, я думаю, уже и писал к Вам. Ах, папинька, ежели бы вы знали, какой это достойный молодой человек. Мы не знаем, как благодарить его. Он так любит нас, как будто родной. Всякое воскресенье навещает он нас, и мы, ежели бывает хорошая погода, идем с ним в церковь, а там заходим к нему и к обеду возвращаемся домой. Карронад Филиппович также к нам очень ласков и почти беспрестанно с нами занимается. Ежели бы вы видели, какие теперь у нас приготовления к экзамену. По целым почти дням мы стоим у доски, и Кар. Фил. экзаменует нас почти изо всего. Что же касается до нас, то мы можем сказать, очень хорошо из всего приготовлены. Нынче к нам будет учитель французского языка в Г. Инженерном училище, М-р Аккерман, чтобы экзаменовать нас, а я, повторив хорошенько грамматику и улучив минутку, стал писать к Вам, любезнейший папинька. Верите ли? До сих пор мы почти не имели свободного времени, чтобы написать к Вам, потому что днем Кар. Фил. нам изъясняет, а вечером мы приготовляем свои уроки на следующий день.
Жаль, что Бог не благословил нас урожаем озимых хлебов. Вы пишете о флигеле, который Вы начали строить, но какой же это флигель? тот ли, который Вы хотели строить по плану Димитрия Александровича, или какой-либо другой? Сделайте милость, напишите к нам об этом: не только это, но и все подробности, до этого касающиеся, очень для нас интересны.
Насчет нас, будьте совершенно спокойны. Мы употребим все наши старания, чтобы сделать Вам угодное. Поверьте, ежели Бог до сих пор видимо нам покровительствовал, то верно и теперь он нас не оставит.
Мы не знаем, что Вам вздумалось, милый папинька, писать к нам о деньгах. О! у нас их еще очень много. Еще целая немененная пятидесятирублевая бумажка и 4 целковых. А теперь, как кажется, тратить нам некуда. Все нужное уже куплено, кроме, может быть, еще придется купить артиллерию. Платье наше хорошо: нового нам совсем не нужно, потому что и с этим куда нам будет деваться после вступления? Мы не знаем, как благодарить Вас за Ваше попечение о нас. Мы уж и так очень много стоим Вам, очень, слишком много, чтоб когда-либо мочь совершенно возблагодарить Вас.
Сейчас только от нас ушел Аккерман: он экзаменовал нас с лишком 2 часа; мы у него отвечали очень хорошо и получили полные баллы. Кар. Фил. также сказал нам, что он очень нами доволен. Кажется, что он еще будет у нас в другой раз. Впрочем, не знаем. Пожелав Вам доброго здоровья, полного успеха в занятиях и поцеловав Ваши ручки, остаемся Ваши послушные дети
Михаил и Федор Достоевские.
На полях следующие приписки:
Братьев и сестер за нас поцелуйте.
Шидловский и Карронад Фил. свидетельствуют Вам свое почтение. Няне и Федосье мы кланяемся. Первой желаем потолстеть.
* * *
27 сентября [1837 года]
Любезный Папинька!
Давно уже не писали мы к Вам, ожидая конца экзамена, который должен был решить судьбу нашу.
Еще прежде экзамена, на докторском смотре сказали, что я слаб здоровьем; но это была только пустая оговорка. На это они не имели никакого основания, кроме разве того, что я не толст. Да и что могли они сказать, когда они не могли заметить ни одного из моих недостатков, потому что нечистота лица прошла, а на другое они и не взглянули. Впрочем, на эти недостатки они и не смотрят, ибо нынешний же год они приняли многих, у которых гораздо можно было бы больше заметить. Главная же причина, во-первых, должна быть та, что мы оба брата вступаем в один год, а другая та, что мы вступаем на казенный счет. Более я ничего не могу придумать. Отозвались же они так, что я не в состояния буду перенесть всех трудностей фронта и военной службы, тогда как здоровье мое совершенно позволяет мне быть уверенну, что я могу перенести еще гораздо более. Много слез стоило мне это — но что же было мне делать? Я надеялся, что еще можно будет как-нибудь это сделать. Да и К. Ф. меня обнадеживал и уговаривал. Генерал с своей стороны, увидев мое свидетельство, готов был принять меня, ежели б на это был согласен доктор. Впрочем это еще можно очень поправить. Время терпит. Они принимают еще и в январе. Главное дело теперь состоит в том, чтоб иметь свидетельство от какого-нибудь хорошего доктора, который бы поручился в моем здоровье. Кто же лучше может это сделать, как ни М. А. Маркус. Он в Петербурге имеет большой вес. Притом же он в этом месяце, как слышно, должен быть в Москве. Одно его слово может переменить все дело. Меня бы приняли в училище и без того, но боятся, ибо нынешний год — чего никогда не бывало — умерло у них пять человек.
Генерал очень добрый человек. К. Ф. советует Вам написать к нему письмо, в котором вы бы попросили его допустить меня к экзамену и упомянули, что мы просили государя. Брат держал экзамен с честию. Мы наверно полагали, что он будет в числе первых, ибо ни у кого почти нет более его баллов. Из геометрии, истории, французского и закона он получил полные баллы, т. е. 10, из прочих всех по 9, чего почти ни у кого не было. Несмотря на все это, он стал 12-м; ибо теперь, вероятно, смотрели не на знания, но на лета и на время, с которого начали учиться. Поэтому первыми стали почти все маленькие и те, которые дали денег, т. е. подарили. Эта несправедливость огорчает брата донельзя. Нам нечего дать; да ежели бы мы и имели, то верно бы не дали, потому что бессовестно и стыдно покупать первенство деньгами, а не делами. Мы служим государю, а не им. Но это еще ничего, потому что личное достоинство никогда не затмится местом, и если он стал не первым, — чего он совсем не заслужил, — то в училище он может быть первым. Главное же дело состоит в том, что генерал объявил, что нет ни одной казенной ваканции; след., несмотря на разрешение государя, принять его не могут на казенный счет. Беда да и только! Где же взять нам теперь 950 р. Неужели отдать последнее? Вы уже и так все за нас отдали, что имели. Боже мой! Боже мой! Что с нами будет! Но он нас не оставит. Одна надежда на него.
Еще хорошо, что довольно времени все это обделать. Может быть, все это устроится к лучшему. Будем молиться Богу! Он не кинет бедных сирот! Еще много у него милости. Прощайте. Берегите себя: будьте здоровы. Вам желание любящих по гроб детей Ваших Михаила и Федора Достоевских.
На двух полях следующая приписка:
Кланяйтесь от нас почтенному Федору Антоновичу. Скажите, что мы просим тысячу раз у него прощенья за то, что еще ни разу к нему не написали. Времени совершенно до сих пор не было свободного. Насилу урывались написать к Вам несколько строк.
* * *
Петербург, октября 8-го дня [1837] г.
Любезнейший Папинька!
Нынче получили мы вдруг два письма; одно от Вас, другое от тетиньки. Боже мой! как горько было узнать нам, что Вы еще не получили от нас ни одной строчки. Мы не понимаем, отчего бы это было: от неисправности ли почты или от неверного доставления на почту; потому что наш человек на это не слишком хорош. Еще сейчас после 15 сентября Карронад Филиппович написал письмо к Вам в Даровую. Мы полагали, что оно дошло туда во время Вашего отсутствия в Москву; между тем, как теперь видим из письма Вашего, Вы его совсем не получили. В Москву же мы не писали, дожидаясь конца экзамена, который продолжался с лишком 2 недели и кончился для брата очень благополучно. Он уже совершенно принят и ходит теперь учиться фронту. Сегодня представляли всех вступающих в Г. И. У. великому князю Михаилу Павловичу, и этот смотр, которого все очень боялись, кончился очень благополучно. После же конца экзамена Карронад Филиппович и мы сейчас же отправили письмо к Вам и к тетиньке, в котором описали все подробно; оно Вас, вероятно, не застало уже в Москве. Впрочем, думаем, что оно уже дошло к Вам. Боже мой! знали ли мы, что это так случится. Милый, любезный папинька! сколько огорчений делаем мы Вам! Будем ли мы в состоянии хоть когда-нибудь возблагодарить Вас! Когда придет это время, время, когда мы будем в состоянии радовать Вас! Каждый день я молюсь со слезами Богу об этом. Что ж делать, когда для нас суждены одни только неудачи! Но еще есть надежда, что все это примет другой лучший оборот. Пишете Вы, что мы ведем переписку с Кудряв. и Ламовским. К последнему мы не написали ни одного письма, потому что мы с ним коротко совсем не знакомы. А к Кудрявцеву я не писал уже больше чем полтора месяца, хотя я получил от него несколько писем.
От тетиньки получили мы нынче письмо — ответ на наше, которое мы послали вместе с письмом к Вам. Они очень об нас жалеют и хотят непременно внести за нас по 950 руб. за каждого, ежели Вы только это позволите. Это нас очень удивило, тем более что в нашем письме мы совсем об этом и не намекали и совсем не просили. Позвольте это им сделать именно только для нас. В будущем письме мы ждем от Вас ответа. Для них это ничего не будет стоить, а для нас это будет иметь большое влияние на судьбу нашу. Притом же до сих пор для нас они ничего не сделали; так пусть по крайней мере на этот случай, можно сказать критический, они одолжат именно только меня с братом. Без этого же брату взойти в корпус совершенно невозможно, ибо он уже и расписался в уплате этих денег; иначе он бы сейчас же лишился права на вступление, и его бы место было занято другим. Может быть, наши грешные молитвы дошли до Бога, и дело наше принимает оборот несколько лучший. Что же касается до меня, то это также не трудно поправить. Карронад Филиппович и все наши советуют мне поступить прямо в так называемые Инженерные юнкера, что нам почти ничего не будет стоить. А это совсем не хуже Инженерного училища. Через 2 года по крайней мере я могу быть офицером; по крайней мере, а то и через 1 ½ или через год; ибо это будет зависеть от экзамена. Эти юнкера живут также в Инженерном замке, а те, которые захотят жить у себя, то обыкновенно живут дома. Содержание все казенное. Должность их состоит в том, что они чертят планы, летом присутствуют при постройках. Учатся же они сами по себе. Но это совсем не беда, потому что я сам теперь даже могу держать экзамен в офицеры. Там требуют алгебру до неопределенных уравнений, геометрию и тригонометрию, что я уже и проходил, фортификацию, артиллерию, что я уже и теперь несколько знаю, но имею средства сам по себе приготовить, брав записки у кондукторов (из них мне много коротко знакомых). И еще требуют архитектуру. Это также я могу приготовить, читав хорошие книги. Итак, через год или много через 2.я буду точно таким же офицером, каким бы я был, вышедши из Инженерного училища, с тою только разностию, что чин подпоручика там (в И. У.) я могу получить через год по экзамену, ежели только я бы хорошо учился, а здесь прослужив прапорщиком должное время. Для приготовления и вообще для занятия я буду иметь свободное время после обеда, ибо только утром я буду тогда на службе. Судите сами, как это хорошо, и притом это ничего не будет тогда стоить. Даже мундир один и тот же, как и кондукторов. Здесь я могу гораздо скорее быть офицером, нежели в Инженерном училище. А мне только это и нужно. Впрочем, это можно всегда сделать, ибо теперь есть довольно там ваканций. Но, может быть, еще можно будет вступить и в Инженерное училище. Пусть все устраивается так, как угодно Богу. Он делает все к лучшему и верно устроит и наше дело. Об одном только просим Вас, любезнейший папинька! не огорчайтесь этим, верьте, что Бог это устраивает также для нашего счастья. Может быть, вступив в Инженерное, я много бы должен перенести несчастий. Я всегда буду молиться Богу, и он не оставит нас. Прощайте, милый, любезный папинька! Еще ради Бога, не огорчайтесь. Все устроится к лучшему. С сыновнею любовью и преданностию, честь имеем пребыть послушными сыновьями Вашими
Михаил и Федор Достоевские.
На полях приписка:
Ради Бога уведомьте нас сейчас по получении нашего письма. Тогда мы будем немедля писать к тетиньке.
* * *
Петербург, 3 декабря. Пятница [1837]
Любезнейший Папинька!
Нынче получили мы письмо от Вас и вместе с ним и деньги 70 руб., деньги, орошенные потом трудов и собственных лишений. О как они для нас теперь дороги! Благодарим, благодарим Вас, от всего сердца, которое вполне чувствует все, что Вы для нас делаете.
Вам, может быть, покажется странным, отчего мы только теперь получили письмо Ваше. Повестка о деньгах пришла еще к нам на прошлой неделе в субботу; во вторник только К. Ф. расписался и только нынче взял деньги с почты. Вы пишете, любезнейший папинька, что не получали ответа на последние 2 письма Ваши, но мы вот уже полтора месяца, как пишем аккуратно раз в неделю. Не знаю, получили ли Вы то письмо, в котором я в приписке уведомлял Вас, что я справлялся в Канцелярии насчет письма генерала Шарнгорста. Присланных Вами денег для нас заглаза довольно. Нынче я говорил с Карронадом Филиппов. Он уверяет меня, что в том никакого нет сомнения, что я буду принят. Впрочем, я его просил сам, чтоб он обо всем уведомил Вас сам; и он мне это обещал, сказав, что он наперед узнает обо всем до меня касающемся в воскресенье. На нынешней неделе, тому дня с три, призывал он меня к себе и сказал, чтобы я непременно написал Вам, чтоб Вы не беспокоились насчет денег. Что он не будет Вас больше об них беспокоить, ежели я, сверх его чаяния, пробуду у него и первые числа января. След. он теперь для себя должен стараться меня поскорее спровадить. Впрочем, не думает ли он под этим благородным предлогом как-нибудь отклонить с нашей стороны требование 300 рублей. Бог его знает! Только он мне ручается за мое поступление и приказывает приготовить поболее фортификационных и архитектурных чертежей. Эти кондукторы живут или в Инженерном замке, или в Петропавловской крепости, что за Невою. Он хочет как-нибудь поместить меня в Инж. замок, в чертежный департамент. Это будет еще лучше. Просьбу он подаст в декабре, причины этому я излагал в прошлом письме. Ежели б мне Бог позволил вступить туда, мне было бы очень хорошо. Через год я был бы офицером, а там широка дорога.
К. Ф. просил у генерала, чтоб он позволил брату держать экзамен в 3-й класс. Генерал позволил. Он держит экзамен прекрасно. Математика уже сошла с плеч его как не надо лучше. Из закона также. Остаются география, история и фортиф., но и это надеемся пройдет очень хорошо. Поверите ли из фортификации и артиллерии не хотят и экзаменовать, потому что начнут сначала в 3-м классе. След. 300 руб. были К. Ф. ни на что не нужны. Впрочем, до сих пор он их не тратил, кроме 10 руб., которыми ссудил он нас.
Вы пишете, любезнейший папинька, что мы переписываемся с Куманиными. Так. Но ежели бы Вы знали, что я пишу к ним все то же, насчет дел, что и к Вам. Они же пишут к нам всякий вздор. Только об делах. Иногда укоряют меня в неоткровенности, что я не описываю им подробно об инженеры, юнкерах. Но, ей Богу, иногда позабудешь, а иногда и сам еще хорошо не разузнаешь. Да и какая может быть тут неоткровенность? Смешные люди! Деньги за брата уже внесены и квитанция уже взята. Недавно получили мы от них письмо, в котором, между прочим, недальновидными расспросами пишут, что уж давно не получали от Вас никакого известия. Вообще письма их наполнены только одними расспросами о делах, которые мы предпринимаем, о подробностях этих кондукторов. Письма их состоят из нескольких строк. Редко в 2 страницы. Пишет Алек. Алексеев. Величает нас по имени и отечеству. Прощайте. Будьте здоровы! и сколько можно счастливы. О том молят Бога дети Ваши
М. и Ф. Достоевские.
На полях следующие приписки:
Этих денег для нас очень довольно. Сдел. милость будьте спокойны.
Честь имеем поздравить Вас с двумя именинниками.
На отдельном листочке:
… Николаевич Шидловский свидетельствует Вам свое почтение. Он по воскресеньям или бывает у нас, или присылает за нами, — и мы проводим у него целое утро. Зима еще у нас не начиналась. То выпадет снег, то опять сойдет. Брат, думаем, будет непременно принят в 3-й класс. Генерал и полковники Ломновский и Фере прекрасного об нем мнения. Их очень много мучают фронтом. Князь очень строг. Он в Москве.
На обороте этого листочка:
Милая сестра Варинька!
Поздравляем тебя с днем твоего рождения и ангела. Дай Бог тебе всего лучшего. Каково то ты проведешь этот день? Теперь, я думаю, ты уже очень мило играешь на фортепиано. Поцелуй за меня милую Сашурочку. Говорит ли она? Ходит ли она? Мы об этом еще ничего не знаем. Именинника Колечку расцелуй за меня. Любит ли он по-прежнему шепеленосков. Прощай. Твои братья
М.и Ф. Достоевские.
На втором отдельном листочке:
… но я постараюсь настоять на своем. Ах, папинька, как горько иногда бывает быть посреди людей этих, не зная, кому отнестися с своею просьбою, видя совершенную возможность поступить, и Бог знает сколько дожидаться. Но будьте покойны! я уже пообтерся с этими людьми и сумею с ними сладить. Главное, не должно быть деликатным. Прощай, милый, любезный наш папинька! Прощайте! Целуя ручки Ваши, пребываем любящими Вас детьми Вашими
М. и Ф. Достоевские.
Милую сестру Вариньку, Сашичку и братишку Николю целуем. Прощайте!
* * *
С-Петербург. — 1838 года. — Февраля 4-го дня
Любезнейший папинька!
Наконец-то я поступил в Г. И. училище, наконец-то я надел мундир и вступил совершенно на службу царскую. — Насилу-то вылилась мне свободная минутка от классов, занятий, службы, драгоценная минута, в которую я могу с Вами побеседовать хоть письменно, любезнейший папинька. Сколько уже времени, как не писал я к Вам, и слыша при свидании последний раз с братом, что Вы даже пеняли на меня за это, я чрезвычайно желал поправить мой, хотя невольный, проступок. — И в это самое время я вдруг получаю от Вас письмо; я не знал, с чем сравнить Вашу к нам любовь. — Вы, любезнейший папинька, не зная даже адреса, прислали мне письмо, а между тем я уже более месяца не писал решительно ни строчки; но это совершенно по причине того, что не имел ни одной минутки свободной. — Вообразите, что с раннего утра до вечера мы в классах едва успеваем следить за лекциями. Вечером же мы не только не имеем свободного времени, но даже ни минутки, чтобы следить хорошенько на досуге днем слышанное в классах. — Нас посылают на фронтовое ученье, нам дают уроки фехтованья, танцев, пенья, в которых никто не смеет не участвовать. Наконец ставят в караул, и в этом проходит все время; но, получив от Вас письмо, я бросил все и теперь спешу отвечать Вам любезнейший папинька. Слава Богу я привыкаю понемногу к здешнему житью; о товарищах ничего не могу сказать хорошего. Начальники обо мне, надеюсь, очень хорошего мненья. У нас новый инспектор по классам. — Ломновский (прежний инспектор) передал свое место барону Дальвицу; что-то будет, а прежний инспектор мною был доволен. Деньги я получил 50. Они теперь у брата. Сколько я должен благодарить Вас, папинька. — Они мне действительно нужны, и я спешу обзавестись всем, что нужно. В воскресенье и в другие праздники я никуда не хожу; ибо за всякого кондуктора непременно должны расписаться родственники в том, что они его будут брать к себе. — Итак, я покуда лишен сообщенья с братом и, следственно, не мог читать последних Ваших писем. — Только однажды мог я выпросить сходить к Костомарову и там узнал для нас столь приятную новость о поступлении брата в инженерные юнкера. Слава Богу, что наконец-то исполнилось наше давнее общее желанье и наконец-то брат нашел себе совершенную дорогу. Теперь, надеемся, все пойдет лучше. — В письме своем ко мне Вы все-таки еще изъявляете сомнение насчет этого. Но это совершенно кончено, и верно как не надо более. Да и всегда можно бы было надеяться такого решенья, ежели бы не Костомаров, которому всегда хотелось затянуть это дело, попридержать брата долее срока, чтобы быть хотя отчасти правым на счет наших 300 рубл., которые он так низко оттягал от нас. — Вам должно быть известно из последних писем брата насчет того, что он представлялся к Геруа и Трусону — своим будущим генералам. — Они приняли его отменно ласково, как уже поступившего в службу; следст., это решение несомненно, и сомневаться нечего. Трусон обещал также брату стараться о нем при определении в офицеры, и можно надеяться, что он сдержит свое обещание. Недавно я узнал, что уже после экзамена генерал постарался о принятии четырех новопоступивших на казенный счет, кроме того кандидата, который был у Костомарова, и перебил мою ваканцию. — Какая подлость, это меня совершенно поразило. — Мы, которые бьемся из последнего рубля, должны платить, когда другие — дети богатых отцов, приняты безденежно. — Бог с ними!
Пишете вы папинька, не имею ли я в чем-нибудь нужды. — Теперь покуда не в чем. Белье и платье мое у брата. — Жду не дождусь его совершенного поступления. Тогда, по крайней мере, все ближе друг к другу. Прощайте, любезнейший папинька.
— С пожеланием Вам всех благ от Бога. Честь имею пребыть Ваш покорный и послушный сын Ф. Достоевский.
На полях следующие приписки:
Слышно, что брат прежде поступленья в Инженерный замок проживет недели с две в крепости.
Насчет нового постановленья, о котором Вы мне писали, нечего опасаться. О нем у нас не слыхать. Да оно не имеет и достаточно основанья, а просто пустой слух.
Поцелуйте за меня всех братцев и сестриц. — Когда-то мы с ними увидимся. — Андрюша нам до сих пор не написал ни полстрочки.
Вы пишете, чтобы я прислал к Вам адрес Шидловского. — Но он едет из Петербурга в Курск к родным на время. — Вы, должно быть, встретитесь с ним в Москве, и он может отыскать Вас чрез Куманиных.
* * *
С. Петербург. Июня 5 дня 1838 г.
Любезнейший Папинька!
Боже мой, как давно не писал я к Вам, как давно я не вкушал этих минут истинного сердечного блаженства, истинного, чистого, возвышенного… блаженства, которое ощущают только те, которым есть с кем разделить часы восторга и бедствий; которым есть кому поверить все, что совершается в душе их. — О как жадно теперь я упиваюсь этим блаженством. — Спешу Вам открыть причины моего долгого молчанья.
После братнина письма, где я сделал коротенькую приписочку, поздравив Вас с светлыми днями праздника, я долго не мог взяться ни за что постороннее. — У нас начались тотчас третные экзамены, которые продолжались по крайней мере месяц. — Надобно было работать день и ночь; особенно чертежи доконали нас. — У нас 4 предмета рисовании: 1) рисованье фортификационное, 2) ситуационное, 3) архитектурное, 4) с натуры. Я плохо рисую, как Вам известно. Только в фортификационном черчении я довольно хорош, что ж делать с этим? и это мне много повредило. Во-первых тем, что я стал середним в классе, тогда как я мог бы быть первым. Вообразите, что у меня почти из всех умственных предметов полные баллы, так что у меня 5 баллов больше 1-го ученика из всех предметов, кроме рисованья. А на рисование смотрят более математики. — Это меня очень огорчает. — Вторая причина моего долгого молчания есть фрунтовая служба. — Вообразите себе, — пять смотров великого князя и царя измучили нас. — Мы были на разводах, в манежах вместе с гвардиею маршировали церемониальным маршем, делали эволюции, и перед всяким смотром нас мучили в роте на учении, на котором мы приготовлялись заранее. — Все эти смотры предшествовали огромному, пышному блестящему Майскому параду, где присутствовала вся фамилия царская и находились 140 000 войска. Этот день нас совершенно измучил. — В будущих месяцах мы выступаем в лагери. — Я по моему росту попал в роту застрельщиков, которым теперь двойное ученье; батальонное и застрельщиков. — Что делать, не успеваем приготавливаться к классам. Вот это причины моего долгого молчания.
Теперь поговорим о другом. Да! Кто бы думал и полагал, что брат будет откомандирован, — но что же делать! Так угодно Богу. А что от его воли, то не переменится никакою силою. — Судьба обыкновенно играет миром, как игрушкою. — Она раздает роли человечеству… но она слепа. — Но Бог покажет путь, по которому можно выйти из всякого рода несчастья. — А брат еще не несчастлив. — Конечно, видеть горесть такого отца, как Вы, горько, больно нам. — Об этом мы скорбим душою. Но успокойтесь, любезнейший папинька, это место и служба брата имеют и свои выгоды. Для инженерной службы главное практика. Он ее имеет теперь. — А учиться может всегда и везде. — Может быть, Бог устраивает все к лучшему. — Я недавно получил письмо от брата, — и по его описаниям я полагаю его жизнь завидною. — Впрочем, Вам должно быть известно это из его письма к Вам. — Ибо, наверно, он не заставил ждать себя.
Теперь, должно быть, вы развлекаете свое одиночество сельскими занятиями и работами. Да! Каков-то будет нынешний год и чем-то нас Господь порадует. — О дай Бог нам счастья.
Я все еще продолжаю посещать Меркуровых{134}. Это люди достойные дружбы и почтенья. Они принимают меня как родного. Дай Бог счастья всякому доброжелателю нашему!
Теперешние мои обстоятельства денежные немного плохи. — Поездка в Ревель стоила довольно много брату! Но еще и я из Ваших присланных денег истратил довольное количество на казенные надобности. — Ибо к Майскому параду требовались многие поправки и пополненья в мундирах и амуниции. Решительно все мои новые товарищи запаслись собственными киверами; а мой казенный мог бы броситься в глаза царю. Я вынужден был купить новый, а он стоил 25 рублей. На остальные деньги я поправил инструменты и купил кистей и краски. Все надобности! К лагерям же наступит ужаснейшая необходимость, ибо там без денег беда! Если можно, папинька, пришлите мне хоть что-нибудь. — Письмо присылайте прямо в Главное инженерное училище. Ибо не знаю как Вам сказать, куда адресовать в квартиру Меркуровых. — Они съехали с прежней, а я позабыл имя теперешнего хозяина их. — Около 12 июня мы выступаем в лагери.
Прощайте, любезнейший папинька. Поцелуйте всех моих братьев и сестриц. С истинным почтеньем и сыновней преданностью остаюсь
Ф. Достоевский.
* * *
С. Петербург. Марта 23-го дня 1839 года.
Боже мой! Сейчас только узнал я, что Вы, любезнейший папинька, не получили и последнего письма моего. Теперь, которое пишу к Вам, уже пятое. — И я наконец лишаюсь терпенья. Боже мой! Неужели я должен быть всегда причиною Вашего отчаянья. То, чего я так опасался, все осуществилось; я в отчаянии, в совершенном отчаянии!
Выслушайте же теперь все, что я в коротких словах объясню вам, любезнейший папинька.
Сейчас после получения Вашего письма с посылкою 25 р. ассигн., я ответил и благодарил Вас за помощь. Через неделю я послал письмо и в тот же день. И Ваше и братнино письмо пропали. — Долго не получая известий, я в отчаянии о судьбе Вашей, дорогой наш папинька, в отчаянии о судьбе семейства нашего, я написал Вам пред Рождеством еще письмо. — И это имело ту же участь, 3-е я послал на масленице. — Четвертое в начале Великого поста, 5-е пишу Вам теперь у Ивана Николаевича, не застав его дома, узнал о судьбе моих писем, и в горе, в отчаянии со слезами на глазах, беру перо. Завтра, т. е. в пятницу, пойдет к Вам письмо это. Иван Николаевич — человек благородный и исполнит то, что я прошу его в оставляемой ему теперь записке. Теперь я знаю причину, почему мои письма не доходили до Вас. У нас в училище случилась ужаснейшая история, которую я не могу теперь объяснить на бумаге, ибо я уверен, что и это письмо перечитают многие из посторонних, 5 человек кондукторов сосланы в солдаты за эту историю. — Я ни в чем не вмешан. Но подвергся этому наказанию. Месяца 2 никуда не выпускали нас совсем невинных из училища. — В это время распечатывали и читали все письма у нас в канцелярии и, должно быть, задерживали на почте. — Вот почему и Вы не получили. — 4-е письмо мое к Вам я хотел послать через Ивана Николаевича (в этом письме я отвечал на Ваше страховое, которое смертельно уязвило меня), и солдат, которого послал я, как я сейчас узнал это, обманул меня и не исполнил моего поручения. След., я совершенно прав перед Вами, любезнейший папинька. Клянусь Вам в этом. Боже мой! Но Вы в отчаянии о судьбе Вашего сына. У ног Ваших прошу прощенья за все неумышленное зло, какое я сделал Вам.
Я, оставшись в классе, не потерял времени. — Я занимался военными науками и успел много. — Я следил за курсом высшего класса и намерен экзаменоваться через класс в первый.
— Но я много истратил денег (на покупку книг, вещей и т. д.) и все должен был занимать. — Я задолжал кругом и очень много.
— Я должен по крайней мере 50 р. Боже мой! Долго ли я еще буду брать у Вас последнее. — Но эта помощь необходима, или я пропал. Срок платежа прошел давно. — Спасите меня. — Пришлите мне 60 р. (50 р. долга, 10 для моих расходов до лагеря). Скоро в лагери, и опять новые нужды. — Боже мой! Знаю, что мы бедны. — Но Бог свидетель, я не требую ничего лишнего. — Итак, умоляю Вас, помогите мне скорее как можно. Время идет, бумага вся. — Ваш до гроба, преданный во веки веков сын ваш Ф. Достоевский.
P. S. Я ужасно спешу писать к Вам.
На полях следующая приписка:
Брат пишет, что он уже скоро будет готов экзаменоваться к нам в полевые инженеры. Дай Бог ему счастья. Кстати, поздравляю Вас с светлым праздником, дражайший отец наш. От всей души желаю Вам счастья.
Я сейчас только приобщался. Денег занял для священника. Давно уже не имею ни копейки денег.
От брата получил недавно письмо. Он говорит, что не получил от меня ни строчки.
Мое предположение держать экзамен в высший класс очень занимает меня. Я могу выдержать. Но для этого надобны деньги. — Ежели вы мне можете прислать 100 р., то я буду экзаменовать. — Если нет, то год лишний. Это для Вас, любезнейший папинька; мне же все равно. — Еще раз прощайте.
Расцелуйте наших малюток и сестру. — Я получил письмо от Хотяинцева (Александра). Я ответил ему, что послал письмо через Ивана Николаевича. — Ужасно досадую, зачем Хотяинцев не осведомился немного ранее. Письма ко мне адресуйте на имя Ивана Николаевича.
* * *
А. Хотяинцеву{135}
[Март 1839 г.]
Милостивый Государь Александр Федорович!
Долгом считаю изъявить Вам мою сердечную признательность в том, что Вы принимаете участие в делах моего батюшки! — Живо представляю беспокойство его; но вместе с тем я удивляюсь, каким образом столько писем, сколько я отправил к нему, не дошли до него. Еще недавно писал я к нему; а сегодня отправил еще письмо через моего знакомого. — Причины, почему они не дошли до него, уже изложены в последнем письме. Думаю, что это последнее письмо дойдет до него.
Мне только остается Вам объявить мою благодарность за Ваше снисхождение. — Позвольте уверить Вас в истинном почтении, с которым
Честь имею пребыть Вашим покорнейшим слугою
Федор Достоевский.
* * *
1839 года Мая 5-го дня{136}
Любезнейший папинька!
Угадываю, что Вы и теперь беспокоитесь обо мне, не получив от меня тотчас ответа. Любезнейший папинька! Спешу успокоить Вас и постараюсь оправдаться в теперешнем моем молчании, сколько можно. — Теперь у нас настали экзамены. — Нужно заниматься, а между тем все свободное время мы употребляем на фрунтовое ученье; ибо скоро будет Майский парад. Оставалось сыскать свободного времени ночью. — Очень рад, что я нашел наконец свободный часок поговорить с Вами. — Ах! Как я упрекаю себя, что был причиною Вашего горя! — Теперь как можно буду стараться загладить это. — Письмо Ваше я получил и за посылку Вашу благодарю от всего сердца. — Пишете, любезнейший папинька, что сами не при деньгах и что уже не будете в состоянии прислать мне хоть что-нибудь к лагерям. — Дети, понимающие отношения своих родителей, должны сами разделять с ними все: радость и горе; нужду родителей должны вполне нести дети. Я не будут требовать от Вас многого. — Что же, не пив чаю, не умрешь с голода. — Проживу как-нибудь! Но я прошу у Вас хоть что-нибудь мне на сапоги в лагери; потому что туда надо запасаться этим. — Но кончим это; — экзамены мои я уже начал и очень хорошо. Кончу так же. В этом я уверен.
Теперь многие из тех преподающих, которые не благоволили ко мне прошлого года, расположены ко мне как не надо лучше. — Да и вообще я не могу жаловаться на начальство. Я помню свои обязанности, а оно ко мне довольно справедливо. — Но когда-то я развяжусь со всем этим. Пишете, любезнейший папинька, чтобы я не забывал своих обязанностей. Повторяю: я их помню очень хорошо, и со службою я уже связан присягою при самом поступлении моем в училище. От брата я долго не получал писем. Он как будто забыл меня. Но недавно получил от него клочок исписанной бумаги, где он на меня нападает донельзя за мое мнимое к Вам молчание, и, признаюсь, этим письмом оскорбил меня до глубины души, выставив меня перед самим собою пренизким созданьем. Я пропустил это мимо, потому что его посланье не ко мне писано. — Я считаю себя гораздо лучшим, нежели с кем он ведет подобную переписку. Впрочем, я забываю это и готовлюсь ему на этой неделе отвечать. Его положенье теперь совсем нехудое. Ему бы можно было экзаменоваться к нам в училище в нижний офицер, класс. Посоветуйте ему это. — Из крепости, кондукторов очень много это делают. Примеры тому каждогодные. Через год он может быть готовым. Я берусь доставить ему все записки и все нужное. Он уже и так теперь знает довольно из математики. Но надобно ему лучше заняться фортификацией (которая у нас самый главный предмет в кондукторских классах) и артиллерией; ибо и артиллерию очень подробно у нас проходят, как входящую в состав фортификации. — Ах! Как Вы меня обрадовали, написав, что Вы, слава Всевышнему, здоровы. А я думал и полагал наверно, что Ваши всегдашние недуги еще более увеличились огорченьями (неполучением от меня писем). — Целую маленьких братьев и сестер. — Что-то делает Андрюша; как-то он учится. — Не захотите ли Вы его отдать к нам в училище. Когда я выйду в офицеры, то берусь его приготовить для поступления к нам; ибо поступить к нам довольно легко. Костомаров обморочил Вас и только и взял с Вас деньги за нас, тогда как мы бы могли и без приготовления поступить в училище. Но прощайте, любезнейший папенька. — Бессчетно раз желаю Вам счастья. — Ваш покорный и любящий Вас сын
Ф. Достоевский.
На полях следующие приписки:
Поздравляю Вас с прошедшим праздником Христова воскресенья. — С какою грустью воспоминаю я о том, как проводил я день этот в кругу родных моих! А теперь? — Но только бы вырваться из училища.
Перейдя в высшей класс, я нахожу совершенно необходимым абонироваться здесь на французскую библиотеку для чтенья. Сколько есть великих произведений гениев — математики и военных гениев на французском языке. — Вижу необходимость читать это; ибо я страстный охотник до наук военных, хотя не терплю математики. Что за странная наука! и что за глупость заниматься ею. — С меня довольно столько, сколько требуется инженеру или еще и побольше. — Но к чему мне сделаться Паскалем или Остроградским. Математика без приложенья чистый 0, и пользы в ней столько же, как в мыльном пузыре. — Скажу Вам еще, что мне жаль бросить латинского языка. Что за прелестный язык. Я теперь читаю Юлия Цезаря и после 2-х годичной разлуки с латинским языком понимаю решительно все.
* * *
А. А. и А. Ф. Куманиным.
С. Петербург. Генваря 28-го дня 1840 года.
Милостивый Государь Любезнейший Дядинька и Милостивая Государыня Любезнейшая Тетинька!
Никогда, никакое радостное известие не производило столь приятного и сладостного впечатления в душе моей, как то, которое ощутил я при чтении письма сестры. Ожидал ли я, и судя по вине моей, мог ли я ожидать подобной благосклонности и расположенья со стороны Вашей, любезнейшие дядинька и тетинька. — Не могу дать отчета в тех чувствованиях, которые волновались во мне при получении письма Вашего. — Вся тяжесть моей вины, все справедливое негодование Ваше, любезнейшие дядинька и тетинька, живо представились предо мною! Но какая перемена! Вы возвращаете мне Ваше благорасположенье охотно, с любовью, мне, нисколько не заслужившему этого. — Но я не знал и не могу сказать, что происходило тогда в сердце моем? я должен был радоваться, я не знал, как радоваться письму этому, ибо ничто в мире не могло меня сделать более счастливым, как прощенье Ваше; но досада на себя, стыд. Ваша беспримерная снисходительность ко мне, так долго во зло употреблявшему благораслоложенье Ваше, все это налегло на сердце мое тягостнейшим бременем. Наказанье собственной совести — сильнейшее, я несу всю тяжесть этого наказанья… Я в долгу у вас, любезнейшие дядинька и тетинька, в долгу, превышающем силы мои, и если исправление вины моей, раскаянье и привязанность моя к Вам будут иметь хотя малейшую цену в глазах Ваших, то я почту еще себя счастливым; ибо весьма облегчу совесть мою.
Но что меня восхитило больше всего, что напомнило душе моей так много милого в прошедшем, что заставило мое сердце забиться еще пламеннее к Вам, то это собственноручные строки ваши, любезнейшая тетинька. — Такого снисхождения и добродушия не мог ожидать я… Тем более были приятны для меня эти строки, что уже давно, единственно по собственной вине и ошибке своей, не слыхал я таких сладких сердцу слов, и выраженья Вашей любви ко мне, любезнейшая тетинька, которые напомнили мне покойную мать мою… С каким жаром целовал я строки эти, с каким жаром 1000 раз целую ручки Ваши, любезнейшая тетинька!
Но нет и счастья без горести. Это письмо глубоко растравило в сердце моем едва зажившие раны. Смерть дядиньки {137} заставила меня пролить несколько искренних слез в память его. — Отец, мать, дядинька и все это в 2 года! Ужасные годы!
Еще ранее поспешил бы я письмом моим, если бы не экзамены, задержавшие меня. Теперь они кончились, и я не теряю ни минуты. Но чувствую, что уже утомляю Вас письмом моим. — Итак, позвольте искренно любящему и почитающему Вас племяннику Вашему пребыть навсегда покорным и послушным Вам
Ф. Достоевским.
Любезнейшая сестра Варинька! Твое письмо обрадовало меня несказанно: в нем ты объявила мне прощенье дядиньки и тетиньки. Но как ты подумать могла, любезная сестра моя, что я забыл тебя, о ком же помнить мне более, если не об родственниках — благодетелях наших и о Вас, мои милые братья и сестры. — Нет! я никогда не забывал этого; верь всегда, Варинька, что у тебя есть братья, которые любят тебя более жизни своей. — Старший брат твой, любезнейшая сестра моя, любит тебя также пылко, несказанно: умей почитать и ежели можешь столь же любить его. — Вспомни, сколько несчастий перенес он, бедный, чтобы успокоить отца своего при жизни; поэтому можешь судить и о любви его к родным своим. — Самая теснейшая дружба связывает меня с ним. Милая сестра! ты написала мне столь много приятных известий о семействе нашем… Но о сестре Верочке еще ни слова. Она как будто забытая. — Напиши мне о них всех побольше, как можно больше. Что они? выросли ли малютки наши, изменились ли? Всех их целую от души, так же, как и тебя, милая сестра моя. Скажи Андрюше, что я бы весьма желал получить несколько собственных строчек в письме твоем. Научи его быть благодарным благодетелям нашим. Передай ему это от меня. Прощай, милая сестра моя. Твой друг и брат Ф. Достоевский.
Любезнейшая Бабушка! Как сладко отозвались в сердце моем слова сестры моей, упоминавшей о том, что Вы не забыли меня. Ежели бы я имел право просить любезнейшего дядиньку в прошлом письме моем о передаче Вам моего нижайшего почтения, любви и уваженья, то я бы к несказанному для меня удовольствию мог бы предупредить Вас. — Теперь мне ничего более не остается как нижайше благодарить Вас об этом. Верьте, что никогда не забуду я того уваженья и преданности, с которыми честь имею пребыть теперь
Вас любящим и преданным Вам Ф. Достоевский.
Любезнейшей тетиньке Катерине Федоровне свидетельствую мое нижайшее уважение.
* * *
П. А. Карепину
[1843. Декабрь]{138}
Милостивый Государь Любезнейший брат Петр Андреевич!
Прежде всего позвольте пожелать Вам благополучной встречи Нового года, и хотя обычай предков наших желать при сем нового счастья нашли почтенные потомки избитым и устарелым, а я все-таки пожелаю Вам при моем поздравлении от всей души продолжения счастия старого, если оно было по Вашим желаниям, и нового по житейскому обычаю желать более и более. — Счастие Ваше, разумеется, неразлучно с счастьем сестрицы — супруги Вашей — и милых малюток Ваших, да будет же и им счастье упрочено на всю жизнь — пусть принесет оно в семейство Ваше сладостную, светлую гармонию блаженства.
Благодарю за посылку, хотя очень, очень позднюю. — Я был уже должен столько же и отдал все присланное тотчас же до копейки. Сам остался ни с чем. — Совершенно вверяюсь расчету Вашему на вспоможение остальное за нынешний год; но все-таки, если бы Вы прислали мне теперь же на днях рублей 150, мои обстоятельства надолго бы упрочились. Теперешнее требование мое объясняется нуждами, изложенными в прошлом письме моем, причем потщусь просить извинения за несколько неосторожных слов — вырванных из души нуждою и необходимостью.
В ожидании ответа Вашего
С глубочайшим почтением и преданностью позвольте пребыть
Любезный братец Вас любящим родственником Ф. Достоевским.
На четвертой странице того же письма:
Милая сестрица! давным-давно уже не писал я ничего тебе; винюсь душевно, но видишь ли, я избалован твоей добротою и расположением ко мне и потому всегда надеюсь на прощение. — Со мною нужно быть строже и злопамятнее — два качества, совершенно противных твоему доброму, любящему сердцу. — Желаю тебе счастия большого и большого, добренькая сестрица. — Желаю счастия и здоровья и малюткам твоим. — Пусть вырастут тебе на радость и утеху. — Искреннее желание мое прими, а за видимую холодность (молчание) не сердись. — Каюсь перед тобой! Но ведь ты простишь мне, я это знаю.
Прощай, милая Варинька. Перецелуй наших малюток Сашу, Верочку и Колю.
Тебя любящий брат Ф. Достоевский.
* * *
[1844 г.]
Милостивый Государь Петр Андреевич.
Спешу уведомить вас, Петр Андреевич, что по естественному и весьма неприятному ходу дел моих я принужден был подать в отставку. Просьба подана дней 10 тому назад; на нее последовало со стороны начальства соизволение. Высочайшее решение выйдет много что через две недели. Не имея денег на почту, я не уведомлял вас тотчас же. Причина такого переворота в судьбе моей заключалась в критическом положении моем насчет денег. Видя естественную невозможность получить откуда-нибудь помощь, я не знал, что придумать лучше. Теперь жить плохо. Ни вверху, ни внизу, ни по бокам ничего нет хорошего. Человек может сгнить и пропасть, как пропавшая собака, и хоть бы тут были братья единоутробные, так не только своим не поделятся (это было бы чудом, и потому на это никто не хочет надеяться, потому что не должен надеяться), но даже и то, что по праву бы следовало погибающему, стараются отдалить всеми силами и всеми способностями, данными природою, а также и тем, что свято.
Всякий за себя, а Бог за всех! Вот удивительная пословица, выдуманная людьми, которые успели пожить. С моей стороны, я готов признать все совершенства такого мудрого правила. Но дело в том, что пословицу эту изменили в самом начале ее существования. Всякий за себя, все против тебя, а Бог за всех. После этого естественно, что надежда человеку остается весьма плохая. Меня назначали в командировку на крепость. Должен я был около 1200 руб., должен был наделать про запас платья, должен был жить в дороге, может быть, на пути в Оренбург или Севастополь или даже подальше куда-нибудь, да наконец иметь средства обзавестись кой-чем на месте. Так как я твердо был уверен (по опыту), что если бы меня командировали хоть в Камчатку, то мне неоткуда бы было ждать вспоможения, то я принужден был избрать зло меньшее, т. е. отсрочить катастрофу своего житья-бытья хоть на 2 месяца; а там хоть в тюрьму тащи; но тогда я законно бы получил то, что уже, Бог знает, сколько времени вымаливаю.
Уведомляю вас, Петр Андреевич, что имею величайшую надобность в платье. Зимы в Петербурге холодные, а осени весьма сыры и вредны для здоровья. Из чего следует очевидно, что без платья ходить нельзя, а не то можно протянуть ноги. Конечно, есть на этот счет весьма благородная пословица — туда и дорога! Но эту пословицу употребляют только в крайних случаях, до крайности же я не дошел. Так как я не буду иметь квартиры, ибо со старой за неплатеж нужно непременно съехать, то мне придется жить на улице или спать под колонадою Казанского собора. — Но так как это нездорово, то нужно иметь квартиру. — Существует полупословица, что в таком случае можно найти казенную, но это только в крайних случаях, а я еще не дошел до подобной крайности. Наконец, нужно есть. Потому что не есть нездорово, но так как тут нет ни вспомогательного средства, ни пословицы, то остается умереть с голоду; но это только в крайних случаях, а я, слава Всевышнему, еще не дошел до подобной крайности. Я требовал, просил и умолял три года, чтобы мне выделили из имения следуемую мне после родителя часть. Мне не отвечали, мне не хотели отвечать, меня мучили, меня унижали, надо мной насмехались. Я сносил все терпеливо, делал долги, проживался, терпел стыд и горе, терпел болезни, голод и холод, теперь терпение кончилось, и остается употребить все средства, данные мне законами и природою, чтобы меня услышали, и услышали обоими ушами.
Почти в каждом письме моем я предлагал вам, как заведующему всеми делами семейства нашего, проект о выделе-же, сделке, контракте, уступке, или как там угодно, части моего имения за известную сумму денег. Ответа не было никакого. Дело в том, что сумма, которую я требовал в обмен, была так ничтожна, что выгода семейства требовала подробнейшего рассмотрения моего предложения. Дело должно было быть сделано законно, след., опасаться было нечего (в сделках опасение допускается). Но так как я ответа не получал, то теперь хочу употребить все средства, чтобы получить его.
Так как я хочу, чтобы никто не смел говорить, что я разоряю все семейство наше, то я теперь говорю, в последний раз, по моей собственной воле, по моему собственному желанию сделать так, чтобы всем было хорошо, что я отказываюсь от всего участка моего (приносящего до 1000 руб. дохода) за 1000 руб. серебром, из которых половина должна быть выплачена разом, а остальное на сроки. В противном случае я принужден буду употребить все мои усилия сбыть с рук мой участок хоть лицу постороннему, что будет довольно плохо для всех. С первого взгляда вещь не может быть допущена по закону; но допускают обязательства выплачивания долгов доходами, дарственные на получение не имения, но только доходов. Это возможно, а если этого нельзя, так можно что-нибудь другое и т. д. Меня не остановит малость предлагаемой суммы. Что же делать? деньги нужны, я пропащим человеком быть не могу. Нужно устроиться. Теперь я свободен, и меня не остановит ничто.
Вдобавок попрошу я вас, Петр Андреевич, прислать мне в счет чего хотите, хоть за 10 лет вперед, или всей цены выдележа прислать мне как можно более, чтобы удовлетворить означенным на страничке четвертой требованиям. Уведомляю вас, что жалование мое я взял все вперед в мае месяце (нужно было есть). След., теперь нет у меня ни копейки, к тому же нет платья, а наконец нужно долги заплатить. Ничего так не желаю, как кончить дела мои вышеозначенным. Они мешают мне жить.
Ф. Достоевский.
* * *
7 сентября [1844 г.]
Милостивый Государь Петр Андреевич.
В прошлом письме моем к брату Михайле писал я ему, чтобы он поручился за меня всей семье нашей в том, что после получения теперь некоторой суммы, я ничем не преступлю уговора, который благоугодно будет вам предложить мне от лица всех наших, и что брат Михайло на мои будущие требования должен будет или сам отвечать мне или, наконец, в случае несдержанна моего слова, сам из своей части поплатится мне. Будучи твердо уверен, что брат Михайло исполнил то, что я писал ему, нахожу необходимым еще раз обеспокоить вас письмом моим.
Брату кажется, так же как и мне казалось давно, что хотя и трудно сделать законный раздел, но весьма легко сделать семейный, соблюдать его ненарушимо с обеих сторон и потом довершить законами; конечно, не мне самому должно было предлагать вам такое решение; теперь же предстательство брата, естественно, может несколько споспешествовать ходу дел. — Угадывая и всегда будучи уверен, что на меру, принятую мною теперь, т. е. отставку вследствие долгов и неустройства дел, посыплются крики, обвинения, между которыми скажется известная фраза — что, дескать, хочет сесть на шею братьям и сестрам, я даже считаю обязанным выделиться, несмотря на то что дело это само по себе уж необходимо в моих обстоятельствах. Вследствие же сих выше изложенных причин назначаю цену 1000 р. сереб., которая с скупкою всего-навсего и уплатою долгов казенных и частных и т. д. и т. д. и т. д. выходит весьма сговорчивая, даже ниже и непременно ниже, чем следует, приняв в соображение вашу оценку когда-то. Из этой суммы 1000 руб. серебром я прошу 500 руб. сереб. выдать разом, а остальные 500 руб. сереб. выдавать по 10 р. сереб. в месяц. Назначая 500 руб. сереб. разом, я назначаю самое необходимое —1500 для уплаты долгов и 250 на окупление издержек теперешних, которые по настоящему требуют втрое более, чем 250 рубл. — Конечно, Петр Андреевич, нужно сознаться, что согласие и решение дела находится теперь в ваших руках. Вы можете отвергнуть все эти предложения по тысяче предлогам. Но несколько строчек самых откровенных с моей стороны, эссенции всего, что до сей поры было писано и говорено с обеих сторон, теперь, в настоящую минуту, необходимы. Никогда не имев сомнения, что ум, благородство и сочувствие всегда сопутствуют каждой мере вашей, полагаю, что вы простите неприятность смысла следующих строчек; их диктует необходимость. Вот они.
— Неужели вы, Петр Андреевич, после всего, что было между нами насчет известного пункта, т. е. дирижирования моей неопытной и заблуждающейся юности, после всего, что было писано и говорено с моей стороны, после (не спорю — и сознаюсь), после нескольких дерзких выходок с моей стороны насчет советов, правил, принуждений, лишений и т. п. вы захотите еще употребить ту власть, которая вам не дана, действовать в силу тех побуждений, которые могут управлять только решением одних родителей, наконец, играть со мною роль, которую я в первую минуту досады присудил вам неприличною. — Неужели и после этого всего вы будете противиться моим намерениям, ради моей собственной пользы и из сострадания к жалким грезам и фантазиям заблуждающейся юности. Если же не эти причины действуют сердцем вашим теперь и запрещают вам помочь мне в самом ужасном обстоятельстве моей жизни, то неужели это одна досада на несколько вырвавшихся с пера моего выражений. Досада может быть и должна быть, это естественно, хотя я и сожалею об этом, но продолжительный гнев и желание вредить не могут — это, как я всегда предполагал, против правил благородства вообще и ваших в особенности: в этом я твердо уверен; хотя до сих пор не постигаю причины, заставившей вас, приняв в соображение ваше участие в семейных делах наших, отстраниться от меня и предать меня самым неприятным гадостям и обстоятельствам, которые только были на свете.
А обстоятельства мои вот какие. В половине августа я подал в отставку в силу того, что долгов у меня бездна, а командировка не терпит уплаты их, и что ославленный офицер начнет весьма дурно свою карьеру. Наконец, самому жизнь была не в рай. Долги, превышающие состояние, простятся богачу. Даже в иных случаях на это обстоятельство везде смотрят с уважением. Бедняку дают щелчка. Прекрасно было бы продолжать службу, параллельно распространению жалоб по всевозможным командам. Наконец отставка моя была следствием горячности. Меня мучили долги, с которыми я три года не могу расплатиться. Меня мучила безнадежность расплаты в будущем. И потому я вышел в отставку единственно с целью уплаты долгов известным образом — разделом имения (по справедливому замечанию вашему, весьма и даже донельзя весьма миниатюрного, но для известных целей годящегося). Что же касается до уважения к родительской памяти, то именно ради сего-то обстоятельства, хочу употребить родительское достояние на то, на что бы мой батюшка сам не пожалел его, т. е. на спокойство своего сына, на средства для новой дороги и на избавление от названия подлеца, т. е. хотя не названия, но мнения, что все одно и то же. Просьбы по домашним обстоятельствам подвергаются высочайшему решению с 1-го октября — все дело занимает дней 10, много что две недели. Половина месяца подходит. Мне выйдет отставка, кредиторы ринутся на меня без жалости, тем более что на мне даже и платья не будет, и я подвергнусь самым неприятным делам. Хотя я отчасти это предвидел, и если оправдаются мои предположения и предугадывания, я был готов к этому, но согласитесь, что я не пойду в тюрьму, напевая песни из глупой бравады. Это даже смешно. Вот почему, Петр Андреевич, пишу это письмо в последний раз, представляю всю крайность моих нужд в последний раз, прошу вас мне помочь в возможно скором времени в последний раз, на предложенных условиях, хотя не разом, но столько, чтобы заткнуть голодные рты и одеться. Наконец говорю вам в последний раз, теперь, будучи в совершенном неведении насчет вашего решения, что лучше сгнию в тюрьме, чем вступлю в службу прежде окончания и устроения дел моих.
Ф. Достоевский.
* * *
19 сентября 1844
Милостивый Государь Петр Андреевич.
Письмо ваше от 5-го сентября, наполненное советами и представлениями, я получил и теперь спешу отвечать вам.
Естественно, что во всяком другом случае я бы начал благодарностью за родственное, дружеское участие и за советы. Но тон письма вашего, тон, который обманул бы профана, так что он принял бы все за звонкую монету, этот тон не по мне. Я его понял хорошо, и он же мне оказал услугу, избавив меня от благодарности. Вы, положим, что вы как опекун имеете право, вы укоряете меня в жадности к деньгам и в обиде меньших братьев, насчет которых я пользовался доселе большими суммами денег. После всего, что я писал в продолжение двух лет, я даже считаю излишним отвечать вам на это. Вы же могли видеть из писем моих, что не в количестве денег, разумеется до известного предела, всегдашнее и теперешнее опасение мое и устройство моих обстоятельств, а в своевременной присылке денег. Я вам объяснял 1000 раз положение дела — не я виноват.
Но как же теперь-то говорить то же самое и вооружать против меня своими словами все семейство наше? Вы должны бы были понять мои требования. Разве требование 500 руб. серебром единовременно и других 500 руб. серебр. отдачею, положим, хоть в трехгодичный срок, разве уж такое огромное требование по выдележу моего участка? Кажется, это не мне одному будет полезно. Что же касается до затруднений Опекунского совета, дворянской опеки, Гражданской палаты и всех этих имен, которыми вы закидали меня, думая ошеломить, то я полагаю, что эти затруднения не существуют. Разве не продаются имения с переводом долгу? Разве много проиграет или потеряет кто-нибудь, если имение останется собственностью нашего семейства по-прежнему; ведь оно в чужие руки не переходит, не отчуждается. Наконец это дело самое частное — выдать 500 руб. серебром разом в счет стольких-то лет дохода — хоть десяти.
По крайней мере я беру отставку. Я подал прошение в половине августа (помнится так). И разумеется по тем же самым причинам, по которым подаю в отставку, не могу опять поступить на службу. То есть нужно сначала заплатить долги. Так или этак, а заплатить их нужно.
Вы восстаете против эгоизма моего и лучше соглашаетесь принять неосновательность молодости.
Но все это не ваше дело. И мне странно кажется, что вы на себя берете такой труд, об котором никто не просил вас и не давал вам права.
Будьте уверены, что я чту память моих родителей не хуже, чем вы ваших. Позвольте вам напомнить, что эта материя так тонка, что я бы совсем не желал, чтобы ею занимались вы. Притом же, разоряя родительских мужиков, не значит поминать их. Да, и наконец все остается в семействе.
Вы говорите, что на многие письма мои вы молчали, относя их к неосновательности и юношеской фантазии. Во-первых, вы этого не могли делать; я полагаю, вам известно почему; кодекс учтивости должен быть раскрыт для всякого. Если же вы считаете пошлым и низким трактовать со мною о чем бы то ни было, разумеется, уж в тех мыслях, что он-де мальчишка и недавно надел эполеты, то все-таки вам не следовало бы так наивно выразить свое превосходство заносчивыми унижениями меня, советами и наставлениями, которые приличны только отцу, и шекспировским мыльным пузырем. Странно: за что так больно досталось от вас Шекспиру. Бедный Шекспир!
Если вам будет угодно рассердиться за слова мои, то позвольте мне напомнить вам одну вашу фразу: «Превзойти размер возможности уплаты есть посягательство на чужую собственность». Так как вы сами весьма хорошо знаете, что всего-всего 1500 руб. долгу не есть весь размер моей уплаты, то каким образом вы написали это? Я вам не представляю никаких других причин, по которым вы не могли этого написать. Я вам даю только факт, сумму, число. Вам даже известна и история этих долгов; не я их делал, и я не виноват, что в Петербурге процветает более чем где-нибудь коммерция, покровительствуемая Бентамом. Во всяком случае эту наивность (из уважения к вашим летам я не могу принять это за нарочную грубость и желание уколоть), так эту-то наивность я должен отнести, да и непременно отнесу, к одной категории с шекспировскими мыльными пузырями.
Если вы и за это рассердитесь, то вспомните, пожалуйста, ваше письмо к его прев. Ив. Гр. Кривопишину. Помилуйте, Петр Андреевич, неужели вы могли это сделать? Я, видите ли, не принимаю, потому что не хочу принимать этого в том смысле: — что вы пишете обо мне письмо, не спросясь меня, с целью повредить моим намерениям и остановить мою шекспировскую фантазию.
Но послушайте, кто же может остановить законную волю человека, имеющего те же самые права, как и вы… Ну, да что тут! чтоб не быть Иваном Ивановичем Перерепенко, я готов и это принять за наивность, по вышеозначенной причине.
Четвертая страница вашего письма, кажется, избегнута общего тона письма вашего, за что вам душевно благодарен. Вы правы совершенно: реальное добро — вещь великая. Один умный человек, именно Гёте, давно сказал, что малое, сделанное хорошо, вполне означает ум человека и совершенно стоит великого. Я взял эту цитацию для того, чтобы вы видели, как я вас понял. Вы именно то же хотели сказать, задев меня сначала и весьма неловко крючком вашей насмешки. Изучать жизнь людей — моя первая и цель и забава, так что я теперь вполне уверился, например, в существовании Фамусова, Чичикова и Фальстафа.
Во всяком случае дело сделано, я подал в отставку, а у меня гроша нет для долгов и экипировки. Если вы не пришлете мне немедленно, то совершенно оправдаете прошлое письмо мое.
Ф. Достоевский.
На полях следующие приписки:
Вы знаете причину моего выхода в отставку — заплата долгов. Хотя две идеи вместе не вяжутся, но оно так. К 1-му числу ок. выйдет отставка. Разочтите.
Вам угодно было сказать несколько острых вещей насчет миниатюрности моего наследства. Но бедность не порок. Что Бог послал. Положим, что вас благословил Господь. Меня нет. Но хоть и малым, а мне все-таки хочется помочь себе по возможности, не повредя другим по возможности. Разве мои требования так огромны. Что же касается до слова наследства, то отчего же не назвать вещь ее именем.
* * *
[Октябрь 1844 г.]
Милостивый Государь Петр Андреевич.
В последнем письме моем объявил я вам, что пишу в последний раз, до лучшей перемены в моих обстоятельствах. Я мыслил так, не имея писать ничего более, истощив все средства убеждения и представив вам весь ужас моего положения. — Теперь критический срок для меня уже прошел, и я остался один без надежды, без помощи, преданный всем бедствиям, всем горестям моего ужасного положения — наготе, нищете, сраму, стыду и намерениям, на которые бы не решился я в другое время. Что мне остается более делать, чем начать, куда оборотиться — судите сами.
Нужно вам знать, что я, в ту минуту как вы будете читать письмо мое, уже получил отставку (справьтесь в газетах). У меня нет ни платья, ни денег, нет ничего заплатить кредиторам и не будет квартиры, потому что вряд ли хозяин дома еще будет держать меня на старой. — Начал я вам писать для того, чтобы несколько пояснить из того, что было не так выражено в прошлом письме моем. Постараюсь говорить как можно яснее.
Из ваших писем, Петр Андреевич, я вижу, что раздел, как вы говорите, невозможен: во-1-х, потому что на имении есть долги казенные и частные, а во-2-х, так как я забрал в продолжение трех лет денег более, чем на долю мою следовало бы, то со временем при отчете я должен буду в мой ущерб наверстать лишнюю сумму в пользу других.
Все это так, но я и брат Михайло предполагаем семейный раздел, который будет существовать ненарушимо до окончательного. Но если с чьей-нибудь стороны будет хотя малейшая запинка и остановка в этом деле, то уж, конечно, оно состояться не может. Дело основано на полнейшей обоюдной доверенности друг к другу, а если встретится на этот счет недоразумение, то договоров быть не может никаких. Я предполагаю, что вы, в качестве опекуна, можете сомневаться в верности и справедливости с моей стороны и наконец какой-нибудь случай — вот почему я предлагаю следующее. Но прежде чем приступить к делу: вам известно, какую я предлагаю цену — 1000 руб. сереб. из коих 500 руб. сереб. разом, а остальную сумму рассчитать на самый отдаленный срок. Эта цена по своей умеренности не боится никаких требований кредиторов, казенных и частных, и никаких затруднений при разделе. Почему я назначаю такую умеренную цену, почему я хочу, по выражению некоторых, спустить с рук отцовское добро (миниатюрное) — эти вопросы, по вашему собственному теперешнему мнению, Петр Андреевич, лишние. Дело в том, что я вижу в этом свое избавление от неприятностей и возможность устроиться по-лучшему, а это для меня чего-нибудь да стоит. Наконец 1000 руб. сереб. с предполагаемым их разделом в платеже — сумма такая, что может родить предположение об юношеской неосновательности и нерасчетливости. Но, во-1-х, я имею дело не с барышниками, а во-вторых, далеко не думал быть чьим-нибудь благодетелем, я просто в моих обстоятельствах нахожу неумеренным требовать более, а для уничтожения подозрений я решаюсь на следующее:
Дать заемное письмо на имя одного из членов нашего семейства, если нельзя на имя всех, или даже на ваше имя, Петр Андреевич. Это заемное письмо будет в такой сумме, что будет обеспечивать совершенно и сумму, теперь мне разом выплаченную, и дальнейшие мои требования доходов до окончательного раздела. Заемное письмо будет, например, дано по 1-е января 1845 года. Я не выплачу, разумеется. Тогда вы будете иметь полное право поступить по законам, и мои доходы уже формально будут обращены в пользу семейства, до самого окончательного раздела. При разделе я дам обязательство, что получил деньги сполна, заемное письмо будет разорвано, и все пойдет как следует. Если же в последнем случае будет затруднение, то можно дать вексель в такой сумме, что все притязания мои при настоящем разделе уничтожаются. Мне кажется, это весьма просто и возможно, Петр Андреевич. Я не могу выразить, какое благодетельное дело будет это для всей судьбы моей. Я обеспечу себя совершенно теперь, вырвусь из гадкого положения, в котором бьюсь с лишком два года, и буду в возможности продолжать службу. Впрочем, напрасно я это пишу вам. Я понимаю, что исчисление надежд моих здесь не у места. Я бы мог изобразить вам тоже картину моего бедственного положения. Но будет понятно и того, что я написал вам, хотя это сотая доля.
Так как я без средств, с долгами, без платья и вдобавок больной, что, впрочем, все равно, то я естественно прихожу к заключению как-нибудь, так или этак, поправить свои обстоятельства. Вы человек деловой, Петр Андреевич, вы и с нами действуете как человек деловой, не иначе, и так как вы человек деловой, то у вас времени не будет обратить внимание на мои дела, хотя они и миниатюрны, или может быть именно оттого, что миниатюрны. Но если эти миниатюрные дела составляют все спасение, все благосостояние, всю надежду человека, то нужно извинить его настойчивость и назойливость. Вот почему я нижайше прошу вас помочь мне в том смысле, как я вам писал. Мое положение теперь решено, определено — т. е. все, что есть ужасного, все на мою голову, так что я теперь решил — будь что будет! Так как по вашему счету я вижу, что денег нет, то займите. Потому что дело полезное для всего семейства, а вы обеспечены достаточно. Наконец, Петр Андреевич, если вы еще оставите меня хоть сколько-нибудь времени без ответа и без помощи, то я погиб. И потому принужден просить у вас свидетельство, что вы точно наш опекун (сделанное по форме) и сколько имение дает мне дохода (наименьшего) при всех обстоятельствах, даже дальнейших. Я у вас прошу это для того, чтобы показать моим кредиторам возможность уплаты в самом крайнем случае, и потому попрошу вас прислать как можно скорее это свидетельство. Прошу извинения у вас, Петр Андреевич, во-1-х, потому, что я моими просьбами отрываю вас от ваших занятий, а во-2-х, что я требую его немедленно. Еще раз убедительнейше прошу вас, Петр Андреевич, рассмотреть мое предложение и согласиться на него. Дело может быть окончено так, как я писал вам. Нет никакого затруднения. Я бы сам решился прислать вам заемное письмо вперед, но у меня денег нет. Вы же можете поручить дело кому-нибудь в Петербурге. Наконец, в самом отчаянном случае (и потому я прошу вас как можно скорее отвечать мне), в самом отчаянном случае я может быть решусь нажить себе еще кредиторов и уступить им все, в силу заемных писем и некоторых обязательств ценою в 10 раз более, чем я воспользовался. В Петербурге это сделать возможно. Но что же выйдет из этого, посудите сами: всем неприятности. И потому еще раз прошу вас, Петр Андреевич, ради Бога, отвечайте мне поскорее. Кроме всех бедствий моих я без гроша на обыкновенное житье-бытье. Не дай вам Бог испытать то, что я испытываю. Наконец, не оставьте присылкой свидетельства. Согласитесь, что оно в моем положении совершенно необходимо.
Честь имею пребыть ваш Фед. Достоевский.
На полях первой страницы:
Я полагаю, что насчет присылки свидетельства не встречу с вашей стороны никаких затруднений. Мне это кажется ясно.
* * *
[1844]
К брату Андрею Михайловичу.
Напрасно ты тогда ушел, брат! Я тогда сам сидел совершенно без копейки и потому был не в духе. До сих пор не мог перебиться. Теперь посылаю к тебе хоть такую малость, что стыдно самому, но, ей-богу, больше никак не могу. Приходи, если можно.
Ф. Достоевский.
На обороте:
В Строительном училище Воспитаннику А. М. Достоевскому.
На Обуховском проспекте.
* * *
[24 мая 1846 г.]
Брат. Я сейчас еду в Ревель{139}. Виноват, что к тебе не зашел. У меня в последнее время были все разные квартиры, и вообще преобладал около меня беспорядок за неизвестностью, останусь ли я в Петербурге или нет. Ты верно меня искал, но не нашел. Здоровье мое не дурно, хотя еще я вовсе не вылечился. Еду лечиться, буду кланяться от тебя брату. А теперь прощай. Ворочусь в октябре и, как устроюсь, приду к тебе сам. Прощай
Твой Ф. Достоевский.
На обороте:
Его Благородию
Андрею Михайловичу Достоевскому.
В Строительное училище, воспитаннику.
На Обуховском проспекте.
* * *
[18 октября 1846 г.]
Любезный брат Андрей.
Я уже давно приехал из Ревеля{140}, и каждую субботу задерживали меня иные обстоятельства тебя уведомить. Извини. Приходи завтра повидаться со мной около 10 часов утра. Живу я напротив Казанского собора, на углу Соборной площади и Большой Мещанской, в доме Кохендорфа, в номере 25-м, в квартире M-me Capdeville.
А теперь до свидания
Твой брат Ф. Достоевский.
На обороте:
Его Благородию Андрею Михайловичу Достоевскому.
На Обуховском проспекте, за Обуховским мостом. В Строительном училище, воспитаннику.
* * *
[20 февраля 1849 г.]
Любезнейший Андрей Михайлович.
Твоя записка{141} застала меня при 2-х коп. серебром и в том же положении, как ты. А между тем мне бы ужасно хотелось помочь тебе, тем более что замучили угрызения совести насчет моего долга. Ну, как быть? Постараюсь заехать к тебе в начале недели. Что достану, тем и поделюсь. А теперь, милый мой, до свидания. Да не пей кофею, а также не ешь мяса или вообще чего-нибудь возбудительного и вырабатывающего сильно кровь. Пожалуйста!
Твой весь Ф. Достоевский.
* * *
20-го июня 49 года.
Любезный брат Андрей Михайлович.
Мне позволили{142}, по просьбе моей, написать к тебе несколько строк, и я спешу тебя уведомить, что, я слава Богу, здоров и хотя тоскую, но далек от уныния. Во всяком состоянии есть свои утешения. И потому обо мне не беспокойся. Уведомь меня ради Бога о семействе брата — что Эмилия Федоровна и дети. Расцелуй их за меня.
У меня есть до тебя просьба. Я терпел все это время крайнюю нужду в деньгах и большие лишения. Ты, вероятно, не знал, что можно доставить мне какую-нибудь помощь, и потому молчал до сих пор. Не забудь же меня теперь. Я прошу тебя, если еще не кончено наше московское денежное дело, написать в Москву и просить Карепина выслать немедленно для меня из суммы, которая мне следует, двадцать пять рублей серебр. Более мне покамест не нужно.
Если же кончено дело, то прислать все, сколько есть на мою долю. Но я полагаю, что ты уже получил что-нибудь, и по расчетам моим дело это уже должно прийти к концу. Не забудь тоже и семейство брата и пиши в Москву для него.
Но в ожидании московских денег, если ты можешь, пришли мне 10 р. сереб. Я их здесь занял, их нужно отдать. Этим очень обяжешь меня. Сделай же это. Пиши сестрам от меня поклон, скажи что мне ничего, хорошо, и не пугай их. Передай поклон мой дяде и особенно тетке. Смотри же, не забудь об ней. Еще есть просьба. Я не знаю, возможна ли она, т. е. позволят ли это сделать, но по моим соображениям это возможно. Именно: у брата Михайлы есть билет на получение «Отечественных Записок». Майский номер нынешнего года, должно быть, еще не взят. Попроси билет у Эмилии Федоровны, возьми для меня книгу и перешли мне ее. Там напечатана третья часть моего романа, но без меня, без моего надзора, так что я даже и корректур не видал. Я беспокоюсь: что-то они там напечатали и не исказили ли романа? Так пришли мне этот том. Все это адресуй: в Канцелярию его высокопревосходительства г-на Коменданта С. П. Петр. Пав. крепости, или лучше явись сам.
То-то я думаю ты рад был, когда тебя выпустили после ошибочного арестования. Прощай, желаю тебе всего самого лучшего. Пожелай и мне.
Твой брат Федор Достоевский.
* * *
Столярный переулок, близ Кокушкина моста, дом Алонкина.
Петербург 13 февраля/66.
Любезнейшая сестра Доминика Ивановна{143}.
Если я не отвечал на Ваше милое письмо до сих пор, то поверьте, что не имел часу времени. Если же Вам покажется это невероятным, то я ничего не могу прибавить. Знайте, что мне надо приготовить к сроку 5 частей романа, часть денег взята вперед; письмо же, которое другому стоит полчаса, — мне стоит 4 часа, потому что я не умею писать писем. Кроме романа, который пишу ночью и к которому нужно подходить с известным расположением духа, — у меня бессчетное число дел с кредиторами. Мне надо было подать одну важную бумагу в суд — важнейшую, а я пропустил срок, буквально говорю, — потому что нет времени. Не говорю о здоровье: припадки падучей мучают меня (с усилением работы) все сильнее и сильнее, а я целых два месяца не мог найти времени, чтоб сходить (2 шага от меня) в Максимилиановскую лечебницу посоветоваться с доктором. Если Вам и это будет невероятно и смешно, то думайте как угодно, а я говорю правду.
Наконец-то болезнь скрючила меня. Вот уже 8 дней я едва могу двигаться. Мне велено лежать и прикладывать холодные компрессы беспрерывно, день и ночь, и вот по этому-то случаю я Вам и пишу: нашлось время. Едва хожу, едва пером вожу.
Все те чувства, которые Вы ко мне имеете, имею и я к Вам. И что у Вас за недоверчивость? Вы пишете: «Я не могла не поверить Вашим словам». Да зачем же бы я Вам стал лгать? Но если я не могу писать часто писем, то, во-1-х, значит, что не могу буквально, потому что нет времени, а во-2-х, в переписке нашей мы ничего, кроме отвлеченностей, не могли бы написать друг другу. Все насущные дела наши нам обоюдно незнакомы. Про внутреннюю же, душевную жизнь — как можно писать в письмах? Этого в три дня свидания не расскажешь. Я не могу делать ничего дилетантским образом, а делаю прямо, правдиво и горячо. Поэтому если начну рассказывать о себе, то напишу Вам целую повесть. А этого я не могу. Да и что изобразишь даже и в повести?
Это ничего, что мы редко видимся. Зато свидимся хорошо и накрепко. Вы и брат Андрей, кажется, одни только и остались у меня теперь добрые родственники. Кстати, вот пример: да тут целая книга выйдет, если написать все об отношениях моих с родными — отношениях, которые меня волнуют и мучат. (И об чем же бы я и писать Вам стал, если не о том, что меня волнует и мучит? С друзьями разве можно переписываться иначе?) А между тем я нужнейшего и необходимейшего письма к родственнику моему Александру Павловичу Иванову не нахожу вот уже месяц времени написать. Да и как это все описать?
Вы пишете, что я часто езжу в Москву. Да когда же это было? Вот уже ровно год, как я не был в Москве, а между тем у меня там наиважнейшее дело, даже два дела. Там уже печатается у Каткова мой роман, а я еще до сих пор в цене не условился, — что надо сделать лично. Ехать надо непременно, сегодня-завтра, а я не могу — нет времени.
С братом Вашим Михаилом Ивановичем Федорченко я хоть и познакомился, но так тем дело и кончилось. Во-1-х, 7 верст расстояния (а я никуда не хожу, ни к одному знакомому. Велено доктором развлекать себя, в театр ходить, не был ни разу во весь год кроме одного разу в октябре), а во-2-х, мне кажется, что и сам брат Ваш тоже занятой человек и довольно равнодушно относится к моему знакомству. Он, впрочем, был так добр, что передал мне Ваше письмо, почему и заходил ко мне на минуту. Мне он показался превосходным человеком, но необыкновенно скрытным и таинственным, желающим как можно менее высказать на самый обыкновенный вопрос и как можно более умолчать. Впрочем, повторяю, мне удалось видеть его всего только одну минуту и в такой час, в который я только чудом был дома. После же вечера, который я имел удовольствие провести у них (30 ноября) и на котором я в первый раз с ними познакомился, я ни разу не встречал Вашего брата. Правда, он приглашал меня у них бывать, но ведь я человек не светский, и главное, посещаю только тех, в которых крепко уверен, по фактам, что они желают со мной знакомства. Когда кончу роман, будет больше времени. Очень бы хотелось приехать к Вам на Святой.
Извините некоторый беспорядок моего письма. Я очень нездоров и несколько раз бросал перо и вскакивал с места от нестерпимой боли, чтоб отдохнуть на постели и потом опять продолжать. Пожмите от меня руку брату, да покрепче, и поцелуйте деток. Летом или весной к Вам буду, как кончу работу.
Ваш весь Ф. Достоевский.
* * *
Петербург, 10 декабря/75
Многоуважаемый и любезнейший брат Андрей Михайлович, письмо твое от 1-го декабря я получил несколько дней тому и не мог сейчас ответить, потому что был завален занятиями: теперь же отработался и спешу ответить тебе с удовольствием. Если в твоем семействе, как ты пишешь, наблюдаются родственные связи, то уж я-то, кажется, от них никогда был не прочь, и если наши родные, сплошь почти, знать не хотят родственных связей, то уже, конечно, не по моей вине. И теперь еще живут здесь, в доме сестры Александры Михайловны, двое племянников моих, верочкиных детей, Виктор и Алексей, учатся в Путей Сообщения, и вот уже Виктор 3 года, а Алексей год как здесь, а ни разу у меня не были; я же в детстве их не мало передарил им гостинцев и игрушек. Сестра же Александра Михайловна и Шевяков не удостоили и меня (как и тебя) уведомить об их супружестве. Да мало ли еще найдется. Вот ты, милый Андрей Михайлович, пишешь же, что мы с тобой 5 лет не видались, тогда как мы виделись зимой в 72-м году, и ты был у меня и познакомился с моей женой (еще, помню, был недоволен, что сестра Александра Михайловна приняла тебя с некоторым недружелюбием). Этому всего три года или без малого три, а ты пишешь, что 5, стало быть, и ты можешь быть не тверд в воспоминаниях насчет родственных связей и разных отношений.
До тебя дошли слухи, что будто я негодовал на тебя, что сохранили (вы с Варей) на меня документы тетке в 10 000. Но это неправда, и сплетням не верь. На этот счет я негодовал, но не на тебя, потому что по смерти тетки тебе самовольно нельзя было уничтожить такие важные документы. Я негодовал на покойника Александра Павловича, при котором было написано завещание; выключая же меня из завещания, в то же время непременно надо было напомнить тетке, что надо разорвать документы. Мог бы, правда, напомнить потом и ты о том же самом тетке или бабушке, но я тебя не обвинял, потому что не знаю до сих пор, известно ли тебе было, до смерти ее, содержание ее завещания.
От Евгении Андреевны я получил третьего дня любезное письмо, в коем просят меня (она и муж ее) назначить им день для посещения и по возможности ближайший праздник. Я и назначил ближайшее воскресенье, 14-е декабря.
Пишешь, что приедешь с супругою на праздники в Петербург. Это очень хорошо, — ют тогда увидимся и переговорим. Я, дорогой мой, всегда и постоянно занят, а потому если редко переписываемся, то в том нет никакого знака охлаждения сношений и проч. А с тобой мне совсем не из-за чего ссориться.
Здесь пропустили слух, еще два года назад, что это я, особенно, старался отбить наследство у наследников по завещанию. Напротив, не у них, а у Шеров, которые завели дело. Глупее сплетен, как по поводу этого завещания, и не было. Особенно тут старался Шевяков. Я же с самого начала объявил и Александре Михайловне и Московским, что, отбивая у Шеров мою долю (по закону), хлопочу об их же интересах и, получив деньги, тотчас же разделю их между ними, а себе только возьму за издержки по ведению дел и ни копейки более. А меня же и обозвали грабителем, тогда как я, отдавая им то, что мне следует по закону, — законное у моих собственных детей отнимаю.
Ты спрашиваешь о моих детях. Детей у меня трое — двоих ты знаешь, а третий родился нынешнего лета в августе и теперь жена его кормит. Я прожил прошлую зиму в Старой Руссе потому, что жена и дети каждое лето ездят туда на воды и берут ванны (я же, уже два лета сряду, езжу в Эмс, потому что грудная болезнь моя принимает весьма серьезные размеры). Возвратясь в конце лета в Старую Руссу, я рассудил, что, взяв большую работу в один из журналов{144}, мог бы с особенным успехом начать и кончить ее в уединении, так и сделал и остался в Старой Руссе в полном уединении на прошлую зиму, в том еще расчете, что весною и летом семейство и без того должно быть в Старой Руссе, а я опять ехать в Эмс; теперь же, ради дел моих, опять поселился в Петербурге и уже чувствую ухудшение здоровья.
Я едва помню твоих детей, но люблю их уже за то одно, что ты ими доволен. Нынче редко отцы довольны своими детьми.
Мой усердный поклон твоей супруге. Жена благодарит тебя за привет и шлет тебе свой. А затем пребываю
Любящим тебя братом Ф. Достоевский.
* * *
Петербург, 10 марта/76
Милый и многоуважаемый брат Андрей Михайлович, посылаю тебе мою весьма беспорядочно изданную книгопродавцем Кехрибарджи книгу {145}. Издал, объявил в газетах, заложил куда-то издание и только через 2 месяца пустил в продажу, — что повредило книге. О себе скажу, что очень занят постоянно, взял даже не по силам дело. Издаю «Дневник Писателя», подписка не велика, но покупается отдельно (по всей России) довольно много. Всего печатаю в 6000 экземплярах и все продаю, так что оно, пожалуй, и идет. Анна Григорьевна мне помогает, но до того истощено ее здоровье (особенно кормлением ребят), что я за нее стал серьезно бояться. С твоими детьми иногда вижусь. Я, голубчик брат, хотел бы тебе высказать, что с чрезвычайно радостным чувством смотрю на твою семью. Тебе одному, кажется, досталось с честью вести род наш: твое семейство примерное и образованное, а на детей твоих смотришь с отрадным чувством. По крайней мере семья твоя не выражает ординарного вида каждой среды и средины, а все члены ее имеют благородный вид выдающихся лучших людей. Заметь себе и проникнись тем, брат Андрей Михайлович, что идея непременного и высшего стремления в лучшие люди (в буквальном, самом высшем смысле слова) была основною идеей и отца и матери наших, несмотря на все уклонения. Ты эту самую идею в созданной тобою семье твоей выражаешь наиболее из всех Достоевских. Повторяю, вся семья твоя произвела на меня такое впечатление. Семья брата Миши очень упала, очень низменна, необразованна. Моя же так мала, что и не знаю, что будет. Чрезвычайно бы хотелось прожить лет хоть 7 еще, чтобы хоть немного ее устроить и поставить на ноги. Да и мысль, что детки мои будут помнить мое лицо, по смерти моей, была бы мне очень приятна. Желаю тебе всякого счастья. Целую руку и дружески жму ее у твоей жены. Детям твоим обо мне напомни. Мои выздоровели, берегу их. Какая миленькая девочка у Рыкачевых. Мы у них были, и мне на них было очень приятно смотреть. Дочка твоя была у меня на днях. Я же сам захворал лихорадкой и вот уже 5-й день сижу дома и принимаю хинин, и все идет благополучно. Анна Григорьевна Вам от души кланяется.
А пока твой весь Ф. Достоевский.
Мне очень приятно подтвердить все то, что написал Вам муж, а вместе с тем и повторить уверение в самом искреннем моем уважении и привязанности моей к Вам и к семейству Вашему.
Анна Достоевская.
* * *
Петербург, 6 сентября [1876 г.]
Милый и дорогой брат Андрей Михайлович, поздравляем тебя, я и жена моя, и многоуважаемую добрейшую супругу твою с счастьем детей Ваших, а стало быть, и с Вашим. Мои детки маленькие, я до такого счастья не доживу. Не думай, что завидую, говоря это. Пишешь, что грустно будет оставаться без Варвары Андреевны: ничего, милый мой, этакая грусть лишь свидетельствует об общем и непрерывающемся счастье в семье. Я очень жалею, что никак не могу урваться даже и на день к Вам на свадьбу. В письме моем к Варваре Андреевне объясняю причины. Только как это все странно, милый мой Андрей Михайлович, — ну давно ли мы были с тобой совсем маленькие? Я очень, очень хорошо помню минуту, когда нас, меня и покойного брата, в пятом часу утра, рядом спавших, разбудил радостный отец и объявил нам, что у нас родился брат Андрюшенька, и вот ты выдаешь замуж дочку и об этом извещаешь меня и Анну Григорьевну. Наше время пролетело как мечта. Я знаю, что моя жизнь уже недолговечна, а между тем не только не хочу умирать, но ощущаю себя, напротив, так, как будто бы лишь начинаю жизнь. Не устал я нисколько, а между тем уже 55 лет, ух! Тебе же желаю особенно теперь, как можно больше здоровья и долголетия, чтобы любоваться на детей и ласкать внуков. Ничего не может быть лучше в жизни.
Обнимаю тебя и желаю тебе всего лучшего. Супруге твоей передай мое горячее пожелание и поздравление. Равно и от жены моей.
Брат твой Ф. Достоевский.
* * *
13 октября/79.
Дорогой друг и брат Андрей Михайлович{146}, сделай милость прости, что побоялся рискнуть здоровьем в такую мокреть, несмотря на все искреннейшее желание мое раз поцеловаться с тобою перед твоим отъездом. Передай, голубчик, мой искренний привет Доминике Ивановне и мое пожелание ей всего лучшего в жизни. Наша последняя встреча оставила во мне, повторю это тебе, самое лучшее и отрадное впечатление. До свидания, дорогой мой, не хочу говорить: прощайте. — Потрудись передать мои лучшие пожелания Евгении Андреевне и Михаилу Александровичу. Смотри же не пеняй на мою болезненную трусость. Еще раз обнимаю тебя и кланяюсь глубоко твоей супруге.
Твой весь Ф. Достоевский.
* * *
Петербург. Ноября 28/80.
Глубокоуважаемый и дорогой друг и брат Андрей Михайлович.
Поздравляю тебя с наступающим днем твоего ангела, а вместе с тем благодарю и за твой радушный, братский привет мне, месяц назад, по поводу дня моего рождения. Пожелания твои мне, уже конечно, вполне братские и искренние, только вряд ли они могут сбыться: вряд ли проживу долго; очень уж тягостно мне с моей анфиземой переживать петербургскую зиму. Тебе же от души желаю жить как можно дольше и счастливее, тем более что, во истину, только теперь и идет для тебя счастливая жизнь. Если б я мог, как ты, дожить до счастья видеть деток моих взросшими, устроенными, ставших добрыми, хорошими, прекрасными людьми, то чего бы, кажется, более и требовать от земной жизни? Оставалось бы только благодарить Бога и на деток радоваться. Так теперь и ты: хоть и невозможно в жизни без каких-нибудь тех или других неприятностей, но все же воображаю себе, как взглянешь ты на свое доброе, прекрасное, любящее тебя семейство, то как же не почувствовать отрады и умиления? Я же предвижу про себя, что деток оставлю после себя еще подростками, и эта мысль мне очень подчас тяжела.
Добрейшей, глубокоуважаемой и дорогой супруге твоей Доминике Ивановне прошу тебя передать от меня любовь и уважение. Жена сказала мне, что уже отправила тебе от себя письмецо особо. Это она превосходно сделала. Пожелание мое и совет тебе: береги здоровье. Что до меня, то здесь у нас и беречь его невозможно. А к тому же не по силам почти работа. Только что кончил свой большой роман{147}, принимаюсь теперь за «Дневник Писателя» и уже начал публиковаться в газетах. Главное — страшит меня срочность выпусков. Это очень тяжело при моем здоровье. А что будешь делать; не работать, так и средств не будет. Дотянуть бы только до весны и съезжу в Эмс. Тамошнее лечение меня всегда воскрешает. К 4-му декабря хочу написать сестре Варваре Михайловне. Я ее люблю; она славная сестра и чудесный человек. Вот брат Николай Михайлович совершенно порвал со мной, точно меня нет на свете, вот уже два с половиною года. Даже грубо и нелепо с его стороны. Дуется и сердится, на что собственно — не знаю. Болезненный человек, Бог с ним. Не претендуй на меня, что я редко пишу. Веришь ли, даже книги, даже статьи нужной прочесть некогда. А сколько я запустил необходимейших писем. А тут еще разные визиты, разные связи с людьми, совсем я замотался, да и здоровье не выносит. Обнимаю тебя от всего сердца, желаю тебе всего самого лучшего и счастливого. Твоего сынка целую. Глубокоуважаемой супруге твоей еще раз мое глубочайшее уважение.
Твой всегдашний, искренне и от всего сердца любящий тебя брат твой
Федор Достоевский.
Петербург,
Кузнечный переулок, дом № 5, кв. № 10.
Иллюстрации
Сестра А. М. Достоевского Вера Михайловна. Фотография 1870-х гг.
Флигель бывшей Мариинской больницы, где прошло детство А. М. Достоевского
Брат А. М. Достоевского Михаил Михайлович. Фотография 1860-х гг.
Ф. М. Достоевский. Фотография 1860-х гг.
Сестра А. М. Достоевского Александра Михайловна. Фотография 1850-х гг.
А. М. Достоевский в форме студента строительного учебного заведения
Сестра А. М. Достоевского Варвара Михайловна. Акварель Стрелковского, 1840 г.
Дети А. М. Достоевского (стоит Евгения, сидят Варвара, Андрей, Александр)
Отец и мать А. М. Достоевского — Достоевские Михаил Андреевич и Мария Федоровна (рожд. Нечаева). Пастель Попова, 1823 г.
Примечания
1
Как эти сведения, так и некоторые другие заимствованы мною из бумаг, приобретенных во время хлопот по наследству от тетки моей Александры Федоровны Куманиной.
(обратно)2
И действительно, в 1828 году наши войска заняли крепость Анапу.
(обратно)3
Название это не раз встречается в произведениях брата, Федора Михайловича. Так, например, в «Бесах» местность поединка Ставрогина и Гаганова названа именем Брыково.
(обратно)4
Название Черемошня встречается в последнем романе брата Ф. М. «Братья Карамазовы». Так названо имение старика Карамазова, куда он давал поручение второму сыну, Ивану Федоровичу, по поводу продажи лесной дачи.
(обратно)5
Брат Николай.
(обратно)6
Т. е. к тетеньке А. Ф. Куманиной.
(обратно)7
Т. е., вероятно, по возвращении из деревни от маменьки.
(обратно)8
Недоумеваю, про какую старуху здесь говорится, вероятно, была какая-нибудь приживалка, которую я позабыл.
(обратно)9
Деревенские девушки и бабы, которые по праздникам певали у нас в деревенском дому (наверху), как говорили они.
(обратно)10
Тут письмо истлело, и несколько букв уничтожено, — вероятно, Шишкова или Набокова.
(обратно)11
Не могу разъяснить, про какую дочку здесь упоминается, вероятно, это какое-нибудь иносказание.
(обратно)12
Здесь под наименованием мошенника подразумевается Чермак.
(обратно)13
Кто такой Д. не могу сказать, вероятно, какой-нибудь каширский делец.
(обратно)14
X — это, конечно, Хотяинцев.
(обратно)15
Не знаю, что должна обозначать эта аллегория. Только, думаю и знаю, что дело хотя частью идет о няне, Алене Фроловне; Геркулес-доброход — это, конечно, она, но дальнейшего смысла этой аллегории разъяснить не могу.
(обратно)16
Кто эта Марья Ивановна, не знаю, вероятно, одна из приживалок у нас. Но, впрочем, таковой я не помню.
(обратно)17
И. Никол. Шидловский, знакомый братьев, с которым и отец познакомился, бывши в Петербурге, и очень полюбил его.
(обратно)18
Михайло, отец Ульяны, а Левон и староста — два претендента на руку Ульяны для своих сыновей. А Ульяну, вероятно, и не спрашивали.
(обратно)19
Одно слово вырвано.
(обратно)20
Речь идет о няне Алене Фроловне.
(обратно)21
Василиса — прислуга (прачка).
(обратно)22
Но сейчас же и переводил на русский язык знай, знайте, пусть они знают…, чтобы дамы не подумали чего-нибудь неприличного.
(обратно)23
Он преподавал в этом классе еще тогда, когда учились в пансионе мои братья Михаил и Федор.
(обратно)24
Впоследствии я ничего не слыхал об Адольфе Ивановиче Тотлебене: кажется, он умер в молодых годах.
(обратно)25
Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского (1-е посмертное издание). T. 1, страницы 21–22 в отделе писем.
(обратно)26
Человек, живший у брата для услуг.
(обратно)27
Кривопишин передал деньги Притвицу, а потому получка их сделалась для меня еще затруднительнее.
(обратно)28
Русская Старина. T. XXX, страница 705.
(обратно)29
Подчеркнутые слова точны до последней буквы; они глубоко врезались в моей памяти, и я как будто сейчас их слышу.
(обратно)30
Намек на постройку штабных строений в г. Елисаветграде, которые назывались дворцовыми постройками и в которых, говорят, сильно хапнул, в числе прочих, и Василий Федорович.
(обратно)31
Завадский или Завацкий. Об этом знакомом я не упоминал выше, потому что знакомство это было случайное. Этот молодой человек был наставником детей и, кажется, впоследствии правою рукою одного богатого помещика, обитавшего близ г. Елисаветграда (фамилию помещика не помню). Этому помещику я делал проект на постройку в его усадьбе дома и тут познакомился с Завадским. Когда он по делам того же помещика ездил в августе месяце 1854 г. в Москву и Петербург, то я между прочими поручениями просил его побывать в Москве у сестры, а в Петербурге у брата. Этот же Завадский, кроме 2-х ящиков папирос с сюрпризами, привезенных от брата, привез мне по моему поручению купленные для меня книги: сочинения Гоголя, которые и до сих пор у меня имеются.
(обратно)32
Памятник Николаю I поставлен задом ко дворцу Марии Николаевны.
(обратно)33
Завтрак был официальный, хозяин был в мундире, все гости в мундирах или черных фраках.
(обратно)34
Чиновничье выражение, означающее: докладывали ли уже о вас?
(обратно)35
Теперь я не помню имени и отчества этого господина.
(обратно)36
Фамилии, т. е. личности Калиновского, я решительно теперь не припоминаю и не знаю, когда я был с ним знаком, да и был ли, полно, знаком?..
(обратно)37
А П. Милюков, преподаватель русской словесности в институтах и других учебных заведениях Петербурга, был знаком с братьями еще с 1848 года. [Милюков Александр Петрович (1817–1897). Имея обширное знакомство среди литературного мира, оставил ряд воспоминаний, изданных в 1890 г. под названием: «Литературные встречи и знакомства».]
(обратно)38
Это в свою очередь несправедливо: я вовсе не играл роли брата Михаила и вовсе не знал об ошибочном аресте, отчего более и мучился.
(обратно)39
Кажется, Струков.
(обратно)40
Унковский фигурирует как действующее лицо в романе Гончарова «Фрегат Паллада».
(обратно)41
Все слова, напечатанные прописью, в подлиннике автором письма подчеркнуты. Ред.
(обратно)42
Далее идет точная выписка из того, что помещено выше (пункты а — к). Ред.
(обратно)43
Далее идет выписка из завещания. Ред.
(обратно)44
Тогда я смотрел на дело это глазами Владимира Ивановича Веселовского, который по каким-либо своим расчетам силился уверить меня в крайней малоценности рязанского имения. Но впоследствии оно оказалось гораздо ценнее, и как вследствие этого, так и вследствие другого способа дележа, мы, Достоевские, получили большую сумму, чем я рассчитывал прежде.
(обратно)45
Все выделенные слова в подлиннике автором письма подчеркнуты. Ред.
(обратно) (обратно)Комментарии
1
Евгения Андреевна, старшая дочь Андрея Михайловича Достоевского, сконч. 22/XI 1919 г. н. ст. Была в замужестве за Мих. Александр… Рыкачевым (род. 24/XII 1840 г., сконч. 1/IV 1919 г. н. ст.), известным метеорологом, директором Главной Физической Обсерватории (ныне Геофизической) и д. чл. Академии Наук.
«Сашурка» — их старшая дочь, была в замужестве за С. Н. Лениным, ныне вдова с пятью малолетними детьми.
(обратно)2
Андрей Андреевич Достоевский, бывший редактор Центр. Статист. Комитета и ученый секретарь Русского Географического Общества, ныне научный сотрудник Пушкинского Дома Академии Наук.
(обратно)3
В старину число сорок считалось некоторою мерою: первое сорок, второе сорок. Москва делилась на сороки, в числе коих был и Сретенский сорок.
(обратно)4
О генеалогии Достоевских см. С. Любимов: в Альманахе «Литературная Мысль» 1923 г., кн. I. Заметка о Ф. М. Достоевском. Его же: в сборнике «Ф. М. Достоевский» под редакцией А. С. Долинина, т. II, 1924 г., статья «К вопросу о генеалогии Достоевского». В настоящее время Н. П. Чулков (Москва) приготовил для печати статью «Род Достоевских», из которой он предоставил нам следующую справку:
Родоначальником Достоевских является Данило (Данилей) Иванович Иртищ (Ртищевич, Иртищевич, Артищевич — так пишется его фамильное прозвище в разных документах), боярин Пинского князя Федора Ивановича Ярославича. Отец этого князя Иван Васильевич бежал в Литву в княжение Василия Темного в 1456 г. Боярин князя Федора Ивановича Иртищ или Ртищевич — вряд ли был местного, т. е. белорусского происхождения. Напротив, целый ряд исторических документов и фактов наводят на мысль о происхождении Иртищевича от великорусского рода Ртищевых. 6 октября 1506 года князь Пинский Федор Иванович Ярославич пожаловал своему боярину Данилу Ивановичу Иртищевичу несколько имений, в том числе Достоев, расположенный к северо-востоку от Пинска, между реками Пиной и Яцольдой, на границе бывшего Кобринского уезда. Данило Иванович имел двух сыновей Ивана и Семена Даниловичей, земян пинских. Семен встречается еще со старым фамильным прозвищем Артищевич, а Иван — уже с новым, по имению, Достоевский. У Ивана Даниловича было четыре сына, от которых пошли отдельные ветви Достоевских. Третий сын, Стефан Иванович, сохраняя связь с Пинском, имел владения в Минском повете. И хотя он перешел в католичество, но всегда подписывался «письмом русским». Ему даже был отдан в управление в 1577 году Минский Вознесенский православный монастырь. В XVII в. Достоевские подписывались также по-русски рядом с польскими подписями своих земляков. Второй сын Ивана Даниловича, Федор Иванович Достоевский, связал свою судьбу с знаменитым московским эмигрантом князем А. М. Курбским, с которым и поселился на Волыни. Курбский в одном акте называет его своим приятелем и уполномоченным. Потомство Федора Ивановича Достоевского утвердилось на Волыни, и надо полагать, что ближайшие предки писателя Федора Михайловича Достоевского, православные и жившие в Подолии, по соседству с Волынью, принадлежат именно к этой ветви. Источником для справки о происхождении Достоевских послужили частью неопубликованные еще документы Литовской метрики, частью опубликованные уже в разных изданиях дела Киевского и Виленского архивов.
Н. Чулков. (обратно)5
Село Достоев находится не в Каменец-Подольской губ., а в Минской, Пинского уезда, Поречской волости. В настоящее время весь этот район отошел к Польше.
(обратно)6
Московская Медико-Хирургическая Академии преобразована была в 1799 году из Медико-Хирургического училища. После нескольких дальнейших реформ она была окончательно слита с Медико-Хирургической Академией в Петербурге в 1844 г.
(обратно)7
Московская больница для бедных была основана по мысли императрицы Марии Федоровны в 1803 году первоначально только в виде лечебницы для приходящих (амбулатория). В полном же своем составе больница открыта 1806 г.
В настоящее время Московская Мариинская больница на Божедомке преобразована в Институт социальных болезней.
(обратно)8
Басня Крылова «Гуси» впервые была напечатана в «Чтениях Беседы Любителей Русского слова» еще в 1811 году в № 1 журнала.
(обратно)9
По сообщению Н. П. Чулкова (Москва), один из представителей рода Нечаевых Федор Тимофеевич (дед Федора Михайловича Достоевского) жил в Москве и в 1801 году вел уже самостоятельную торговлю в Суконном ряду.
(обратно)10
В «Биографии. Словаре Професс. и Преподават. Московск. Университ.» М., 1855 г., ч. 1, стр. 430, о В. М. Котельницком говорится: «Врачебного веществословия, Фармации и Врачебной Словесности профессор ординарный, Медицины Доктор, Статский Советник, сын губернского секретаря, род. в Москве 1770 г.».
(обратно)11
Мих. Мих. скончался 10 июля 1864 г. Похоронен в г. Павловске, ныне Слуцке.
(обратно)12
Варвара Михайловна — по мужу Карепина. 20 января 1893 г. была зверски убита грабителями. См. «Русск. Ведом.», 1893 г., № 78.
(обратно)13
Вера Михайловна — по мужу Иванова.
(обратно)14
Николай Михайлович — младший из братьев Достоевских. В 1854 г. окончил курс Строит. училища и был назначен в Эстляндскую Строительную и Дорожную Комиссию архитекторским помощником для производства работ. Брат Мих. Мих. в письме к Андр. Мих. от 12 августа 1854 г. писал: «Николя вышел из училища X-м классом. Из него выйдет очень талантливый архитектор. Проекты его были лучшие». Из писем его к брату Андрею Михайловичу видно, что в 1858 г. он уже служил в Петербурге, в 1862 г. имел порядочную частную практику и жил довольно широко. Однако слабоволие и алкоголизм сбивали его с пути, и он все более и более впадал в нищету, жил у сестры Александры Мих., как бы на призрении, братья и знакомые помогали ему кто сколько мог, но спасти его было уже нельзя, и он умер совершенно пропащим человеком 18 февраля 1883 г.
(обратно)15
Александра Михайловна, младшая из всей семьи Достоевских, — по первому мужу Голеновская, по второму Шевякова. Скончалась 31 октября 1889 г.
(обратно)16
Братья Баршевы, известные русские криминалисты.
(обратно)17
См. прим. 9-е.
(обратно)18
Александр Алексеевич Куманин, купец I гильдии и дворянин. Славился своей широкой благотворительностью и занимал несколько почетных должностей.
(обратно)19
См. прим. 10-е.
(обратно)20
Известные в репродукциях портреты родителей Федора Михайловича — суть снимки с этих фотографических копий.
(обратно)21
Автор имеет здесь в виду, должно быть, издание В. П. Авенариуса «Книга былин», очень распространенное среди юношества в начале 80-х годов.
(обратно)22
«Генриада» — поэма Вольтера, изданная в 1723 г., где бичуются современные поэту нравы французского общества и провозглашаются идеи братства и свободы, а в укор правителям выдвигается, как идеал, личность короля Франции Генриха IV (1589–1610).
(обратно)23
«Жако или бразильская обезьяна» — переводная драма.
(обратно)24
См. прим. 14-е.
(обратно)25
Судя по сохранившимся письмам, Варенька также была взята в деревню, а не оставалась в Москве.
(обратно)26
«К Макарию» — знаменитая Нижегородская ярмарка.
(обратно)27
В недавнее время Даровое посетила исследовательница творчества Ф. М. Достоевского и устроительница музея его имени в Москве В. С. Нечаева. Весьма интересное, по собранным материалам, описание этой поездки см. «Новый Мир», М., 1926 г., книга 3-я, стр. 128–144.
(обратно)28
«Мужик Марей» — в «Дневнике Писателя», 1876 г., февраль, глава I.
(обратно)29
А. М. записал в своем дневнике: «Отец похоронен в церковной ограде. На могиле его лежит камень без всякой надписи, и могила окружена деревянною решеткою, довольно ветхою. Надо будет озаботиться возобновить ограду». Этого намерения Андрею Михайловичу, к сожалению, не довелось привести в исполнение.
(обратно)30
Книга эта называется так: «Сто четыре священные истории, выбранные из Ветхого и Нового завета в пользу юношества Иоанном Гибнером, с присовокуплением благочестивых размышлений».
(обратно)31
Из дальнейшего краткого перечня книг, которые читались в семье Достоевских, видно, что, несмотря на строго-патриархальный уклад жизни, литературные интересы в семье были развиты довольно сильно и отец внимательно следил за литературою. Такие произведения, как «Юрий Милославский» М. Н. Загоскина (1789–1852), «Ледяной дом» И. И. Лажечникова (1792–1869), «Стрельцы» К. П. Масальского (1802–1861), «Семейство Холмских» Д. И. Бегичева (1786–1855), «Сказки казака Луганского» (псевдоним писателя В. И. Даля, 1801–1872) — в то время были литературными новинками.
(обратно)32
Вальтер Скотт (1771–1832) — знаменитый английский писатель.
(обратно)33
Нарежный В. Т. (1780–1826) — создатель русского бытового романа.
(обратно)34
Вельтман А. Ф. (1800–1860), кроме исторических и фантастических романов и повестей, занимался еще и историческими и археологическими исследованиями, серьезного научного значения, впрочем, не имевшими.
(обратно)35
«Библиотека для чтения». Первый из русских «толстых» ежемесячных журналов. Просуществовал журнал с 1834 г. по 1865 г. и в первые годы имел очень большое количества подписчиков.
(обратно)36
Воейков А. Ф. (1778–1839) — журналист и переводчик, прославивший свое имя злыми эпиграммами и главным образом сатирой «Дом сумасшедших», где осмеян весь литературный мир 1820–1830 годов.
(обратно)37
Ершов П. П. (1815–1869) известен только по своей знаменитой сказке «Конек-горбунок».
(обратно)38
Кистер Ф. И. был лектором немецкого языка и словесности в Московском Университете.
(обратно)39
Рихтер А. А. — главный доктор Московск. Мариинской больницы с 1830 по 1839 год.
(обратно)40
Вилламов Григорий Иванович был статс-секретарем по IV Отд. собств. его вел. канцелярии. Несмотря на благоприятный ответ Вилламова, дети на казенный счет приняты не были. Мих. Мих. вообще не был принят в училище, а поступил на службу юнкером, а за Федора Михайловича внес деньги дядя Александр Алексеевич Куманин, 950 р. ассигнациями.
(обратно)41
Этот стих взят из «Эпитафий» Карамзина (1792 г.).
(обратно)42
Коцебу Авг. Фридр. (1761–1819) — очень популярный в свое время немецкий писатель и драматург. На русский язык было переведено более 130 его произведений.
(обратно)43
Из сохранившейся одной черновой бумаги Михаила Андреевича видно, что он останавливался в Петербурге в гостинице у Обухова моста.
(обратно)44
Из сохранившегося в бумагах Андр. Мих. чернового письма Мих. Андр. по начальству видно, что ему в марте 1837 года было предложено занять место старшего врача в больнице, но что он, отказываясь от этого предложения, по расстроенному здоровью, просит представить его вовсе к отставке с пенсией и мундиром.
(обратно)45
Кроме этих писем, сохранилось еще несколько отдельных писем Михаила Андреевича, которые помещены в «Приложениях».
(обратно)46
Письмо датировано 9 июля без указания года. Андрей Мих. относит его к 1833 г. на том основании, что ревизия (8-я), о которой здесь идет речь, была именно в 1833 г.
Ваза — один из видов озимой ржи, особенно распространенный в те годы в губерниях Тульской и Курской.
(обратно)47
Настасья Андреевна Маслович, см. стр. 21 и 41. — В письме М. Ф. Достоевской от 29/VI 1832 г. (Моск. Историч. Музей) несколько раз упоминается фамилия Дружинина, Каширского чиновника, помогавшего ей в деле с Хотяинцевым.
(обратно)48
Это письмо есть ответ на два письма Федора Михайловича к отцу: от 5/V 1839 г., впервые нами публикуемое (см. «Приложения») и от 10/V 1839 г., уже давно известное в печати. Второе письмо Федора Михайловича является как бы припиской к первому, которое Федор Михайлович за недосугом не успел послать вовремя. Это подтверждается словами второго письма: «Я на 5 дней должен был удержать посылку письма моего…» и «я хотел сделать Вам эту приписку…» и еще тем, что в заголовке этого, второго, письма нет обычного обращения к адресату, которое было уже сделано в письме от 5/V, где в дате обозначен и год —1839.
Таким образом, эти два письма, полученные Мих. Андр. в одном конверте, составляют в сущности одно письмо, написанное лишь в два приема и на отдельных листах. Поэтому впредь их и следовало бы печатать неразрывно.
— Фразы «брата за письмо не вини…» и «твой совет я ему передам …» относятся к словам Фед. Мих. в письме от 5/V.
— Слова «Ты писал, что состоишь должным…» относятся к письму Фед. Мих. от 23/III 1839 года, впервые публикуемому (см. «Приложения»), Ссылка на столь давнее письмо объясняется тем нарушением правильной корреспонденции, о котором говорит Фед. Мих. и которое, должно быть, продолжалось еще порядочно времени.
— Ив. Ник Шидловский — первое дружеское знакомство старших братьев Достоевских по водворении их в Петербурге в 1837 г. Он имел на обоих братьев Достоевских громадное влияние, особенно на Фед. М-ча. Об И. Н. Шидловском см. Алексеева «Ранний друг Ф. М. Достоевского». Одесса. MCMXXI.
(обратно)49
Письма Марии Федор. и Мих. Андр. воспроизведены здесь, по условиям печатания, без точного соблюдения орфографии, способов начерчения и пунктуации.
(обратно)50
См. еще отзыв Фед. Мих. о родителях в письме его к брату Андрею Михайловичу от 10/III 1876 г. («Приложения»).
(обратно)51
А. Д. Шумахер в своих «Поздних воспоминаниях» («Вестник Европы», 1899 г., № 3) указывает как на воспитанников пансиона Чермака еще на академика Л. И. Шренка, на Н. В. Колачева, учредителя Археологического Института в Петербурге, на Волконского — земского деятеля.
(обратно)52
Epitome Historiae Sacrae. Под таким названием существовало несколько русских изданий-перепечаток с французского изд. Lhomond.
(обратно)53
Тетка Катенька — Екатерина Федоровна Нечаева, вторая единокровная сестра матери Андрея Михайловича, впоследствии вышедшая замуж за Д. И. Ставровского.
(обратно)54
Основьяненко — псевдоним известного украинского писателя Г. Ф. Квитки (1778–1843).
(обратно)55
В деревне при отце с няней Аленой Фроловной в это время жили двое младших детей: Николай Михайлович и Александра Михайловна.
(обратно)56
В архиве Андрея Мих. сохранилось письмо Михаила Михайловича к дяде и тетке Куманиным, вызванное известием о смерти отца. Обозначение года в дате сделано рукой Андрея Михайловича. Приводим его полностью.
Ревель 30 июня [1839]
Милостивый Государь
Дядинька Александр Алексеевич и
Милостивая Государыня
Тетинька Александра Феодоровна!
На этой неделе получил я от брата Феодора письмо, в котором он извещает меня о несчастий, постигшем семейство наше. Видно Провидению угодно было вновь поставить на пробу твердость нашего духа и заставить нас до дна испить чашу горести. Мы теперь круглые сироты, без матери и без отца. Не говорю уж о себе и о брате: мы, слава Богу, в летах… но эти бедные малютки… Боже мой, Боже мой! что оне тебе сделали? Из деревни я не получал еще никакого известия, а брат пишет очень неясно о всем происшедшем; потому я почти ничего не знаю подробно. Слышал только, что Вы взяли детей к себе, и пролил слезы благодарности! Бог наградит Вас за Ваше доброе сердце! Дядинька! Тетинька! замените им родителей; не дайте почувствовать им ужасный гнет сиротства; заставьте небо радоваться, ангелов ликовать от Вашего доброго дела! бедный Коля, бедная Сашинька!
Не знаю, кто будет опекуном? Если б я не сознавал вполне всех Ваших благодеяний, всего того, что Вы для нас сделали, я не стал бы просить Вас — увеличить их еще новым добрым делом, приняв это почтенное звание на себя. Но чувствуя, понимая всю сострадательность Вашего доброго сердца, прошу Вас от лица всего нашего семейства, как старший сын покойника — принять братьев и сестер под свою опеку. Кому ж ближе заступать это место, как не Вам, дядинька?
Не знаю, как выпросить мне у Вас прощение за долгое мое молчание; но смею уверить Вас, что не леность и не нерадение, а беспрестанные хлопоты по службе, занятия и ученья были его причиною. Я и к покойнику писал только 1 раз в месяц, а иногда и реже. Да могу ль забыть я Вас?
С этою же почтою я отвечаю брату и пишу в деревню. Там не знают моего адреса.
Подивитесь предчувствию души моей. В ночь на 8-е июня — я видел во сне покойного папиньку. Вижу, что будто он сидит за письменным столиком и весь как лунь седой; ни одного волоса черного; я долго смотрел на него, и мне стало так грустно, так грустно, что я заплакал; потом я подошел к нему и поцеловал его в плечо, не быв им замеченным, и проснулся. Я тогда же подумал, что это не к добру, и не мало беспокоился, не получая от папиньки ни письма, ни денег, в которых я теперь крайне нуждаюсь. У меня нет ни копейки, а я живу на своей квартире, держу свой собственный стол, и притом должен заплатить учителю за взятые уроки из математики. Через год я непременно буду офицером. Если бы меня пустили, я сейчас бы поехал в отпуск; я думаю, деревни остались теперь совершенно без присмотра. Боже мой! Боже мой, какою ужасною смертью умер папинька! два дня на поле… может быть дождь, пыль ругались над бренными останками его; может быть, он звал нас в последние минуты, и мы не подошли к нему, чтобы смежить его очи. Чем он заслужил себе конец такой! Пусть же сыновние слезы утешат его в той жизни!
Прощайте, любезный дядинька и тетинька. Слезы мешают писать мне далее; почта отходит, а мне еще тьма дела.
С истинным почтением и искреннею любовью честь имею быть Вашим племянником.
М. Достоевский.
Братьев и сестер всех целую. Бедная Варинька! Ты потеряла лучшего друга и нежнейшего из отцов!
Если Вам нужно будет что-нибудь сообщить мне, то вот мой адрес:
В г. Ревель. Его благор… М. М. Достоевскому.
Юнкеру, служащему при Ревельской инженерной команде.
— Указание на сон, виденный автором этого письма в ночь на 8 июня, дает основание предполагать, не случилось ли убийство отца именно в этот день.
— Просьбу Михаила Михайловича к дяде Александру Алексеевичу Куманину о принятии на себя обязанностей опекуна над малолетними Достоевскими дядя отклонил и опекуном был назначен некто Николай Павлович Елагин. Об этом опекуне, к сожалению, без упоминания имени и фамилии нелестный отзыв имеется в неизданном письме Мих. Мих. к сестре Варв. Мих. от 12 ноября 1839 г. еще до выхода ее замуж за Карепина, принявшего опеку на себя. Мих. Мих. сообщает сестре о больших злоупотреблениях по хозяйству в деревне.
(обратно)57
Автор ошибся: у Геннади упоминается имя Геринга в числе переводчиков Пушкина.
(обратно)58
Геннади Григор. Ник. (1826–1880) — библиограф. Среди его многочисленных работ особенно пользуется известностью «Справочный словарь о русских писателях и ученых, умерших в XVIII и XIX ст.», доведенный, впрочем, только до буквы М.
(обратно)59
До А. П. Карепина опекуном был Н. П. Елагин. См. прим. 56.
(обратно)60
К приезду Мих. Мих. в деревню все имущество и хозяйственный инвентарь уже сильно пострадали после смерти отца за время опекунства Елагина. См. прим. 56-е.
(обратно)61
Об этой болезни Андр. Мих. и вообще о беспокойстве, которое он доставлял Фед. Мих-чу своим пребыванием в его квартире, Федор Мих. упоминает в письме к брату Мих. Мих-чу от 22/XII 1841 г. См. «Достоевский. Письма» под редакц. А. С. Долинина, т. I, № 19.
(обратно)62
Трутовской Конст. Александр. (1826–1893) — художник-жанрист, окончил Инженерное училище в 1845 г.
(обратно)63
Григорович Дмитрий Вас., род. 1822, ск 1899 г.
(обратно)64
Это отрывок из трагедии В. А. Озерова (1769–1816) «Димитрий Донской». Действие I, явление II — рассказ боярина Московского — Андрей Михайлович воспроизводит этот отрывок, очевидно, по памяти — не в абсолютной точности с оригиналом. Об актере Толченове Белинский в своих статьях о театре за 1839 г. отзывается с большой похвалой, говоря, что он создан для ролей военачальников.
(обратно)65
Самой «сути дела» Фед. Мих. действительно не понимал или, вернее, не хотел, должно быть, понимать, так как в 1839 году писал отцу довольно самоуверенно, что он берется подготовить брата Андрюшу к поступлению в Инженерное училище.
(обратно)66
Клейнмихель граф Петр Андреевич, род. 1793, ск. 1869.
(обратно)67
Архитекторское училище было основано 26 августа 1830 г., Училище гражданских инженеров — 27 апр. 1832 г. Образованное из этих училищ в 1842 году Строительное училище было переименовано в 1882 г. в Институт Гражданских Инженеров.
(обратно)68
В биографии поэта Гейне, составленной П. И. Вейнбергом для издания Павленкова «Жизнь замеч. людей», СПб, 1903 г, есть упоминание о брате поэта Максимилиане Гейне, враче русской службы; он в 1867 году был в Париже, читал у вдовы поэта рукопись его мемуаров и самовольно уничтожил значительную часть их.
(обратно)69
Оригинал этой записки был передан нами Ивану Спиридоновичу Абрамову, по усиленной его просьбе, для хранения в собрании автографов краеведческого кружка в м. Воронеже, Черниговской губ. Напечатана у А. С. Долинина в «Письмах Ф. М. Достоевского». Госизд, т. I, стр. 65.
(обратно)70
О К. Я. Маевском см. «Юбилейный сборник сведений о деятельности бывших воспитанников Инст. Гражд. Инж. 1842–1892 г.» СПб, 1893 г. Г. В. Барановского.
(обратно)71
Брант сотрудничал в «Северной Пчеле» около 30 лет, помещая в ней критические фельетоны.
(обратно)72
Федор Михайлович вышел в отставку 19/X 1844. Вопрос о материальном своем обеспечении волновал его очень сильно. На первое время он решил выделиться из наследства отца и предложил опекуну самые безобидные для прочих наследников условия.
(обратно)73
Первые впечатления самого Фед. Мих. об успехе «Бедных людей» изложены в его письме к брату Мих. Мих. от 1 февр. 1846 г. — См. Долинин «Достоевский. Письма», т. I, стр. 86 и примеч. к нему.
(обратно)74
Брюллов Александр Павлович (1798–1871) — знаменитый зодчий, брат знаменитого живописца Карла Павловича Брюллова.
(обратно)75
О дальнейшей деятельности товарищей Андрея Михайловича, окончивших с ним курс в 1848 году, — известно очень мало.
(обратно)76
«Сипа́», бранное слово: грубый, невежа, необразованный мужик.
(обратно)77
О Марии Александровне Ивановой см. В. С. Нечаева «Из литературы о Достоевск. Поездка в Даровое». «Новый мир». М., 1926 г. Книга 3-я.
(обратно)78
При составлении отдельного тома к посмертному изданию сочин. Ф. М. Достоевского в 1883 г. «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского» О. Ф. Миллер обратился к А. М. с просьбою написать воспоминания о детских годах, проведенных им в родной семье вместе с Федор. Михайл. О. Ф. Миллер широко их использовал, но не полностью. Вторичное письмо Миллера от 29 июля 1883 г. вызвало со стороны Андр. Мих. дополнительные воспоминания, именно воспоминания об его ошибочном аресте, которые также были использованы Миллером частично.
(обратно)79
Приводимая О. Ф. Миллером фраза Федора Михайловича взята из письма его к А. Е. Врангелю от 23 марта 1856 г.
(обратно)80
Об этом эпизоде см. письмо Фед. Мих. к Андр. Мих. от 6 июня 1862 г. у Долинина «Достоевский. Письма», Госиздат, 1928 г., т. I, стр. 307, и разъяснения Андр. Мих.
(обратно)81
Данилевский Григор. Петрович (1829–1890) был арестован по делу Петрашевского ошибочно, вместо Н. Я. Данилевского.
(обратно)82
Г. Елисаветград, ныне Зиновьевск, в начале царствования Николая I был отчислен в ведомство военных поселений. При Александре II было признано, что военные поселения очень невыгодны в финансовом отношении, совершенно не достигают поставленной им цели, и в 1857 году военные поселения были окончательно упразднены.
(обратно)83
Никитин Алексей Петрович (1777–1858) участвовал в походах с 1805 по 1831 год. Начальник украинск. военн. поселения и расположенных там войск — с 1839 г.
(обратно)84
Васил. Фед. фон-дер-Лауниц в 1828 г. участвовал в турецкой кампании; в 1831 г. — в польской, а 1845 г. — начальник штаба 2-го кавалерийского корпуса.
(обратно)85
Кампамент — расположение кавалерии и конной артиллерии на тесных квартирах по деревням для лагерных занятий.
(обратно)86
Бар. Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен (1790–1881) — боевой генерал, участвовавший во всех войнах, начиная с 1812 г. по 1855 г.
(обратно)87
Михаил Леонтьевич Дубельт, сын Леонтия Васил. Дубельта, известного при Николае I начальника III Отд., был женат на младшей дочери А. С. Пушкина Наталье Александровне, которая после развода с Дубельтом вышла замуж за графа Меренберга.
(обратно)88
«Гальмовать» — значит тормозить, вкладывать в колеса кол; «бичевать» — бить бичом, погонять.
(обратно)89
Приговор по делу Петрашевского напечатан в «Северной Пчеле» от 23 апреля 1849 г., № 286 и воспроизведен Андреем Михайловичем почти тождественно.
(обратно)90
Вследствие сокращении в этой книге более подробные сведения о детях Андрея Михайловича выпали.
(обратно)91
Михаил Михайлович для усиления средств одно время держал папиросную фабрику.
(обратно)92
«Воевода» Пальмерстон (1784–1864) — знаменитый английский государств, деятель.
(обратно)93
Сражение при Черной речке 4 августа 1855 г. окончательно решило судьбу Севастополя, который был оставлен русскими войсками 27 августа того же года.
(обратно)94
По современной нам номенклатуре улиц, тогдашний адрес Мих. Мих. определяется так: Казначейская улица, д. № 1-й.
(обратно)95
Из всех детей Мих. Мих. в живых осталась только одна Екатерина Михайловна.
(обратно)96
См. прим. 71-е.
(обратно)97
Чевкин Конст. Влад. (1803–1875) с 1853 по 1862 г. был главноуправляющим Путей сообщения, принимал деятельное участие в работах Главного Комитета по крестьянскому делу.
(обратно)98
Ростовцев Як. Ив. (1803–1860). При Александре II был начальником Военных учебных заведений и председателем редакционных комиссий, созванных для составления проекта положения об освобождении крестьян.
(обратно)99
Острота этой вымышленной надписи заключается в том, что 18 февраля 1855 г. — день смерти Николая I.
(обратно)100
Герцен Александр Иван., род. 1812, сконч. 1870 г.
(обратно)101
Федор Михайлович произведен в офицеры, по отбытии каторжных работ, 1 октября 1856 г.
(обратно)102
Александр Андреев. Достоевский — гистолог, ск 20 окт. 1894 г.
(обратно)103
Варвара Андреевна Достоевская, по мужу Савостьянова, вдова.
(обратно)104
В «Воспоминаниях» Д. Н. Овсянико-Куликовского, Пгр., 1923 г., есть упоминание о том, что отец Д. Н. Овсянико-Куликовского был женат вторым браком на дочери Жуковских — Екатерине Григорьевне.
(обратно)105
Фабр Андр. Яковл. (1790–1863). С 1833 г. был правителем канцелярии Новорос. и Бессарабск. генерал-губернатора, а с 1847 по 1857 г. Екатеринославским губернатором. Был известен как писатель по сельскому хозяйству.
(обратно)106
Елагин Влад. Никол. (1831–1863). Его рассказы литературного значения не имеют, а являются лишь фотографически-точными картинками из жизни местной чиновной аристократии.
(обратно)107
Сиверс Александр Карлович, р. 1823, ск. 1887.
(обратно)108
Д. И. Калиновский был редактором-издателем учено-литературного журнала «Светоч» в 1860–1862 гт. Соредактором Калиновского был А. П. Милюков.
(обратно)109
Сын Андрея Михайловича Иван скончался в младенчестве.
(обратно)110
Эти слова Г. П. Данилевского подтверждаются следующим отрывком из письма Фед. М-ча к Андрею Мих. от 6 июня 1862 г. («Достоевский. Письма» под ред. Долинина. Госиздат, 1928 г., т. I, № 155): «Данилевский что-то передавал мне про какую-то клевету про тебя, скверную сплетню. Я говорил с Калиновским. Он мне и брату написал письмо, в котором объясняет эти обстоятельства грязными сплетнями мерзких людей, говорит, что тебя едва знает и про тебя ничего не мог говорить дурного. Если хочешь, я тебе пришлю и это письмо…».
(обратно)111
Малая Мещанская улица, по современному — Казначейская.
(обратно)112
Извольский Петр Алекс., раньше служил в Восточной Сибири.
(обратно)113
См. прим. 2-е.
(обратно)114
Николай — старший сын Александра II.
(обратно)115
Журнал «Время», издававшийся Михаилом Михайловичем с 1861 г., закрыт был 24 мая 1863 г., уже после выхода апрельской книжки.
— Первая жена Федора Михайловича, Мария Дмитриевна (урожд. Констант), скончалась 15 апреля 1864 г. в Москве.
— Другим редактором журнала «Эпоха» от правительства был назначен А. Ю. Порецкий.
— Этим письмом точно устанавливается дата смерти Михаила Михайловича Достоевского — 10 июля 1864 г, а не июня, как часто встречается в иных справках.
(обратно)116
См. пр. 95-е.
(обратно)117
Валуев Петр Александрович (1814–1890). В конце своей государственной деятельности в 1881 г. был уволен от всех занимаемых им должностей.
(обратно)118
Могила находится на дорожке, в последнее время названной «Достоевская».
(обратно)119
Унковский Иван Семенович (1822–1886) — адмирал, был назначен Ярославским губернатором по окончании службы в Черном море.
(обратно)120
Л. Н. Трефолев родился в 1843 г., скончался 28 ноября 1905 г. Кроме тома стихотворений, изд. в Москве 1894 г., и маленького сборника стихов «В пользу балканских страдающих славян», Яросл., 1877, Леон. Ник. Трефолев издал не малое количество отдельных брошюр по истории местного края и в форме исторического исследования, и в форме беллетристического рассказа.
(обратно)121
О пребывании Федора Михайловича летом 1866 г. в Люблине см. у В. С. Нечаевой в «Новом Мире», кн. 3, М., 1926 г., статья «Из литературы о Достоевском. Поездка в Даровое». Еще: «Воспоминания» фон-Фохта в «Истор. вестн.», 1901 г., № 12. Это пребывание в Люблине нашло свои отголоски в рассказе Федора Михайловича «Вечный муж», где под фамилией Захлебининых выведена вся семья Ивановых. См. «Воспоминания А. Г. Достоевской». Гиз., 1925 г, стр. 129.
(обратно)122
Александр Тимоф. Неофитов, сын Т. И. и Ел. Ег. Неофитовых, добрых друзей в семье Достоевских.
(обратно)123
Это то самое письмо, о котором Федор Михайлович писал племяннице С. А. Ивановой и выражал уверенность, что Андрей Михайлович его «сохранит и не затеряет». См. «Достоевский. Письма», под редакцией А. С. Долинина, т. II, № 339.
(обратно)124
Мих. Мих. и Фед. Мих. были исключены из духовного завещания потому, что первый занял у тетки на ведение издательского дела довольно крупную сумму, а второй получил от нее же 10 тыс. руб. на уплату долгов скончавшегося в 1864 г. Мих. Мих-ча.
(обратно)125
Сонечка Иванова (Софья Александровна) впоследствии по мужу Хмырова — племянница братьев Достоевских, дочь их сестры Веры Михайловны Ивановой. Федор Михайлович очень любил эту свою племянницу и одно время вел с ней очень деятельную переписку.
(обратно)126
Бывший Демидовский Юридический лицей в Ярославле основан П. Г. Демидовым в 1805 г. под названием Демидовское высших наук училище.
(обратно)127
Срочная работа — рассказ «Вечный муж».
(обратно)128
У Федора Михайловича было четверо детей — все от второго брака с Анной Григорьевной: 1) дочь Софья Федоровна, родилась в Женеве 22 февраля 1868 г. и там же в том же году 12 мая скончалась. 2) дочь Любовь Федоровна, родилась в Дрездене 14 сент. 1869 г., скончалась 10 ноября 1926 г. в Gries (Тироль) от белокровия. После смерти отца Любовь Федоровна жила с матерью в Петербурге, училась в гимназии. В течение 1911–1913 гт. она издала три книжки своих рассказов: «Больные девушки», «Эмигрантка», «Адвокатка». В конце 1913 г. поехала для лечения за границу и, не успев вернуться оттуда до войны, больше в Россию уже не возвращалась. За границей она жила литературным заработком и издала на немецком языке свои воспоминания об отце под названием: «Dostoiewsky, geschildet von seiner Tochter». В русском переводе (Л. Я. Круковской) книга эта вышла в несколько сокращенном виде с предисловием А. Г. Горнфельда под названием: «Достоевский в изображении его дочери». Гиз, 1929, 3) сын Федор Федорович, родился в Петербурге 16 июля 1871 г., скончался 22 декабря 1921 г. в Москве от миокардита. По окончании университета Федор Федорович долгое время держал не безызвестную в спортсменских кругах скаковую конюшню и конный завод. Однако это крупное дело пришлось ликвидировать, и он поступил на службу по коннозаводству; 4) сын Алексей Федорович, родился в Старой Руссе 10 августа 1875 г., скончался 16 мая 1878 г. от эпилептического припадка. (О детях Федора Михайловича в младенческом возрасте см. «Воспоминания А. Г. Достоевской», Гиз., 1925 г. по указателю.) Даты смерти Люб. Фед. и Фед. Фед. указаны вдовой последнего — Екат. Петр. Достоевской. Сын Ек. Петр., Андр. Фед. Достоевский, ныне студент Донского Политехн. Института.
(обратно)129
Сочинение, написанное за границей, — роман «Идиот».
(обратно)130
Воспоминания Андрея Михайловича оканчиваются сообщением о получении им 29 марта 1871 г. телеграммы от сестры Веры Михайловны о смерти их тетки Александры Федоровны Куманиной.
(обратно)131
Все печатающиеся в «Приложениях» письма по содержанию своему воспроизведены с подлинниками точно. Подчеркнутые слова набраны прописью. Даты писем, проставленные рукою Андрея Михайловича, заключены в прямые скобки.
(обратно)132
«Семик» — так назывался в народе весенний праздник Троицы и Духова дня.
— Мишка — мальчик, которого прислала из деревня Мария Федоровна для услуг Михаилу Андр. (письмо от 1 мая 1835 г. в Моск. Истор. муз.).
— Сорокапудовая бочка — добродушно-шутливое прозвище няни Алены Фроловны.
(обратно)133
Дело идет об ожидании появления на свет младшей дочери Достоевских — Александры, которая и родилась 25 июля 1835 г.
(обратно)134
Меркуровы — знакомство, которое братья Достоевские приобрели в Петербурге через И. Н. Шидловского.
(обратно)135
Андрей Михайлов. в своем архиве пометил это письмо, как письмо к неизвестному лицу. Мы можем догадаться, что письмо это адресовано к А. Хотяинцеву, о получении письма которого Фед. Мих. упоминает несколькими строками выше. Хотяинцев, сосед Михаила Андреевича по деревне, очевидно, тоже взволновался долгим отсутствием известий от Федора Мих. (см. предыдущее письмо) и написал письмо к Федору Мих., который в этом ответном письме и благодарит его за заботы об отце.
— Датируем это письмо мартом 1839 г. на основании предыдущего письма Фед. Мих.
(обратно)136
О письме этом см. прим. 48-е.
(обратно)137
Смерть дяденьки — это смерть Михаила Федоровича Нечаева, брата матери Достоевских. См. о нем по указателю.
(обратно)138
После всей этой переписки с П. А. Карепиным Федор Мих. получил, наконец, сумму в 500 рублей, о чем и известил брата в письме к нему от 24 марта 1845 г. См. «Достоевский. Письма», т. I, стр. 74.
(обратно)139
Почтовый штемпель на записке: 24 мая 1846 г. Писана карандашом, адрес — чернилами.
(обратно)140
Почтовый штемпель на записке: 18 октября 1846 г. Федор Мих. вернулся из Ревеля значительно раньше, чем предполагал, и уже 5 сентября извещал брата Мих. Мих. о своем благополучном возвращении от него в Петербург.
(обратно)141
Записка Андрея Михайл. с просьбой одолжить сколько-нибудь денег помечена 20 февраля. Фед. Мих. написал свой ответ на обороте этой записки. Андрей Мих. уже в гораздо позднейшее время проставил дату года — 1849.
(обратно)142
Письмо из Петропавловской крепости. В майской книжке «Отеч. Зап.» 1849 г. помещена 3 часть «Неточки Незвановой».
(обратно)143
Роман, о котором здесь упоминается, «Преступление и наказание», первая часть которого была напечатана в январской книжке «Русск. Вестн.» за 1866 г. Федор Мих. в день написания этого письма 13 февр. думал еще о 5 частях романа, а уже через 5 дней — 18 февр. в письме к А. Е. Врангелю он говорит о 6 частях. См. «Достоевский. Письма», т. I, стр. 430.
— Вечер 30 ноября 1865 г.
(обратно)144
Большая работа в одном из журналов — роман «Подросток», который Фед. Мих. писал в Старой Руссе.
(обратно)145
Издание книгопродавца Кехрибарджи — роман «Подросток», изд. 1876, который Фед. Мих. и прислал Андрею Михайловичу со своею надписью.
(обратно)146
Письмо это было передано Андрею Михайловичу Анной Григорьевной лично.
(обратно)147
Роман, только что оконченный, — «Братья Карамазовы».
(обратно) (обратно)



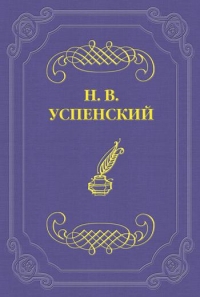
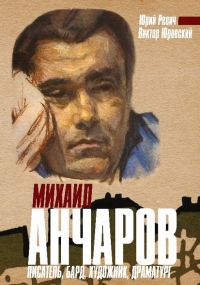

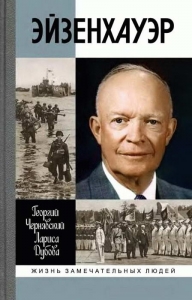
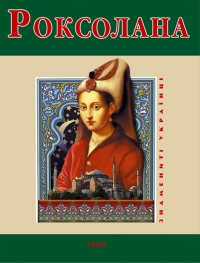
Комментарии к книге «Воспоминания», Андрей Михайлович Достоевский
Всего 0 комментариев