Вирджиния Вулф Дневник писательницы
«Надо писать из самых глубин чувств…»
Вирджиния Вулф родилась в 1882 году в одной из самых образованных и рафинированных семей уходящей в прошлое викторианской Англии. Ее отец, Лесли Стивен, — фигура заметная в общественной и литературной жизни Англии: радикал, атеист, вольнодумец, философ, историк, литературовед. Первым браком Лесли Стивен был женат на младшей дочери Теккерея, Харриет Мириэм. Она умерла молодой, в 1878 году, и Лесли Стивен женился во второй раз. Его избранницей стала близкая подруга Харриет — Джулия Дакворт, происходившая из родовитой семьи. Вирджиния была третьим ребенком Лесли Стивена и Джулии.
Искусство для Вирджинии Стивен было такой же повседневностью, как для какого-нибудь другого ребенка шалости или игры. Она выросла среди постоянных разговоров о литературе, живописи, музыке. В доме ее отца получали благословение начинающие писатели, ниспровергались общепризнанные авторитеты. Вот почему детской комнатой Вирджинии была библиотека, крестным отцом — поэт Джеймс Рассел Лоуэлл, товарищем по играм — писатель Генри Джеймс, греческому языку ее учила сестра Уолтера Пейтера, известного эссеиста, искусствоведа. Дух, царивший в доме Лесли Стивена, сохранился и в доме в Блумсбери, куда переехала семья после смерти отца. Этому дому суждено было сыграть немалую роль в истории английской культуры XX века.
Блумсбери — район в центре Лондона неподалеку от Британского музея, где по традиции селились художники, музыканты, писатели. Здесь обосновались и дети Лесли Стивена — сыновья Тоби и Адриан, дочери — Ванесса и Вирджиния. Это были молодые люди, отменно образованные (хотя девушки получили лишь домашнее образование), с отчетливо выраженными художественными наклонностями. Они-то и составили ядро кружка, или салона, который по месту своего нахождения получил название «Блумсбери».
Здесь по вечерам собирались молодые литераторы, которые до хрипоты, засиживаясь за полночь, спорили об искусстве. Частыми гостями тут были поэт Томас Стернз Элиот, философ Бертран Рассел, литературовед Роджер Фрай, критик и эссеист Литтон Стрэчи, романист Эдуард Морган Форстер и журналист левых взглядов Леонард Вулф, который в 1912 голу стал мужем Вирджинии Стивен.
Новичку, впервые сюда попавшему, бывало не по себе. Молодому Дэвиду Герберту Лоуренсу, впоследствии классику английской литературы XX века, показалось, что он сходит с ума от нескончаемых бесед, участвовать в которых было совсем не легко. Говорили вроде бы о пустяках, но как-то незаметно беседа могла перейти на только что открывшуюся в Лондоне выставку импрессионистов, вызвавшую у старшего поколения, воспитанного на академической живописи, взрыв негодования, а здесь, в «Блумсбери», принятую на ура. В этом салоне знали назубок работы американского психолога Уильяма Джеймса, с легкой руки которого в литературный обиход вошло понятие «поток сознания», зачитывались Зигмундом Фрейдом, которого почитали пророком, изучали швейцарского культуролога Карла Юнга и его теорию архетипов. Из этих новых теорий следовало, что область подсознательного не менее важна, чем сфера сознательного, — здесь скрыты импульсы, неосуществленные желания, здесь бытуют некие неизменные структуры и модели поведения и мышления, роднящие современного человека с его дальними предками. Другим властителем дум «блумсберийцев» был французский философ Анри Бергсон, отвергший механическо-рационалистический подход к бытию и к категории времени. С не меньшим рвением изучали «блумсберийцы» и двенадцатитомный труд «Золотая ветвь» английского антрополога Джеймса Фрейзера, который пытался обосновать глубинную связь между сознанием древнего и современного человека. Любили «блумсберийцы» Стерна и Монтеня, но их губы складывались в ироничную улыбку, когда кто-нибудь при них с похвалой отзывался об Арнольде Беннете, Герберте Уэллсе или Голсуорси.
«Блумсбери» — это особый знак времени, когда на смену традиционному представлению об искусстве приходило новое, авангардистское. У литераторов, входивших в «Блумсбери», впрочем, четкой эстетической программы не было. Кружок объединил очень разных по своим творческим установкам, социальным взглядам, литературным пристрастиям молодых людей. У многих, особенно традиционалистов, он вызвал негодование. Молодым людям не могли простить раскованности поведения, легкости, с которой они играли философскими, нравственными, эстетическими категориями, обсуждали, в том числе и женщины, вопросы интимной жизни, все еще остававшиеся под запретом. Им не прощали пренебрежительного отношения к современному английскому искусству, уничижительной, часто «высоколобой» критики, которой они подвергали любое проявление меркантилизма, пошлости, ограниченности. Им отказывали в серьезности, называли «пустомелями» и «пустоцветами». И только самые проницательные смогли разглядеть за эпатажем позу, а за ней, в свою очередь, протест. «Блумсберийцы» были настоящими детьми рубежа веков: сложившиеся на разломе эпох, лишенные социальных и нравственных ориентиров, современники, а иногда и участники социальных катаклизмов эпохи (две революции в России, Первая мировая война), они мучительно расставались с ценностями поколения отцов, с тревогой вглядывались в новую, рождающуюся у них на глазах действительность. Отринув старые религии, они жаждали новых. Хулители и ниспровергатели традиций, глашатаи — иногда слишком громкие — всего нового, «блумсберийцы» ратовали за свободное, беспрепятственное самовыражение личности, были убеждены в том, что нет ничего более нравственного, чем соображения эстетические, и что «деспотизм по своей природе ни плох, ни хорош». К середине 30-х годов кружок распался.
Притом что это были художники разные, всех их объединяло убеждение, что за поверхностью привычных вещей скрывается «нечто» — сама неуловимая суть жизни. «Великая Сложность». явить которую миру может лишь новое искусство. И потому в их произведениях реальная, доступная привычному взгляду оболочка вещей взрывается, ко всему механическому, поддающемуся научному толкованию они относятся с недоверием, делая упор на постижение метафизического смысла явления.
Сейчас, когда открытия Вирджинии Вулф давно уже освоены, трудно представить, какой взрыв негодования у приверженцев традиционной прозы вызвали ее первые рассказы «Дом с привидениями», «Понедельник ли, вторник…», «Пятно на стене», «Струнный квартет», «Ненаписанный роман», «Фазанья охота». Особенно, пожалуй, четыре первых, которые и рассказами-то назвать невозможно. Ни сюжета, никакой временной и географической определенности, если и мелькнут, как тени, какие-то персонажи, то разве это герои в классическом понимании этого слова? Стихотворения в прозе, заготовки для будущих произведений, листки черновиков? Действительно, некоторые из этих прозаических опытов — назовем их так — вошли, видоизменившись, в ее романы. И все же это самостоятельные, отдельные, художественно продуманные произведения. И если уж подбирать жанровое определение, то это, видимо, лирическое эссе или — что еще вернее — зарисовка настроения, психологического состояния, попытка средствами языка, слова передать ощущение, не столько саму мысль, сколько процесс мышления, поиск истины. Недаром в рассказе «Понедельник ли, вторник…» так часто повторяется слово «истина». Истина, дает понять Вирджиния Вулф, в силу своей изменчивой, зыбкой, неуловимой природы противится рациональному анализу. Быть может, музыка владеет этой тайной? И Вирджиния Вулф в своем программном рассказе «Струнный квартет» пытается сделать невозможное — передать словом музыку. Надо заметить, что в эти годы не только Вирджиния Вулф ставила перед собой столь дерзкую задачу. Один из эпизодов романа Джеймса Джойса «Улисс», «Сирены», написан по законам фуги. И в творчестве самой Вирджинии Вулф «музыкальная проза» не случайность. Ее поздний роман «Волны» создавался как «роман-соната», и в его композиции, стиле сделана попытка учесть законы этой музыкальной формы. Вообще многих писателей, музыкантов, художников первых десятилетий XX века неудержимо влечет идея синтеза. Рождается синкретическое искусство, например Скрябин и его эксперимент со световой музыкой, Стриндберг и его «Соната призраков».
Мучаясь, как и ее героиня в рассказе «Итог», Саша Лейзем, вопросом; «Какой же взгляд истинный?» и прекрасно понимая, что «можно взглянуть на дом… и так и эдак», Вирджиния Вулф показывает смысл своих расхождений с викторианцами и их преемниками в искусстве — эдвардианцами. Прочитав заглавие «Дом с привидениями», ждешь чего-нибудь в духе Оскара Уайльда («Кентервильское привидение»). И в рассказе-зарисовке Вирджинии Вулф есть призраки, но они какие-то другие, «неклассические». Бесшумно, боясь потревожить покой хозяев, они ступают по лестнице, взявшись за руки, — кто они, мужчина и женщина? — и настойчиво ищут что-то — радость, оставленную в доме и обретшую свое пристанище в душах хозяев.
Современники же сразу узнавали в «Пятне на стене», «Ненаписанном романе», «Фазаньей охоте» полемику с Арнольдом Беннетом, его теорией объективной детали. Если тщательно и вдумчиво, полагал писатель, воспроизвести на страницах повести, рассказа или романа местожительство героя, рассказать о его профессии, годовом доходе и т. д., характер будет выписан и ясен читателю. А вот и нет, возражает всей логикой повествования и в «Пятне на стене», и в «Ненаписанном романе», и в «Фазаньей охоте» Вирджиния Вулф.
Жизнь, «обожаемый мир», как она пишет в конце «Ненаписанного романа», загадочна, а потому непредсказуема. В поезде едут женщины. Всматриваясь в их лица, вглядываясь в выражение глаз, подмечая что-то характерное как будто бы только для них (нервную чесотку у героини «Ненаписанного романа»), Вирджиния Вулф, доверившись старым рецептам, старается прочитать книгу их жизни, выстроить их судьбу, понять психологию. Но что-то все время ускользает. И тогда, ощутив ошибку, перестав доверять правде факта, Вирджиния Вулф отдает себя во власть воображения, резко меняет ракурс видения в «Фазаньей охоте». Мы попадаем в некий фантастический, а то и фантасмагорический мир сна, воспоминаний, ночного кошмара, подсознания. Это царство страстей, потрясений, смятения, комплексов, грехов, здесь срываются благопристойные маски, здесь на нас смотрят настоящие лица. Каноны эдвардианской прозы не просто подвергаются сомнению, они самым решительным способом отвергаются: не случайно портрет короля Эдуарда с грохотом падает на пол, не случаен и образ зеркала в прозе Вирджинии Вулф. Глянув в зеркало этой писательницы («Женщина в зеркале»), увидишь не свое отражение и не привычные, знакомые чуть ли не с детства предметы. Встретишься взглядом с кем-то, кто, видимо, и есть твое «я», или же познакомишься с твоим материализовавшимся представлением о себе. Да и предметы под влиянием причудливо упавшего света (еще один образ-лейтмотив в прозе Вирджинии Вулф, на котором, в частности, построен рассказ «Прожектор») вдруг приобретут неожиданные очертания, оживут.
И все же — о чем эта проза? Об охоте, нравах в английской глуши («Фазанья охота»), о том, как мыкалась всю жизнь, виня себя в смерти (или увечье?) маленького брата, несчастная Минни Марш («Ненаписанный роман»)?
Душа — вот главное, вот итог размышлений Вирджинии Вулф. Недаром именно слово «Итог» вынесено в заглавие рассказа, где героиня рассуждает, что такое душа. А «Лапин и Лапина» — это повествование об одиночестве души, задыхающейся в мещанской, пошлой обстановке, где тесно не только от тяжеловесной мебели, громоздких буфетов, но и от вязких, никчемных, тупых мыслей и выхолощенных чувств. Пожалуй, это один из первых рассказов в западной литературе, где так остро поставлены проблемы отчуждения и расщепления личности, духовного нездоровья, которое в «вывихнутом» XX веке иногда принимает форму «конька», причуды. В самом деле, нормальна ли Розалинда или герой рассказа «Реальные предметы», который, к полному недоумению своих друзей по университету, быстро продвигающихся по службе, махнул рукой на карьеру и увлекся коллекционированием предметов необычной формы?! Конечно, странность, но, как и в случае с Розалиндой, — протест, пусть неосознанный, против потребительской психологии, вещизма, материальности цивилизации. Пройдет каких-нибудь тридцать-сорок лет, и именно эти темы станут центральными в западноевропейской и американской литературе.
Вирджиния Вулф, вспоминает Леонард Вулф, писала рассказы все время. Если какое-нибудь событие или впечатление привлекали ее внимание, она обычно записывала их. Потом не раз возвращалась к наброскам, и так рождался рассказ. Но из-за пристрастного отношения к собственному труду она по большей части считала, что эти небольшие вещицы еще не готовы, что им необходимо полежать, дожидаясь своего часа, в ящике письменного стола.
О в высшей степени требовательном отношении к своему творчеству говорят и рассказы, тематически и сюжетно связанные с романом «Миссис Дэллоуэй», — «Новое платье», «Вместе и порознь», «Люби ближнего своего», «Предки»: на их страницах не раз мелькают главные герои этого романа.
В дневниках Вирджинии Вулф отражены не только события «внешнего мира», но и жизнь души писательницы, смыслом и сутью которой было творчество. В них особенно много записей о «Миссис Дэллоуэй» (1925): «Я принялась за эту книгу, надеясь, что смогу выразить в ней свое отношение к творчеству… Надо писать из самых глубин чувства — так учит Достоевский. А я? Может быть, я, так любящая слова, лишь играю ими? Нет, не думаю. В этой книге у меня слишком много задач — хочу описать жизнь и смерть, здоровье и безумие, хочу критически изобразить существующую социальную систему, показать ее в действии… И все же пишу ли я из глубины своих чувств?.. Смогу ли передать реальность? Думаю о писателях восемнадцатого века. Они были открытыми, а не застегнутыми, как мы теперь».
О чем роман? Светская дама, Кларисса Дэллоуэй, весь день проводит в хлопотах о предстоящем вечером приеме. Ее муж, Ричард Дэллоуэй, член парламента, завтракает с влиятельной леди Брутн и обсуждает важные политические новости. Их дочь, Элизабет, пьет чай в кафе с очень несимпатичной учительницей истории, давно уже ставшей ее подругой, мисс Килман. В Лондон после долгого отсутствия возвращается из Индии Питер Уолш, когда-то влюбленный в Клариссу. Несчастный душевнобольной Септимус Смит выбрасывается из окна. Кларисса дает прием — нескончаемый поток приветствий, поцелуи, сплетни, новости.
Хотя внешне канва сюжетно-фабульного повествования соблюдена, на самом деле роману не хватает именно традиционной событийности. Собственно событий, как их понимала поэтика добротного классического романа, здесь нет вообще.
Какие же это события — прогулки по Лондону, ленчи, чаепития, приемы?
Повествование (если это слово передает то, что происходит в романе) существует на двух уровнях. Первый, хотя и не отчетливо событийный, — внешний, материальный. Покупают цветы, зашивают платье, гуляют по парку, делают шляпки, принимают больных, обсуждают политику, ждут гостей, выбрасываются из окна. Здесь в обилии красок, запахов, ощущений возникает Лондон, увиденный с удивительной топографической точностью в разное время дня, при разном освещении. Здесь дом замирает в утренней тишине, готовясь к вечернему шквалу звуков. Здесь неумолимо бьют часы Биг-Бена, отмеряя время.
Мы и в самом деле проживаем с героями долгий июньский день 1923 года — но не только в реальном времени. Мы не только свидетели поступков героев, мы в первую очередь «соглядатаи», проникшие «в святая святых» — их душу, память, их сны. Только кажется, что в этом романе много говорят. По большей части молчат, а все настоящие беседы, диалоги, монологи, споры происходят за завесой Молчания — в памяти, воображении. Память капризна, она не подчиняется законам логики, память часто бунтует против порядка, хронологии. И хотя удары Биг-Бена постоянно напоминают нам, что время движется, не астрономическое время властвует в этой книге, но время внутреннее, ассоциативное. К «рамочному» рассказу (Кларисса зашла в цветочный магазин, Реция пошла прогуляться по парку, Питер Уолш, пригревшись на солнце, задремал на скамейке, Ричард Дэллоуэй, купив букет роз Клариссе, возвращается домой) примешиваются вроде бы совершенно посторонние события, происходившие в другом месте — в Бортоне, имении, где прошли детство и юность Клариссы, в Милане, где безмятежно текло девичество Репин, в Индии, где Питер Уолш оставил любимую женщину. Но именно эти второстепенные, не имеющие формального отношения к сюжету события и служат почвой для внутренних движений, совершающихся в сознании.
В реальной жизни одно событие от другого отделяет в романе лишь несколько минут. Вот Кларисса сняла шляпу, положила ее на кровать, прислушалась к какому-то звуку в доме, и вдруг — мгновенно — из-за какой-то мелочи: то ли запаха, то ли звука — открылись шлюзы памяти, произошло сопряжение двух реальностей — внешней и внутренней. Вспомнилось, увиделось детство — но оно не промелькнуло быстрым, теплым образом в сознании, оно ожило здесь, посреди Лондона, в комнате уже немолодой женщины, зацвело красками, огласилось звуками, зазвенело голосами. Такое сопряжение реальности с памятью, мгновений с годами создает в романе особое внутреннее напряжение; проскакивает сильнейший психологический разряд, вспышка которого высвечивает характер.
Это высвечивание особенно важно, потому что в романе нет и не может быть рентгеновского просвечивания. Наше знание о Клариссе, о Питере, леди Брутн, Элизабет, Септимусе складывается не из единственного и непоколебимого знания автора, но из суммы знаний других героев. На Клариссу направлено множество взглядов: Питера, мисс Килман, Ричарда, Элизабет, леди Брутн, Салли, гостей на приеме. Вирджиния Вулф отказывается быть всезнающим творцом своей художественной вселенной, но предстает перед нами сомневающейся, колеблющейся, вопрошающей. Так и кажется, что правда о героях известна ей не более, чем нам, ее читателям.
В самом деле, что можно знать о Клариссе, если видеть ее только в реальном времени, — праздная, богатая женщина, благополучная, не очень здоровая, не злая…
Мгновенно, в воспоминаниях перенесясь в Бортон, мы попадаем в другую жизнь — в «утраченное время». Откуда-то из глубин памяти выплывают образы: тетка, гувернантка, любимая подруга Салли Сетон. Одни контрастны (Салли), другие намечены пунктиром. С некоторыми из этих «пришельцев» мы так и не встретимся в реальном времени романа, а некоторые (Салли) возникнут лишь на последних страницах, и мы, уже столько о них знающие, будем иметь возможность сопоставить их нынешние черты с «прежними».
В Бортоне все еще полнилось ожиданиями, надеждами, предвкушением будущего. Когда-то Кларисса умела мечтать, увлекалась под влиянием Салли утопическими идеями Уильяма Морриса (теперь же читает только мемуары); ее душа знавала борьбу: Питер Уолш или Ричард Дэллоуэй, благополучие, покой — или бесконечное горение, сгорание, муки любви, самопожертвование.
Сопоставив теперешнюю Клариссу с бортоновской, мы вдруг особенно ясно видим всю несостоятельность ее как личности. Не состоялась в любви — потому таким лиризмом окрашены ее воспоминания о Питере Уолше. Не состоялась как влиятельная светская дама — леди Брутн даже не считает нужным позвать ее на ленч, где будут решаться важные вопросы. Не состоялась как мать — Элизабет относится к ней (во всяком случае пока, в период своего юношеского бунтарства) снисходительно-иронически, не приемлет ее праздного, никому не нужного образа жизни. При всем благополучии Клариссы в ней ощущается некоторое беспокойство, неуверенность — отчуждение уже стиснуло железным, холодным кольцом ее душу. Она одинока, затеряна в мире. Внутренне надломленная, Кларисса потому и придает такое внимание мелочам — цветам, платью, хрусталю, старой подушке на диване, потому так оживает, оказавшись в Бортоне, — в своих воспоминаниях.
Но именно из этих мелочей, пустяков — часто очень важных для понимания характера — и складывается картина мира, которую рисует Вирджиния Вулф. Психолог, мастер тончайшей иронии, наивернейшей летали, писательница, которой была подвластна полифония взглядов, оценок, чувств, Вирджиния Вулф неуловимым приемом может создать ощущение единства мира — герои наблюдают за проезжающим по городу авто или летящим над городом самолетом, и судьбы людей, друг с другом не связанных, вдруг становятся единым целым. В ее психологической прозе, в четких, выверенных до мелочей деталях возникает образ времени — образ Англии, пережившей Первую мировую войну, колониальной державы, постоянно заботящейся о сохранении своей власти.
Литературоведческая традиция не занесла Вирджинию Вулф в число авторов, нарисовавших в своих произведениях драматический портрет «потерянного поколения». Видимо, современникам, как, впрочем, и тем, кто сразу же шел за ними, и в голову не приходило, что английская леди может взяться за такую тему. Однако время все расставило по местам. Образ Септимуса Смита по трагизму мировосприятия близок образу Джорджа Уинтерборна из «Смерти героя» Ричарда Олдингтона. Юноша, «похожий на Китса», полный высоких мыслей о жизни и искусстве, читавший ночи напролет Шекспира, Дарвина, Бернарда Шоу, Септимус Смит одним из первых записался добровольцем и отправился «отстаивать Англию, сводимую почти безраздельно к Шекспиру». Он отличился, получил повышение, пережил — как ему показалось, легко — смерть друга и выбрался вполне благополучно из «этого кошмара». Но вскоре понял, что радостное ощущение жизни исчезло, мир стал бессмысленным, безумие захлестнуло этого только вступившего в жизнь тридцатилетнего мужчину, как оно поймало в свой капкан сотни других Смитов. Безумие Септимуса — метафора трагедии «потерянного поколения»: они больны, они гибнут, потому что мир, видевшийся им разумным, так безобразно, так хладнокровно растоптал их идеалы.
В соответствии с законами своей поэтики Вирджиния Вулф не обличает впрямую тех, кто виновен в трагедии этих юношей, «похожих на Китса», выдержавших ужас окопной войны, но не перенесших крушения веры. Но нет-нет да и зазвенит в ее прозе сарказмом фраза, жалящая всех этих «убийц», всех этих жалких снобов: Хью Уитбреда, леди Брутн, нуворишей Брэдшоу — носителей «шаблонно-гражданственного, великобританского, правительственного и заурядного духа».
По всему роману лейтмотивом проходит и тема английской колониальной политики: возникает — и не раз — в «партии» Питера Уолша, Ричарда Дэллоуэя, леди Брутн. Для нас многие детали «проскакивают», но современники Вирджинии Вулф мгновенно понимали намек, а вместе с ним и тонкую иронию писательницы. Нам надо листать энциклопедии, сверяться со справочниками, чтобы понять, какой вечер в 80-e годы и какую телеграмму имеет в виду Вирджиния Вулф, когда рассказывает о «великом» полководце, отце леди Брутн. Но для людей 20-х годов все было на памяти, на слуху, сразу же вспоминался «победоносный», а если начистоту, кровавый захват английскими войсками Бирмы.
Еще в 20-е годы, когда до крушения империи было далеко, Вирджиния Вулф почувствовала социальную и психологическую опасность «миссии» англичан в Индии и других колониях. Питер Уолш, хозяин, посланец Британской империи, в которой, как известно, никогда не заходит солнце, чувствует себя крайне неуютно и в Индии, где у него, несмотря на долгие годы службы, нет корней, и в метрополии, где корни обрублены из-за долгого пребывания на чужбине. Но вот он наконец женится, привезет сюда жену с двумя маленькими детьми и будет, как мальчишка, искать работу, положит гордость в карман и пойдет на поклон ко всем этим Дэллоуэям и Хью Уитбредам. Он всюду «лишний человек». История отрезала его от времени. Недаром образом-«спутником» Питера Уолша становится в романе нож.
«Миссис Дэллоуэй» нередко называют джойсовским романом. Верно это, однако, лишь отчасти. У автора «Улисса» Вирджиния Вулф действительно училась тому, как искусство может воплотить «момент бытия», как слово обретает способность передать течение нескольких жизней. Лондон в «Миссис Дэллоуэй» то же самое, что Дублин в «Улиссе»; город цементирует фрагментарное бытие героев. В «Улиссе» по Дублину едет кортеж вице-короля, в «Миссис Дэллоуэй» — авто с коронованной особой, за их передвижениями следят многие, если не все, герои романа.
И все же, отдавая должное силе таланта Джойса, его художественной дерзости, ломающей традицию и создающей новую, Вирджиния Вулф спорила в «Миссис Дэллоуэй» с автором «Улисса». Она не приняла чрезмерности Джойса — будь то поэтика пусть виртуозного, но беспредельного формо- и словотворчества, или потока сознания, для которого не было ничего тайного и сокровенного. Физиологизм Джойса она считала попросту проявлением дурного тона.
Здесь не место сопоставлять таланты: Джойс, конечно, масштабнее как художник, сложнее. Но поэзии в романе Вирджинии Вулф гораздо больше, чем у Джойса. Она, создавшая образ Септимуса Смита, прекрасно отдавала себе отчет, что ее современники уже заражены вирусом опасной болезни, именуемой «разобщенность», что им знакомы приступы отчаяния, тоски, беспокойства, что они испытали ощущение затерянности в мире. И в то же время в ее романе есть философское утверждение гармонии жизни, необходимости глубинных связей между людьми. И дело, конечно, не в авто и не в самолете, которые объединяют эти жизни. Авто и самолет — прием, не больше. Дело в позиции автора, который хочет убедить нас, что все в мире взаимосвязано, все не случайно. В этой книге изображена и радость жизни, радость, философски побеждающая даже смерть, — в самом деле, самоубийство Септимуса Смита не приводит к распаду гармонии мира. Напротив, почувствовав эту смерть, ощутив и тем самым познав ее, Кларисса узнает и нечто очень важное о себе, о жизни, которая неостановима. Эту мысль Вирджиния Вулф постоянно подчеркивает: недаром у романа нет конца. Вместо конца — начало: «И он увидел ее».
После «Миссис Дэллоуэй» роман «На маяк» (1927), наверное, самое знаменитое произведение Вирджинии Вулф. Во многом оно автобиографично: миссис и мистер Рэмзи «списаны» с родителей Вирджинии Вулф; в мистере Рэмзи, интеллектуале, профессоре нескольких университетов, семейном деспоте, фигуре нервической, раздражительной, современники легко узнавали Лесли Стивена, в миссис Рэмзи — мать писательницы, Джулию Дакворт. Да и весь уклад семьи Рэмзи с бесчисленными друзьями и знакомыми, гостящими в доме, многолюдными и шумными трапезами, изысканными литературными беседами напоминал атмосферу, царившую в доме Вирджинии Стивен.
Как и «Миссис Дэллоуэй», «На маяк» — книга необычная, это даже и не роман в традиционном смысле слова; в нем ничтожно мало внешнего действия, нет нормального, так сказать, полноценного героя. Скорее всего, Вирджиния Вулф изображает идеи, настроение и особенно духовный опыт, который, хотя и основан на быстро проходящих, скоротечных моментах бытия, мировоззренчески очень важен.
В мире Вирджинии Вулф ни одна вещь, ни один характер не пишутся как данность. Такая художественная позиция отчасти проявляется и в заглавии — «На маяк». Миссис Рэмзи, ее дети, гости собираются посетить маяк, находящийся на острове неподалеку от их дома. Поездка по разным причинам все время откладывается и осуществляется лишь через много лет, в самом конце книги, когда миссис Рэмзи, как и некоторых из ее детей, уже нет в живых. Однако маяк лишь формально сюжетный, композиционный стержень повествования. В первую очередь маяк и его неравномерные по силе и яркости лучи, которые он направляет в мир, для Вирджинии Вулф есть символ сути и смысла познания. Свет озаряет то один, то другой предмет, вдруг совсем по-иному освещает давно знакомую фигуру, привычное с детства лицо. Из-за этого света, существующего в мирю независимо от людей, все мгновенно может сдвинуться с привычных мест, изменить очертания, обрести новое значение.
Среди созданных Вирджинией Вулф книг этот роман занимает особое место еще и потому, что в нем в наиболее концентрированной форме поставлены вопросы, которые не потеряли своей злободневности и сегодня. Проблемы женской судьбы, осмысленные в социальном и философском контексте, поиски женщиной своего места в семье, обществе, проблемы брака, воспитания детей, взаимоотношений с мужчиной, вечного единоборства и желанного, но такого трудного союза с ним, жажда самовыражения и препятствия на этом пути — об этом Вирджиния Вулф писала в своих романах, повестях, рассказах. Не случайно частыми героинями ее многочисленных статей и эссе становились Джейн Остин, которая, вопреки представлениям эпохи, утверждавшим, что женщине негоже писать, творила, пристроившись на краешке обеденного стола, и сестры Бронте, которые писали вопреки бедности, болезням, смертям близких, одиночеству. На примере этих героических писательских судеб Вирджиния Вулф рассказала, какой он особый, творческий, мир женщины и какова плата за внутреннюю независимость и возможность творить.
Формальными героями, так сказать, обозначенными действующими лицами романа, надо считать миссис Рэмзи, пятидесятилетнюю красивую, обаятельную женщину, мать восьмерых детей, хозяйку дома, счастливую жену; ее мужа — интеллектуала, литератора, человека академических интересов — мистера Рэмзи, их детей, многочисленных гостей, среди которых особенно интересна художница Лили Бриско.
Но все же настоящие герои этого повествования, которые и придают книге черты литературы мифологической, — дом, время, память, море, маяк.
Вирджиния Вулф понимает значение дома широко. Дом, который она, отдавая дань воспоминаниям детства и юности, любовно воспроизводит на страницах книги, стоит одиноко на берегу моря, вдали от шума большого города, его сутолоки, суеты. Ничто не отвлекает ни писательницу, ни нас, когда мы начинаем вглядываться в его жизнь, когда читаем и перечитываем страницы его истории. Дом со всех сторон продувают ветры, сыреют обои на стенах, плесневеют книги на полках, дом постепенно приходит в негодность — у мистера Рэмзи нет денег на его поддержание. Но не это главное. Главное, что у этого людского обиталища есть душа, рожденная из частиц душ и частиц бытия людей, населяющих его, из их страстей, духовных борений, мгновений покоя, детского смеха, ночных рыданий, шума волн, застольного веселья, вечерней тихой беседы супругов, минут их пронзительного счастья и тьмы их одиночества.
Вглядимся пристальнее в эту душу. В первой части книги, которая называется «Окно», взаимосуществуют, сталкиваются, противоборствуют два мира — женский и мужской. Женский олицетворяет миссис Рэмзи, покойно читающая у окна сказку маленькому Джеймсу. Этот мир — средоточие тепла, уюта, понимания, гармонии, симпатии и сострадания. Иной мир мужской — владение мистера Рэмзи, который весь в движении — нервно меряет шагами террасу, ищет, к чему бы придраться, ранит резкими словами сына, проводит время в ученых разговорах с гостями. Это холодный мир абстракций, логических построений, нетерпимости и самоутверждения. Во второй части, озаглавленной «Время проходит», мы становимся свидетелями не только физического угасания дома, но и его духовного оскудения: умерла миссис Рэмзи, гости больше не приезжают сюда на лето. Душа дома воскресает в третьей части книги, а вместе с ожившей душой дома начинают свое вечное кружение два начала — женское и мужское. Мистер Рэмзи, одинокий, неприкаянный после смерти жены, решает выполнить ее заветное желание — поехать на маяк. И по мере того, как цель приближается, личность миссис Рэмзи вновь обретает свою власть над окружающими. Под влиянием воспоминаний о миссис Рэмзи Лили Бриско заканчивает полотно, которое раньше ей не давалось.
В романе постоянно идет речь о времени, хотя формальная протяженность его в книге невелика. В первой части это даже не день, но лишь вечер сентябрьского дня за несколько лет до войны. Во второй — тоже всего несколько часов, во время которых старая служанка осматривает дом и вспоминает хозяев. Самый долгий временной отрезок обозначен в последней части — около суток. Но на самом деле эти часы вбирают жизни героев, и очень важно, что между первой и последней частью проходит около десяти лет. Это уже совсем иная историческая и духовная эпоха — эпоха после Первой мировой войны. Даже не несколько фраз, а так — полуфраз сказано Вирджинией Вулф об этой первой вселенской бойне, ничего как бы и не написано о людях «потерянного поколения»: они, хоть и остались живы, но вышли из окопов людьми другой исторической эпохи, в которой уже не было места для прежних прекраснодушных фраз о чести, морали, долге. Опустошенность, кровоточащая рана сомнения, разлад с миром и с собой — следствия и приметы любой социальной ломки, которая касается не только тех, кто стреляет и убивает, но и тех, кто формируется в таких исторических катаклизмах. Треснутые души Кэм и Джеймса, неприкаянность, вырванность из привычных связей правильной упорядоченной жизни Поля, такого блестящего и очаровательного в начале книги, — человеческий образ исторического катаклизма на все времена, интересный и духовно важный всем, кто становится современником подобных социальных сдвигов.
Прекрасен женский мир, который олицетворяет в книге миссис Рэмзи. Он столь замечателен, что с ним решительно невозможно проститься. Он остается с каждым навсегда, и никакие невзгоды, трагедии не уничтожат его. Ради этого мира, ради стихии дома время в первой части книги как бы остановилось, застыло, словно море в ясную погоду, когда оно особенно похоже на вечность.
Одна половина существа Вирджинии Вулф, та, которая принадлежала английской культуре рубежа веков и даже Викторианской эпохе, высоко ценила порядок, размеренность, надежность, терпеть не могла беспорядка и разрухи, в чем бы они ни проявлялись. Другая же половина ее «я» была целиком в XX веке с его революциями. Первой мировой войной, учениями Фрейда и Юнга. И эта половина, отчасти даже бессознательно, восставала против упорядоченности.
Из этой психологической, но и исторической антиномии сознания Вирджинии Вулф родились две ее героини — миссис Рэмзи и художница Лили Бриско. Вирджиния Вулф, столь поэтично изобразившая на страницах своей книги дом, тем не менее, прекрасно отдавала себе отчет: дни дома сочтены, на смену любящей, душевно щедрой, жертвенной миссис Рэмзи идет угловатая эмансипированная Лили Бриско, как, впрочем, и дочь самой — миссис Рэмзи, Кэм. В Кэм куда меньше той спасительной женской силы, которая и была главным секретом обаяния ее матери. Иная, центробежная сила руководит поступками этих женщин — прочь от дома, в большой мир. Их идеал уже не семья, не дети. Лили Бриско, несмотря на все усилия миссис Рэмзи, так замуж и не выходит, впрочем, она не слишком сокрушается по этому поводу, скорее наоборот, видит в своей независимости от мужчин явные преимущества. Смерть миссис Рэмзи в середине книги и последовавшее за ней увядание дома символичны. Но рождение как нового типа женщины, так и новых типов отношений шло рука об руку с потерями, которые интуитивно ощущала Вирджиния Вулф, что она и дала нам почувствовать в своей книге. Мы же, люди конца XX — начала XXI века, стали уже непосредственными их свидетелями.
Книга Вирджинии Вулф — предугадание наших сегодняшних женских судеб, а потому отчасти и предостережение. Мы не найдем в ней ответа на вопрос «Что делать?». Да Вирджиния Вулф в начале XX века и не представляла себе размаха феминистского движения и его возможных потерь. Но писательница была наделена даром слышать внутренние голоса своих героинь, а потому вслушаемся в ее заветы. Может быть, они помогут нам, растерявшимся в нашем суетливом веке, строить пока хотя бы наши внутренние дома. А там, глядишь, начнет расти и здание общего дома. Вирджиния Вулф говорила, что женщине надо быть мужественной, помнить, что брак — это каждодневный духовный подвиг, что отношения супругов очень хрупки, а потому надо учиться взаимной терпимости. И еще; хотя XX век — век интеллекта, Вирджиния Вулф предостерегала от восприятия интеллекта как панацеи. Чаще гораздо более действенной может стать красота. Недаром последнее слово в книге принадлежит художнице Лили Бриско. Впрочем, и это не совсем так. Последнее слово в этом романе принадлежит его главному герою — Дому.
Ведь только когда Лили Бриско обрела в своих воспоминаниях ушедшую из жизни миссис Рэмзи и все то, что она собой олицетворяла, она смогла завершить свое полотно.
«В своих критических работах В. Вулф романист больше, чем в романах», — писал Э. М. Форстер. Парадокс, но, как во многих парадоксах, в нем есть зерно истины. Безличная в романах, Вирджиния Вулф озарила критические работы обаянием своей личности — в них больше от нее самой, полнее ощущается ее индивидуальность. Как в старом, добротном классическом романе, она запросто ведет беседу с читателем: «Здесь я ближе к своему истинному «я», здесь я почти знаю, как избежать помпезности, риторики, как получать удовольствие от милых пустяков. Здесь мне вольнее дышится».
Литературно-критическая деятельность не эпизод в творческой биографии писательницы. Вирджиния Вулф занималась критикой не раз от разу, но на протяжении всей своей жизни. Ее первая рецензия появилась в 1904 году на страницах газеты «Гардиан», несколько позже она стала постоянным обозревателем литературного приложения к лондонской «Таймс» — «Таймс литерери саплмент», и связь ее с этим крупнейшим изданием продолжалась более тридцати лет. Из-под ее пера вышли сотни рецензий, обзоров, статей, эссе. Одни были кратки, другие развернуты и обстоятельны, написаны на случай, или, напротив, как воплощение давно увлекшей ее мысли. Но какими бы они ни были, их отличают высокий профессионализм, превосходное знание предмета. На сегодняшний день далеко не все критическое наследие Вирджинии Вулф собрано, но то, что известно, составляет пять солидных томов.
В своих дневниках и эссе Вирджиния Вулф — просветитель, стремящийся открыть читателю-современнику непреходящую ценность и живучесть английской и мировой классики. В ярких, запоминающихся деталях, с юмором она рисует творческие портреты писателей: Донна, Остен, Конрада, Дефо, Монтеня, Аддисона, Хэзлита; на примере их книг, их художественных судеб она выделяет проблемы, имеющие непреходящее эстетическое и нравственное значение, показывает, что обеспечило этим писателям второе рождение в современной литературной обстановке. Жизнь художественному произведению, с точки зрения Вирджинии Вулф, дает не тот или другой метод, но способность автора быть верным избранному углу зрения — лишь тогда у него есть надежда убедить читателей в истинности опыта, воскрешенного на страницах его книг. «Правда видения» — понятие, к которому очень часто прибегает в своих эссе писательница, вот что делает для нее в равной степени интересными и значительными произведения Пруста, Тургенева, Конрада, Диккенса, Кэрролла, Дефо, Остин, сестер Бронте, Стерна. Этой правдой обладал Дефо, когда погружал читателя в мир тончайших наблюдений над характерами и нравами, этой правдой в совершенстве владела и Эмили Бронте, когда увлекала его рассказом о трагической любви своих героев; ею владел и Кэрролл, ожививший для читателя мир детства и сна. Причудливый мир Лоренса Стерна столь же интересен Вирджинии Вулф, как безупречность стиля и нравственного чувства у Джейн Остин.
В ставшем уже почти хрестоматийным эссе «Мистер Беннет и миссис Браун», где новое искусство — и это очень важно для понимания всей творческой позиции Вирджинии Вулф — противопоставляется отнюдь не всему классическому искусству, но лишь литературе эдвардианской.
«Великие эдвардианцы» — А. Беннет, Дж. Голсуорси, Г. Уэллс, — не без иронии заметила Вирджиния Вулф, «кроили свои тридцать две главы по модели, которая все менее и менее отражает наше видение мира». Они уверенно сообщали читателям все, что знали о героях, что те делали и зачем, что при этом думали и почему и как нам следует понимать их мысли и дела. Когда же им хотелось сообщить кое-что о субъективных представлениях своих героев, они чаще всего предуведомляли своих читателей словами: «Ему казалось, что…»
О том, какой мир должен предстать на страницах ее романов, Вирджиния Вулф написала в одном из своих программных эссе «Современная литература»; «Всмотритесь хоть на минуту в обычное сознание в обычный день. Мозг получает мириады впечатлений — обыденных, фантастических, мимолетных или врезающихся с твердостью стали. Со всех сторон наступают они, этот неудержимый ливень неисчислимых частиц, и по мере того, как они падают, как они складываются в жизнь понедельника или вторника, акценты меняются, важный момент уже не здесь, а там, так что если бы писатель был свободным человеком, а не рабом, если бы он мог руководствоваться собственным чувством, а не условностями, то не было бы ни сюжета, ни комедии, ни трагедии, ни любовной интриги, ни развязки в традиционном стиле и, возможно, ни единой пуговицы, пришитой по правилам портным с Бонд-стрит». И дальше: «Давайте описывать мельчайшие частицы, как они западают в сознание, в том порядке, в каком они западают, давайте пытаться разобрать узор, которым все увиденное и случившееся запечатлелось в сознании, каким бы разорванным и бессвязным он нам ни казался. Давайте не будем брать на веру, что жизнь проявляется полнее в том, что принято считать большим, чем в том, что принято считать малым».
Вирджиния Вулф писала, что истинный художник должен «любой ценой обнаружить мерцание того сокровенного пламени, которое посылает свои вспышки сквозь мозг, и чтобы передать это, он отбрасывает с величайшей смелостью все, что представляется ему побочным, — будь то достоверность, связность или любой другой из тех указателей, которые поколениями направляли воображение читателя, когда ему нужно было представить то, чего он не может ни потрогать, ни увидеть…» Разумеется, никто из эдвардианцев не мог одобрить произведений, отданных на откуп неустойчивой игре воображения. В конечном счете речь шла о разном подходе к реальности мира, которую изображают писатели: одни уверенно осваивают ее, другие же ни в чем не уверены, более того, возводят эту неуверенность в философский и литературный закон.
Обосновывая свою правоту, Вирджиния Вулф обращалась к русской литературе. Русская тема — особая проблема в творчестве и в жизни Вирджинии Вулф. Русских писателей она воспринимала и как революционеров формы: они с легкостью отбрасывают повествовательные условности ради того, чтобы в нервных, сбивчивых, путаных фразах описать главное, они никогда не выпускают из поля своего зрения жизнь души. Она изучала русский язык, и, судя по ее дневниковым записям, это было не мимолетное увлечение, но осознанное намерение приблизиться к культуре, которую для нее олицетворяли великие имена Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова. Она не раз писала о них, неплохо знала и Аксакова, и Горького, в своем издательстве «Хогарт Пресс» печатала русских классиков, а ее статья «Русская точка зрения» — не менее программная, чем «Мистер Беннет и миссис Браун». Русские, подчеркивала она, обладают тем, чем еще только предстоит овладеть англичанам с «их безупречным чувством юмора и комического», — умением писать о том, что имеет непреходящее значение, но при этом оставаться в гуще событий, самых жгучих проблем своего времени. Недаром героини ее рассказов (Саша в рассказе «Итог») специально названы на русский манер, другие (Розалинда — «Лапин и Лапина») внешним, а тем более внутренним обликом напоминают простых, но мудрых сердцем героинь русских писателей.
Особенно почитала Вирджиния Вулф Толстого. «Кажется, ничто не ускользает от него. Ничто не промелькнет незамеченным. Он замечает красненькое или голубенькое детское платьице и то, как лошадь помахивает хвостом, слышит звук кашля и видит движение человека, пытающегося засунуть руки в зашитые карманы. И то, что его безошибочный глаз наблюдает в манере кашлять или в движениях рук, его безошибочный ум соотносит с чем-то потаенным в характере, так что мы знаем его людей не только по тому, как они любят, не только по тому, какие у них взгляды на политику и бессмертие души, но и по тому, как они чихают и давятся от кашля…»
И все же Толстой пугал Вирджинию Вулф своей этической определенностью, а минутами она испытывала страх и даже ужас перед этим всеобъемлющим, пронзительным взглядом, охватывающим, вбирающим в себя всю жизнь.
Русские преподали Вирджинии Вулф и еще один важный урок — урок демократизма. Потомственная аристократка, в запале спора называвшая себя «снобом», она умела с глубоким, подлинным уважением писать о простых, обычных людях. Она не унижала их своим снисходительным сочувствием, в каждом видела личность, достойную внимания писателя.
* * *
В 1941 году Вирджинии Вулф не стало. Как шекспировская Офелия, она бросилась в реку, да еще, заказав себе путь назад, положила в карманы платья камни. Шла война, в дом Вулфов в Лондоне попала бомба, сгорела библиотека, погибли книги, символ разума и цивилизации, ее друзья. Она кончала роман «Между актами», силы были на пределе, и, как всегда, ей казалось, что все получалось не так, читатели не поймут ее замысла. Она еще до конца не оправилась от потрясения; в Испании погиб ее любимый племянник, молодой поэт Джулиан Белл, боец Интернациональной бригады. И вообще мир, который собирался подмять и уничтожить Гитлер, в котором не было места для нее и для ее близких, страшил ее.
Все, кто знал Вирджинию Вулф, не могли примириться с ее уходом. Смерть так не вязалась с обликом этой женщины, ненасытно любившей жизнь.
Ей было интересно все: литературные и бытовые новости. Остроумная, оживленная, она была душой и украшением любой компании. Для Джулиана Белла не было в детстве лучшего подарка, чем приезд тетки: «Приедет Вирджиния — будет весело, посмеемся».
И у нас, ее сегодняшних читателей, есть возможность посмеяться над шутками Вирджинии Вулф. Автор серьезнейших романов и эссе, она написала биографию собаки, спаниеля Флаша, который был верным другом английской поэтессы Элизабет Браунинг. Работая в 1933 году над биографией видного критика, «блумсберийца» и ее друга Роджера Фрая, Вирджиния Вулф почувствовала — необходимо сделать передышку. Труден был и материал — эстетика Фрая, к тому же ей был слишком близок и дорог сам Фрай, чтобы писать легко и непринужденно. Вот она и решила написать биографию полегче.
Нет, мы не оговорились, «Флаш» — биография собаки. Или если взглянуть на эту повесть с сугубо литературной точки зрения, то это «роман воспитания», только герой — умный, милый, добрый спаниель. Но здесь все «по-настоящему», совсем как в «Дэвиде Копперфилде». История семьи Флаша и его древнего рода (простите — породы) рассказ о детстве и отрочестве (первая влюбленность, муки ревности), о годах странствий (Флаш вместе с хозяйкой переезжает в Италию); о зрелости и приходящей с ней мудрости, о смерти. Не обошлось и без детектива — Флаша похитили. Есть здесь даже письма, пишет их, правда, не Флаш, а Элизабет Браунинг. Из ее переписки (ну чем не викторианский роман!) мы черпаем новые подробности о характере, личности Флаша и в то же время узнаем немало и о чете Браунингов. И, как в добропорядочном научном исследовании, здесь есть комментарии.
Может быть, именно потому, что «Флаш» — пародия, мы видим особенно ясно сам принцип действия механизмов, который можно назвать «литературная критика» Вирджинии Вулф. Что бы она ни писала, она всегда создает классическое, легкое английское эссе, полное иронии, юмора, тонких наблюдений над миром и человеком. Читателя не покидает ощущение, что она ведет именно с ним и только с ним разговор запросто, и потому мы — все внимание, наше сознание пробуждается, мы уже готовы думать над самыми серьезными проблемами, которых она словно и не касается. Секрет ее поразительного дара в том и состоит, что она умела увидеть в характере, в судьбе главное — вот почему, закрывая книгу, мы немало узнаем не только о спаниеле Флаше, но и о поэзии Браунингов и даже об английском романтизме.
Талант всегда щедр и плохо сочетается с декларациями и манифестами. У Вирджинии Вулф есть тяга к модерну, есть формальный эксперимент: ее проза поэтична, аллитерационна, ассоциативна, ее отличает некоторый герметизм. В самом деле, разве без подсказки можно, например, понять, почему в «Фазаньей охоте» со стены падает портрет короля Эдуарда? И все же ее творчество плохо укладывается в рамки «измов». Рядом с откровенно импрессионистическим «Пятном на стене» — рассказ «Наследство», произведение сюжетное, в котором легко угадывается флоберовско-мопассановская и, конечно, чеховская традиция. А в конце жизни, не удовлетворенная экспериментальной прозой романа «Между актами», она записала в дневнике: «Моя новая книга будет совсем иной».
Мы познакомились с произведениями Вирджинии Вулф через семьдесят лет после их создания. Отсрочка немалая, и она в значительной степени определяет особенности нашего сегодняшнего их восприятия. Вряд ли в начале XXI века они поразят читателя эстетической новизной, экспериментальным духом. После того как в наш литературный обиход вошла проза Фолкнера, Томаса Вулфа, Набокова, Кортасара, внутренний монолог Вирджинии Вулф, переходящий в «поток сознания», изощренная игра со временем, неканоническое обращение с традиционной поэтикой — все ее находки, поражавшие современников, кажутся теперь естественными. А ключ к ее творческой мастерской, к миру этой необычайной, талантливой, восприимчивой ко всем «звукам, тонам, запахам бытия» писательницы — в ее дневниках.
Е. Ю. Гениева
* * *
«Все же я единственная женщина в Англии, которая вольна писать, что хочет», — заметила однажды В. Вулф.
В своих дневниках, которые она вела с 1915 года — последняя запись датируется 8 марта 1941 года, через четыре дня В. Вулф ушла из жизни, — она писала обо всем, что произошло с ней, о людях, с которыми встречалась, о книгах, которые читала. И самое важное — о произведениях, над которыми работала: романах, рассказах, эссе, статьях. Листы бумаги, исписанные ее торопливым почерком, сначала скреплялись скрепкой, потом переплетались в томики. Она оставила 26 томиков дневников.
«Дневники слишком личная вещь, чтобы публиковать их целиком, — написал ее муж Леонард Вулф, подготовив в 1953 году к печати избранный том дневников. — Я внимательнейшим образом прочитал их и отобрал практически все, что имеет отношение к ее творчеству…
Замыслы Вирджинии Вулф, предметы ее внимания, ее творческий метод теперь станут понятнее и ближе читателю. Перед ним раскроется удивительная психологическая картина, благодаря которой он проникнет в ее лабораторию художника. Профессор Бернард Блэкстоун был убежден, что Вирджиния Вулф — «великий художник», что «ей удаюсь блистательно совершить то, что другие не решались сделать». Я согласен с профессором Блэкстоуном, в противном случае я бы не осмелился публиковать эти воспоминания. Она была настоящим художником, а ее произведения — подлинными произведениями искусства.
Из дневников видно, с какой мощной энергией, целеустремленностью, сосредоточенностью отдавалась она творчеству, как неутомимо трудилась она — писала, переписывалась и вновь переписывала свои книги.
Я надеюсь, что читатель не забудет, что перед ним — малая часть дневников Вирджинии Вулф. Она не всегда помечала, где она находилась в описываемый ею день, часто называла тех, с кем встречалась, уменьшительными именами, а порой ограничивалась инициалами. Я приготовил небольшой список имен, упоминаемых в дневниках».
Дневник писательницы (1918–1941)
1918
Понедельник, 4 августа
Я решила не дожидаться покупки новой тетради и записать в старой свои впечатления от Кристины Россетти и от Байрона. К тому же, у меня почти не остаюсь денег после того, как я в большом количестве накупила Леконта де Лиля. На Кристине великий знак поэтессы от рождения, и ей как будто об этом отлично известно. Но если бы я подала на Бога в суд, то вызвала бы ее как одну из главных свидетельниц. Читать ее грустно. Сначала она отказалась от любви, которая значила для нее не меньше самой жизни, потом от поэзии ради, как ей казалось, требований веры. У нее были два достойных поклонника. У первого, несомненно, заметны странности. Но у него была совесть. Тем не менее, Кристина могла выйти замуж только за такого Кристиана, каким хотела его видеть. Он же выдерживал это не дольше нескольких месяцев зараз. В конце концов римский католицизм взял в нем верх, и она потеряла его. Хуже было с мистером Коллинзом — по-настоящему милым ученым — человеком не от мира сего — преданным почитателем Кристины, которого она никак не могла наставить на путь истинный. Поэтому ей приходилось самой являться в его дом на нежные свидания, что она и делала до конца жизни. Свою поэзию она выхолостила. Мало того, что принялась перелагать стихами псалмы, но и оригинальные стихотворения стала сочинять исключительно на христианские сюжеты. Таким образом, как мне кажется, она истощила свой великолепный дар, которому требовалось всего лишь ее разрешение, чтобы принять куда более замечательную форму, чем, скажем, дар миссис Браунинг. Писала она, как правило, очень легко: с детской непринужденностью, что свойственно, как принято считать, истинному, но неразвитому таланту. У нее был природный певческий дар. Но она еще умела думать. И фантазировать. Нетрудно представить ее грубой и остроумной. И вот в награду за все свои жертвы она умирает в страхе, не очень веря в спасение. Признаюсь, однако, что, листая ее стихи, я с неизбежностью возвращалась к тем, которые знала прежде.
Среда, 7 августа[1]
В ашемский дневник я до последней мелочи изливаю все, что попадает в поле моего зрения; цветы, облака, пчелы, цены на яйца; но ведь кроме этого писать больше не о чем. Трагедия — раздавленная гусеница, счастье — вечернее возвращение из Льюиса слуг, нагруженных военными книжками для Л. и «English Review» для меня, «Лигой наций» Брейлефорда и «Блаженством» Мэнсфилд. «Блаженство» я отбросила с воплем: «С ней покончено!» В самом деле, мне непонятно, как можно оставаться честной женщиной и честной писательницей и творить такое. Приходится, к сожалению, принять тот факт, что ее разум — очень тонкий слой почвы, всего в дюйм-два, под которым сплошной бесплодный камень. «Блаженство» — довольно длинная вещь, и это давало ей шанс копнуть глубже. А она удовлетворилась внешним изяществом; вся ее концепция — дешевка; к тому же, здесь ни на грош проницательности (хоть какая-то должна же быть) небанально мыслящего человека. И пишет она плохо. В результате, повторяю, у меня сложилось впечатление о ней как о черством и холодном человеке. Потом прочитаю еще раз. но не думаю, что изменю свое мнение. Она будет продолжать в том же духе к полному своему и Марри удовольствию. Хорошо, что они не приехали. Или нелепо толковать рассказ по характеру?
Так или иначе, я с удовольствием вернулась к моему Байрону. У него, по крайней мере, не отнимешь мужской привлекательности. В самом деле, поразительно, до чего мне легко представить его влияние на женщин — особенно на глупеньких и не очень образованных женщин, которые не умели подняться до него. К тому же почти все хотели его перевоспитать. С самого младенчества у меня была привычка (как говорил Гертлер, словно доказывая особую примечательность своей персоны) досконально изучать биографию и дополнять возникающий в моем воображении образ любыми подробностями, которые мне удавалось отыскать. Но в разгар страстной любви из самого неподходящего издания вдруг выскакивало имя Каупера, или Байрона, или кого-то другого, и мое творение становилось далеким и ничем не отличающимся от прочих мертвецов. Меня впечатляет поразительная ничтожность поэзии Б. — той поэзии, которую Мур цитирует с почти несказанным восхищением. Почему принято думать, будто его наиболее вдохновенные стихотворения в «Альбоме»? Читаются они не лучше, чем стихи Л.Э.Л. или Эллы Уилер Уилкокс. Из-за них он не сделал того, что, как сам осознавал, мог бы сделать, то есть написать сатиру. Сатиры (пародии на Горация) и «Чайльд Гарольда» он привез из путешествия на Восток. У него не было сомнений в том, что «Чайльд Гарольд» — лучшая из когда-либо написанных поэм. Тем не менее, в юности ему не хватало веры в свою поэзию, что в случае такого самоуверенного и категоричного человека доказывает отсутствие таланта. Вордсворты и Китсы безоговорочно верят в себя. Кстати, Байрон немного напоминает мне Руперта Брука, хотя для Руперта это не комплимент. Как бы то ни было, в Байроне было что-то необыкновенное, и это доказывают его письма. Во многом он был замечательной личностью, но так как никто не высмеивал его жеманство, то со временем он стал больше похож на Хораса Коула, чем хотелось бы. Посмеяться над ним могла бы только женщина, но женщины его боготворили. Я еще не добралась до леди Байрон, но, полагаю, она тоже осуждала его вместо того, чтобы над ним смеяться. И он стал байронической личностью.
Пятница, 8 августа
В отсутствие человеческого интереса к себе, благодаря которому обретаешь покой и радость жизни, можно заниматься и Байроном. Заметив свою готовность, несмотря на преграду в сто лет, влюбиться в него, боюсь, мое суждение о «Дон Жуане» немного пристрастно. Полагаю, это самая читаемая поэма такого объема из всех, когда-либо написанных: отчасти благодаря пружинистой, беспорядочной, бессистемной, несущейся вскачь форме. Такая форма — сама по себе открытие. Ее искали и прежде, но напрасно, — растягивающуюся форму, способную вместить все, что только приходит в голову. С ее помощью Байрон может описывать любое настроение, каким оно нисходит на него, может озвучивать любые занимающие его мысли. Так как он не стремится к поэтичности, то нет и следа его злого гения — фальшивой романтичности и образности. Когда он серьезен — он искренен и может писать о чем угодно. И он пишет шестнадцать канто, ни разу не почувствовав нужды в шпорах. Очевидно, у него был быстрый находчивый ум, который мой отец, сэр Лесли, считал исключительно мужской привилегией. Я утверждаю, что такие неправильные книги гораздо интереснее правильных, благоговейно почитающих иллюзии. Все же примеру Байрона следовать нелегко; ведь вольные и легкие веши может успешно сотворить лишь искусное и зрелое перо. Байрона переполняли мысли — и это придает его стихам такую плотность, что посреди чтения я позволяю себе маленькие экскурсии по окрестностям или по комнате. А сегодня вечером я доставлю себе удовольствие и дочитаю поэму до конца — хотя, если учесть радость почти от каждой стансы, мне непонятно, почему это называют удовольствием. Впрочем, и иначе не скажешь, о какой бы книге ни шла речь, о хорошей или о плохой. Вот и Мэйнард Кейнс говорил, что всегда отделяет рукой печатающиеся в конце объявления, чтобы точно знать, сколько страниц еще осталось.
Понедельник, 19 августа
Кстати, я одолела «Электру» Софокла, которая мне плохо давалась, хотя в общем-то это не такое уж страшно трудное чтение. Каждый раз я заново восхищаюсь великолепным сюжетом. Кажется, его нельзя было не воплотить в хорошую пьесу. Не исключено, что все дело в долгой разработке традиционных сюжетов, которые придумывались, улучшались и освобождались от всего лишнего стараниями бесчисленных актеров, сочинителей и критиков, пока не становились похожими на отполированные морем стекляшки. К тому же если публика обо всем знает заранее, то на этом можно отлично сыграть и обойтись без лишних слов. Как бы то ни было, мне всегда казалось, что невозможно произнести одинаково слово за словом весь текст и придать нужный вес каждой фразе и каждому намеку, поэтому очевидная скудость слов — лишь поверхностное впечатление. Однако есть другая опасность — неправильно прочитать эмоциональный контекст. Мне всегда обидно, когда я обнаруживаю, как много упускаю в сравнении с Джеббом; разве что у меня возникает сомнение, не видит ли он слишком много, — полагаю, такое не исключено, если все время работать с плохими английскими пьесами современных авторов. Наконец, столь же сильным, сколь трудно объяснимым, остается особое очарование греческого языка. С первых же слов нельзя не ощутить огромную разницу между оригинальным текстом и переводом. Героическая женщина есть героическая женщина и в Греции, и в Англии. Это тип Эмилии Бронте. Как мать и дочь Клитемнестра и Электра должны любить друг друга, и, возможно, именно любовь, приняв неправильную форму, обернулась лютой ненавистью. Э. — тип женщины, для которой семья превыше всего; отец. У нее гораздо сильнее развито почтение к традиции, чем у ее братьев; и она ощущает себя дочерью отца, а не матери. Странно, но обычаи греков, какими бы они ни были ложными и смешными, никогда не производят впечатление мелочных и недостойных, в отличие от наших английских обычаев. Электра вела куда более замкнутый образ жизни, чем женщины середины Викторианской эпохи, однако это никак не отразилось на ней, разве что сделало ее суровой и величественной. Ей не полагалось выходить на прогулку в одиночестве; а у нас нельзя было обойтись без горничной и экипажа.
Вторник, 10 сентября
Хотя в Сассексе не я одна читаю Мильтона, все же запишу свои впечатления от «Потерянного рая», пока они не забылись. Впечатления довольно четко определяются тем, что осталось у меня в голове. Многие загадки я пропустила, не остановившись на них. Наверное, я слишком легко скользила по тексту, чтобы по-настоящему насладиться им. Однако мне понятно, и до какой-то степени я даже согласна с утверждением, что он доступен лишь человеку, обладающему высочайшей ученостью. Меня поражает явная непохожесть этой поэмы ни на одну другую. Полагаю, все дело в величественной отчужденности, в обезличенности чувств. Я никогда не читала и Каупера на диване и представляю унизительность диванного чтения для «Потерянного рая». Материя Мильтона состоит из великолепных, потрясающих, мастерских описаний ангельских тел, битв, полетов, обиталищ. Он торгует ужасом и безмерностью, убожеством и величием, но никогда — чувствами человеческого сердца. Существует ли другое великое творение, проливающее столь же мало света на радости и горести ее создателя? Поэма не помогла мне лучше узнать жизнь; я почти не могу представить, что Мильтон жил на самом деле и был знаком с мужчинами и женщинами, разве что со сварливицами, давшими ему сведения для описания брака и обязанностей женщины. Он был первым защитником мужчин, однако присущее ему пренебрежительное отношение к женщине берет начало в его собственном невезении и, по-видимому, играет злую роль в семейных скандалах. Но до чего же у него все уравновешено, мощно и искусно! Какая поэзия! Смею предположить, что после него даже Шекспир может показаться несколько мятущимся, суетным, увлекающимся и несовершенным. Смею предположить, что его поэзия — это эссенция, которая в более или менее разбавленном виде составляет почти всю остальную поэзию. Несказанная красота стиля, раскрывающаяся нюанс за нюансом, способна удержать взгляд надолго после того, как становится понятным развитие темы. Глубоко внутри улавливаются добавочные сочетания, отражения, счастливые находки и мастерство. Более того, хотя у Мильтона нет ничего, подобного кошмару леди Макбет или воплю Гамлета, нет ни жалости, ни сочувствия, ни интуиции, его персонажи величественны; в них воплощено многое из того, что люди думают о своем месте во Вселенной, о своем долге перед Богом и верой.
Понедельник, 20 января
Когда я смогу купить тетрадь, то перепишу все это, поэтому опускаю обычные новогодние завитушки. На сей раз дело не в деньгах, просто я не в состоянии, отлежав две недели в постели, совершить поход на Флит-стрит. Правая рука болит, словно у служанки в конце дня. Любопытно, что я ощушаю такую же одеревенелость, когда пытаюсь манипулировать фразами, хотя на самом деле умственно должна быть экипирована лучше, чем месяц назад. Вырванный зуб уложил меня на две недели в постель, к тому же я так устала, что у меня началась головная боль, — это была долгая и мучительная история, боль то отступала, то вновь надвигалась, как туман в январский день. Следующие несколько недель мне позволено писать по часу в день, а так как утром я не писала совсем, то могу частично воспользоваться своим правом теперь, когда Л. нет дома, а у меня накопились долги за январь. Отмечаю, однако, что дневниковые записи не могут считаться прозой, поскольку я только что перечитала прошлогодний дневник и была потрясена стремительным галопом, каким он несется по булыжникам, раскачиваясь и накреняясь иногда почти до невозможности. И все же, если бы я не писала быстрее, чем печатает самая быстрая машинистка, если бы останавливалась и задумывалась, дневника вообще не было бы; преимущество моего метода заключается в том, что случайно сметаешь в кучу несколько бессвязных мыслей, которые, стоит лишь задуматься, обязательно выкинешь, хотя они-то как раз и есть настоящие сокровища. Если Вирджиния Вулф в пятьдесят лет, решившись с помощью этих тетрадей написать воспоминания, не сможет составить фразу, какой она должна быть, я выражу ей свое сочувствие и напомню о существовании камина, в котором с моего позволения она превратит эти страницы во множество черных угольков с красными глазками. А сейчас я завидую ее будущим трудам, для которых делаю заготовки! О чем еще мечтать? Эта мысль уже избавила меня от некоторых страхов в преддверии моего тридцать седьмого дня рождения в следующую субботу. Отчасти для пользы стареющей дамы (никакие отговорки не принимаются; пятьдесят лет почтенный возраст, хотя я предвижу ее возражения и согласна, что это еще не старость), отчасти для строительства прочного фундамента под новый год я собираюсь все вечера предстоящей затворнической недели писать о моих дружбах и их теперешнем состоянии, о характерах моих друзей, об их работах и прогнозах на будущее. Пятидесятилетняя дама скажет, насколько я сумела приблизиться к истине; однако на сегодня достаточно (прошло всего пятнадцать минут).
Среда, 5 марта
Только что вернулась после четырех дней в Ашеме и одного в Чарльстоне. Жду Леонарда, а мыслями все еще в поезде, что совсем не способствует чтению. Но, боже мой, какое множество у меня теперь книг! Все сочинения мистера Джеймса Джойса, Уиндхема Льюиса, Эзры Паунда, чтобы я могла сравнить их с собранием прозы Диккенса или миссис Гаскелл; а еще есть Джордж Элиот; и наконец, Гарди. И я только что прочитала тетю Энни[2] — с максимальной терпимостью. С тех пор как я сделала последнюю запись, она умерла во Фрешуотере, сегодня ровно неделя, и вчера была похоронена в Хэмпстеде, откуда шесть-семь лет назад мы смотрели на тонувший в желтом тумане Ричмонд. Мне кажется, мои чувства к ней отчасти похожи на лунный свет; или, скорее, они навеяны чувствами других. Папа любил ее; наверное, она оставалась последней, кто принадлежал миру Гайд-Парк-гейт девятнадцатого столетия. В отличие от большинства старых дам, она как будто никого не желала видеть; ей становилось, как я иногда думаю, больно при виде нас, словно мы ушли далеко и напоминали о несчастье, о котором ей хотелось забыть. Кроме того, в отличие от большинства старых Тетушек, ей хватало ума понимать, насколько мы расходимся во взглядах на современную жизнь; и это, вероятно, заставляло ее вспоминать — вряд ли она думала об этом в своем кругу — о старости, обветшалости, угасании. Что до меня, то ей не было нужды волноваться, ибо я в самом деле ее обожала; и все-таки мы принадлежали к разным и очень не похожим поколениям. Два или, может быть, три года назад мы с Л. поехали навестить ее; нашли как будто усохшей, но в боа из перьев, она одиноко сидела в гостиной, почти точной, правда уменьшенной, копии ее прежней гостиной; то же приглушенное очарование восемнадцатого столетия, старые портреты и старая посуда. Нас ждал чай. Она держалась немного отстраненно и более, чем немного, печально. Я спросила ее об отце, и она рассказала, что тогдашние молодые люди смеялись «громко и грустно» и что их поколение было счастливым, но эгоистичным; а наше кажется ей утонченным и ужасным; но у нас нет таких писателей, какие были у них. «Кое у кого есть намек на величие, у Бернарда Шоу, например, но лишь намек. Приятно было знать их всех как обыкновенных смертных, а не великих мужей». Потом последовал рассказ о Карлейле и об отце; Карлейль сказал, что он скорее умоется из грязной лужи, чем станет журналистом. Она опустила руку, как мне помнится, то ли в сумку, то ли в шкатулку, стоявшую рядом с камином, и сообщила, что у нее есть на три четверти написанный роман, который ей не удается закончить. Не думаю, чтобы она дописала его; однако я уже рассказала обо всем, немного приукрасив, для завтрашней «Таймс». Я написала Эстер, но очень сомневаюсь в искренности своих чувств!
Среда, 19 марта
Жизнь с такой скоростью громоздит одно на другое, что мне не хватает времени подробно описывать быстро растушую гору впечатлений, которые я отмечаю здесь, пока они карабкаются вверх. Я собиралась написать о Барнеттах и о любопытной омерзительности тех людей, которые самодовольно лезут грязными руками в чужие души. Барнетты запускают в них руки по локоть; и если у филантропов бывают окровавленные руки, то лучшего примера не найти; потом же, хотя их ни о чем не спрашивают и ни в чем не подозревают, они вдруг выговариваются, почти сводя на нет мое критическое отношение к ним. Неужели мое неприятие всего лишь интеллектуальный снобизм? Разве снобизм — приходить в ярость, услышав, как она говорит: «Потом я приблизилась к Великим Вратам», — или заявляет, что Бог — добро, а дьявол — зло? Неужели для таких, как они, труд обязательно подразумевает грубость? Сколько самодовольной силы в их любовании собой! Им никогда не приходит в голову вопрос, правильно ли они поступают, — они всегда бездумно бегут вперед, пока, естественно, их предприятия огромны и сверхприбыльны. Кстати, неужели разумная и проницательная женщина станет цитировать пеаны собственному гению? Наверное, корень всего этого в низкопоклонстве необразованных людей и всевластии хозяев над бедняками. Вновь и вновь я испытываю отвращение к господству одного человека над другим; к любому виду тирании, к навязыванию чужой воли. Наконец, мой литературный вкус гнушается гладкописью, без которой невозможно расцвести пышной удаче, похожей на огромный пион. Однако я лишь царапаю поверхность того, что чувствую к двум увесистым томам[3].
Четверг, 27 марта
…Л.[4] провел два последних утра и вечера за чтением «Ночи и дня»[5]. Признаюсь, его вердикт, наконец-то произнесенный сегодня утром, доставил мне огромное удовольствие; не знаю, какую поправку следует сделать на преувеличение. По моему мнению, «Н. и д.» гораздо более зрелая, целостная и убедительная книга, чем «Путешествие»[6]; и это не случайно. Полагаю, мною все сделано, чтобы оправдаться от обвинений, будто я разменяла себя на ничего не значащие чувства. Уверена, второго издания не будет. И все же не могу не думать о том, что английская литература, какая она есть, в оригинальности и искренности довольно легко выдерживает сравнение с большинством современных литератур. Л. находит эту философию очень грустной. Она слишком согласуется с тем, что он говорил вчера. И все же, если приходится постоянно иметь дело с людьми и говорить, что думаешь, как избежать грусти? Я не признаю безнадежность; однако зрелище очень странное; и если имеющиеся ответы не подходят, надо искать другие, но отказ от старого, когда не имеешь ни малейшего представления, что предложить взамен, дело печальное. Все же, скажите на милость, какие ответы предлагают, например, Арнольд Беннетт или Теккерей? Разве положительные ответы — счастливое разрешение конфликтов — можно принять, если имеешь хоть немного уважения к своей душе? Итак, закончилось ненавистное печатание на машинке, и когда я допишу эту страницу, то назначу Джеральду[7] встречу на понедельник. Кажется, я еще никогда не радовалась работе так, как радовалась, дописывая вторую половину «Ночи и дня». В самом деле, эта книга ни разу не утомила меня, как бывало с «Путешествием»; и если личный покой и заинтересованность автора — хороший знак, то у меня есть надежда доставить удовольствие хотя бы нескольким людям. Интересно, смогу ли я когда-нибудь перечитать книгу? Неужели наступит такое время, когда я буду читать свои писания, не краснея, не вздрагивая и не желая куда-нибудь спрятаться?
Среда, 2 апреля
Вчера отнесла Джеральду «Ночь и день» и имела с ним полудомашний, полупрофессиональный разговор в его кабинете. Мне не нравится клубное отношение к литературе. Во всяком случае, у меня появляется яростное желание хвастаться: и я хвасталась Нессой[8], Клайвом[9], Леонардом, их умением зарабатывать много денег. Потом мы развернули рукопись, и ему понравилось название, но он вспомнил, что у мисс Мод Эннсли есть роман «Ночи и дни», — это чревато проблемами с Мьюди. Тем не менее, он уверен в своем желании издать мою книгу; мы были вполне милы друг с другом; я обратила внимание, что волосы у него стали совсем седыми и между волосинками заметно некоторое расстояние; его голова похожа на редко засеянное поле. Пила чай на Гордон-сквер.
Суббота, 12 апреля
Краду десять минут у «Молль Фленлерс», которую не успела закончить вчера, как требовало мое расписание, поддавшись желанию закрыть книгу и отправиться в Лондон. Однако я смотрела на Лондон глазами Дефо, в особенности на белые городские церкви и дворцы — с Хангерфордского моста. Его глазами я смотрела на торгующих спичками старух; и бегущие по грязным тротуарам Сент-Джеймс-сквер девицы казались мне сошедшими со страниц «Роксаны» или «Молль Фленлерс». Да, он несомненно великий писатель, если через двести лет произвел на меня такое сильное впечатление. Великий писатель — а Форстер[10] никогда не читал его книг! Возле Библиотеки встретила выходившего из нее Форстера. Мы обменялись дружеским рукопожатием; и все же я всегда чувствую, что он как будто внутренне шарахается от меня, потому что я женщина, умная женщина, современная женщина. Вновь ощутив это, я велела ему прочитать Дефо, оставила его и по дороге домой купила в «Бикерс» еще один том Дефо.
Четверг, 11 апреля
Как бы ни бранили Стрэчи, они всегда остаются для меня источником неисчерпаемой радости; такие они искрящиеся, ясные и находчивые. Надо ли говорить, что я запасаю качества, которые больше всего меня восхищают, для людей, Стрэчами не являющихся? Мы с Литтоном так давно не виделись, что основные впечатления о нем я беру из его работ, правда, статья о леди Эстер Стэнхоуп у него не из лучших. Я могла бы заполнить эту страницу сплетнями о статьях в «Атенеум»[11], так как вчера пила чай с Кэтрин[12], и с нами был молчаливый Марри[13] с землистым лицом, оживлявшийся, только когда заговаривали о его делах. У него уже развилась отцовская ревность. Я попыталась быть честной, словно честность входит в мою жизненную философию, и сказала, как мне не понравились певчие птицы Гранторти и Литтон, и прочие, и прочие. Мужская атмосфера приводит меня в замешательство. Они не доверяют мне? Презирают меня? Но если так, зачем тянут визит до последнего? По правде говоря, когда Марри произносит нечто сугубо мужское, например об Элиоте, мгновенно успокаивая мое любопытство по поводу того, что он говорит обо мне, я не уступаю ему; я думаю о том, что за неодолимая пропасть отделяет мужской ум и почему мужчины так гордятся собой, упрямо придерживаясь точки зрения, которую иначе как глупой не назовешь? Мне гораздо проще разговаривать с Кэтрин; она соглашается и сопротивляется точно так, как я ожидаю, и нам требуется куда меньше времени, чтобы охватить куда больше тем; но я с уважением отношусь к Марри. Мне хотелось бы заслужить его доброе мнение. Хейнеманн отверг рассказы К.М.; и она на удивление расстроена тем, что Роджер[14] не пригласил ее на свой вечер. Ее самоуверенность, в общем-то, внешняя.
Пасхальное воскресенье, 20 апреля
В безделии, следующем за любой большой работой, а с «Дефо» у меня две статьи за один месяц, я достала дневник и перечитала его, как все перечитывают свое, виновато и внимательно. Должна признаться, что грубый и беспорядочный стиль, часто не признающий правил грамматики и взывающий к замене некоторых слов, немного огорчил меня. Я хочу сказать той себе, которая будет читать это в будущем, что умею писать гораздо лучше, но у меня нет времени для переделок; и я запрещаю ей показывать дневник мужчине. А теперь можно добавить и маленький комплимент, ибо я нашла в своих записях стремительность, живость и неожиданные попадания в цель. Но гораздо важнее другое; привычка что-то постоянно записывать для себя — отличная практика. Свободнее делаются связи. Не обращаешь внимания на пропуски и запинки. Чтобы шагать с выбранной мной скоростью, я должна всегда попадать в яблочко, по пути подыскивая слова, отбирая их и стреляя ими, но задерживаясь не дольше, чем требуется времени для обмакивания пера в чернила. Мне кажется, за последний год я стала свободнее в своих профессиональных сочинениях, что отношу на счет выпадавшего время от времени получаса после чая. Более того, впереди неясно вырисовывается тень некоей формы, которую подсказывает мне дневник. Со временем, возможно, я пойму, что можно сделать из бессвязного жизненного материала; по здравом и честном размышлении отыщу ему другое применение в художественной литературе, нежели ему пока предназначено. Таким я хочу видеть свой дневник? Свободным, но не неряшливым, эластичным, чтобы он мог вместить все, и важное, и незначительное, и прекрасное, что приходит мне в голову. Мне хочется, чтоб он напоминал старую строгую конторку или вместительный портплед, в который складывается все что ни попадя. Мне хочется вернуться к нему через год-два и обнаружить, что собрание само собой рассортировалось, очистилось, превратилось, как это мистическим образом происходит с подобными залежами, в нечто достаточно прозрачное, чтобы отразить свет нашей жизни, но все же прочное, спокойное и с равнодушным отпечатком искусства. Самое главное, я полагаю, перечитывая старые тетради, не играть роль цензора, а писать о чем угодно, когда есть настроение; поскольку мне любопытно поглядеть, как я наброшусь на беспорядочные записи и найду ли смысл там, где в свое время и не помыслила бы его искать. Однако свобода легко переходит в небрежность. Немного требуется усилий, чтобы обратить внимание на тех или иных людей или события. Поэтому нельзя давать полную свободу перу; иначе станешь расхлябанной и неряшливой, как Вернон Ли. На мой вкус, она не слишком заботится о связности изложения.
Понедельник, 12 мая
Мы в разгаре издательского сезона; сегодня утром Марри, Элиот и я побывали в руках у публики. По этой причине, наверное, у меня небольшая, но очевидная подавленность. Прочитала переплетенный экземпляр «Королевского сада»[15] насквозь и оставила неприятное дело на потом, когда книга появится в окончательном виде. Результат неопределенный. Слишком легковесно и коротко; не понимаю, почему Леонарду так понравилось. Он считает, что это лучшая из написанных мной новелл; его суждение побудило меня перечитать «Отметину на стене», в ней тоже много неправильного. Как однажды сказал Сидни Ватерлоу, ничего не может быть хуже в писательском деле, чем зависимость от похвалы. Я почти уверена, что за эту историю похвалы мне не получить; и меня это нервирует. Когда меня не хвалят, мне трудно садиться утром за письменный стол; однако уныние длится лишь тридцать минут, и я мгновенно забываю о нем, едва берусь за перо. Необходимо всерьез добиваться равнодушия в отношении взлетов и падений, комплимента тут, замалчивания там; приказывали Марри и Элиот, я ни при чем; главное остается незыблемым, то есть радость творчества. А туманы в душе, полагаю, имеют другие причины; хотя они очень глубоко спрятаны. В жизни тоже существуют приливы и отливы, от которых она зависит; хотя мне не совсем ясно, чем эти приливы и отливы вызваны.
Вторник, 10 июня
Я должна воспользоваться оставшимися до обеда пятнадцатью минутами, чтобы продолжить дневник и заполнить долгий пробел. Мы только что вернулись из Клуба; заказали репринт «Отметины на стене» в «Пеликан-пресс»; пили чай с Джеймсом[16]. Он сообщил, что Мэйнард[17] в ярости от условий перемирия потребовал отставки, стряхнул с себя издательскую пыль — и теперь на академическом поприще в Кембридже. Однако мне необходимо пропеть хвалу себе, поскольку я остановилась на том моменте, когда мы вернулись из Ашема и нашли на столе в холле большую кучу заказов на «Королевский сад». Они засыпали весь диван, и мы вскакивали во время обеда, чтобы вскрыть очередное письмо, и ссорились, к сожалению, потому что оба были возбуждены; внутри нас происходили приливы возбуждения, которые разбивались на волны под критическим напором Чарльстона. Все заказы — примерно 150 — из магазинов и от отдельных людей переслало нам «Lit. Sup.»[18], вероятно, после заметки Логана, в которой он расхвалил рассказ больше, чем я могла рассчитывать. А десять дней назад я была готова стоически пережить полный провал! Удовольствие от успеха было довольно-таки подпорчено, во-первых, нашими ссорами и, во-вторых, необходимостью раздобыть девяносто экземпляров, нарезать бумагу, напечатать ярлыки, наклеить их и, наконец, разослать книги, что заняло все свободное время и часть несвободного вплоть до сегодняшнего утра. И во все эти дни успех не покидал меня! Неожиданно пришло письмо от «Макмиллана» из Нью-Йорка; там под сильным впечатлением от «Путешествия» и хотят прочитать «Ночь и день». Кажется, нерв удовольствия быстро немеет. Мне нравится пить славу маленькими глотками, и стоит поразмышлять на досуге о ее психологическом аспекте. Думаю, на землю нас спускают друзья. В субботу к ланчу пришли Литтон и Уэббы, и когда я рассказывала о моих триумфах, мне как будто почудилась легкая тень на лице Литтона, которая исчезла не прежде, чем разговор перешел на другую тему. Что ж, к его триумфам я относилась примерно так же. Мне не доставляло удовольствия, когда он разглагольствовал об экземпляре «Знаменитых викторианцев»[19], поставленном на полку и надписанном «М» или «Г» то ли мистером, то ли миссис Асквит. Мысль, очевидно, ему понравилась. Ланч был чудесный. Стол накрыли в саду, и Литтон очень мило шутил, вот только самоуверенности у него прибавилось. «Меня не интересует Ирландия…»
Суббота, 19 июля
Как мне кажется, надо написать о Дне заключения мира[20], хотя не знаю, стоит ли брать для этого новое перо. Я сижу, высунувшись из окна, и дождь, который без перерыва поливает деревья, почти обрушивается мне на голову. Минут через десять на Ричмонд начинается процессия. Боюсь, немногие поаплодируют городским советникам, одетым так, чтобы произвести солидное впечатление во время марша по улицам. У меня такое ощущение, будто на кресла надели чехлы и все, бросив меня одну, уехали за город. Я покинута, разочарована, и мне скучно. Естественно, процессию мы не видели. Нам достались лишь мешки с мусором. Дождь прекратился полчаса назад. Зато у слуг было триумфальное утро. Они стояли на мосту Воксхолл и ничего не пропустили. Генералы, солдаты, танки, сестры милосердия, оркестры шли часа два. Судя по их словам, это было прекраснейшее зрелище, какое им только приходилось видеть. Так же, как налет «цеппелинов», оно сыграет важную роль в истории семьи Боксоллов. Не знаю — но мне все это кажется праздником слуг, призванным умиротворить и успокоить «народ», — а дождь все испортил; вероятно, для народа придумают еще какое-нибудь развлечение. Думаю, в этом причина моего разочарования. Есть что-то просчитанное, политическое и неискреннее в таких праздниках. Более того, в них совсем нет красоты и почти нет стихийного порыва. Еще и флаги; мы получили то, что слуги, как я полагаю, купили из снобизма, желая удивить нас. Вчера в Лондоне — обычные молчаливые, скучные скопления сонных и вялых, как вымокшие пчелы, людей ползали по Трафальгарской площади и соседним улицам. Единственное симпатичное зрелище, которое я видела, скорее было сотворено ветром, чем искусством декораторов; вымпелы в виде длинных языков на самом верху колонны Нельсона лизали воздух, сворачивались и вновь разворачивались, как гигантские языки драконов, с неторопливым и коварным изяществом. Театры же и мюзик-холлы убраны в толстые стеклянные подушки для булавок, которые, несколько преждевременно, освещены изнутри, — свет можно было бы использовать куда как с большей пользой. Тем не менее, ночь становилась все более волнующей и прекрасной, и мы, уже улегшись в кровать, еще какое-то время не спали из-за взрывов ракет, ненадолго, но ярко освещавших комнату. (Вот и теперь, когда небо серо-коричневое и льет дождь, звонят колокола на Ричмонд — однако церковные колокола напоминают лишь о свадебных и христианских службах.) Не могу отрицать, что чувствую себя немного неловко, описывая происходящее в мрачном свете, поскольку нам, по-видимому, следует верить в то, что мы счастливы и всем довольны. Так бывает в день рождения, когда праздник по какой-то причине разлаживается, а в детской считается делом чести притворяться, будто все прекрасно. И только через много лет кто-нибудь признается, какой ужас тогда творился; если через много лет эти послушные толпы заявят, что все понимали и не очень радовались, будет ли мне, скажем, веселее? Кажется, обед в Клубе 1917 и речь миссис Бесайт окончательно стерли остатки позолоты, если еще оставалась позолота, с имбирного пряника. Гобсон был злобно-насмешлив. Она — тучная и угрюмая старуха с большой головой в густых белых кудряшках — начала с того, что сравнила иллюминированный и праздничный Лондон с Лахором[21]. Потом набросилась на нас из-за нашего дурного обращения с Индией, очевидно, воображая себя «ими», а не «нами». Не думаю, что она очень преуспела, хотя внешне все было как полагается, и Клуб 1917 ей хлопал и с ней соглашался. Я всегда слушаю речи, словно читаю по написанному, поэтому цветы, которыми она время от времени размахивала, выглядели чересчур неестественно. Мне все яснее и яснее, что честные люди — это художники, а социальные реформаторы и филантропы быстро отбиваются от рук и, притворяясь человеколюбцами, лелеют такое множество позорных желаний, что в конце концов у них можно найти куда больше недостатков, чем у нас. А если бы я была одной из них?
Воскресенье, 20 июля
Наверное, надо довести до конца описание празднеств в честь окончания войны. Все-таки мы не более чем стадо животных! — даже самые разочарованные из них. Как бы там ни было, высидев неподвижно всю демонстрацию и мирный колокольный звон, после обеда я задумалась о том, что если еще что-то должно произойти, то, наверное, надо это видеть. Я накрутила бедняжку Л. и отложила в сторону Уолпола. Когда зажглась первая гирлянда из электрических лампочек и мы увидели, что дождь прекратился, то вышли из дома; это было до чая. Некоторое время взрывы пугали нас пожарами. Двери пивной на углу были открыты, и внутри оказалось полно народа; посетители вальсировали; все раскачивались, словно пьяные, и орали песни. Мальчишки с фонариками маршировали по газонам, празднуя победу. Немногие магазины смогли позволить себе электрический свет. Совершенно пьяную женщину из высшего класса вели, поддерживая с двух сторон, полупьяные мужчины. Иллюминацию выключили уже примерно на полпути, однако мы шли и шли, пока не поднялись на гору. И тогда нам удалось кое-что разглядеть — немного, правда, потому что сырость убивала краски. Красные, зеленые, желтые, синие шары медленно поднимались в воздух, взрывались и расцветали светлыми кругами, которые вскоре распадались на множество искр и исчезали. Все небо было в ярких огнях. Поднимаясь над Темзой, среди деревьев, эти ракеты были прекрасны; странным был их отблеск на лицах людей; и все же, конечно, серый туман смазывал картину, которая иначе была бы намного ярче. Грустно было смотреть на лежавших к нам спиной в «Стар энд Гартер»[22] неизлечимых солдат, они курили сигареты и ждали, когда закончится шумиха. Мы были как дети, которых надо развлекать. В одиннадцать часов мы вернулись домой и увидели из окна моего кабинета веселящийся от души Илинг; один огненный баллон поднялся так высоко, что Л. поверил, будто это звезда, но она разлетелась на девять звезд. Сегодня дождь перестал лить, видимо, в уверенности, что праздники окончательно испорчены.
Вторник, 21 октября
Сегодня день Трафальгарского сражения[23], а вчерашний день останется в памяти благодаря выходу из печати «Ночи и дня». Утром я получила свои шесть экземпляров, пять из которых были тотчас разосланы, так что, думаю, они уже в клювах моих друзей. Неужели я нервничаю? Совсем немного; скорее волнуюсь и радуюсь, нежели нервничаю. Во-первых, книга есть, она вышла в свет и с ней покончено; во-вторых, я немного ее почитала и мне понравилось; в-третьих, у меня сохраняется уверенность, что людям, чье мнение я ценю, она тоже понравится, и эту уверенность я укрепляю мыслью, что, даже если им не понравится, я приду в себя и начну что-нибудь другое. Конечно, если меня поддержат Морган, Литтон и остальные, я буду думать о себе лучше. Скучно встречаться с людьми, которые говорят банальности. Но в целом я понимаю, чего добиваюсь, и чувствую, что на сей раз использовала свой шанс как нельзя лучше; так что имею право сохранять философское спокойствие, а вину за неудачу свалить на Бога.
Четверг, 23 октября
Я должна записать первые плоды «Ночи и дня». «Несомненно, работа большого таланта» — Клайв Белл. Что ж, ему могло и не понравиться; критиковал же он «Путешествие». Признаюсь, я довольна, но не убеждена, будто все так, как он пишет. Однако мне дан знак, что я права, ничего не боясь. Те люди, чьим мнением я дорожу, не будут столь восторженны, но наверняка станут по эту сторону, как мне кажется.
Четверг, 30 октября
Из-за приступа ревматизма могу позволить себе больше не писать; да и, помимо ревматизма, от работы у меня устала рука. Все же, если бы я могла отнестись к себе профессионально как к объекту анализа, то могла бы сочинить интересный рассказ о последних нескольких днях, о переменах в моем настроении из-за «Н. и д.». Следом за письмом Клайва получила письмо от Нессы — сплошные похвалы; вершина — письмо Литтона: восторженные похвалы; великий триумф; классика; и так далее; потом панегирик от Вайолет; потом, вчера утром, вот эта фраза Моргана: ««Путешествие» мне понравилось больше». Правда, он также написал о своем великом восхищении, но сообщил, что читал роман в спешке и собирается его перечитать, отчего удовольствие, доставленное мне другими, сильно потускнело. Да, так оно и было, но продолжим. Около трех часов дня от его порицания мне стало легче и приятнее, чем от похвал остальных, — словно я вернулась на землю после блаженного парения среди мягких облаков и упругих холмов. Все же я ценю мнение Моргана наравне с другими. Сегодня утром заметка в «Таймс»; очень хвалебная; и умная тоже; среди прочего в ней сказано, что, хотя в романе «Ночь и день» меньше внешнего блеска, он глубже «Путешествия»; с этим я согласна. Надеюсь, на этой неделе будут еще отзывы; хорошо бы получить умные письма; но я хочу писать рассказы; все равно с плеч словно свалилась тяжелая ноша.
Четверг, 6 ноября
Вчера вечером у нас обедали Сидней[24] и Морган. В общем-то, я рада, что пожертвовала концертом. Сомнений насчет отношения Моргана к «Н. и д.» не осталось; теперь я знаю, почему этот роман понравился ему меньше «П.», и понимаю, что его критика не должна меня обескураживать. Наверное, умная критика никогда не обескураживает. Так или иначе, я должна кое-что записать, потому что сама пишу много критики. То, что он думает, сводится к следующему: «Ночь и день» — строгий с точки зрения формы классический роман; и как от такового от него требуется или он требует от его персонажей гораздо более высокой степени привлекательности, чем в книге, подобной «П.», которая неопределенна и универсальна. А в «Н. и д.» нет привлекательных персонажей. Ему все равно, как их классифицировать. Ему безразличны и персонажи в «П.», но там он и не ощущал потребности в любви. Все остальное ему нравится; смысл его критических замечаний не в том, что «Н. и д.» хуже «П.». Ахов и красот здесь тоже много — в самом деле, я не вижу причин огорчаться из-за Моргана. Сидней сказал, будто совершенно расстроен романом и у него сложилось мнение, что я «спасла» его удачной концовкой. Я становлюсь занудой! Даже старая Вирджиния не будет такое читать; но сейчас это кажется мне важным. «Кембридж мэгэзин» повторяет то, что Морган сказал о своем неприятии персонажей; и все же мое место на передовой линии современной литературы. У меня циничное отношение к персонажам, говорят они и оперируют частностями, отчего Морган, который сидел у газового камина и читал рецензию, немедленно начал выражать несогласие. Итак, критики расходятся во мнениях, а несчастный автор, который хочет быть в курсе, разрывается на части. В первый раз за много лет гуляла на речном берегу между десятью и одиннадцатью часами. Он похож на запертый дом, с которым я один раз сравнила его; на комнату с пыльными чехлами на креслах. Рыбаки не выходят так рано; тропинка безлюдна; лишь большой аэроплан летит куда-то. Мы почти не разговаривали, и это доказывает, что нам (по крайней мере мне) нравится молчать. У Моргана ум художника; он говорит о простых вещах, о которых умные люди не говорят; и по этой причине я считаю его самым лучшим критиком. Неожиданно мне в голову приходит то очевидное, о чем никто не подумал. У него не получается новый роман, он подыскивает к нему ключи, но пока безуспешно.
Пятница, 5 декабря
Еще один пропуск, однако, кажется, дневник со временем обретает дыхание, правда, медленно. Отмечаю, что после возвращения ни разу не брала в руки греческую книгу; вообще почти ничего не читала, кроме книг, на которые надо было писать рецензии, и это доказывает, что мое рабочее время мне не принадлежит. Я почти испугалась, когда обнаружила, как меня затянуло в критику. Мой мозг, из-за перевозбуждения или подругой причине отвергающий чистые листы бумаги, стал похож на заблудившегося ребенка — я брожу по дому или присаживаюсь на верхнюю ступеньку, чтобы поплакать. «Ночь и день» все еще держит меня, отчего я теряю массу времени. Джордж Элиот никогда не читала рецензий, поскольку пересуды о ее книгах мешали ей работать. Я начинаю ее понимать. Не то чтобы я принимала близко к сердцу хвалу и хулу, но они отрывают меня от сегодняшнего дня, заставляют оглядываться назад в попытке что-то объяснить или, наоборот, понять. На прошлой неделе я нашла язвительный параграф о себе в «Вэйфэрер»; на этой неделе Олайв Хезелтайн пролил на мою душу бальзам. Но я скорее по-своему написала бы о «четырех страстных улитках», нежели, как утверждает К.М., стала второй Джейн Остин.
1920
Понедельник, 26 января
Вчера был мой день рождения; мне исполнилось тридцать восемь лет; что ж, вне всяких сомнений, я гораздо счастливее, чем была в двадцать восемь лет; и сегодня я счастливее, чем была вчера, так как сегодня мне пришла в голову идея новой формы для нового романа. Представляю, одно раскрывается через другое — как в ненаписанном романе, — но не на десяти страницах, а на двухстах или около того — разве не получится свободно и легко, чего я как раз добиваюсь; разве не получится точнее при сохранении формы и темпа и вмещении всего-всего? Сомневаюсь лишь, удастся ли мне не потерять человеческое сердце, — достаточно ли я владею диалогом, чтобы не выпустить его из сети? Понимаю, что на сей раз все будет совсем по-другому; никаких строительных лесов; ни одного кирпичика; сплошные сумерки, зато сердце, страсть, ум сверкают ярко, как огонь в тумане. Только так мне удастся отыскать место для всего: для радости, непоследовательности, легкомысленных переходов по моей доброй воле. Достаточно ли я владею образами — вот в чем я сомневаюсь; но представляю (?), как «Отметина на стене», «К. с.»[25], «Ненаписанный роман» берутся за руки и пляшут вместе. Что такое это «вместе», пока не знаю; пока у меня нет темы; но я вижу огромные возможности формы, которую более или менее случайно открыла две недели назад. Думаю, опасность таится в проклятом эгоистическом «я»; губящем, насколько я понимаю, Джойса и Ричардсон: автор должен быть достаточно гибким и разносторонним, чтобы из своего «я» построить стену для книги, но не стать этой стеной, иначе она, как у Джойса и Ричардсон, будет мешать ему и ограничивать его. Надеюсь, я довольно знаю свое дело, чтобы не забыть ни об одной из возможных уловок. Как бы то ни было, мне придется идти наощупь, экспериментировать, но сегодня меня озарило. В самом деле, легкость, с какой я развиваю ненаписанный роман, доказывает, что это и есть моя дорога.
Среда, 4 февраля
Каждое утро с двенадцати до часу читаю «Путешествие». Не заглядывала в него с июля 1913 года. Если бы меня спросили, что я теперь о нем думаю, то ответила бы, не знаю — такая в нем арлекиада — такой ассортимент заплат — тут просто и сурово — там игриво и поверхностно — тут как общеизвестная банальность — там сильно и свободно, насколько можно желать. Что с этим делать, один Бог знает. Провалы такие ужасные, что у меня щеки горят от стыда, — а потом поворот во фразе, прямой взгляд, и щеки у меня горят уже совсем подругой причине. В целом мне нравится ум молодой женщины. Она храбро берет препятствия — честное слово, у нее писательский талант! Поправить я ничего не могу и явлюсь к потомкам автором дешевых острот, изящных сатир и даже, как я обнаружила, вульгаризмов — довольно грубых, — которые не перестанут мучить меня и в могиле. Все же я знаю, что «Путешествие» для многих предпочтительнее «Ночи и дня». Я не говорю — любите эту книгу сильнее, но постарайтесь увидеть в ней более яркое и вдохновенное зрелище.
Вторник, 9 марта
Несмотря на дрожь, думаю, пока могу продолжать свои записи. Иногда мне кажется, что я выработала тот стиль, который мне подходит — подходит приятному светлому часу после чая; то, чем я занимаюсь сейчас, не так податливо. Ничего. Представляю, как старушка Вирджиния, надевая очки и берясь за мартовские записи 1920 года, уж точно будет хотеть, чтобы я продолжала. Поздравляю, мой милый призрак; и обрати внимание, я не считаю пятьдесят такой уж древностью. Еще можно написать несколько хороших книг; и у меня есть кирпичики для одной замечательной книги. Вернемся к сегодняшней носительнице имени. В воскресенье я отправилась на Кэмпден-хилл послушать шубертовский квинтет — посмотреть на дом Джорджа Бута — сделать заметки для книги — поднабраться светскости — эти желания привели меня туда и были задешево (7/6)[26] удовлетворены.
Сомневаюсь, чтобы обитатели дома видели его с той же разрушительной ясностью, с какой видела его я, допущенная внутрь всего на один час. Холодное поверхностное приличие; тонкое, как мартовский ледок на луже. Что-то вроде купеческой чопорности. Конский волос и красное дерево — основа и правда; белые панели, репродукции Вермеера, стол в форме Омеги и пестрые занавески, довольно снобистская маскировка. Самое неинтересное в комнатах; компромисс; хотя, конечно, это тоже интересно. Я против семейной традиции. Старая миссис Буг во вдовьем платье восседала на подобии комода; по бокам — преданные дочери; внуки — вроде херувимов. Аккуратненькие скучные мальчики и девочки. Мы все были в мехах и белых перчатках.
Суббота, 10 апреля
На следующей неделе планирую, если повезет, начать «Комнату Джейкоба». (В первый раз упоминаю об этом.) Хочу описать весну; обратить внимание — в этом году никто не замечает листья на деревьях, а ведь они не все облетели — никогда не было такой железной черноты на стволах каштанов — всегда они нежные и светлые; таких я не могу припомнить за всю мою жизнь. На самом деле, мы пропустили зиму; как будто был ночной сезон; а теперь возвращение солнечного дня. Вот и я едва не пропустила, как на каштане возле окна появились крошечные зонтики; на кладбище трава бежит по старым плитам, словно зеленая вода.
Четверг, 15 апреля
Мой почерк, кажется, погиб ко всем чертям. Наверное, я порчу его постоянным писанием. Я говорила, что Ричмонд[27] в восторге от моей статьи о Джеймсе?[28] Ну вот, а два дня назад престарелый коротышка Уолкли напал на нее в «Таймс» и заявил, что я впадаю в худший маньеризм Генри Джеймса — стойкие «фигуры», — и еще намекнул, будто я была его сердечной подругой. О Перси Лаббоке тоже не забыли; но, правильно или нет, я, краснея, выкидываю эту статью из головы и понимаю, что стала писать, по крайней мере, рыхло. Думаю, дело опять в «витиеватом потоке» — несомненно, критика правильная, хотя болезнь моя собственная, а не подхваченная у Г.Д.; утешение небольшое. Тем не менее, надо быть осторожнее. В «Таймс» так нельзя, я должна быть там чопорнее, особенно в отношении Г.Д.; статьи надо тщательно продумывать с точки зрения композиции, не исключающей узоры. Десмонд[29], тем не менее, выразил восхищение. Жаль, не выработаны правила насчет ругани и похвал. Боюсь, моя судьба — неограниченная ругань. Я лезу в глаза; и пожилые господа особенно недовольны этим. «Ненаписанный роман», несомненно, раскритикуют: не могу предсказать, какую линию они займут на этот раз. Отчасти людей отвращает «хорошее письмо» — как, полагаю, отвращало всегда; «Претенциозно», — говорят они; к тому же я — женщина, которая хорошо пишет и пишет для «Таймс», — вот их линия. В этом одна из причин, удерживающая меня от «Комнаты Джейкоба». Однако я ценю критику. Она подстегивает меня, даже если это Уолкли, которому (я выяснила) шестьдесят пять лет и который считается дешевым маленьким сплетником, так мне нравится думать, вызывающим всеобщий смех, даже у Десмонда. Однако не стоит забывать, что в его словах есть правда; больше, чем крупица правды о статье в «Таймс», которую я чертовски приукрасила; приукрасила и смягчила; не думаю, что это легко исправить; поскольку перед тем, как приняться за статью о Г.Д., я дала себе клятву говорить, что думаю, и говорить по-своему. Ладно, я исписала всю страницу, но не знаю, как запастись спокойствием на тот момент, когда выйдет из печати «Ненаписанный роман».
Вторник, 11 мая
Стоит заметить, для будущих ссылок, что творческая энергия, которая, когда задумываешь новую книгу, приятно бьет ключом, через некоторое время стихает, и начинается будничная работа. Появляются сомнения. Потом смирение. Решение не сдаваться и предчувствие новой формы держат крепче, чем что бы то ни было. Я немного тревожусь. Удастся ли мне справиться с теорией? Когда принимаешься за работу, напоминаешь себе путешественника, который уже бывал в простертой перед ним стране. Не хочу писать в этом дневнике ничего такого, что не доставляет мне удовольствия. Но писать всегда трудно.
Среда, 23 июня
На сей раз мне пришлось побороться с собой, чтобы честно сказать: последняя книга Конрада не кажется мне хорошей книгой. И я это сказала. Мучительно (немного) искать ошибку у того, к кому относишься с почти бесконечным почтением. Не могу не думать, что ему просто не попадается никто, умеющий отличать хорошую прозу от плохой, к тому же он иностранец с плохим знанием английского языка, который взял в жены дуру; он все больше и больше цепляется за то, что когда-то сделал хорошо, и теперь громоздит один пласт на другой, пока не получается, скажем так, неуклюжая мелодрама. Мне не хотелось бы увидеть свое имя под «Спасением»[30]. Но согласится ли кто-нибудь со мной? И все же мое мнение о книге неколебимо. Ничто — ничто. Вот если бы это была книга молодого автора — или друга, — нет, даже в этом случае я бы не поддалась. Разве не я совсем недавно отвергла пьесу Марри, похвалила прозу К. и написала итоговую статью об Олдосе Хаксли; и разве Роджер не ранил мое профессиональное «я», когда стал вслух чернить незыблемые ценности?
Четверг, 5 августа
Попробую рассказать, о чем я думала, читая после обеда «Дон Кихота», — главным образом о том, что в те времена сочинение прозы представляло собой сочинение историй для развлечения публики, собиравшейся вокруг очага и не имевшей других развлечений. Вот они сидят, женщины прядут, мужчины думают, и в это время им, как взрослым детям, рассказывают веселую, прихотливую, приятную сказку. На меня это произвело впечатление в качестве повода для «Дон Кихота»: забавлять любой ценой. Насколько я могу судить, красота и мысль застают нас врасплох. Слугам вряд ли доступно серьезное значение книги, и они вряд ли видят в Дон Кихоте то же, что видим мы. В самом деле, это мои трудности — печаль, сатира — насколько они наши, а не предложены нам, — или они уже заложены в великих образах и меняются в зависимости от того, какое поколение взирает на них? Признаю, большая часть повествования скучна — меньшая часть, совсем немного в конце первого тома, написана, чтобы доставить нам удовольствие. Так мало сказано, так много скрыто, словно ему не хотелось развивать эту тему — я имею в виду ту сцену, где идут галерные рабы. Знал ли С.[31] красоту и печаль, которые теперь знаю я? Дважды я сказала о «печали».
Неужели это главное для нашего времени? И все же прекрасно мчаться вперед под парусами, которые надувает ветер великой прозы, как это происходит в первой части. Подозреваю, что сюжет Фернандо — Кардино — Люсинда[32] — на самом деле дворцовый эпизод по моде тех дней, но на меня он нагоняет скуку. Еще я читаю «Ghoda le Simple» («Геда Простодушный») — ярко, сильно, интересно и все же безупречно, чисто и скучно. У Сервантеса есть всё; если хотите, в растворенном виде; но самое сильное — живые люди, отбрасывающие черные или серые тени, как в жизни. Египтяне же, подобно многим французским писателям, дают вместо этого шепотку пыльного экстракта, куда более чистого и насыщенного, но лишенного воздуха и пространства. Боже мой! Что я пишу! Вечно эти образы. Каждое утро я работаю над «Джейкобом» и каждое утро чувствую, что должна одолеть очередное препятствие, у меня душа в пятках, пока оно не остается позади, пока я не расчищаю дорогу и не выкидываю его прочь. (Еще один недодуманный образ. Надо как-нибудь достать «Эссе» Хьюма и почистить себя.)
Воскресенье, 26 сентября
Мне кажется, я больше запрещаю себе, чем разрешаю; вот и «Джейкоб» остановился, да еще посреди вечеринки, которая мне так нравилась. Элиот, пришедший сразу после долгого затворнического писания (два месяца без перерыва), нагнал на меня тоску; на меня легла его тень; а ведь мозг, творящий литературу, нуждается в максимальной храбрости и уверенности в себе. Он ничего не сказал — но я словно услышала, насколько лучше мистер Джойс сделал бы то, что делаю я. Потом я стала размышлять, а что же я, в сущности, делаю; решила, как всегда бывает в таких случаях, что недостаточно продуман план, — итак, сокращаю, вырезаю, сомневаюсь — значит, заблудилась. Однако, полагаю, виной тому два месяца работы; поворачиваю теперь к Эвелину и придумываю сочинение о Женщинах, собираясь нанести контрудар мистеру Беннетту с его враждебными идеями, о которых писали в газетах. Две недели назад во время прогулок я непрерывно сочиняла «Джейкоба». Странная штука человеческий мозг! Капризный, неверный, постоянно пугающийся теней. Возможно, в глубине души я чувствую, что Л. буквально во всем соблюдает дистанцию.
Понедельник, 25 октября (первый день зимы)
Почему жизнь так трагична; всего лишь полоска тротуара над пропастью? Я заглянула вниз; у меня закружилась голова; не знаю, как сумею дойти до конца. Но откуда вдруг такие мысли; к тому же, когда я это произнесла, то больше ничего не чувствую. Горит камин; мы собираемся слушать «Оперу нищих». Эго всюду; не могу закрыть глаза. Ощущение пустоты; лед не растопить. Вот я сижу в Ричмонде, и, словно фонарь, поставленный посреди поля, мой свет рассекает тьму. Печаль сходит на нет, когда я пишу. Почему же я не пишу чаше? Ну, гордыня мешает. Мне хочется быть благополучной даже в собственных глазах. А у меня ничего не получается. Детей нет, живу вдалеке от друзей, не могу хорошо писать, слишком много денег трачу на еду, старею. Слишком много думаю обо всяких почему и зачем; слишком много думаю о себе. Мне не нравится, что время проносится мимо. Что ж, тогда надо работать. Правильно. Но я так быстро устаю от работы — читаю совсем немного, да и пишу не больше часа. Сюда никто не приезжает приятно провести время; если же кто-то приезжает, я злюсь. Мне стало трудно выбираться в Лондон. У Нессы растут дети, а я не могу пригласить их на чай или погулять в зоопарке. На мои карманные деньги не пошикуешь. Все же я убеждена, что это неважно; сама жизнь, думается мне иногда, трагична для нашего поколения — ни одна газета не выходит без чьего-нибудь предсмертного вопля. Сегодня Максуини и насилие в Ирландии; в следующий раз забастовка. Везде несчастья; они начинаются сразу за дверью; или глупость, что еще хуже. Никак не могу прийти в себя. Вот начну опять писать «Джейкоба» и оживу, как мне кажется. Надо закончить с Эвелином; но мне не нравится то, что я пишу. Все же я счастливая — это как полоска тротуара над бездной.
1921
Вторник, 1 марта
Я недовольна тем, что книга получается слишком разумной. А если хоть одно из моих бесчисленных изменений стиля не совместимо с материалом? Или у меня единый стиль? На мой взгляд, он постоянно меняется. Но этого никто не замечает. Пока даже я сама не могу ничего сказать наверняка. В общем-то, у меня есть внутренняя, автоматическая шкала ценностей, и она решает, как мне лучше распорядиться моим временем. Она диктует: «Эти полчаса надо посвятить русскому языку». «Это время отдать Вордсворту». Или: «Пора заштопать коричневые чулки». Как у меня выработался этот ценностный код, я понятия не имею. Возможно, он — наследие моих пуританских предков. Об удовольствии речи нет. Бог знает почему. Да и писание, даже в дневнике, требует напряжения мозгов — правда, не такого серьезного, как русский язык, но половину времени, что идет на русский, я смотрю в огонь и думаю, о чем буду писать завтра. Миссис Флендерс[33] в саду. Будь я в Родмелле, я бы все обдумала, гуляя по берегу. И была бы в отличной писательской форме. Как бы то ни было, только что ушли Ральф[34], Каррингтон[35] и Бретт[36]; я немного рассеялась; мы обедаем и идем к ратуше. Мне не надо думать о миссис Флендерс в саду.
Воскресенье, 6 марта
Нессе нравится «Понедельник ли, вторник»[37] — слава Богу; это поднимает рассказ в моих глазах. Теперь мне интересно, что о нем напишут в газетах в следующем месяце. Попробуем попророчествовать. Итак, «Таймс» будут добрыми, но осторожными. Миссис Вулф, напишут они, должна остерегаться искусственности. Она должна остерегаться неясности. Ее большие природные способности, и так далее… Лучше всего ей удается незамысловатая лиричность, как в «Королевском саду». «Ненаписанный роман» вряд ли назовешь успехом. «Общество» же, хоть и одухотворенное, все же слишком одностороннее. Тем не менее, проза миссис Вулф всегда читается с удовольствием. Что же до «Вестминстер», «Пэлл Мэлл» и других серьезных вечерних газет, то они будут немногословны и саркастичны. Общая линия — я слишком люблю звук собственного голоса и не очень люблю то, о чем пишу; неприлично жеманна; неприятная женщина. На самом деле, как я думаю, никто не уделит мне особого внимания. Все же я становлюсь относительно известной.
Пятница, 8 апреля, без десяти одиннадцать
Надо писать «Комнату Джейкоба»; а я не могу и вместо этого пишу, почему не могу, — мой дневник похож на давнюю невозмутимую подругу. Ну, понимаешь, у меня не получается быть писательницей. Вышла из моды; стала старой; лучше не сумею; на ум подкачала; всюду весна; моя книга вышла (раньше срока) и открыта для придирок, как отсыревшее полено в камине. Главное то, что Ральф отослал книгу в «Таймс» без даты публикации. Таким образом, заметка появится «самое позднее в понедельник» в каком-нибудь незаметном углу, бессвязная, вполне комплиментарная и совершенно не умная. Этим я хочу сказать, что никто не нашел ничего интересного в моих поисках. Поэтому, полагаю, мои поиски никуда не привели. И поэтому не могу продолжать «Джейкоба». Кстати, у Литтона тоже вышла книга, и ей посвятили три колонки — похвал, полагаю. Я даже не пытаюсь писать упорядоченно; или писать о том, как у меня ухудшалось и ухудшалось настроение, пока полчаса назад я не впала в ужасное уныние. Короче говоря, я решила больше никогда ничего не писать — кроме заметок о книгах. Чтобы еще больше растравить себя, мы устроили праздник в доме 41: поздравили Литтона; все было, как должно быть, однако он ни словом не упомянул мою книгу, которую наверняка прочитал; в первый раз не могу положиться на его похвалу. Теперь, если бы «Lit. Sup.» похвалило меня, назвав тайной загадкой, — я бы не возражала; ибо Литтону это не понравилось бы, а будь я, как день, ясной и незначительной?
Что ж, надо смело смотреть в лицо похвале и славе. (Забыла сказать, что Доран отказался от издания книги в Америке.) Какие перемены сулит популярность? (Я хорошо представляю — пишу это после паузы, во время которой Лотти принесла молоко и солнце перестаю меркнуть, — что у меня довольно много чепухи.) Все хотят, как справедливо заметил вчера Роджер, быть на высоте; чтобы люди интересовались их работой и следили за ней. Больше всего меня приводит в уныние мысль о том, что я потеряла интерес читателя — в то самое время, когда с помощью прессы начала думать, будто становлюсь сама собой. Зачем нужна прочная репутация, какая у меня, вроде, появилась, одной из ведущих дам-писательниц? Конечно, я буду и дальше собирать критические замечания друзей, то есть правдивую оценку моей работы. Потом, взвесив их все, наверное, смогу сказать, «интересна» я или устарела. Что ж, если устарела, писать не буду. Машиной я не стану, разве лишь машиной, вырабатывающей статьи. Когда я пишу, в мозгу у меня появляется удивительно приятное предощущение того, что мне хочется написать; мое видение. Интересно, однако, какое влияние оказывает на меня то, что я пишу для полудюжины людей, а не для полутора тысяч? — придает эксцентричность? — нет, не думаю. Тем не менее, как я уже говорила, очевидно, что в основе всей этой чепухи и придирок презренная гордыня. Полагаю, для меня единственный рецепт — иметь тысячу интересов; если опозорюсь, направлю свою энергию на русский язык, на греческий, на прессу, на сад, на людей, на любую деятельность, кроме прозы.
Воскресенье, 9 апреля
Надо отметить симптомы болезни, чтобы не совершить ошибку в следующий раз. В первый день чувствуешь себя несчастной, во второй — счастливой. В «Нью стейтсмен» на меня налетел Любезный Ястреб[38], который по крайней мере внушил мне ощущение собственной значительности (как раз то, что нужно), и «Симпкин-Маршалл»[39] позвонил, чтобы заказать еще пятьдесят экземпляров. Значит, книга расходится. Теперь мне предстоит пережить критику и придирки друзей, которые придутся мне не по вкусу. Завтра у нас Роджер. Как же все это скучно! — к тому же я жалею, что не напечатаны другие рассказы и напечатан «Дом с привидениями», поучившийся сентиментальным.
Вторник, 12 апреля
Надо поскорее записать другие симптомы болезни, чтобы, заглянув сюда в следующий раз, я могла найти от нее лекарство. Итак: я прошла острую стадию, и у меня установилось философское полудепрессивное состояние; в полном безразличии весь день развозила связки книг по магазинам, ездила в Скотленд-Ярд за своей сумочкой, когда Л. перехватил меня за чаем и прошептал на ухо потрясающую новость, будто Литтон считает «великолепным» «Струнный квартет». Об этом рассказал Ральф, который никогда не преувеличивает, да и Литтону нет нужды ему врать; мгновенно все мои нервные клетки были словно омыты блаженством, так что я даже забыла купить себе кофе и вышла на мост Хангерфорд, ощущая напряжение и вибрацию во всем теле. К тому же стоял прелестный синий вечер, цвета реки и неба. Рядом был Роджер, который думает, что я на пути настоящих открытий и, уж конечно, не мошенничаю. Мы побили рекорд продаж. Но сегодняшняя радость не сравнится с прежней опустошенностью; все же появилось ощущение защищенности; рок меня не тронет; критики пусть кусаются; и продажи пусть уменьшаются. Больше всего я боялась, что меня отвергнут как не стоящую внимания.
Пятница, 29 апреля
Надо рассказать о Литтоне. В последние дни мы виделись с ним чаше, чем за весь последний год. Мы разговаривали о его книге и о моей книге. Именно такой разговор состоялся в «Верриз»[40]: позолоченные перья, зеркала, голубые стены, и в углу мы с Литтоном пьем чай и едим бриоши. Кажется, просидели так больше часа.
— Ночью я проснулась и подумала, куда вас поместить, — сказала я. — Рядом с Сен-Симоном и Лабрюйером.
— О Боже, — простонал он.
— Есть еще Маколей, — прибавила я.
— Ага, Маколей. Все же я получше Маколея.
Я настаивала на том, что он другой.
— Конечно же, более цивилизованный, — говорила я. — Но ведь вы пишете только короткие книги.
— Следующая будет о Георге IV.
— Нет, все же это ваше место.
— А ваше?
— Я — «самая талантливая из ныне живущих писательниц». Так говорит «Бритиш уикли».
— Вы давите на меня.
Еще он сказал, что всегда может узнать мою руку, как бы я ни меняла стиль.
— Это результат тяжелой работы, — заявила я.
Потом мы обсуждали разные исторические моменты; Гиббона; я сказала, что он похож на Генри Джеймса.
— О Боже, нет — ни в малейшей степени, — возразил он.
— У него есть точка зрения, и он не отходит от нее, — сказала я. — И у вас то же самое. А я колеблюсь.
А что Гиббон?
— О, с ним все в порядке, — сказал Литтон. — Форстер говорит, что он Весельчак. Но у него совсем немного мыслей. Наверное, он верил в «добродетель».
— Прелестное слово, — откликнулась я.
— Почитайте, как орды варваров громили Город. Это великолепно. Правда, у него странное отношение к ранним христианам — он совсем ничего в них не понимал. И все же почитайте его. Я тоже собираюсь в октябре его перечитать. А еще я собираюсь во Флоренцию и буду очень одинок вечерами.
— Полагаю, французы повлияли на вас сильнее, чем англичане, — заметила я.
— Да. У меня есть их определенность. Есть форма.
— На днях я сравнивала вас с Карлейлем. Прочитала «Воспоминания». Болтовня старого беззубого могильщика по сравнению с вами; у него есть отдельные фразы.
— Да, есть, — сказал Литтон. — На днях я читал его Нортону и Джеймсу, и они кричали на меня — они не захотели слушать.
— Но меня немного пугает «целое».
— У меня тоже?
— Да. Вы легко входите в тему, — ответила я. — А тема великолепная — Георг IV — одно удовольствие работать над ней.
— Что с вашим романом?
— О, я запустила в него руки, будто в кадку с отрубями[41].
— Замечательно. И он совсем другой.
— Да, я — это двадцать человек.
— Всегда словно смотришь со стороны. С Георгом IV самое ужасное то, что никто не упоминает факты, которые я считаю важными. Историю надо переписывать. Она вся мораль…
— И сражения, — закончила я фразу.
Потом мы вместе шли по улицам, потому что мне надо было купить кофе.
Четверг, 26 мая
Вчера около полутора часов просидела на Гордон-сквер, лениво беседуя с Мэйнардом. Иногда мне жаль, что я записываю разговоры людей, а не описываю их самих. Трудность в том, что они слишком мало говорят. Мэйнард сказал, будто любит похвалы и ему всегда хотелось хвастаться. Он сказал, якобы многие мужчины женятся, чтобы иметь под рукой человека, которому можно похвастаться. Однако, сказала я, странно хвастаться, когда знаешь, что тебе все равно не верят. И тем более странно, что именно вы жаждете похвал. И вам, и Литтону незачем хвастаться — вы настоящие триумфаторы. Можете просто сидеть и ничего не говорить. Я люблю похвалы, сказал он. Они нужны мне, потому что есть веши, в которых я сомневаюсь. Потом мы говорили о публикациях и о «Хогарт-пресс»; и о романах. «Зачем мне рассказывают, на каком автобусе он поехал? — спросил он. — И почему миссис Хилбери[42] не может иногда побыть дочерью Кэтрин?» — «О, это скучная книга, я знаю, — сказала я, — но неужели вы не понимаете, что сначала нужно все в нее впихнуть, а уж потом можно позволять себе пропуски?» — «Лучшее, что вы написали, — сказал он, — воспоминания о Джордже. Вам надо делать вид, будто вы пишете о реальных людях, а уж потом что-то выдумывать».
Я была, конечно же, смущена (боже мой, какая чепуха — ведь если Джордж — лучшее, то я обыкновенная бумагомарательница).
Суббота, 13 августа
«Кольридж был так же не способен к действию, как Лэм, но совсем по другой причине. Он был хорошего роста, но вялый и солидный, тогда как Лэм отличался худобой и хрупкостью. Наверное, его мучило то, что он выглядел старше своих лет, ведь он не признавал физических упражнений. Поседел он в пятьдесят лет, а так как обычно одевался во все черное и отличался внешней невозмутимостью, то имел аристократический вид и в течение нескольких лет перед смертью выглядел почтенным старцем. Тем не менее, было что-то непобедимо юношеское в выражении его круглого, румяного лица с приятными чертами и открытым, ленивым, добродушным ртом. Мальчишеское выражение очень идет тому, кто грезит и размышляет, как это делал в детские годы он, проживший всю жизнь в стороне от остального мира, в окружении книг и цветов. У него был высокий и безмятежный, словно мраморный, лоб пророка и прекрасные глаза, в которых отражался активный ум, живой и подвижный, словно мысли доставляли обоим естественную радость.
И вправду ведь доставляли радость. Хэзлитт говорил, что талант Кольриджа являлся ему в виде духа с головой и крыльями, парящего в небесах. Мне он представляется иначе. Я вижу его добродушным волшебником, который очень любит землю и с удовольствием отдыхает в удобном кресле, ибо в состоянии собрать вокруг себя небеса, стоит ему лишь мигнуть глазом. Он мог тысячу раз менять свои мысли и, когда поспевал обед, легко прогонял их от себя. Могучий интеллект и чувственное тело; ну а причина, почему он предпочитал говорить и мечтать, заключается в том, что такому телу вряд ли нужно что-то еще. Полагаю, К. не был сенсуалистом в дурном смысле…» Вот и все, что я смогла процитировать из воспоминаний Ли Ханта (том II, страница 223), предполагая в будущем желание для чего-нибудь это использовать. Л.X. — наш духовный дедушка, свободный человек. С ним наверняка разговаривали, как с Десмондом. Легкомысленный был человек, должна сказать, но цивилизованный, гораздо цивилизованнее моего собственного дедушки. Свободный дух этих энергичных людей двигает вперед мир, и когда случайно наталкиваешься на одного из них в неведомых пустошах прошлых времен, то говоришь: «Ты моего племени» — это великий комплимент. В большинстве своем люди, умершие сто лет назад, уже совсем чужие. С ними ведешь себя вежливо, но не можешь избавиться от неловкости. Шелли умер, держа в руке книжку «Ламия»[43], взятую у Хэзлитта. X. не принял бы книгу ни от кого другого и сжег ее в похоронном огне. А после похорон? X. и Байрон надрывались от хохота. Такова человеческая природа, и X. не мучился сомнениями на этот счет. Мне нравится его любопытство к людям: история очень скучна со всеми своими сражениями и законами; даже морские путешествия скучны, потому что путешественник описывает красоты вместо того, чтобы походить по каютам и рассказать, как выглядят матросы, что они носят, что едят, что говорят, как себя ведут.
Леди Карлейль умерла. Гораздо сильнее симпатизируешь людям, когда их сбивает с ног несчастье, нежели когда они празднуют победу. У нее было много надежд и талантов, и, все потеряв (так говорят), она умерла во сне, пережив своих пятерых сыновей и убитую войной веру в человечность.
Среда, 17 августа
Пока Л. не вернулся из Лондона, от Фергюссона, конторы и т.д., я могу уделить немного внимания дневнику. Мне кажется, желание писать возвращается ко мне. Я провела целый день, отвлекаясь и вновь берясь за перо, сочиняя статью — возможно, для Сквайра, потому что ему нужно что-нибудь и потому что миссис Хоуксфорд сказала миссис Томпсетт, будто я одна из самых умных, если не самая умная женщина в Англии. Значит, мне не столько сил не хватало, сколько похвалы. Вчера меня увлек поток, как говорится в Библии. Вызванный доктор Валленс пришел после обеда и нанес мне визит. Жаль, не могу записать нашу беседу. Мягкий, с тяжелыми веками, человечек средних лет, сын льюисского доктора, никогда никуда не уезжал и всегда совестливо исповедовал несколько самых общих медицинских правил, которые запомнил много лет назад. Он говорит по-французски, но употребляет только самые простые слова. Поскольку Л. и я владеем французским лучше, он предпочитает общие темы — говорит о старике Верролле и о том, как тот намеренно уморил себя голодом. — «Надо было отправить его в больницу, — задумчиво произносит доктор В. — Один раз я это сделал. Его сестра до сих пор там — совсем сумасшедшая, полагаю — плохая семья, очень плохая. Я сидел с ним в вашей гостиной. Нам приходилось сидеть прямо под трубой, чтобы согреться. Я пытался заинтересовать его шахматами. Не получилось. Его уже как будто ничего не интересовало. Слишком он был стар — и слаб. Я не мог его отправить». И он уморил себя голодом, делая вид, будто работает в саду.
Скрестив ноги и задумчиво трогая усики, В. спросил меня, чем я занимаюсь. (Он считает меня хронической больной и настоящей леди.) Я ответила, что пишу. «Да? Романы? Что-нибудь легкое?» Романы. «Среди моих пациенток есть еще одна писательница — миссис Дюдини. Мне надо было встряхнуть ее — чтобы она выполнила договор, договор на новый роман. Она считает Льюиса слишком шумным. А еще у нас есть Марион Кроуфорд… Мистер Дюдини — король головоломок. Предложите ему любую головоломку — и он обязательно ее разгадает. Он сам сочиняет головоломки, и их печатают в меню. И еще пишет о головоломках в газетах».
— Он помогал разгадывать головоломки во время войны? — спросила я.
— Не знаю точно. Но ему писало много солдат — он король головоломок.
Доктор Валленс раздвинул и вновь скрестил ноги, но по-другому. Наконец он ушел, пригласив Л. стать членом шахматного клуба Льюиса, который я сама посещала бы с большим удовольствием; проникновение в совершенно незнакомую среду меня нестерпимо завораживает, тем более что мне не суждено присоединиться к компании доктора Валленса и короля головоломок.
Четверг, 18 августа
Писать нечего; разве что о невыносимом приступе беспокойства. Вот я, прикованная к моей скале; отлученная от работы; обреченная вновь и вновь мучиться тревогой, злостью, раздражением и навязчивой идеей. Сегодня не могу гулять и не должна работать. За какую книгу я ни принимаюсь, она бьется у меня в голове как часть статьи, которую мне хочется написать. В целом Сассексе нет никого несчастнее меня; или более меня осознающего беспредельные внутренние возможности наслаждения, которыми я не в состоянии воспользоваться. Солнце поливает (нет, не поливает, скорее проливается) желтые поля и длинные низкие амбары; и что бы я не отдала, лишь бы, грязной и потной, пройтись по фирлским лесам, когда все мускулы ноют от усталости, а мысли излечены сладкой лавандой и вновь здоровые, прохладные и созревшие для завтрашней работы. Как бы я все подмечала — придумывала подходящую фразу, чтобы сидела, как перчатка; а потом на пыльной дороге нажимала бы на педали, и моя история стала бы рассказываться сама собой; а потом солнце зашло бы; я была бы дома и после обеда то ли читала, то ли проживала бы немного поэзии, моя плоть как будто растворялась бы и сквозь нее прорастали красные и белые цветы. Ну вот! Половины моего раздражения словно не бывало. Слышно, как бедняжка Л. то приближается, то удаляется со своей газонокосилкой; такую жену, как я, надо сажать в клетку под замок. Чтобы не укусила! А ведь он весь вчерашний день пробегал ради меня по Лондону. Все же, если ты Прометей, если скала крепка и слепни злы, не может быть ни благодарности, ни любви, ни других благородных чувств. Август проходит зря.
Успокаивает лишь мысль о людях, которые страдают сильнее меня; и это, полагаю, есть аберрация эгоизма. Сейчас займусь, если смогу, расписанием на ближайшие ужасные дни.
Бедняжка мадемуазель Ланглан[44], побежденная миссис Мэллори, бросила ракетку и разразилась слезами. Думаю, у нее непомерная гордыня. Она, верно, считает, что, будучи мадемуазель Ланглан, владеет всем миром и непобедима, как Наполеон. Армстронг, играя в крикетном отборочном матче, занял позицию возле ворот и не двигался, позволяя другим игрокам устраиваться, как они хотят; вся игра превратилась в фарс, потому что не хватило времени по-настоящему ее разыграть. Вот и у Аякса в греческой пьесе был такой же характер — который мы все дружно называем героическим, когда речь идет об Аяксе. Грекам все прощается. С прошлого года я ни строчки не прочитала по-гречески, а жаль. Ничего, еще вернусь к этому языку, хотя бы из снобизма; буду читать по-гречески, когда стану совсем старухой; такой старухой, как та, что сидит в дверях дома, и волосы у нее похожи на театральный парик, такие они белые и густые. Изредка движимая любовью к человечеству, я, бывает, испытываю жалость к беднякам, которые не читают Шекспира, поэтому была искренне тронута щедрым демократическим вздором в «Олд Вик»[45], когда там играли «Отелло» для бедных мужчин, женщин, детей. Удивительное благородство и удивительная убогость. Я пишу бессвязно, так что не удивлюсь, если в итоге получится чепуха. В самом деле, любое столкновение с нормальными пропорциями выводит меня из равновесия. Я очень хорошо знаю свою комнату и вид из окна, но они совсем по-другому видятся мне, когда я заперта в доме.
Понедельник, 12 сентября
Прочитала «Крылья голубки»[46] и теперь пишу свои замечания. Его манипуляции становятся столь совершенными к концу, что перестаешь видеть художника и вместо него видишь обычного человека, который излагает предмет. И еще я думаю, что он как будто теряет ощущение кризиса. Становится чрезмерно простодушным. Словно слышу, как он сам говорит — как бы это сделать? Когда все нацелены на кризис, истинный писатель избегает его. Никогда не проявляй активность, и это произведет куда более сильное впечатление. В конце концов, после всех фокусов и игр с шелковыми носовыми платками перестаешь видеть того, кто стоит за всем этим. Так, в результате манипуляций исчезает Милли. Он переигрывает. И никто не в состоянии прочитать это во второй раз. Хватка и напряжение потрясающие. Никаких провисающих или слабых фраз, но многое уничтожается из-за робости, или совестливости, или чего-то еще. В высшей степени американская, должна признать, решимость продемонстрировать хорошее воспитание и немного глупое отношение к хорошему воспитанию.
Вторник, 15 ноября
Правда, правда — это ужасно — пятнадцать дней ноября миновали, а мой дневник не стал мудрее. Но когда ничего не записано, можно с полным основанием предположить, что я строчила книги; или мы в четыре часа пили чай, а потом я гуляла; или нужно было что-то прочитать для будущей работы; или меня поздно не было дома, а потом я вернулась с большим количеством трафаретов и решила сразу же попробовать хотя бы один. Мы были в Родмелле, и целый день дул ветер с арктических полей; так что мы грелись у камина. За день до этого я написала последние слова «Джейкоба» — в пятницу, четвертого ноября, если быть точной, а начала я писать шестнадцатого апреля 1920 года: за вычетом полугодового перерыва из-за сборника «Понедельник ли, вторник» и болезни получится год. Пока еще не перечитывала. По просьбе «Таймс» сражаюсь с рассказами Генри Джеймса о призраках, правда, сейчас, пресытившись, отложила их. Потом надо будет сделать Гарди; потом хочу написать о жизни Ньюнса; потом надо будет почистить «Джейкоба»; и на днях, если только у меня хватит сил взяться за письма Пастонов, потом Ридинг: на самом деле я уже взялась за «Ридинг» и буду думать, надеюсь, о следующем романе. Остается один вопрос — выдержат ли мои пальцы?
Понедельник, 19 декабря
Припишу-ка я постскриптум — в ожидании, когда завернут книжки, — о природе рецензирования.
— Миссис Вулф? Хочу задать вам пару вопросов о вашей статье, посвященной Генри Джеймсу.
Первый (всего лишь о правильном названии одного из рассказов).
Вы пишете «похотливый». Конечно, я не хочу, чтобы вы заменяли его, но все-таки это довольно резко в отношении того, что пишет Генри Джеймс. Я не перечитывал его рассказ — но все же у меня сложилось впечатление…
— Да, я думала об этом, когда читала: у всех свои впечатления.
— А вам известно первичное значение этого слова? Оно — ах — «грязный». Итак, несчастный дорогой старый Генри Джеймс. Во всяком случае, подумайте об этом и перезвоните мне через двадцать минут.
Я подумала и пришла к требуемому выводу через двадцать с половиной минут. А что делать? Он достаточно ясно дал мне понять, что не только не потерпит слово «похотливый», но и не в восторге от всего остального. Такое теперь случается все чаще, и я уже подумываю, то ли вообще бросить рецензирование, дав соответствующие объяснения, то ли потворствовать редактору, то ли плыть против течения. Последнее, пожалуй, будет правильнее, но почему-то при мысли об этом начинается спазм. Пишешь скованно, несвободно. Что бы там ни было, пока пусть все идет своим чередом, я со смирением выслушаю брань. Наверняка читатели выразят недовольство, а бедняга Брюс[47], обожающий свою газету как единственного ребенка, ненавидит публичную критику и суров со мной не столько из-за моего неуважения к бедному старому Генри, сколько из-за попреков в адрес его «Сапплмент». Как много времени потеряно впустую!
1922
Среда, 15 февраля
Попытаюсь написать о том, что сейчас читаю. Во-первых, Пикок; «Аббатство кошмаров» и «Замок Кротчет». Оба гораздо лучше, чем запомнились мне. Несомненно, Пикок — это вкус, который обретаешь в зрелые годы. Когда я была молодой и читала его в Греции, в поезде, сидя напротив Тоби[48], помнится, мне было ужасно приятно, когда тот с одобрением отнесся к моему замечанию о том, что Мередит брал своих женщин у Пикока и что все они очень красивые, сказала я, желая подстегнуть свой восторг. Тоби это понравилось. Полагаю, мне хотелось тайны, романтики, психологии. А теперь мне больше всего хочется красивой прозы. Я все больше и больше наслаждаюсь им. И мне все больше нравится его сатира. И скептицизм его мне нравится. Нравится его интеллектуальность. Более того, причудливость срабатывает у него куда лучше притворной психологичности. Один красный мазок на щеке — вот и все, что он дает, но мне этого достаточно, чтобы довообразить остальное. Потом, они очень короткие; и я читаю их на желтоватой бумаге, прекрасно подходящей для первых изданий.
Совершенство Скотта вновь переворачивает мне душу. «Пуритане». Я на середине; и должна вытерпеть скучные церемонии; однако в целом он не скучный, потому что все идеально пригнано — даже его странный одноцветный пейзаж, нанесенный тонким слоем сепии и жженой охры. Эдит и Генри тоже могли бы быть типичными персонажами старого мастера, будь они помещены в нужное место. А Кадди и Маус, как обычно, шагают прочь, сильные, словно сама жизнь. Тем не менее, смею заметить, освещение и повествование не позволяют ему от души позабавиться, как в «Антикварии».
Четверг, 16 февраля
Продолжаю — конечно же, последние главы пустые и серые, слишком вымученные; видно, разум мешает излиться естественному потоку. Мортон — недалекого ума; Эдит — попросту тупа; Ивандейл — славный, но ни то ни сё; проповедническую скуку я приняла как само собой разумеющееся. Все же — все же — хочу знать, о чем следующая глава; этим галантным старикам можно простить что угодно.
Насколько следует доверять нашим историческим портретистам, если от меня требуется много труда, чтобы описать лицо Вайолет Диккинсон, которое я вчера наблюдала в течение двух часов? Невозможно не услышать ее джазовый распев, когда она, входя в холл, заговаривает с Лотти. «Где мое повидло? Как миссис Вулф? Ей лучше? Где она?» Одновременно она снимает пальто, отдает зонтик и не слушает ответов. Потом является ко мне в комнату, гигантски высокая, в сшитом на заказ костюме, с перламутровым дельфином на черной ленте, показывающим красный язык; погрузневшая; с выпуклыми голубыми глазами на белом лице; с как будто отбитым кончиком носа; и маленькими, прелестными, аристократическими ручками. Отлично; но ее разговоры? Поскольку сама природа не в силах это воспроизвести — поскольку природа намеренно упустила какой-то винтик, — что могу я? Такая чепуха выбрать старика Рибблсдейла Хорнера[49] в Правление — Ли. Р. из Асторов[50] — отказали ей в инвестициях. Твоя подруга, мисс Шрейнер, уехала в Бангкок. Помнишь ее ботинки и туфли на Итон-сквер? Сказать по правде, не помню я никакой Шрейнер и никаких ботинок на Итон-сквер тоже. Потом о возвращении Германа Нормана, который говорит, что в Тегеране все ужасно.
— Он мой кузен, — сказала я.
— Неужели?
И мы заговорили о Норманах. Леонард и Ральф пили чай и время от времени попыхивали сигарами. Итак, все это, соответствующим образом соединенное вместе, могло бы составить весьма любопытный набросок в стиле Джейн Остин. Однако старушка Джейн, будь она в настроении, обратила бы внимание совсем на другое — впрочем, не думаю; ибо старушка Джейн не любила абстрактных размышлений; нельзя сделать призрачным то, что вилось вокруг нее и что придает ей своеобразную красоту. Вайолет умолкает — хотя верит в старую истину, что беседа не должна прерываться, — и становится человечнее и добрее; выказывает то приправленное юмором добродушие, которому до всего есть дело — естественно; в нем есть соль и ощущение реальности; у нее размах хорошей романистки, умеющей помещать веши в естественную для них атмосферу, правда, все это слишком фрагментарно и отрывочно. Она сказала мне, что у нее нет желания жить. «Я очень счастлива, — сказала она. — О да, очень счастлива — но зачем мне еще жить? Ради чего?» — «Почему бы не ради друзей?» — «Все мои друзья умерли». — «Оззи?» — «О, ему и без меня будет хорошо. Надо уладить все дела и исчезнуть». — «Вы верите в бессмертие?» — «Нет. Не знаю, чем буду. Наверно, прахом, пылью». Она, конечно же, рассмеялась; и все же, кажется, у нее достаточно воображения, чтобы ей верили. Конечно, мне нравится — или «любовь» более подходящее слово для таких странных глубоких давних привязанностей, которые берут начало в юности и с которыми ассоциируется много важного? Я смотрела в ее большие красивые голубые глаза, такие невинные, добрые, открытые, и возвращалась мыслями к Фритему и Гайд-Парк-гейт. Но все равно картину из этого не составишь. Почему-то мне кажется, что она похожа на набросок талантливой женщины. У нее есть текучие дары, но нет костяка.
Пятница, 17 февраля
Только что приняла фенацетин — то есть слегка неприятный отзыв в «Дайал» о «Понедельнике ли, вторнике» в пересказе Леонарда, это тем более неприятно, что я в общем-то надеялась на одобрительную рецензию в августовском номере. Похоже, никому не понравилось. И все же я радуюсь, ибо обрела философский взгляд на критику. Это дает ощущение свободы. Пишу что хочу, и все туг. Более того. Бог свидетель, мне хватает рассудительности.
Суббота, 18 февраля
Вновь мой разум отвлечен от мысли о смерти. Что-то я хотела вчера сказать о славе. О, кажется, я окончательно решила не быть популярной, вполне искренне, и смотрю на невнимание и обиды как на часть сделки. Я пишу что хочу, и они говорят что хотят. Как писательницу меня единственно интересует, насколько я начинаю понимать, чудаковатая индивидуальность; не сила; не страсть; не страх, но тогда я спрашиваю себя, не является ли «чудаковатая индивидуальность» как раз тем качеством, к которому я отношусь с уважением. Пикок, например; Бэрроу; Донн; у Дугласа в «Одиночестве» это тоже отчасти есть. Кто еще приходит в голову? «Письма» Фицджеральда. Людей с таким даром еще долго прославляют после того, как мелодичная энергичная музыка становится банальной. В доказательство этого я прочитала, как маленький мальчик, которому за успехи подарили в воскресной школе книжку Мари Корелли, тотчас покончил с собой; и коронер заметил, что ее книга не то, что он назвал бы «славной книжкой». Поэтому не исключено, что «Могучий атом»[51] уйдет в небытие, а «Ночь и день» будет востребована, хотя, похоже, сейчас лучше всего относятся к «Путешествию». Эго меня вдохновляет. Через семь лет (семь лет — в следующем апреле) «Дайал» говорит о его высочайших художественных достоинствах. Если через семь лет они скажут то же самое о «Ночи и дне», я буду довольна; но придется ждать четырнадцать лет, чтобы кто-нибудь принял близко к сердцу «Понедельник ли, вторник». Хочу прочитать письма Байрона, но сначала нужно закончить «Принцессу Клевскую»[52]. Этот шедевр долго не давал покоя моей совести. Я пишу о литературе и не читала эту классическую вещь! Однако чтение классики частенько довольно тяжкий труд. Особенно такой классики, которая стала классикой благодаря безупречному вкусу автора, его самообладанию, выдержанной художественной форме. Ни одна волосинка не выбивается из прически. Полагаю, это очень красиво, но трудно оценить. Все персонажи благородны. Движения величественны. Конструкция немного тяжеловата. Истории надо рассказывать. Письма опускать. Мы следим за движениями человеческого сердца, а не мускулов и не рока. Однако и тут появляются обстоятельства, когда движения благородного сердца остаются невидимыми. Например, в отношениях мадам Клевской и ее матери есть странный необъяснимый провал. Если бы я рецензировала книгу, думаю, мне следовало бы писать о красоте характеров. Слава Богу, что не надо ее рецензировать. За несколько минут я просмотрела рецензии в «Нью стейтсмент», а между кофе и сигаретой прочитала «Нейшн»; вот так лучшие умы Англии (говоря метафорически) исходят потом, ибо не знаю, сколько часов потребовалось, чтобы доставить мне минутное удовольствие. Когда я читаю рецензии, то зрительно сжимаю колонку, останавливая внимание на одном-двух предложениях; хорошая эта книга или плохая? А потом вношу правку в зависимости от того, что мне известно о книге и рецензенте. Но когда я сама пишу рецензию, то пишу каждое предложение так, словно мне придется предстать перед тремя Высшими Судиями. Не могу поверить, что меня тоже ужимают и мне тоже не доверяют. Рецензии все чаще кажутся мне пустыми. С другой стороны, критика все больше поглощает меня. Но после шести недель инфлюэнцы мой мозг не способен на утренние фонтаны мыслей. Записная книжка лежит, закрытая, возле кровати. Поначалу я даже читать почти не могла из-за массы искавших выход мыслей. Мне надо было немедленно их записать. Это большое удовольствие. Немного воздуха, проезжающие мимо автобусы, прогулки по берегу реки, если на то будет Божья воля, пошлют мне искры вдохновения. Я самым непривычным образом вишу между жизнью и смертью. Где мой нож? Надо разрезать лорда Байрона.
Пятница, 23 июня
«Джейкоба», как я уже говорила, печатает мисс Грин, и он 14 июля пересечет Атлантику. Потом начнется период сомнений, взлетов и падений. Я слежу за собой на этот счет. Мне надо написать рассказ для Элиота, жизнеописания для Сквайра и для «Ридинг»; так что крутись как хочешь. Если они скажут, что это умный эксперимент, я отвезу «Миссис Дэллоуэй» на Бонд-стрит как завершенную работу. Если они скажут, что так нельзя, я напомню им о фантастической мисс Ормерод[53]. Если они скажут: «Вы не можете заставить нас любить ваших персонажей», — я скажу, пусть читают мою критику. Что же они скажут о «Джейкобе»? Думаю, роман сумасшедший: бессвязная рапсодия; не знаю. Надо перечитать и выработать свое мнение. «Перечитывая романы» — заглавие очень трудной, но довольно интересной статьи для «Supt.».
Среда, 26 июля
В воскресенье Л. просматривал «Комнату Джейкоба». Он считает, что это моя лучшая книга. Его первые слова — она поразительно хорошо написана. Он спорит из-за нее. Называет ее гениальной; говорит, что она не похожа ни на одну другую; говорит, что люди в ней как призраки; говорит, что она странная; говорит, что у меня нет мировоззрения; люди у меня как куклы, которых рок двигает туда-сюда. Он не согласен с тем, что рок имеет власть над людьми. Думает, что в следующий раз я должна использовать свой «метод» на одном-двух персонажах; находит книгу интересной и прекрасной, без упущений (кроме, быть может, вечеринки) и вполне понятной. Сифилис настолько сильно смутил мой рассудок, что я не смогла записать все точно; я взволнована и возбуждена. Но в целом я довольна. Однако нам неизвестно, что скажет публика. У меня нет сомнений в том, что я нашла (в сорок лет), как высказаться по-своему; мне это очень интересно, и у меня есть ощущение, будто я могу идти дальше, не ожидая похвал.
Среда, 16 августа
Надо прочитать «Улисса» и записать мои за и против. Уже одолела двести страниц — это еще не треть; и была удивлена, вдохновлена, очарована, заинтересована первыми двумя-тремя главами — до конца сцены на кладбище, а потом удивлена, утомлена, раздражена и разочарована бесконечным подростковым расчесыванием прыщей. И Том[54], великий Том, считает этот роман равным «Войне и миру»! Неграмотная грубая книга, как мне кажется; книга бедного самоучки, а мы все знаем, какие они печальные, какие эгоистичные, напористые, грубые, страшные и в высшей степени тошнотворные. Если мясо можно сварить, зачем его есть сырым? И еще я думаю, если страдаешь анемией, как Том, то в крови видишь красоту. Так как я в этом смысле человек вполне нормальный, то мне очень скоро вновь захотелось классики. Это я могу дочитать потом. В моей критике не должно быть компромиссов. Я ставлю веху, чтобы отметить двухсотую страницу.
Что до меня самой, то я все время копаюсь в своих мыслях и понемногу черпаю из них для «Миссис Дэллоуэй». Кое-что мне не нравится. Слишком быстро я пишу. Пора заняться ужиманием. В рекордное время, за десять дней, я написала четыре тысячи слов для «Ридинг», но это был всего лишь незамысловатый скетч о Пастонах, да еще сочиненный с помощью других книг. А потом я оторвалась от него, согласуясь со своей теорией перемены занятий, чтобы писать «Миссис Дэллоуэй» (которая станет главной, как я начинаю понимать). Еще надо сделать Чосера; и закончить первую главу в начале сентября. К тому времени я опять, наверное, начну заниматься греческим языком, так что будущее у меня размечено, и когда «Джейкоба» отвергнут в Америке и проигнорируют в Англии, я буду с философским безразличием пахать свое поле. Они собирают урожай по всей стране, что работает на мою метафору и как будто оправдывает ее. Однако мне не нужны оправдания, поскольку я не пишу для «Lit. Sup.». Буду ли я опять писать для них?
Вторник, 22 августа
Есть способ заставить себя вновь вернуться к писательству. Сначала легкие упражнения на воздухе. Потом чтение хороших книг. Ошибка думать, будто литература может возникнуть из необработанного материала. Писатель должен знать жизнь — правильно, поэтому мне так не понравился набег Сиднея[55], — но он должен обрести форму; должен уметь концентрироваться, бить в одну точку, а не привлекать внимание к разрозненным чертам характера того персонажа, что живет в мозгу автора. Приходит Сидней, и я — Вирджиния; когда же я пишу, то я всего лишь восприимчивость. Иногда мне нравится быть Вирджинией, но только если я легкомысленная, разносторонняя и общительная. Сейчас, пока мы тут, мне бы хотелось быть лишь восприимчивостью. Кстати, Теккерей — хорошее чтение, очень живое, с «приемами», как говорят через дорогу у Шэнков, поразительной проницательности.
Понедельник, 28 августа
Снова начинаю заниматься греческим языком и должна выработать план: сегодня двадцать восьмое; «Миссис Дэллоуэй» закончить в субботу второго сентября; с воскресенья, третьего, до пятницы, восьмого, начать Чосера. Чосер — та глава, которую я имею в виду, — должна быть закончена к двадцать второму сентября. А потом? Писать следующую главу «Миссис Дэллоуэй» — если ей нужна следующая глава; и должна ли она называться «Премьер-министр»? Это будет до нашего возвращения — скажем, до двенадцатого октября. Потом я должна начать греческую главу. Итак, с сегодняшнего дня, то есть с двадцать восьмого августа, и до двенадцатого октября — чуть больше шести недель, — однако мне нужны перерывы. А что я буду читать? Из Гомера; одну греческую пьесу; из Платона; Циммерна; Шеппарда как учебник; «Жизнь» Бентли; если читать основательно, то этого хватит. Какую греческую пьесу? И сколько Гомера? Что из Платона? Впрочем, есть антология. Из-за елизаветинцев закончу на «Одиссее». И мне надо немножко почитать Ибсена, чтобы сравнить его с Еврипидом, Расина сравнить с Софоклом, возможно, Марло сравнить с Эсхилом. Звучит очень научно; но ведь может быть забавно, а если нет, то не стоит и продолжать.
Среда, 6 сентября
Через день привозят гранки[56], и я легко могла бы довести себя до депрессии, если бы вникала в них. Сейчас это читается как неглубокая и плоская проза; слова едва касаются бумаги; и мне наверняка скажут, что я написала изящную фантазию, имеющую мало общего с реальной жизнью. Неужели скажут? Как бы то ни было, природа послушно убеждает меня в иллюзии, что я на пороге написания чего-то хорошего; чего-то глубокого, стоящего, легкого и, как ногти, твердого, сверкающего, как бриллианты.
Закончила читать «Улисса» и думаю, что этот выстрел мимо цели. Талант, конечно, чувствуется, но низшей пробы. Слишком многословно. Противно. Претенциозно. Невоспитанно, и не только в общепринятом смысле, но и в литературном тоже. Первоклассная проза, как я понимаю, требует не перебарщивать с трюками; слишком много фокусов — это опасно. Мне все время приходил на память неоперившийся ученик закрытой школы, у которого много идей и много энергии, но который из-за неуверенности в себе и эгоизма теряет голову и становится экстравагантным, манерным, шумным, неловким, заставляет доброжелательных людей жалеть себя, а безразличных — раздражаться; и все надеются, что у него это пройдет с возрастом; но так как Джойсу уже сорок, то надежды вряд ли осуществятся. Я читала невнимательно; и лишь один раз; а это ненадежно, и, несомненно, я более небрежно, чем требуется по совести, отнеслась к его достоинствам. Я чувствую попадание и жжение мириадов крошечных пуль; однако от этого не получаешь смертельного удара прямо в лицо — как от Толстого, например; однако смешно сравнивать его с Толстым.
Четверг, 7 сентября
Когда я написала это, Л. вручил мне очень умную рецензию на «Улисса» в американской «Нейшн», которая в первый раз анализирует содержание романа; и, конечно же, делает это куда убедительнее, чем сделала я. Все же, мне кажется, в первом впечатлении есть свои достоинства и своя правда; так что я не отрекаюсь от своего мнения. Надо еще раз перечитать некоторые главы. Возможно, современникам не под силу оценить настоящую красоту; но она, полагаю, должна их ошеломить; а я не была ошеломлена. И, опять же, я была раздражена; а виноват Том[57], который заставил меня читать своими похвалами.
Четверг, 26 сентября
Уиттеринг Морган был в пятницу; Том — в субботу. Мой разговор с Томом заслуживает быть записанным, однако не получится, потому что темнеет; как бы то ни было, мы даже по отдельности не можем записать наш разговор, как договорились на днях в Чарльстоне. Много говорили об «Улиссе». Том сказал; «Он чисто литературный писатель. В основе у него Патер с примесью Ньюмена». Я сказала, что он зрелый — козел, но не ожидала, что Том согласится. А Том согласился; и сказал, что пропустил много важного. Книга станет вехой, потому что уничтожила девятнадцатый век. После нее Джойсу больше не о чем писать. Он показал тщету всех английских стилей. Кое-что Том считает прекрасным. Однако у Джойса не было «великой идеи»; она не входила в его планы. Том думает, что Джойс сделал все, что намеревался сделать. Но не считает, что Джойс сумел по-новому показать внутреннюю жизнь человека, — ничего нового, в отличие от Толстого. Блум ничего не открывает читателю. В самом деле, сказал он, что касается меня, то этот новый метод подачи психологии доказал свою несостоятельность. Он не говорит столько, сколько может сказать случайный взгляд извне. Я сказала, что, по-моему, «Пенденнис»[58] в этом смысле лучше. (Лошади объедают траву под моим окном; кричит маленькая сова; а я пишу чепуху.) Потом мы перешли к С. Ситвеллу, который использует лишь свою восприимчивость — один из смертных грехов, по мнению Тома; потом к Достоевскому — мы сошлись на гибели английской литературы; Синг — плутовство; современное состояние катастрофическое, потому что нет соответствующей формы; он не ждет ничего хорошего; он сказал, что теперь надо быть первоклассным поэтом, чтобы вообще считаться поэтом; когда жили великие поэты, на маленьких поэтов падал отсвет их пламени, и они все-таки не были пустышками. А теперь нет великого поэта. Когда был последний? — спросила я, и он сказал, что ни один не заинтересовал его со времен Джонсона. Браунинг, сказал он, был ленив; он сказал, они все были ленивыми. А Маколей испортил английскую прозу. Мы оба согласились с тем, что у людей появился страх перед английским языком. Он сказал, это потому, что люди стали говорить по-книжному, но книг читают недостаточно. Надо внимательно изучить все стили. Он считает, что Д. Г. Лоуренс случаен, особенно в «Жезле Аарона», в его последней книге; там есть великие куски; но он совершенно некомпетентный писатель. Хотя умеет твердо держаться своих убеждений. (Стало темно — десять минут восьмого после плохого дождливого дня.)
Среда, 4 октября
Я все-таки немного чванная и упрямая, потому что вчера получила письмо от Брейса[59]: «Мы думаем, что «Комната Джейкоба» в высшей степени необычная и прекрасная книга. У вас, конечно же, свой метод, и нелегко предсказать, сколько читателей примут его; но несомненно, что у него найдутся свои энтузиасты, и мы с удовольствием издадим вашу книгу» — или что-то в этом роде. Поскольку это первая оценка моей работы, полученная от незаинтересованного лица, я довольна. Значит, роман производит некоторое впечатление; это не просто холодный фейерверк. Мы думаем, он выйдет в свет к двадцать седьмому октября. Полагаю, Дакворт немного злится на меня. Я вдохнула свободы. Мне думается, мою независимость от того, кто что скажет, публика воспримет правильно, разумно и естественно. Наконец-то мне нравится читать то, что я пишу. Кажется, теперь это ближе мне, чем прежде. Я справилась со своей задачей лучше, чем ожидала. «Миссис Дэллоуэй» и глава о Чосере закончены; я прочитала пять книг «Одиссеи»; «Улисса»; и теперь берусь за Пруста. Еще я читаю Чосера и Пастонов. Очевидно, что мой план двух почти одновременных книг вполне реален, и, естественно, мне нравится читать, имея перед собой цель. Мне надо написать еще одну статью для «Supt.» — об эссе — в любое время; так что я свободна. Постоянно читаю по-гречески и в пятницу утром начинаю писать «Премьер-министра». Буду читать трилогию, немного Софокла, Еврипида и диалог Платона; еще жизнеописания Бентли и Джебба. В сорок лет начинаю изучать механизм собственного мозга — как получить максимальное удовольствие и извлечь максимальную пользу. Секрет, думаю, в том, что работу надо считать удовольствием.
Суббота, 14 октября
Получила два письма от Литтона и Каррингтон о «Комнате Джейкоба» и надписала не знаю сколько конвертов; мы в преддверии выпуска книги. В понедельник должна позировать для портрета Джону из «Лондон». Ричмонд спрашивает в письме о дате публикации, чтобы они могли отреагировать в четверг. Мои ощущения? Я спокойна. Литтон не мог бы похвалить меня сильнее. Предсказывает роману бессмертие как поэзии; боится за мою прозу; прекрасная проза, etc. Литтон слишком меня захвалил, чтобы доставить настоящее удовольствие; или, не исключено, нервы устали. Я хочу, чтобы волны остались позади и я опять выплыла в спокойную воду. Я хочу писать, не чувствуя на себе недремлющего ока. «Миссис Дэллоуэй» увеличивается до книги; и там будет исследование, в общих чертах, сумасшествия и самоубийства; мир, увиденный одновременно сумасшедшим и не сумасшедшим, — что-то в этом роде. Септимус Смит? Удачное имя? Хочу быть ближе к факту, чем в «Джейкобе»; однако думаю, что «Джейкоб» был для меня необходимым шагом на пути к свободе. А теперь я должна использовать эту терпеливую страницу, чтобы выработать план работы.
Необходимо продолжать чтение для греческой главы. Через неделю надо закончить «Премьер-министра» — скажем, двадцать первого. Потом я должна подготовиться к статье об эссе для «Таймс»: скажем, двадцать третьего. Ею буду заниматься примерно до второго ноября. Надо сконцентрироваться на «Эссе»: немного Эсхила, наверное, начну Циммерна и постараюсь побыстрее закончить Бентли, который на самом деле не очень годится для моей работы. По-моему, картина немного проясняется — хотя понятия не имею, как читать Эсхила: быстро, если следовать желанию, но это, увы, иллюзия.
Что я думаю об успехе «Джейкоба»? Думаю, мы продадим пятьсот экземпляров; потом дело пойдет медленнее, и к июню будут проданы восемьсот экземпляров. Меня очень похвалят в некоторых изданиях за «красоту»; и покритикуют те, кому хочется человеческих характеров. Единственная рецензия, которую я жду с волнением, — в «Supt.»: не то что она будет самой умной, но ее прочитает больше людей, а мне нестерпимо, когда видят, как меня выставляют на всеобщее посмешище. «W.G.»[60] будет враждебна; наверняка и «Нейшн» тоже. Но я совершенно серьезно заявляю, никому не удастся испортить мне удовольствие и поколебать меня в моем решении продолжать начатое; что бы ни было, какое бы бурление ни происходило на поверхности, внутри у меня будет полный покой.
Вторник, 17 октября
Так как я должна дать представление о моем успехе, то постараюсь покороче: во-первых, письмо от Десмонда, который, как он говорит, прочитал половину: «Вы еще никогда не писали так хорошо… Я потрясен и восхищен» — или что-то в этом роде; во-вторых, позвонил взволнованный Банни[61], сказал, что это великолепно, мое лучшее, очень живо и значительно: берет тридцать шесть экземпляров и говорит, что покупатели уже «требуют». Это не подтверждено книжными магазинами, в которых побывал Ральф. Я продала сегодня меньше пятидесяти экземпляров, но еще остаются библиотеки и «Симпкин — Маршалл».
Воскресенье, 29 октября
После ухода мисс Мэри Баттс мои мозги не способны воспринимать прочитанное, так что лучше я что-нибудь напишу для собственного удовольствия. На самом деле я слишком озадачена разговором и смущена озабоченностью людей, которым нравится «Комната Джейкоба» и которым не нравится «Комната Джейкоба», поэтому не могу сконцентрироваться. В четверг была рецензия в «Таймс» — длинная, немного прохладная, как мне показалось, — в ней говорилось, что нельзя так подавать характеры, как это делаю я; довольно лестная. Конечно же, получила письмо от Моргана прямо противоположного содержания, и оно понравилось мне больше всего остального. Мы продали, кажется, шестьсот пятьдесят экземпляров и заказали второе издание. Мои чувства? Как всегда — смешанные. Я никогда не напишу книгу, которая понравится всем. На сей раз критика против меня, а близкие полны восторга. То ли я великая писательница, то ли бумагомарательница, «стареющая сенсуалистка»[62], как назвала меня «Дейли ньюс». «Пэлл мелл» проигнорировала меня. Но я ожидала, что меня будут игнорировать и надо мной будут насмехаться. Какая судьба ждет вторую тысячу экземпляров? Пока успех больший, чем я ожидала. Думаю, и довольна я сильнее, чем когда бы то ни было. Морган, Литтон, Банни, Вайолет, Логан[63], Филип[64] писали мне с восторгом. Но мне хочется вырваться из всего этого. Я словно все еще дышу духами Мэри Баттс. Нс хочу собирать комплименты и сравнивать рецензии. Хочу размышлять о «Миссис Дэллоуэй», хочу продумать эту книгу лучше, чем прежние, и выжать из нее все возможное. Наверное, я могла бы покрепче завинтить «Джейкоба», пиши я сегодня; надо идти дальше.
1923
Понедельник, 4 июня
В повседневности я слишком неуживчива, отчасти потому, что самоутверждаюсь. Неожиданно меня очень увлекла моя книга. Я хочу показать презренность таких людей, как Отт[65]. Я хочу показать беспринципность души. Мне часто случалось быть слишком терпимой. Правда в том, что люди безразличны друг к другу. У них нерассуждающий жизненный инстинкт. Но они никогда не привязываются ни к чему вне себя. Пафф[66] сказал, что любит свою семью и ему не надо самоутверждаться. Ему не нравится холодная непристойность. И лорду Дэвиду тоже. Вероятно, эта фраза из их набора. Пафф сказал — не могу передать точно. Я гуляла с ним по огороду, и мы прошли мимо сидевшего на траве и флиртующего Литтона; потом я шла вокруг поля с Сэквиль-Вестом, который сказал, что он лучше, и роман, который он пишет, лучше, и вокруг озера — с Менассией (?), египетским евреем, который сказал, что любит свою семью, что они все сошли с ума и разговаривают, как в книгах; и еще он сказал, что они цитируют мою прозу (оксфордская молодежь) и хотят, чтобы я приехала и выступила у них; еще там была миссис Асквит. На меня она произвела большое впечатление. Белая, как камень; карие с поволокой глаза старого сокола; в них больше глубины и любопытства, чем я ожидала; личность, дружелюбна, непринужденна и решительна. О, если бы у нас были стихи Шелли; но без Шелли-человека! Так она сказала. Шелли был совершенно невыносим, заявила она; она — холодная суровая пуританка; несмотря на то, что швыряет тысячи на платья. Если угодно, она несется по жизни вскачь; подбирает одно-другое, что я хотела бы получить и никогда не получу. Она увела Литтона, схватила его под руку и поспешила прочь — она думала, ее преследует «народ»; но она очень любезна с «народом», когда требуется; сидела на подоконнике и разговаривала с одетой в черное поношенное платье вышивальщицей, к которой добра Отт. Это один из ее кошмаров — она всегда добра, чтобы ночью сказать себе: Оттолин для того приглашает на свой прием бедную вышивальщицу, чтобы завершить свой портрет. Насмешки такого рода несут с собой физический дискомфорт. Мне она сказала, что я выгляжу на удивление хорошо, и мне это не понравилось. Почему? Не знаю. Наверное, потому что у меня немного болела голова. А ведь быть здоровой и пользоваться своей силой, чтобы получать от жизни сполна, наверное, самое большое удовольствие на свете. Что мне не нравится, так это ощущение, будто я всегда о ком-то забочусь или кто-то заботится обо мне. Неважно — работа, работа. Литтон говорит, что у нас впереди еще лет двадцать. Миссис Асквит сказала, что любит Скотта.
Среда, 13 июня
Там была леди Коулфакс в шляпе с зелеными лентами. Я уже писала, что завтракала с ней на прошлой неделе? Это было в день дерби[67], лил дождь, стояли коричневые сумерки и холод, а она все говорила и говорила, и фразы летели с ее губ, как стружка из-под рубанка, одним длинным завитком. Встреча получилась неудачной: Клайв, Литтон и я. Клайв вернулся; недавно он обедал здесь с Лео Майерсом; а потом я отправилась на Голдерс-Грин, мы обедали с Мэри Шипшэнкс в ее саду и бесконечно толкли воду в ступе, что я делаю с радостью, дабы время не проходило даром. Свежий ветерок легко касался широкой изгороди, разделяющей сады. Почему-то меня охватили необычные чувства. Уже не помню, какие. Теперь мне часто приходится контролировать свое волнение — словно я бьюсь в стекло; или что-то судорожно бьется рядом со мной. Не знаю, к чему бы это. Мною завладевает поэзия жизни. Часто это связано с морем и Сент-Ивзом[68]. Приближаюсь к сорока шести, а все еще волнуюсь. От зрелища двух гробов в камере хранения подземки, должна сказать, все мои чувства как будто скукожились. У меня есть ощущение полета времени; и это служит подпоркой моим чувствам.
Вторник, 19 июня
Я берусь за тетрадь с мыслью, что могу сказать кое-что о моей прозе, — к этому меня подтолкнула статья К.М. о том, как она писала «Гнездо голубки». Но я лишь просмотрела ее. Она много наговорила о том, что нужно глубоко чувствовать; о том, что нужно быть чистой, но это я критиковать не хочу, хотя, конечно, могла бы. А что чувствую я по поводу моей работы? — по поводу новой книги, то есть «Часов»[69], если заглавие останется тем же? Достоевский тоже говорил, что нужно глубоко чувствовать, когда пишешь. А я? Неужели я играю словами, которые люблю от всей души? Нет, не думаю. В этой книге у меня даже слишком много мыслей. Я хочу показать жизнь и смерть, здравомыслие и безумие; я хочу критически показать социальную систему, как она работает, к тому же в напряженный момент. Возможно, тут я встаю в позу. Сегодня утром Ка[70] сказала, что ей не нравится «В саду». И я тотчас почувствовала себя обновленной. Я становлюсь анонимом, человеком, который пишет из любви к писательству. Она убрала мотив похвалы и позволила мне почувствовать, что и без всякой похвалы я буду с удовольствием шагать дальше. То же самое недавно вечером Дункан сказал о своей живописи. У меня такое чувство, словно я выскользнула из бального платья и стою голая — насколько мне помнится, это было очень приятно. Однако продолжаю. Пишу ли я «Часы» из глубокого чувства? Конечно же, безумная часть терзает меня очень сильно, заставляет мой мозг так напрягаться, что я едва понимаю, как смогу прожить еще несколько недель. Но это вопрос, касающийся персонажей. Люди, подобные Арнольду Беннетту, говорят, что я не могу создать и не создала в «Комнате Джейкоба» характеры, которые будут жить долго. У меня есть ответ — но оставим это на совести «Нейшн»: речь идет о старом утверждении, будто бы характер разорван на лоскуты; это старый аргумент, возникший после Достоевского. Полагаю, однако, что у меня действительно нет «натуралистического» таланта. Я иллюзионирую, и до какой-то степени умышленно, не доверяя реальности — она обесценена. Пойдем дальше. В состоянии ли я воссоздать истинную реальность? Или я пишу эссе о самой себе? Отвечаю на эти вопросы как могу, в некомплиментарном духе, и все же волнение остается. Если совсем честно, то теперь, когда я опять пишу художественную прозу, я горю внутри ярким пламенем. Если быть критичной, то я чувствую, что пишу односторонне, используя лишь мозг. У меня есть оправдание; ибо свободное использование своих возможностей означает счастье. Мое общество лучше, оно человечнее. Тем не менее, полагаю, в новой книге очень важно дойти до сердцевины. Впрочем, персонажи сами не желают мириться с украшательством в языке. Нет, я не прибиваю свой герб на Марри, которые работают в моей шкуре, но в манере исполняющего джигу насекомого. Досадно, в самом деле, унизительно так мучиться. И все же, вспомним восемнадцатое столетие. Но тогда все были открыты, а не закрыты, как теперь.
Я предвижу, возвращаясь к «Часам», что мне предстоит дьявольская борьба. План получился странный и властный. Мне все время приходится одергивать себя, чтобы соответствовать ему. Но он действительно оригинальный и очень меня интересует. Мне бы хотелось писать и писать, очень быстро и неистово. Не надо говорить, что я не могу. Иначе через три недели, если считать с сегодняшнего дня, я буду полностью опустошена.
Пятница, 17 августа
Вопрос, о котором я хочу поразмышлять здесь, — это вопрос моих эссе: как сделать из них книгу. Меня только что посетила великолепная идея представить их в духе беседы Отвея. Главное преимущество — я смогу откомментировать и добавить то, что мне пришлось выкинуть или я не смогла вставить; например, эссе о Джордж Элиот, несомненно, нуждается в эпилоге. Найти для каждого оправу и будет означать «сделать книгу», потому что сборник статей, на мой взгляд, не подразумевает художественного метода. Но может получиться и слишком художественно; тогда идея захватит меня и отнимет много времени. Тем не менее, почему бы не доставить себе удовольствие? Я поярче выявлю собственную индивидуальность. Умерю напыщенность и погружусь во всякую чепуху. Полагаю, что буду чувствовать себя куда свободнее. Но думаю, надо сделать прикидку. Для начала стоит подготовить некоторое количество эссе. И еще должно быть введение. Семья, которая читает газеты. Каждому эссе надо будет придать свою особую атмосферу. Когда это станет походить на течение самой жизни, наступит время формировать книгу; выделять главную линию — но какая это будет линия, я узнаю, лишь вновь перечитав эссе. Несомненно, художественная литература — главная тема. В любом случае эта книга покончит с современной литературой.
6 Джейн Остин
5 Аддисон
14 Конрад
15 Влияние на современника
11 Русские
4 Эвелин
7 Джордж Элиот
13 Современные эссе
10 Генри Джеймс
Перечитывая романы
8 Шарлотта Бронте
2 Дефо
12 Современные романы
Греки
9 Торо
3 Шеридан?
2 Стерн?
1 а. Старые мемуары
В хронологическом порядке
Монтень
Эвелин
Дефо
Шеридан
Стерн
Аддисон
Джейн Остин
Шарлотта Бронте
Джордж Элиот
Русские
Американцы
Торо
Эмерсон
Генри Джеймс
Современная литература
Перечитывая романы
Эссе
Влияние на современника
Примерно так.
Среда, 29 августа
Я все время сражалась с «Часами»; кажется, это самая мучительная и непокорная из моих книг. Есть очень плохие куски, а есть — очень хорошие; мне пока интересно; не могу остановиться — пока. В чем дело? Я хочу освежить себя, а не умертвить, поэтому больше ничего не скажу. Отмечу только странный симптом; я убеждена, что буду продолжать, доведу книгу до конца, потому что мне интересно ее писать.
Четверг, 30 августа
Меня позвали, полагаю, рубить деревья; нам нужны дрова, потому что все вечера мы сидим в доме. Господи, какой ветер! Вчера вечером смотрели на раскачивавшиеся на лугу деревья, и так много падало листьев, что кажется, порыв ветра — и все, конец. Сегодня утром, однако, листья падают только с липы. В полночную бурю я читала бело-канифасовую, рисово-пудинговую главу из, вроде бы, «Жен и дочерей» миссис Гаскелл: все равно это лучше, чем рассказ старух. Видите ли, я неистово размышляю о Чтении и Писании. У меня нет времени рассказывать о своих планах. Надо написать много важного о «Часах» и о моем открытии: как я раскапываю великолепные пещеры в моих персонажах; думаю, это будет как раз то, чего я хочу; человечность, юмор, глубина. Идея заключается в соединении пещер, из которых каждая будет открыта в свое время. Обед!
Среда, 5 сентября
Я слегка обескуражена приемом моей статьи о Конраде, который был полностью отрицательным. Никто даже не упомянул о ней. Не думаю, что она понравилась М. или Б. Неважно; нет ничего более бодрящего для меня, чем быть обескураженной. Надо принимать холодный душ (и я его обычно принимаю) перед тем, как начинаешь новую книгу. Он придает сил; и тогда говоришь: «О, все в порядке. Я пишу, чтобы доставить себе удовольствие». И берешься за дело. В этом есть еще то преимущество, что мой стиль становится более уверенным и откровенным, значит, все к добру. Как бы то ни было, я в пятый раз, но клянусь, в последний, начинаю то, что сейчас называется «Обыкновенный читатель»; и сегодня утром довольно посредственно написала первую страницу. Удивительно, как после всех волнений, едва я начала писать, новый аспект, который не приходил мне в голову последние два-три года, мгновенно показался неопровержимым; и придал материалу новые пропорции. Короче говоря, я и вправду буду исследовать литературу, чтобы ответить на некоторые вопросы о нас самих. Ведь персонажи всего лишь наши взгляды; о личностях же ни слова ни при каких обстоятельствах. Уверена, меня научило этому мое приключение с Конрадом. Прямо можно указывать на цвет волос, возраст и так далее, что-нибудь легкое или неопределенное тоже годится для книги. Обед!
Понедельник, 15 октября
Сейчас я вся в сцене безумия в Риджентс-парк и нахожу, что пишу ее так близко к реальности, как только могу, примерно пятьдесят слов за утро. Потом надо будет это переписать. Думаю, план гораздо лучше, чем в других моих книгах. Но боюсь, не сумею довести его до конца. У меня множество идей. И еще у меня такое чувство, будто я смогу использовать все, о чем когда-либо думала. Конечно, я гораздо свободнее, чем прежде. Сомнения вызывает лишь, как мне кажется, характер миссис Дэллоуэй. Он может показаться слишком жестким, слишком блестящим и показным. Но ведь в моей власти включить бесчисленное множество других характеров, чтобы поддержать ее. Сегодня написала сотую страницу. Естественно, пока я лишь нащупывала мой путь — до прошлого августа, во всяком случае. Мне понадобился год для понимания того, что я называю своим тоннельным процессом, когда я понемногу, по мере необходимости рассказываю о прошлом. Пока это мое главное открытие; и тот факт, что я потратила на него так много времени, доказывает, я полагаю, насколько фальшива доктрина Перси Лаббока — будто такие вещи можно делать сознательно. Чувствуешь себя несчастной — это правда, что как-то вечером я решила отказаться от книги, — а потом открывается потайной родник. Господи, спаси меня! Я не перечитывала мое великое открытие, и, возможно, в нем нет ничего особенного. Неважно. Признаюсь, у меня большие надежды на эту книгу. И я буду ее писать, пока, честное слово, ручка не выпадет у меня из пальцев. Журналистике и всему остальному придется уступить ей дорогу.
Понедельник, 26 мая
Лондон меня чарует. Я как будто ступаю на рыже-коричневый волшебный ковер и, не пошевелив пальцем, уношусь в прекрасный мир. Здесь удивительные вечера — белые галереи, широкие тихие улицы. Люди внезапно появляются и исчезают, мило и забавно, как кролики; я смотрю на Саутгемптон-Роу, мокрую, как оборотная сторона марки, и желто-красную в лучах заходящего солнца, наблюдаю за проезжающими мимо омнибусами и слышу старые, сумасшедшие разговоры. На днях я напишу о Лондоне, который, не прилагая усилий, подхватывает человека и несет с собой. Мелькающие лица будоражат мои мысли; не дают им покоя, в отличие от Родмелла с его тишиной.
В голове у меня одни лишь «Часы». Сейчас я говорю, что на все про все мне надо четыре месяца, июнь, июль, август и сентябрь, потом на три месяца отложу написанное и закончу свои эссе; это будет в октябре, ноябре, декабре — до января; в январе, феврале, марте, апреле буду исправлять роман; в апреле выйдут мои эссе, а в мае — роман. Такова программа. Мозги крутятся быстро и легко после августовского кризиса, который, я считаю, стал началом, а потом все пошло и пошло, правда, с перерывами. То, что я пишу теперь, более аналитичное и общечеловеческое, полагаю; менее лиричное; у меня такое ощущение, будто я порвала узду и готова все впитать в себя. Если так — хорошо. Еще надо будет его перечитать. На этот раз моя цель 80 000 слов. И я люблю Лондон за то, что пишу роман, отчасти благодаря тому, как я уже сказала, что здесь сама жизнь поощряет человека; а с моим умом, похожим на беличье колесо, великое дело — вовремя остановить бег по кругу. К тому же для меня большая радость без церемоний, накоротке встречаться с людьми. Я могу набегать и убегать и освежать застоявшиеся мозги.
Суббота, 2 августа
Мы в Родмелле, и у меня есть двадцать минут до обеда. Уныние одолевает меня, словно мы состарились и приблизились к концу. Наверняка это связано с отъездом из Лондона и непрерывной занятостью. К тому же в книге сейчас трудный момент — смерть Септимуса, — и я начинаю думать, что меня постигла неудача. Однако издательство работает, грустить нет никаких оснований; в случае нужды есть на что опереться. Итак, если я не смогу писать сама, то в состоянии заставить писать других людей; открою свое дело. В Родмелле как в монастыре. Душа стремится ввысь. Ненадолго приезжал Джулиан[71], высокий молодой человек, абсолютно убежденный, не менее меня самой, в моей молодости, словно он мой младший брат; как бы то ни было, мы много болтали и не чувствовали ни малейшей скованности. Все остается по-прежнему — его школа в точности как школа Тоби. Он рассказывал мне о мальчиках и учителях, как когда-то делал Тоби. И меня это по-прежнему интересует. Он восприимчивый, очень сообразительный, довольно озорной мальчик; помешанный на Уэллсе, открытиях и будущем мира. К тому же мы с ним одной крови и легко понимаем друг друга. Полагаю, он вырастет очень высоким и станет адвокатом. Все-таки, несмотря на бурчание, с которого я начала, если честно, то я не чувствую себя старой; лишь бы мне удалось направить мою энергию на писание. Если бы на меня снизошло вдохновение, если бы я могла работать тщательно, глубоко, легко, а не вымучивать двести слов в день. Да и по мере того, как рукопись толстеет, меня одолевает обычный страх. Неужели я прочитаю ее и она покажется мне бледно!!? И подтвердятся слова Марри о том, что после «Комнаты Джейкоба» нельзя продолжать в том же духе? Нет, если новая книга что-то и доказывает, то лишь одно — я могу писать только так и никогда от этого не откажусь, наоборот, буду идти и идти вперед, не наскучив, слава Богу, ни на мгновение тем, что делаю. Но мое уныние — почему? Полагаю, я могла бы излечиться от него, если бы оказалась по другую сторону Ла-Манша и неделю ничего не делала. Мне хочется посмотреть на что-то, что работает без моего участия; например, на французский торговый город. В самом деле, будь у меня силы, я бы отправилась в Дьепп; или в качестве компромисса покаталась бы по Сассексу на автобусе. Август должен быть жарким. На нас обрушиваются потопы. Сегодня прятались в стогу сена. Ох уж эта нежная и сложная душа — я барабанила по ней и слушала, дышит — не дышит. Переезд из дома в дом выбивает меня из колеи на несколько дней. Но это жизнь; это полезно. Никогда не нервничать — удел мистера Аллинсона, миссис Хоксфорд и Джека Сквайра. За два-три дня я акклиматизируюсь, начну читать и писать, и не будет никакого уныния. Если бы нам не приходилось рисковать, хватать за бороду дикого козла и глядеть с дрожью в пропасть, наверняка мы не впадали бы в уныние; но полиняли бы, присмирели и состарились.
Воскресенье, 3 августа
Теперь работа. Я уже немного пришла в себя, взявшись за книги: первым делом двести пятьдесят слов прозы, потом постоянные наброски, полагаю, уже в восьмидесятый раз для «Обыкновенного читателя», которого я могла бы сработать одним махом, если бы знала, как это сделать. С ним много мороки. Например, мне пришло в голову, что надо прочитать «Путь паломника»[72]; миссис Хатчинсон. Выбросить Ричардсона, которого я не читала? Увы, придется бежать, несмотря на дождь, в дом и смотреть, есть ли там «Кларисса»[73]. Сколько времени уйдет, да и роман длинный-предлинный. Потом надо почитать «Медею»[74]. И немного Платона в переводе.
Пятница, 15 августа
Все мои планы нарушены смертью Конрада и телеграммой из «Lit. Sup.» с настойчивой просьбой написать о нем статью для первой страницы, что, польщенная и послушная, я неохотно сделала; статья пошла; и этот номер «Lit. Sup.» испорчен для меня (ибо я не могу и никогда не смогу читать написанное мной самой. Более того, коротышка Уолкли вновь вышел на тропу войны, и в следующую среду я жду укуса). Все же я никогда не работала так много. Пришлось за пять дней написать статью, да еще я мудрила с романом после чая — и нашла, что нет никакой разницы, когда это делать, после чая или утром. Может быть, у меня появятся два лишних часа на критику (как называет мои эссе Логан)? Попытаюсь — проза до ланча и эссе после чая. Мне уже ясно, что в октябре я «Миссис Дэллоуэй» не закончу. В моих предварительных планах никогда не находится места для важных промежуточных сцен: думаю, теперь идти прямо к большому приему и к концу, забыв о Септимусе, который требует непомерного напряжения и предельной осторожности, и перепрыгнув через обед Питера Уолша[75], который тоже может стать препятствием. Мне доставляет удовольствие переходить из одной освещенной комнаты в другую, так уж устроены у меня мозги; освещенные комнаты; прогулки по полям — мои коридоры; но сегодня я думаю лежа. Кстати, почему поэзия по вкусу только пожилым людям? Когда мне было двадцать, что бы ни говорил Тоби, который был очень настойчив и строг, я бы ни за что не стала читать Шекспира ради удовольствия; а теперь мне приятно думать о том, что вечером я буду читать два акта «Короля Джона», а потом еще «Ричарда II». Теперь мне хочется читать поэмы — длинные поэмы. В самом деле, я подумываю о том, чтобы почитать «Времена года»[76]. Мне хочется концентрированного текста и любовной истории, и чтобы слова были как будто склеены, сплавлены и жарко пылали; у меня больше нет лишнего времени, чтобы тратить его на прозу. Все же это, наверное, совсем не то, что говорят другие. Когда мне было двадцать, я любила прозу восемнадцатого века; мне нравились Хэклит, Мериме, я читала Карлейля, жизнеописание и письма Скотта, Гиббона, всякие двухтомные биографии и Шелли. А теперь хочу поэзии и каюсь, как подвыпивший матрос перед пивной… Нечасто я даю себе труд описывать поля и работающих на них женщин в свободных сине-красных одеждах и маленьких девочек в желтых платьицах, с широко открытыми глазами. Дело не в том, что я разучилась смотреть; на днях, возвращаясь из Чарльстона, я опять почувствовала, как у меня напряглись, полыхнули огнем нервы, словно наэлектрофицированные (можно так?) из-за представшей передо мной совершенной красоты — красоты поразительной и сверхизобильной. Она даже могла бы вызвать негодование, ибо человек не в состоянии одновременно объять ее всю. Жизненная дорога может стать в высшей степени интересной, если постоянно стараться понимать происходящее кругом. Мне кажется, будто я осторожно прикасаюсь пальцами (пришел Леонард и приказал мне придумать предлог, чтобы завтра отвезти Дэди[77] в Тилтон[78]) к обеим сторонам заваленного всяким хламом тоннеля. Я больше не рассказываю о встречах со стадами коров — хотя это было бы необходимо несколько лет назад, — как они сгрудились и мычали, словно кавалеры, вокруг Гриззл; и как я, оказавшись в безвыходном положении, махала палкой и думала о Гомере, когда они с ревом и топотом приближались ко мне; какое-то подобие сражения. Гриззл же, становясь все более и более смелой и возбужденной, выстреливала в ответ лаем. Аякс? Мне припомнился этот грек, несмотря на все мое невежество.
Воскресенье, 7 сентября
Мне стыдно, что я ничего не пишу, а если пишу, то пишу небрежно, с большим количеством причастий. Они показались мне очень полезными, когда я в последний раз полировала «Миссис Д.». Наконец-то добралась до приема, который должен начаться в кухне и постепенно переползти наверх. Это будет чрезвычайно сложный, живой, цельный кусок, на котором сойдется все и который закончится тремя замечаниями, произнесенными на разных ступеньках лестницы, и в каждом будет что-нибудь важное о Клариссе. Кто их произнесет? Питер, Ричард и, наверное, Салли Ситон, однако я не хочу связывать себя заранее. Сейчас мне вправду кажется, что это может стать лучшей из написанных мной концовок и финалов. Но еще нужно перечитать первые главы и в какой-то мере исповедоваться в страхе перед безумием; и быть умной. Я уверена, что теперь у меня все пойдет без сучка без задоринки, хотя бы потому, что пока метафоры льются легко. Если бы удалось перенести все преимущества наброска в большую и сложную работу! К этому я стремлюсь. Как бы то ни было, никто не может мне помочь и никто не может помешать. На меня пролился дождь комплиментов из «Таймс», Ричмонд даже растрогал меня, сказав, что от всей души дает дорогу моему роману. Мне бы хотелось, чтобы он прочитал то, что я пишу, но подозреваю, он ничего не читал.
Я воспарила так высоко, как никогда прежде, и думала, что закончу к четвергу; Лотти сказала Карин, будто мы хотим оставить Энн; Карин интерпретировала мой вежливый отказ по-своему и явилась в субботу, сметая все на своем пути. Я все более и более уединяюсь; боль от таких переворотов безмерна; и я ничего не могу объяснить… Вся неделя испорчена — а какой спокойной и безмятежной, словно лапландская ночь, была предыдущая неделя, проведенная вдвоем, — я чувствую, что должна пойти к ним и быть хорошей тетушкой — какой не рождена на свет; нужно спросить Дейзи, чего она хочет; я заполняю свое время наведением порядка, когда все мои мысли о завтрашней работе, то есть о приеме миссис Дэллоуэй. Единственный выход — остаться в одиночестве до четверга и попытать счастья. Может сказаться и неважный вечер (опять К. виновата). Зато я живу полной жизнью в своем воображении; в совершенной зависимости от наплывов мыслей, поглощающих меня, когда я гуляю или просто сижу; мысли пенятся у меня в голове, составляя бесконечный поток, который и есть мое счастье. В нем нет места ничего не значащим людям. Надоели мне эти стены; отчасти потому, что я ничего не вижу и у меня дрожат руки, после того как я притащила саквояж из Льюиса, где сидела на увенчанной замком вершине холма, когда старик мел там листья; он посоветовал мне, как вылечить люмбаго: надо обвязаться шелковым шарфом; шелк стоит три пенса. Я видела британские челноки и самый старый в Сассексе плуг, в 1750 году найденный в Родмелле, и доспехи, какие, говорят, были на воинах в битве при Серингапатаме[79]. Обо всем этом мне, кажется, хотелось бы написать. И конечно же, дети прелестны и очаровательны. С Энн я говорила о белом тюлене, и она попросила меня почитать ей. Не представляю, как Карин умудряется быть настолько равнодушной. У них в головках есть нечто, приводящее меня в восторг; для меня было бы большим удовольствием проводить с ними наедине день за днем. У них есть то, чего нет у взрослых людей, — прямота. Энн болтает, болтает, болтает, словно она в каком-то собственном мире, со своими тюленями и собаками; счастливая, потому что вечером будет пить какао, а завтра пойдет за ежевикой. Стены ее разума украшены сверкающими яркими вещами, и она не видит того, что видим мы.
Пятница, 17 октября
Стыдно. Я побежала наверх, думая, что мне хватит времени сделать потрясающую запись — последние слова последней страницы «Миссис Дэллоуэй», — но меня перехватили. Как бы то ни было, я написала их неделю назад. «И он увидел ее»[80]. Я была счастлива освободиться от этого романа, ибо он держал меня в напряжении последние несколько недель, но голова у меня была посвежее; не такая, как обычно, когда я скольжу и едва удерживаюсь на натянутой веревке. И я гораздо свободнее от написанного, чем обычно, — сомневаюсь, что так будет, когда я возьмусь за перечитывание. Но в каком-то смысле эта книга — мой подвиг; я написала ее в том виде, в каком она сейчас, всего за один год, то есть с конца марта до восьмого октября, не прерываясь на болезнь, что было исключением из правила, и отложив ее лишь на несколько дней, когда мне пришлось заняться журналистикой. Итак, она наверняка отличается от других моих книг. В любом случае я чувствую, что избавилась от заклятья, которое, как говорили Марри и другие, я наложила на себя после «Комнаты Джейкоба». Единственная трудность — удержаться от писания других романов. Мой cul de sac[81], как они это называют, очень длинный, и из него открываются необозримые просторы. Я уже вижу Старика.
Мне пришло в голову, что в этой тетради я практикуюсь в стиле; разрабатываю собственные масштабы; придумываю свои ходы. Признаюсь, здесь я практиковалась в стиле «Джейкоба» и в стиле «Миссис Д.» и буду примериваться к стилю следующей книги; потому что здесь я пишу, но как будто мысленно, — и это доставляет мне большое удовольствие, да и старушка В. в 1940 году тоже найдет тут что-нибудь для себя. Она все найдет, старушка В., — наверняка больше, чем нахожу я. Однако я устала.
Суббота, 1 ноября
Мне необходимо кое-что записать о моей работе; ибо пора приниматься за дело. Вопрос в том, как работать сразу над двумя книгами. Я собираюсь быстренько пройтись по «Миссис Д.», но все равно это займет некоторое время. Нет: пока сказать нечего, потому что на следующей неделе буду заниматься экспериментированием; сколько потребуется внести изменений и сколько это займет времени. Но прежде я очень хочу закончить с эссе. Вчера пила чай в комнате Мэри и видела, как проплывают мимо красные огни буксиров, слышала шипение реки; Мэри в черном платье с листьями лотоса на шее. Умение дружить с женщинами, наверное, доставляет большое удовольствие — тайные, скрытые ото всех отношения сравнимы с отношениями с мужчинами. Почему бы не написать об этом? Но написать честно. Я думаю, записи в дневнике очень помогают мне вырабатывать мой стиль; ослабляют связи.
Вторник, 18 ноября
Я хочу сказать, что, по моему мнению, проза должна иметь четкую форму. Искусство надо уважать. Это пришло мне в голову, когда я прочитала здесь кое-какие из своих замечаний, ведь если позволить мыслям полную свободу, то получится эгоцентрическая проза, личная, к которой я питаю отвращение. В то же время огонь не должен быть ровным; и, наверное, для его высвобождения надо начинать с хаоса, вот только появляться в таком виде перед публикой нельзя. Сейчас я держу путь через сумасшедшие главы «Миссис Д.». Интересно, выиграла бы книга, если бы их не было? Однако это запоздалые мысли, и они появились в результате размышлений о том, как надо было писать роман. Всегда так; стоит закончить работу, и сразу понимаешь, как ее надо было делать.
Суббота, 13 декабря
Галопом одолеваю «Миссис Д.», перепечатываю ее с самого начала, как я более или менее делала с «Путешествием»: хороший метод, мне кажется, пройтись по всему, что есть, мокрой тряпкой и соединить в единое целое написанные независимо друг от друга и получившиеся сухими части. Если честно и откровенно, то, думаю, это самый удачный из моих романов (но я еще не читала его на холодную голову). Критики скажут, что он отрывочный, потому что сцены безумия не связаны со сценами, в которых появляется миссис Дэллоуэй. А я полагаю, здесь есть в высшей степени замечательная проза. В ней отсутствует «реальность»? Это всего лишь внешний лоск? Не думаю. И, как я, полагаю, уже говорила прежде, эта проза помогла мне глубже забраться в самые богатые пласты моего мозга. Теперь я могу писать, и писать, и писать: самое счастливое чувство, какое только может быть на этом свете.
Понедельник, 21 декабря
Мне, правда, стыдно — слишком уж много пустых страниц в этой тетради. Лондон определенно не лучшим образом влияет на состояние дневников. Этот, подумать только, самый тощий из всех, и я сомневаюсь, стоит ли брать его в Родмелл, но если и возьму, то вряд ли сумею много написать в нем. В самом деле, год был богат на события, как я и предполагала; и мечтательница из третьего января почти все намечтала правильно; теперь мы в Лондоне с одной лишь Нелли, Дэди в самом деле уехал, но приехал Энгус. Я сделала вывод, что переезд из дома в дом не такой уж катаклизм, как мне поначалу казалось; в конце концов, меняешь ведь не тело и не мозги. Я все еще погружена в «мою прозу», спешу изо всех сил, перепечатываю «Миссис Д.» для Л., чтобы он прочитал в Родмелле; потом помчусь наносить последние удары по «Простому читателю», а потом — потом буду свободна. Наконец-то буду свободна и смогу написать еще один-два рассказа, которые сложились у меня в голове. Я все меньше и меньше уверена в том, что это рассказы, но не знаю, как их назвать. Однако мне ясно, что я максимально приблизилась к тому, чего добивалась, к тому же подобрала приемлемую форму. Думаю, у меня все меньше потерь. Однако взлеты чередуются с падениями.
1925
Среда, 6 января
В Родмелле сплошное ненастье и потоп; именно так. Река разлилась. Семь дней из десяти шел дождь. Частенько не было возможности погулять. Л. обрезал деревья, что требовало героических усилий. А мой героизм был исключительно литературным. Я редактировала «Миссис Д.», то есть выполняла самую рассудочную часть работы и самую унылую — изнурительную. Хуже всего начало (как всегда), когда на протяжении нескольких страниц все внимание уделено аэроплану; они получились жидковатыми. Л. прочитал и думает, что это лучшее из написанного мной, — но ведь он и должен так думать. Все же я соглашаюсь. Он считает, что непрерывность удалась мне здесь лучше, чем в «Комнате Джейкоба», но все же читать трудновато, если учесть отсутствие связи, видимой, между двумя темами. Как бы то ни было, рукопись отправлена Кларку, и на следующей неделе будет корректура. Это для Харкорта Брейса, который принял роман не читая и поднял ставку на 15 %.
Вторник, 8 апреля
Я под впечатлением, сложным, от возвращения домой с юга Франции — в просторную туманную мирную уединенность Лондона (так мне казалось вчера вечером), но которой как не бываю из-за несчастного случая, происшедшего на моих глазах утром — женщина кричала, еле слышно, ой, ой, ой, прижатая автомобилем к ограде. Весь день мне слышатся ее голос. Я не побежала на помощь; к ней бросились все булочники и цветочницы. Не могу избавиться от страшного ощущения грубого и дикого мира — эта женщина в коричневом пальто шла по тротуару — и вдруг, как в кино, красная машина переворачивается, подминает ее под себя, и слышится ой, ой, ой. Я отправилась посмотреть новый дом Нессы и на площади встретила Дункана[82], но поскольку он ничего не видел, то и ни в малейшей степени не чувствовал того, что чувствовала я, и Несса не чувствовала, хотя попыталась сопоставить этот несчастный случай с тем, который весной произошел с Анджеликой. Я успокоила ее, сказав, что эта женщина нам не знакома; и мы отправились смотреть дом.
Со времени последней записи умер Жак Равера; страстно желая умереть; он прислал мне письмо о «Миссис Дэллоуэй», и это был один из самых счастливых дней в моей жизни. Неужели на этот раз мне в самом деле что-то удалось? Нет, ничего, конечно же, сравнимого с Прустом, которым я теперь поглощена. У Пруста сочетание предельной чувствительности с предельной твердостью. Ему нужны все до последнего оттенки на крылышках бабочки. Он вечен, как кетгут, и мимолетен, как мимолетна жизнь бабочки. И он будет, полагаю, одновременно влиять на меня и выводить меня из себя каждой моей фразой. Жак умер, как я уже сказала; и сразу же чувства начали осаду. Весть дошла одновременно до меня, до Клайва, до Би Хау, до Джулии Стрэчи, до Дэди. Однако я больше не расположена снимать шляпу перед смертью. Предпочитаю выйти из комнаты, продолжая беседовать, с незаконченной случайной фразой на губах. Такое это произвело на меня впечатление — никаких прощаний, никакой покорности, просто еще один человек ушел во мрак. Но для нее[83] это кошмар, ужасный кошмар. А я только и могу, что быть с ней естественной, но это, как мне кажется, очень важно. Вновь и вновь я повторяю свою версию Монтеня — «Значение имеет только жизнь».
Я жду, не зная, какую форму в конце концов примет у меня в голове Касси. Там скалы. Мы обычно отправлялись после завтрака посидеть на них и погреться на солнышке. Л. сидел без шляпы и что-то писал на колене. Однажды утром он нашел морского ежа — они красные и с подрагивающими щупальцами. Потом, днем, мы шли гулять по холмам и в лес, где однажды услышали шум мотора и обнаружили совсем рядом дорогу на Ла Сиота. Всюду камни, крутые тропинки; и очень жарко. Один раз мы слышали громкий говор птиц, и мне пришли на память лягушки. На лугах растут неряшливые красные тюльпаны; а сами луга представляют собой небольшие угловатые выступы, круто обрывающиеся с одного края, разлинованные и укрепленные виноградом: то тут, то там побеги фруктовых деревьев в красных, розовых, багровых бутонах. Дома белые, желтые или голубые с резко очерченными углами и плотно закрытыми ставнями; вокруг них ровные тропинки и кое-где ряды левкоев; всюду поразительная чистота и завершенность. В Ла Сиота большие оранжевые корабли поднимаются из голубых вод маленькой бухты. Все бухты правильной круглой формы, окруженные оштукатуренными домами пастельных тонов, очень высокими, облупленными и подмазанными, со ставнями; возле одних горшки и пучки травы, возле других развешанное на веревках белье; кое-где сидят старухи и смотрят вдаль. На холме, каменном, как пустыня, сохнут сети; на улицах детишки и перешептывающиеся девицы в выгоревших ярких шалях и бумажных чулках, на площади мужчины копают землю, чтобы уложить камни. Отель «Золушка» — белый дом с красной плиткой на полу, способный вместить человек восемь. Кстати, атмосфера отеля подсказала мне много идей: холодная, безразличная и внешне любезная, порождающая весьма странные отношения; словно человеческая природа сведена до некоего кода, который она придумала на тот крайний случай, когда люди, не знакомые друг с другом, встречаются и предъявляют права как члены одного племени. Действительно, мы то и дело с кем-то соприкасаемся, но это не затрагивает нас глубоко. Л. и я были слишком счастливы, как говорится; если бы пришлось умереть, и т.д. Никто не скажет обо мне, что я не знала настоящего счастья, однако совсем немногие могут ткнуть пальцем в нужное мгновение или сказать, что именно сделало их счастливыми. Даже я сама, случайно пошевелившись в луже счастья, могла бы сказать лишь: это все, чего я хочу. Ничего лучшего мне не было нужно; и я не без суеверия поминала богов, которые должны, придумав счастье, завидовать ему. Однако это не похоже на то, как если бы оно свалилось неожиданно.
Воскресенье, 19 апреля
Мы уже пообедали; это наш первый летний вечер, и настроение писать покинуло меня, едва появилось и исчезло. Еще не наступили мои священные полчаса. Но если подумать — пожалуй, стоит почитать что-нибудь из дневника, чем писать о том, как удачно я навела глянец на мистера Ринга Ларднера. Этим летом мне удастся заработать прозой триста фунтов и поставить в Родмелле ванну с горячей водой. Но тьфу-тьфу — книги еще только должны выйти и будущее у меня неопределенное. Что касается прогнозов — вероятно, «Миссис Дэллоуэй» будет иметь успех (Харкорт считает роман «замечательным»), и две тысячи экземпляров распродадутся быстро. Я этого не жду. Я жду медленного тихого роста славы, как получилось, удивительно, после выхода в свет «Комнаты Джейкоба». Мое положение журналистки упрочивается, хотя вряд ли продан даже один экземпляр[84]. Но я не очень нервничаю — немножко; и, как всегда, мне хочется закопаться поглубже в мои новые истории, но чтобы зеркало не отсвечивало мне в глаза — то есть Тодд, то есть Коулфакс и т. д.
Понедельник, 20 апреля
Одна вещь, если говорить о состоянии моего рассудка на сегодняшний день, как мне кажется, не подлежит обсуждению — я уже добралась до нефти, однако не могу писать достаточно быстро, чтобы всю ее вытащить на поверхность. У меня сейчас придуманы по крайней мере шесть историй, и я наконец чувствую, что могу переводить мысли в слова. Все же есть бесчисленные проблемы; хотя я никогда прежде не ощущала такого внутреннего напора и такого напряжения. Полагаю, я могу писать гораздо быстрее; если писание заключается в этом — выплескивание фразы на бумагу, потом печатание и перепечатывание — переделка; по-настоящему процесс писания сейчас похож на махание метлой, после чего я заполняю освободившееся пространство. Неужели я могла бы стать известной — не скажу великой, но известной — писательницей? Странно, но, несмотря на все мое тщеславие, до сих пор я не очень верила в свои романы и в то, что смогу выразить в них себя.
Понедельник, 27 апреля
«Обыкновенный читатель» вышел в четверг: сейчас понедельник, а я до сих пор не слышала и не читала о нем ни слова; похоже, как если бы я бросила камень в пруд и вода сошлась над ним, даже не покрывшись рябью. Но я совершенно спокойна и думаю об откликах меньше, чем когда бы то ни было. А пишу, чтобы напомнить себе, когда наступит следующий раз, о грандиозных триумфах моих книг. Я сидела в «Воге», то есть у Беков, в их клетках, которые мистер Вулнер строил как студии; наверное, там он думал о моей матери, ведь он хотел на ней жениться, как мне кажется.
Я имею в виду второе «я».
Сейчас я уверена, что у всех людей множественная структура сознания; и мне хотелось бы исследовать социальное сознание, модное сознание, и так далее. Мир моды у Беков — миссис Гарланд занимается показом — это, конечно же, целостный мир, в котором люди прячутся в конверт, объединяющий и защищающий их от других людей типа меня, то есть находящихся вне конверта, чужих. Эту множественную структуру трудно передать (я, понятно, на ощупь подыскиваю слова), но я все время к этому возвращаюсь. Социальное сознание, например; сознание Сибил. Его нельзя расколоть. Оно живое. Его надо сохранить целостным, как оно есть. И все же я до сих пор не совсем понимаю, что имею в виду. Кстати, я собиралась написать Грейвсу, прежде чем забуду о нем.
Пятница, 1 мая
Это, как говорится, справка на будущее. «Обыкновенный читатель» напечатан восемь дней назад, но пока еще не появилось ни одной рецензии, да и мне никто ничего не написал и не сказал, хотя бы признавая факт его появления на свет; кроме Мэйнарда, Лидии и Дункана. Клайв неожиданно оглох; у Мортимера грипп, и он не может написать о книге; Нэнси видела, как он читает, но умолчала о его мнении; все указывает на скучный, холодный, унылый прием; и полный провал. Я только что прошла стадию надежд и страхов и теперь вижу, как разочарование плывет, будто старая бутылка, в моем кильватере, но я готова к новым приключениям. Если такое же случится с «Дэллоуэй», не стоит удивляться. Надо написать Гвен.
Понедельник, 4 мая
Вот температурная кривая книги. Мы отправились в Кембридж, и Голди сказал, что считает меня лучшим из ныне живущих критиков, а потом в своей резкой и неловкой манере спросил: «Кто пару месяцев назад написал замечательное эссе об елизаветинцах в «Lit. Sup.»? Я показала пальцем на себя. Итак, теперь есть один насмешливый отклик об «Обыкновенном читателе» в «Сельской жизни», почти нечленораздельный от неумения выразить свои мысли, и еще один, как сказал Энгус, в «Стар», где издеваются над обложкой Нессы. Судя по началу, не исключено довольно много критических замечаний в том смысле, что я пишу невразумительно и туманно; возможен кое-какой энтузиазм; будет продано мало экземпляров, и моя репутация укрепится. О да, репутация укрепится.
Суббота, 9 мая
Что до «Обыкновенного читателя», то в «Lit. Sup.» было почти две колонки рассудительных, разумных похвал — ни то ни сё — моя судьба в «Таймс». Голди пишет, что, по его мнению, «это лучшие критические сочинения в Англии — самые мудрые, остроумные и основательные». Мои критики или возносят меня до небес, или смешивают с грязью как посредственность — судьба. Но в «Lit. Sup.» мне не дождаться энтузиаста. То же самое скоро будет с «Дэллоуэй».
Четверг, 14 мая
Я собиралась тщательно регистрировать температуру моих книг. «О.ч.» не продается; но его хвалят. С искренним удовольствием открыла сегодня утром «Манчестер Гардиан» и прочитала статью мистера Фоссета об Искусстве В.В.; ярко и честно, глубоко и остроумно. Вот если бы «Таймс» могла так говорить, а не бормотать и не бурчать, словно человек, набравший в рот камешков. Я уже упоминала, что там были почти две бессмысленные колонки? Странно, однако: если честно, то я почти не волнуюсь за «Миссис Дэллоуэй». К чему бы это? На самом деле мне становится немного скучно, в первый раз, стоит только подумать, как много мне предстоит говорить о романе этим летом. Суть в том, что само писание доставляет глубочайшее удовольствие, а читатели — лишь поверхностное. У меня окончательно сложилось желание покончить с журналистикой и заняться романом «На маяк». Он должен быть довольно коротким; в нем будет подробный портрет отца; и матери; и Сент-Ивза; и моего детства; и всего того, без чего нет моих романов — жизни, смерти и т.д. Однако в центре будет отец, сидящий в лодке, декламирующий. Мы гибнем, каждый сам по себе, а он в это время бьет умирающую макрель. Но я должна обуздать себя. Сначала нужно написать несколько рассказов и дать «Маяку» закипеть, добавляя по нескольку фраз между чаем и обедом, пока он не забурлит.
Пятница, 15 мая
Две неблагоприятные рецензии на «Миссис Д.» («Вестерн мейл», «Скотсмен»); неумно, нехудожественно и т. д., а еще письмо от молодого человека из Эрлз-Корта[85]. «На этот раз у вас получилось — вы ухватили жизнь как она есть и сделали из нее книгу…» Пожалуйста, извини за несдержанность; дальнейшее цитирование необязательно, да и не думаю, что я вообще стала бы переписывать эти слова, если бы не шум в голове. Из-за чего? Наверное, из-за неожиданной жары и шумной жизни. Мне нельзя смотреть на свою фотографию.
Среда, 19 мая
Ну вот, Моргану нравится. Как гора с плеч. Больше, чем «Джейкоб», как он говорит: берег слова; целовал мне руку, а потом сказал, что ужасно рад и очень счастлив (примерно так). Он думает — нет, не буду вдаваться в подробности; я еще много чего услышу; а он говорил лишь о том, что мне надо писать проще, как многие теперь пишут.
Понедельник, 1 июня
Банковский выходной[86], и мы в Лондоне. Писать о судьбе моих книг — занятие довольно скучное; однако сейчас обе уже спущены на воду, и «Миссис Д.» распродается довольно успешно. Куплено уже 1070 экземпляров. Я записала мнение Моргана; Вита слегка растеряна; Десмонд, которого я довольно часто вижу из-за его книги, свел на нет все похвалы, сказав, что Логан считает «Обык. чит.» неплохой книгой, но не более того. У Десмонда ненормальная способность наводить на меня тоску. Он удивительным образом скользит по краешку жизни. Я люблю его; однако его уравновешенность, его доброта, его ум, которые сами по себе божественны, почему-то не прибавляют ему блеска. Мне кажется, я чувствую это не только в его отношении к моей работе, но и в отношении к жизни вообще. Однако пришла миссис Гарди сказать, что Томас читает и она слышала, что Томас читает «Обык. чит.» с «превеликим удовольствием». В самом деле, за исключением Логана, этого прожженного американца, все меня очень хвалят. «Таухниц»[87] просит еще экземпляры.
Воскресенье, 11 июня
Постыдное признание — сегодня воскресенье, утро, пробило десять часов, а я пишу дневник, не прозу и не критику, и у меня нет никаких оправданий, кроме состояния моего рассудка. Правда, завершив две такие книги, нельзя сразу же сконцентрироваться на следующей; потом, еще есть письма, беседы, отклики, и все они парализуют мой разум. Я не могу успокоиться, взяться за работу и выключиться из жизни. Написала шесть маленьких рассказов, попросту выплеснула их на бумагу и подумала, наверное, слишком определенно: «На маяк». Пока обе книги имеют успех. Мы продали больше экземпляров «Мисис Д.» за один месяц, чем «Джейкоба» — за год. Кажется, нам удастся продать 2000 экземпляров. «Обык. чит.» на этой неделе тоже приносит доход. Пожилые джентльмены обращаются ко мне весьма почтительно и торжественно.
Четверг, 18 июня
Нет, Литтону не нравится «Миссис Дэллоуэй», и, как ни странно, я люблю его еще сильнее за то, что он это сказал, и мне в общем-то, все равно. Он говорит, что между орнаментом (на редкость прекрасным) и тем, что происходит (довольно заурядным — или незначительным), есть диссонанс. Причина этого, как он думает, во внутренних противоречиях самой Клариссы: он думает, что она неприятная, ограниченная, и я или смеюсь над ней, или совершенно закрываю ее собой. Итак, я думаю, что в целом книга звучит несолидно; все же он говорит, что она целостна и в некоторых местах стиль в высшей степени прекрасен.
Иначе его не назовешь как гениальным. Он это сказал! Никто ничего не знает о гениальности. Но здесь ее больше, сказал он, чем во всем остальном, написанном мной. Возможно, сказал он, вы еще не довели свой метод до совершенства. Надо добавить чего-то непредсказуемого и фантастического, чтобы было все, как в «Тристраме Шенди»[88]. Но тогда я упущу чувства, ответила я. Да, он согласился со мной, вам нужно нечто реальное для начала. Один Бог знает, как вы это сделаете! Он думает, что для меня это начало, а не конец. И он сказал, что «Обык. чит.» божественная книга, классика, тогда как «Миссис Д.» для него, боюсь, разбитый камень. Все это очень личное, сказал он, и, наверное, устаревшее; я убеждена, что в его словах есть правда, потому что мне помнится ночь в Родмелле, когда я решила все бросить из-за Клариссы, показавшейся мне в некотором роде блестящей дешевкой. Потом я придумала ей воспоминания. Но, наверное, раздражение отчасти сохранилось. И вот то же самое в отношении Китти, читатели не должны любить персонажей искусства, какими бы важными они ни были, разве что некоторые обретают важность от важности того, что с ними происходит. Не это мучит и печалит меня. Не это странно. Когда Клайв и другие (некоторые) говорят, что я написала шедевр, их слова не очень меня трогают; а когда Литтон тыкает пальнем в дыры, я обретаю настроение. У меня нет ощущения успеха. Гораздо больше обычного рабочего драчливого настроения.
20 июля
Продано примерно 1530 экземпляров.
Мне нравится ощущение еще одной попытки. За три дня ничего не продано; но сейчас опять начинается легкое шевеление. Буду очень рада, если мы продадим 1500 экземпляров. Пока продано 1250.
Суббота, 27 июня
Неприятный холодный день, и вчерашний вечер был промозглым, ветреным, но во время пикника зажгли китайские фонарики в саду у Роджера. До чего же я не люблю себе подобных. Презираю их. Прохожу мимо, не оглядываясь. Позволяю им разбиваться об меня, словно грязным каплям дождя. У меня больше нет энергии, которая, учуяв одну из этих безжизненных теней, проплывающих мимо или взбирающихся на гору, могла бы дотянуться до нес, заполнить ее собой, пробудить ее, взбудоражить и, наконец, оживить и воссоздать. Когда-то я владела этим даром и у меня была страсть, отчего вечеринки получались веселыми, заводными. А теперь я просыпаюсь рано утром и наслаждаюсь тем, что могу провести целый день в одиночестве; целый день оставаться самой собой, немного печатать; спокойно скользить в глубоких водах своих мыслей, исследуя нижний мир, а потом, вечером, наполнять водоем Свифтом. Хочу написать о Стелле и Свифте для Ричмонда в знак благодарности за гинеи с прилавка «Вог». Первый подарок «Обык. чит.» (книга теперь высоко оценена) — приглашение писать для «Атлантик Мансли». Итак, я опять загоняю себя в критику. Это великая вещь — возможность получать большие деньги за изложение своего взгляда на Стендаля и Свифта. (Пока я пытаюсь писать, у меня из головы не идет «Маяк» — в нем все время должно слышаться море. У меня появилась идея придумать другое название для книги вместо «романа». Новый — Вирджинии Вулф. Что? Элегия?)
Понедельник, 20 июля
Открылась дверь, и вошел Морган с приглашением на ланч в «Etoile», которое мы приняли, хотя у нас были отличная телятина и пирог с ветчиной (классический стиль журналистов). Это, наверное, идет от Свифта, с которым я как раз закончила, так что имею право поговорить с дневником. Надо подумать, что мне теперь писать. Наверное, небольшой рассказ, скорее обзор, в ближайшие две недели; еще у меня есть суеверное желание заняться «Маяком» в первый же день, когда мы будем в Монкс-Хаус. Думаю, там я могла бы написать его за два месяца. Слово «сентиментальный» мне поперек горла (я буду писать как бы изнутри в виде истории — Энн Уоткинс прилетает в среду из Нью-Йорка, чтобы взять у меня рассказы). Но тема-то как раз сентиментальная; отец, мать и ребенок в саду; смерть; поездка на маяк. Однако не исключено, едва я примусь за нее, как обогащу ее во всех смыслах; она станет гуще; у нее появятся ветки — корни, — о которых мне пока неизвестно. Наверняка все персонажи перекипят в моем вареве; детство; и еще то безличное, к чему меня подталкивают мои друзья, полет времени и соответственно нарушение единства в предварительном плане. Я задумываю три части. 1. У окна в гостиной. 2. Через семь лет. 3. Поездка меня очень интересует. Новая проблема заново переворачивает все в мозгах, не дает двигаться по накатанной. Что читать в Родмелле? Множество книг вспоминаются мне. Хотелось бы от души начитаться и собрать материал для серии «Жизнь неизвестных людей», которая должна рассказать обо всей истории Англии через — одну за другой — неизвестные жизни. Хотелось бы дочитать Пруста. Стендаль — а потом то-сё. Восемь недель в Родмелле всегда кажутся бесконечными. Купим ли мы дом в Саутхизе? Наверное, нет.
Четверг, 30 июля
Меня невыносимо тянет в сон, я совсем разбита и потому пишу тут. Мне в самом деле хочется начать новую книгу, но приходится ждать, пока просветлеет голова. Дело в том, что я колеблюсь между уникальным и сильным характером отца и куда более спокойной и широкомасштабной книгой — Боб Т.[89] говорит, что у меня определенно необычная скорость. Летние скитания с ручкой, кажется, подсказали мне пару новых хитростей для ловли моих мух. Я была похожа на импровизатора, наигрывающего мелодию за мелодией на фортепиано. Результат совершенно неубедительный и почти неграмотный. Мне хочется научиться большему покою и большему напору. Но если я возьмусь за такую задачу, разве мне не грозит опасность написать очередные плоские «Ночь и день»? Хватит ли мне сил для того, чтобы покой не навевал скуку? Подобные вопросы я пока оставляю без ответа. Итак, с этим эпизодом покончено. Ах, Боже мой, я слишком устала, чтобы писать, поэтому, полагаю, придется взять роман мистера Добре и прочитать его. Все же мне еще многое нужно сказать. Кажется, кое-что можно сделать в «Маяке», еще мельче раздробить чувства. В этом направлении я как будто и работаю.
Суббота, 5 сентября
Почему все это время я не понимала и не чувствовала, что понемногу истощаю себя и как будто еду с проколотыми шинами? Вот и случилось то, что случилось; упала в обморок в Чарльстоне, как раз посреди дня рождения К.[90], а потом две недели отлеживалась с головной болью, как амфибия. Это проделало большую дыру в восьми неделях, которые были до отказа заполнены всякими планами. Ничего. Заново скомпоную все то свободное время, что мне выпадет. Меня не выбьет из седла никому и ничему не подчиняющаяся злодейка-жизнь, измученная, заезженная моей же собственной непонятной и непредсказуемой нервной системой. В мои сорок три года мне ничего о ней неизвестно, потому что все лето я твердила себе; «Со мной все в порядке. Я могу сама справиться с бурей чувств, из-за которой два года назад от меня бы мокрого места не осталось».
Я совершила стремительную и эффективную атаку на «Маяк», двадцать две страницы — меньше, чем за две недели. Я все еще еле ползаю и легко устаю, но если бы мне вновь удалось собраться с силами, уверена, я бы с бесконечным наслаждением раскрутила его дальше. Подумать только, с каким трудом мне давались первые страницы «Дэллоуэй»! Каждое слово безжалостно терзало мозг.
Понедельник, 13 сентября, наверное
Позорный факт — я пишу это в десять часов утра, лежа в кровати в маленькой комнате с окнами в сад; солнце светит вовсю, виноградные листья прозрачно-зеленые, а листья на яблонях сверкают так, что за завтраком мне пришла в голову история о человеке, который написал стихотворение, как мне помнится, сравнив их с бриллиантами и паутину (то появляющуюся, то неожиданно исчезающую) тоже как будто с бриллиантами или с чем-то другим; и в итоге я задумалась о Марвелле с его деревенской жизнью, потом о Геррике, и вот моя реакция — в основном они зависели от городской жизни и городского веселья. Однако я забылась. Все это я пишу отчасти для того, чтобы проверить состояние моих бедных нервов на шее сзади — выдержат они или опять не выдержат, как с ними случается довольно часто? — ибо я опять, как амфибия, то в постели, то не в постели; отчасти чтобы унять зуд («унять зуд»!) писания. Это великое утешение и великое наказание.
Вторник, 22 сентября
Как же у меня ухудшился почерк! Еще одна жертва, принесенная «Хогарт-пресс»[91]. Однако за все, что я должна «Хогарт-пресс». заплачено как раз написанным моим почерком. Разве я только что не отказала Герберту Фишеру в книге о поствикторианцах для университетской серии? — ведь я знаю, что могу написать книгу для «Пресс», отличную книгу, не похожую ни на какую другую, если захочу! Но как только подумаю о дубинках университетских преподавателей, у меня кровь стынет в жилах. Все же я единственная женщина в Англии, которая вольна писать, что хочет. Другим приходится думать о сериях и редакторах. Вчера узнала от Харкорта Брейса, что «Миссис Д.» и «Обык. чит.» продаются по 148 и 73 экземпляра в неделю — разве не удивительно для четвертого месяца?! Неужели и теперь у нас не хватит денег на ванную комнату и туалет здесь или в Саутхизе? Я пишу при заходящем солнце, когда все вокруг синее, как вода, будто покаяние за брюзгливый ненастный день, который миновал, оставив после себя облака, сверкающие золотом над вершинами гор и увенчивающие их золотыми коронами.
Вторник, 7 декабря
Читаю «Поездку в Индию»[92], но не буду распространяться о ней здесь, как мне приходится в других местах. Эта книга для «Хогарт-пресс». Мне, кажется, удастся выработать теорию художественной литературы; вот прочитаю шесть романов и тогда начну гоняться за зайцами. В первую очередь я имею в виду перспективу. Но не знаю. Голова работает плохо. Не могу долго сосредоточиваться на чем-нибудь одном. Зато могу — если «Обык. чит.» считать проверкой — выдавать идеи и выражать их без особой путаницы. (Кстати. Роберту Бриджесу понравилась «Миссис Дэллоуэй»; он говорит, что никто не будет это читать, но написано прекрасно, и что-то еще, что Л., который слышал это от Моргана, забыл.)
Не думаю, что «развитие», но что-то все-таки есть в прозе и в поэзии, в романах. Например, с одной стороны Дефо, с другой — Э. Бронте. Реальность как нечто, рассматриваемое с разных точек. Нужно входить в обыденность, в жизнь как она есть и т.д. Мне, может быть, этого и достаточно — этой теории, — но для других ее придется обосновывать и чем-то подкреплять. И смерть — я все время чувствую — никак не отстает. 43; сколько еще будет книг? Пришла Кэти[93]; нечто вроде побитой жизнью основы в обрамлении бесполезной красоты. Вместе с упругой кожей и голубизной глаз исчезли внушительные манеры. А я помню, какой она была лет 25 назад в Гайд-Парк-гейт, 22; в коротком жакете и юбке; великолепная; глаза полуприкрыты; прелестный насмешливый голос, прямая спина; потрясающая; застенчивая. А теперь она трещит без умолку.
«Герцоги не просили моей руки, дорогая Вирджиния. Они называли меня Снежной Королевой. Почему я вышла замуж за Кроумера? Я ненавидела Египет, и я ненавидела больных. У меня было два счастливых времени в жизни: детство — нет, не когда я росла, а потом, с моим мальчишеским клубом, с моим домом и моим чау — и теперь. Теперь у меня есть все, что мне нужно. Мой сад — и моя собака».
Не думаю, чтобы ее очень волновал ее сын. Она принадлежит к тем холодным эксцентричным великим англичанкам, которые наслаждаются своим положением, придающим им важность в Сент-Джон-вуд[94]; теперь она может тыкаться во все пыльные углы и дыры, одеваться как поденщица, и руки у нее стали, как у обезьяны, да и под ногтями вечная грязь. К тому же она все время говорит. И очень исхудала. Почти сливается с туманом. Но мне это нравится, хотя, полагаю, у нее вряд ли есть привязанности и тем более страстный интерес к чему бы то ни было. Ну вот, я выплакалась, показалось солнце, и пора составлять список рождественских подарков.
1926
Вторник, 23 февраля
Моя книга треплет меня, словно старый флаг. Речь о романе «На маяк». Полагаю, в моих собственных интересах сказать, что наконец, наконец-то, после сражения под названием «Комната Джейкоба», после той агонии — все было агонией, кроме последнего романа, — «Миссис Дэллоуэй», я пишу быстро и свободно, как еще никогда в жизни не писала; гораздо быстрее — раз в двадцать — любого прежнего романа. Думаю, это доказывает, что я на правильном пути; и все, что созрело в моей душе, выйдет наружу. Забавно, что я теперь придумываю теории о быстроте и плодовитости: обычно я молилась о краткости и немногословности. Как бы то ни было, утром все время так, и у меня хватает ума не подгонять свои мозги еще и вечером. Я живу в романе и выбираюсь на поверхность обычно сама не своя, не в силах придумать ни одной фразы, пока мы гуляем по Площади, и это плохо, я знаю. Хотя для книги, наверное, хороший знак. Кстати, такое со мной уже не в первый раз; все мои книги писались таким образом. Это значит, я могу все пустить в ход; а «все» значит толпа, тяжесть, смятение в мыслях.
Суббота, 27 февраля
Пожалуй, я заведу новую привычку в дневнике и буду начинать каждый день с новой страницы — так я делаю, когда я пишу серьезную литературу. Конечно же, у меня есть возможность исписать лишний листок в этом ежегоднике. Что же до души, почему я сказала, что она мне не нужна? Забыла. По правде говоря, нельзя писать о душе впрямую. Стоит на нее посмотреть, и она исчезает; но поглядишь на потолок, на Гриззла[95], на зверей в зоопарке, которых показывают гуляющим в Риджентс-Парк, и душа вновь на месте. Вот и сегодня тоже. Я буду писать о том, о чем говорю, глядя на бизона: невпопад отвечая Л.; но что я собиралась написать?
Книжка миссис Уэбб заставила меня призадуматься о том, что я могу сказать о собственной жизни. Сегодня утром у меня немного болела голова, и я читала записи 1923 года, радуясь сладчайшему глотку тишины. Но в ее жизни не все было гладко; молитва; принцип. В моей ничего подобного. Великое возбуждение и вечный поиск. Великое удовлетворение — почти всегда наслаждение тем, что я делаю, но и постоянные изменения в настроении. Кажется, мне никогда не бывает скучно. Иногда я немного выдыхаюсь; но у меня хватает сил взять себя в руки — это уже проверено; и теперь я проверяю себя в пятидесятый раз. Мне все еще приходится очень заботиться о своей голове: но, как я сказала сегодня Леонарду, я наслаждаюсь, как эпикуреец; отхлебываю и закрываю глаза, чтобы ощутить вкус. Почти все дарит мне наслаждение. И все же во мне сидит некий беспокойный изыскатель. Почему нет открытий в жизни? Чего-то такого, что можно потрогать и о чем сказать: «Вот оно!» Моя депрессия — усталость чувств. Я ищу; но это не то, и это не то. А что — то? Неужели я умру, так и не отыскав то самое? Когда я вчера вечером проходила по Расселл-сквер, то видела в небе горы: большие облака; и луну, встававшую над Персией. У меня удивительное сильное ощущение чего-то тамошнего, что есть «то самое». Это не красота в прямом смысле. Это — то, что внутри: удовлетворение; достижение. Ощущение моей отчужденности, пока я брожу по земле, тоже есть: крайне странного положения человека; бежишь себе по Расселл-сквер, а над головой светит луна и летят горы-облака. Кто я? Что я?.. Эти вопросы вечно не дают мне покоя; а потом я наталкиваюсь на что-то конкретное — письмо, человека — и возвращаюсь к ним с великим ощущением обновления. Так и идет. Но, говоря об этом, не кривя душой, насколько мне это удается, я довольно часто повторяю «то самое»; а потом ощущаю полный покой.
Вторник, 9 марта
Что до приема Мэри[96], то, если не считать мою обычную робость в отношении пудры, румян, туфель, чулок, я была счастлива благодаря высшей власти литературы. Она считает нас милыми и здравомыслящими. Я имею в виду Джорджа Мура, меня.
У него розовое глуповатое лицо; голубые глаза, как непроницаемые мраморные камешки; шапка белоснежных волос; маленькие слабые ручки; покатые плечи; большой живот; отлично пригнанный вычищенный костюм; и великолепные манеры, как я это понимаю. Это значит, что он говорит не заискивая и не подавляя собеседника, принимая меня такой, какая я есть, — и всех такими, какие они есть. Несмотря ни на что, он не запуган, не забит, живой и умный. А что о Гарди и Генри Джеймсе?
«Я довольно скромный человек; но вынужден признать, «Эстер Уотерс»[97] мне нравится больше, чем «Тесс»[98]. Что можно сказать в пользу этого человека? Он не умеет писать. Он не умеет рассказать историю. А ведь суть художественной литературы в искусстве рассказывать истории. Вот он заставляет женщину признаваться. Как он это делает? От третьего лица — а ведь сцена должна быть трогательной, впечатляющей. Представляете, как бы это сделал Толстой!»
«Однако, — сказал Джек[99], — «Война и мир» величайший роман в мировой литературе. Я помню сцену, в которой Наталия приклеивает усы и Ростов, в первый раз обратив на нее внимание, влюбляется.
Нет, мой добрый друг, в этом нет ничего исключительного. Самая обыкновенная наблюдательность. Однако, мой добрый друг (это он мне, замешкавшись, прежде чем назвать меня так), не хотите ли вы что-нибудь сказать о Гарди? Вам нечего сказать. Худшая часть английской литературы — английская художественная литература. Сравните ее с французской — с русской. Генри Джеймс написал несколько прелестных вещичек, прежде чем выработал свой жаргон. Но они о богатых людях. Нельзя писать рассказы о богатых людях, если, как я полагаю, хочешь сказать, что у них нет инстинктов. Ни один из его персонажей не знает истинной страсти. Анна Бронте была величайшей из всех Бронте. Конрад не умел писать». И так далее. Но это уже устарело.
Суббота, 20 марта
Вчера я спрашивала себя, что будет со всеми моими дневниками. Если я умру, что Лео сделает с ними? Ему не захочется жечь их; но он не сможет их опубликовать. Полагаю, он выберет что-то из них и составит книгу, а остальные сожжет. Смею заметить, книга получится небольшой, если все каракули и загогулины немного выпрямить. Ну да Бог с ними. Это все из-за легкой меланхолии, которая время от времени находит на меня и заставляет думать, будто я старая и уродливая. Повторяюсь. Все же, насколько я понимаю, я лишь теперь пишу по-настоящему.
Пятница, 30 апреля
Закончился дождливый ветреный месяц, разве что на Пасху мы растворили все двери и воссияло лето, как всегда, полагаю, но за облаками. Я ничего не говорила об Иверн-Минстере. Интересно, что мне запомнилось. Крэнборн-Чейз; чахлые леса, сильно поредевшие и не восстановленные искусственным путем; анемоны, колокольчики, фиалки, все цветы бледные, растут далеко друг от друга, в них нет красок, жизни, ибо почти нет солнца. Потом Блэкмор-Вейл: огромный воздушный купол и брошенные на дно поля; солнце то появляется, то исчезает; потом начинается короткий ливень, словно струящаяся с небес завеса; горы поднимаются почти отвесно (если это слово подходит), топорщись выступами; надпись в церкви «Искал покой и нашел его» и вопрос — кто писал подобные высокопарные эпитафии? — удивительная чистота деревни Иверн, ее счастье и благоденствие заставляют меня задавать вопросы, когда нас тянет к недоверчивой улыбке, но это все правильно, так и должно быть; потом чай с молоком — и я помню: горячие ванны; мое новое кожаное пальто; Шефтсбери, куда как ниже и не такой внушительный, как я себе представляла, потом поездка в Бурнмаут, там собака, и дама за скалой, и вид на Свонадж, потом возвращение домой.[100]
Вчера закончила первую часть романа «На маяк» и сегодня начала вторую. Пока не знаю, как с ней быть, — это самый трудный и абстрактный кусок — я должна показать пустой дом, никаких персонажей, течение времени, ничего видимого и осязаемого, на что можно опереться: ладно, я берусь за нее и сразу же пишу две страницы. Чепуха? Удача? Почему меня переполняют слова и я чувствую себя способной делать все, что хочу? Когда я перечитываю, написанное кажется мне одухотворенным; правда, требуется немного ужать, но немного. Сравниваю мою теперешнюю свободу с той, когда я писала «Миссис Дэллоуэй» (за исключением конца). Это не выдумано, это факт.
Вторник, 25 мая
Я закончила — правда, вчерне — вторую часть романа «На маяк» — и смогу, по-видимому, написать все до конца июля. Рекорд. Семь месяцев, если получится, как я задумала.
Воскресенье, 25 июля
Поначалу мне пришло в голову, что это Гарди, а это была горничная, невысокая худенькая девушка, как положено, в чепце. Она принесла кексы на серебряных блюдах и все прочее. Миссис Гарди рассказывала нам о своей собаке. Сколько времени мы можем пробыть у них? В состоянии ли мистер Гарди совершать длительные прогулки, и так далее, спрашивала я, чтобы поддержать разговор, ибо понимала, что деваться некуда. У нее большие и тусклые глаза бездетной женщины; она очень послушна и с готовностью на все откликается, словно хорошо выучила свою роль; в ней нет особой радости, но она с покорностью примет сколько угодно посетителей; на ней прозрачное узорчатое платье, черные туфли и ожерелье. Теперь мы не можем ходить далеко, говорит она, хотя гуляем каждый день, но нашу собаку нельзя брать далеко. Он кусается, поясняет она. Когда она заговаривает о собаке, то оживляется и становится более естественной, по-видимому, все ее мысли крутятся вокруг пса — потом опять пришла горничная. Потом опять распахнулась дверь, почти молодечески, в комнату вбежал маленький веселый старичок с пухлыми щечками, внеся с собой атмосферу веселости и деловитости, и обратился к нам, словно старый доктор или семейный адвокат: «Ну-с, как мы поживаем?..» Он жал нам руки и бормотал что-то в этом роде. На нем был серый костюм с галстуком в полоску. Я обратила внимание на тонкий нос, кончик которого загибается вниз. На круглое белое лицо. Глаза то ли потускнели, то ли всегда были водянистыми. Но впечатление он произвел живое и решительное. Уселся на треугольный стул (я слишком устала от всех приходов и уходов, чтобы описывать что-то, помимо фактов) за круглый стол, на котором были блюда с кексами и все прочее; шоколадный батончик; то, что называют хорошим чаем; но выпил он всего одну чашку, сидя на своем треугольном стуле. Он был в высшей степени приветлив и отлично выполнял свои обязанности, не позволяя беседе затихнуть и не пренебрегая своим участием в ней. Вспоминал об отце, говорил, что видел меня, или, может быть, это была моя сестра, но ему кажется, что это все-таки была я в колыбельке. Он бывал на Гайд-Парк-плейс — о нет, это Гайд-Парк-гейт. Очень тихая улица. Поэтому мой отец любил ее. Странно было бы думать, что за все годы он не побывал там еще хоть раз. Он бывал там часто. «Ваш отец взял мой роман «Вдали от безумной толпы»[101]. В некоторых вещах, которые затрагивал этот роман, мы стояли плечом к плечу против британской публики. Наверное, вы сами об этом знаете». Потом он рассказал, как некоторые другие его романы пропали, когда их уже должны были печатать, — посылка не дошла из Франции. «Такое случалось не часто, как сказал ваш отец, — большая рукопись; и он попросил меня прислать ему мое сочинение. Думаю, он нарушил все законы Корнхилла — ведь он не видел роман целиком; и так я посылал ему главу за главой и ни разу не опоздал. Юность — замечательная штука!» Об этом я, несомненно, подумала, но долго не размышляла. Главы выходили каждый месяц. Ситуация была нервной, думаю, из-за мисс Теккерей. Она сказала, что ее парализовало и она сама не может написать ни строчки, когда начали появляться отклики. Увы, для романа такое появление не из лучших. Люди думают о том, что хорошо для журнала, а не для романа.
«Думаете о непроницаемом занавесе?» — пошутила миссис Гарди.
Она сидела, наклонившись над чайным столиком, но ничего не ела — смотрела вдаль.
Потом мы стали разговаривать о рукописях. Миссис Смит отыскала рукопись «в. о. б. т.»[102] в ящике стола во время войны и продала ее на нужды Красного Креста. Теперь рукопись вернулась, но издатель снимает все пометки. А он хочет, чтобы они были сохранены, ибо в них доказательство ее подлинности.
Он опускает голову, как старый лобастый голубь. У него очень длинная голова; лукавые блестящие глаза, и во время беседы они сверкают. Он сказал, что когда шесть лет назад был в Стрэнде, то едва узнал его, а ведь когда-то исходил его вдоль и поперек. Еще он рассказал нам, что обычно покупает книги у букинистов — ничего ценного — на Уик-стрит. Потом он выразил удивление, почему Грейт-Джеймс-стрит такая узкая, а Бедфорд-Роу, наоборот, широкая. Он несколько раз повторил это. Если так будет продолжаться, Лондон вскоре станет неузнаваемым. Но я больше не поеду туда. Миссис Гарди постаралась внушить ему, что поездка теперь не составляет такого труда, — всего шесть часов или около того. Я спросила, понравилось ли ей в Лондоне, и она ответила, якобы Грэнвиль Баркер говорила ей, что, когда была в частной лечебнице, наслаждалась «настоящей жизнью». Она всех знала в Дорчестере, однако думала, будто самые интересные люди живут в Лондоне. Часто ли я бывала дома у Зигфрида[103]? Я сказала, что нет. Тогда она стала расспрашивать о нем и о Моргане, сказала, что он был неуловим и они вроде бы получали удовольствие от его визитов. Я сказала, что слышала от Уэллса, будто мистер Гарди приезжал в Лондон посмотреть на воздушный налет. «Чего только не придумают! — воскликнул он. — Все моя жена. Один раз ночью, когда мы были у Барри, случился воздушный налет. Мы даже слышали взрыв вдалеке. Прожекторы были очень красивые. Я подумал, если бомба упадет сейчас на квартиру, то погибнет много писателей». И он улыбнулся, в своей странной манере, то есть искренне и немного саркастически одновременно; как бы то ни было, улыбка у него умная. В самом деле, мне ни разу не пришла в голову мысль о простом крестьянине. Казалось, он все прекрасно знает; не сомневается и не растерян; он принял решение; и, избавленный от всякой работы, об этом тоже, несомненно, думал. Его не очень интересовали ни его собственные, ни чужие романы: так что он все воспринимал легко и естественно. «Я никогда не работал над ними долго, — сказал мистер Гарди. — Самая большая работа была с «Диннастами»» (так он и произнес). «Но ведь это на самом деле три книги», — сказала миссис Гарди. «Да; и я работал над ними шесть лет, правда, с перерывами». — «А стихи вы пишете постоянно?» — спросила я (охваченная желанием услышать от него что-нибудь о его книгах, но все время мешал пес: как он кусается; как приходил инспектор; как он болел и они ничего не могли для него сделать). «Вы не будете возражать, если я впущу его?» — спросила миссис Гарди, и в комнату вошел Уэссекс, очень лохматая, невоспитанная коричнево-белая дворняга; он сторожит дом, поэтому, естественно, кусает людей, сказала миссис Гарди. «Ну, я не знаю», — нимало не растерявшись, произнес Гарди, по-видимому, не очень интересуясь и своей поэзией тоже. «Вы пишете стихи, когда работаете над романами?» — спросила я. «Нет, — ответил он. — Я писал очень много стихотворений и всем посылал их, но они возвращались. — Он усмехнулся. — В те времена я верил редакторам. Многое потерялось — все начисто переписанные экземпляры пропали. Однако я отыскиваю черновики и переписываю их. Я все время что-нибудь нахожу. Вот и накануне тоже. Но не думаю, что отыщется еще что-нибудь.
Зигфрид снял комнаты поблизости и сказал, что собирается всерьез работать, но вскоре уехал.
Э. М. Форстеру надо много времени, чтобы что-нибудь сочинить, — семь лет, — вновь усмехнулся он. — Та легкость, с какой он работал, производила огромное впечатление. Смею думать, «Вдали от безумной толпы» было бы намного лучше, если бы я писал иначе». Он это сказал так, словно ничего нельзя было изменить, да это и не имело значения.
Он часто бывал у Лашингтонов на Кенсингтон-сквер и встречал там мою мать. «Она входила и выходила, пока мы разговаривали с вашим отцом».
Я хотела, чтобы он хоть что-нибудь рассказал о своем творчестве до нашего ухода, но смогла спросить лишь, какую из своих книг он выбрал бы, если бы, подобно мне, ему предстояло ехать в поезде и хотелось бы скоротать время за чтением. Я взяла бы «Мэра Кестербриджа»[104]. «Из него сейчас делают пьесу», — вмешалась миссис Гарди и принесла «Забавные истории из жизни»[105].
«Вам это интересно?» — спросил он. Я пролепетала, что постоянно читаю его, и это было правдой, но прозвучало фальшиво. Как бы то ни было, он не был польщен и отправился искать свадебный подарок для молодой дамы. «Мои книги совсем не подходят для свадебного подарка», — сказал он. «Ты должен дать миссис Вулф одну из своих книг», — твердо произнесла миссис Гарди. «Да, конечно. Но боюсь, у меня остались только книжки в обложках». Я проговорила, что вполне достаточно, если он напишет свое имя (было немного неудобно).
Потом заговорили о де ла Мэре. Его последняя книга рассказов совсем им не понравилась. Гарди очень любил кое-какие из его стихотворений. Если судить по написанному им, он должен быть очень мрачным, а он очень милый — правда, очень милый. Он сказал приятелю, который просил его не бросать поэзию; «Боюсь, поэзия бросила меня». Суть в том, что он очень добрый человек и не может отказать никому, кто жаждет с ним встречи. Иногда у него бывает до шестнадцати человек в день. «Вы полагаете, человек, который видит много людей, не может писать стихи?» — спросила я. «Может — почему не может? Все дело в физической выносливости», — ответил Гарди. Но было очевидно, что сам он предпочитает уединение. И тем не менее, он все время что-то прочувствованно и искренне говорил, отчего обычные комплименты становились попросту неуместными. Он совершенно свободный человек; напряженно думающий; любит говорить о людях, но не любит абстрактных разговоров; например, полковник Лоуренс проехал на велосипеде со сломанной рукой, «держа ее вот так», от Линкольна до Гарди и слушал у двери, нет ли кого-нибудь внутри. «Надеюсь, он не совершит самоубийства, — задумчиво произнесла миссис Гарди, все еще склоняясь над чашками и печально глядя перед собой. — Он часто говорит об этом, хотя ни разу не сказал впрямую. Но у него синие круги под глазами, и он называет себя «Шоу в армии». Никто не должен знать, где он находится. Однако об этом все время пишут в газетах». — «Он обещал мне, что не будет летать», — сказал Гарди. «Моему мужу не нравится иметь дело с небом», — пояснила миссис Гарди.
Мы посмотрели на дедовские часы в углу и сказал и, что нам пора, — пытаясь объяснить, что мы приехали всего на один день. Я забыла сказать, что он предложил Л. виски с водой, и это меня поразило, потому что он знал толк в приеме гостей, да и во всем остальном тоже. Итак, мы поднялись и расписались в книге для гостей миссис Гарди, а Гарди взял мой экземпляр «Забавных историй из жизни» и вернул его мне подписанным; вместо Woolf он написал Wolff, что как будто немного его смутило. Потом опять пришел Уэссекс. Я спросила, может ли Гарди погладить его. Он наклонился и погладил пса, изображая хозяина дома. Уэссекс тяжело дышал.
Я не заметила в Гарди ни следа излишней почтительности к редакторам или положению в свете, так же как не заметила особой простоты. Меня поразили его свобода, легкость и жизненная сила. Он стал для меня «Великим Викторианцем», который все делает одним мановением руки (у него самые обычные маленькие сморщенные ручки) и не наживается на литературе; однако в высшей степени интересуется фактами; разными случаями; и каким-то образом каждому это представляется по-своему, вполне естественно включает свое воображение и творит, не думая о трудностях или о собственном величии; им завладевает навязчивая идея, и он живет своим воображением. Миссис Гарди подала ему старую серую шляпу, и он едва ли не бегом отправился вместе с нами к дороге. «Где это?» — спросила я, показывая на холм напротив с деревьями на вершине, ибо его дом находится в пригороде, на открытом пространстве (с массивными холмами, увенчанными небольшими коронами из деревьев), и он ответил, оживившись: «Это Веймут. Вечерами мы видим огни — не сами огни, а их отражения». Мы покинули его, и он побежал обратно.
Еще я спросила его, нельзя ли посмотреть на портрет Тесс, на ту старую картину, о которой говорил Морган: и он показал мне входящую в комнату Тесс на ужасной гравюре с картины Геркомера. «Я так представлял ее», — сказал он. Но я возразила, что слышала о старом портрете. «Это все литература, — ответил он. — я уже привык видеть людей, похожих на нее».
«Вы знакомы с Олдосом Хаксли?» — спросила миссис Гарди. Я сказала, что знакома. Они читали его книгу, которая показалась ей «очень умной». Однако Гарди не мог вспомнить какую: он сказал, что жена читает ему, — с глазами у него стало плохо. «У них теперь все по-другому, — сказал он. — Мы привыкли считать, что есть начало, середина и конец. Мы верили в теорию Аристотеля. А одна из нынешних историй заканчивается тем, что женщина выходит из комнаты». Он хохотнул. Романы он перестал читать. Все это — литература, романы и так далее — кажется ему забавным, но очень далеким, что не стоит принимать всерьез. Все же он относится с симпатией и сочувствием к тем, кто еще занимается литературой. Но в чем заключаются его тайные интересы и тайная деятельность — к какому делу он побежал, когда мы расстались, — я не знаю. Маленькие мальчики пишут ему из Новой Зеландии, и им нужно отвечать. Японская газета опубликовала «номер Гарди», который он показал нам. Мы говорили также о Бландене. Думаю, благодаря миссис Гарди его не забывают молодые поэты.
Родмелл, 1926
Поскольку я собираюсь на целую неделю дать мозгам отдых, то напишу здесь первые страницы величайшей в мире книги. Это то, чем стала бы книга, если бы она была создана единственно чистой мыслью. Представим, что ее можно уловить, прежде чем она станет «творением искусства»! Хватайте ее горяченькой, едва она появится в голове — например, пока вы поднимаетесь на Ашем. Конечно, это невозможно, так как языковой процесс медленный и обманчивый. Надо остановиться, чтобы подобрать слово. Потом еще фраза, требующая определенного наполнения.
Искусство и мысль
Думала я вот о чем; если искусство основано на мысли, то что представляет собой процесс превращения? Я рассказывала себе историю нашего визита к чете Гарди и тотчас начала формировать ее, то есть акцентировать внимание на том, как миссис Гарди наклоняется над столом, смотрит апатично, ни о чем не думая, перед собой, и это как главная тема гармонизировало сюжет. Однако реальное действо было совсем другим.
Дальше
Творения живых людей
Я почти ничего не читала. Однако он дал мне книги, и теперь я читаю «С»[106] М. Бэринга. Самой странно было, когда я обнаружила, что это неплохо. Как неплохо? Легче сказать, что это не великая книга. Но чего ей не хватает? Наверное, она ничего не прибавляет к моему пониманию жизни. И все же в ней трудно найти серьезный недостаток. Удивительно, что явно второсортные книги типа этой, выпускаемые ежегодно в количестве, думаю, не меньше двадцати штук, имеют столько достоинств. Никогда не читая ничего подобного, я думала, ничего подобного не существует. Если честно, так оно и есть. То есть это не будет существовать в 2026 году; а сейчас в некотором роде существует, и это меня немного удивляет. Сейчас «Кларисса» наводит на меня скуку; и все же я чувствую, как это важно. Почему?
Мой разум
Случился настоящий нервный срыв в миниатюре. Мы приехали во вторник. Я бросилась в кресло и не смогла подняться; все стало скучным; безвкусным, бесцветным. Единственное желание — отдыхать. Среда — единственное желание быть в одиночестве на свежем воздухе. Воздух чистейший — только бы ни с кем не говорить; не могла читать. С почтением думала о собственной способности к писанию, как о чем-то неправдоподобном и принадлежащем кому-то другому; никогда больше мне не радоваться этому. В голове пустота. Спала в кресле. Четверг. Никакого удовольствия от жизни; однако как будто ощутила тягу к существованию. Персонаж и идиосинкразия к персонажу Вирджиния Вулф совершенно исчезают. Робость и скромность. Мне трудно придумать, что сказать. Читаю автоматически, как корова жует жвачку. Спала в кресле. Пятница: ощущение физической усталости; однако появилось легкое движение мыслей. Начинаю что-то замечать. Строю планы. Нет сил составить фразу. С трудом написала леди Коулфакс. Суббота (сегодня) намного яснее и светлее. Думала, что могу писать, но сопротивлялась этому или считала это невозможным. Желание читать стихи появилось в пятницу. Это возвращает мне чувство собственной индивидуальности. Читаю немного Данте и Бриджеса, не стремясь к пониманию, но получая удовольствие от обоих. Теперь мне захотелось делать записи, но пока еще о романе и речи нет. Однако сегодня всколыхнулись чувства. Пока нет сил «что-то делать»: никакого желания вкладывать чувства в книгу. Возвращается любопытство к литературе: хочу читать Данте, Хейвлока Эллиса и автобиографию Берлиоза; еще мне хочется зеркало в оправе из ракушек. Такие приступы иногда длятся по нескольку недель.
Изменение пропорций
Вечером или в бесцветные дни пропорции пейзажа резко меняются. Я видела, как люди, игравшие на лугу в мяч, как будто провалились на ровном месте; а холмы поднялись и окружили их. Детали сделались смазанными. Но это удивительно красиво: цвета женских платьев стали как будто ярче и чище на почти незапятнанном фоне. Я понимала, однако, что пропорции ненормальные — словно я смотрела между ног.
Второсортное искусство
То есть «С» Мориса Бэринга. В заданных пределах это не второй сорт, здесь нет ничего бросающегося в глаза как второй сорт, как будто. Доказательством его несуществования является ограниченность. Он может делать лишь одно; то есть изображать себя; очаровательного, чистого, скромного, чувствительного англичанина. Вне этого радиуса ему нечего сказать; все — как должно быть — светло, уверенно, пропорционально, даже привлекательно; и рассказано гладкописью, в которой нет ничего преувеличенного, несоотносимого и непропорционального. Я могла бы читать такое всю оставшуюся жизнь, сказала я. А Л. заметил, что скоро мне до смерти осточертело бы это.
Wandervögeln[107]
Из племени воробьев. Две решительные, загорелые, пропыленные девушки в коротких юбках и свитерах, с рюкзаками за спинами, городские служащие, секретарши идут по самому солнцепеку в Райп. Я, не раздумывая, ставлю между нами экран — осуждаю их, наделяю угловатостью, неловкостью и самоуверенностью. Но это очевидная ошибка. Экран мешает мне видеть. Не надо никаких экранов, ведь экраны — это наша собственная шелуха, которая отвергает все, что не имеет с ней ничего общего. Привычка заслоняться, однако, универсальна и, вероятно, стоит на защите здравомыслия. Если бы у нас не было средства не подпускать людей к своим чувствам, мы, верно, полностью растворялись бы в них; отдельное существование стало бы невозможным. Однако в избытке экраны, а не чувства.
Возвращение здоровья
подтверждается возможностью думать образами; невероятно усиливается способность видеть окружающее и чувствовать слово. Наверное, Шекспир владел этим до такой степени, что мое обычное состояние показалось бы ему состоянием человека слепого, глухого, немого, созданного из камня, да еще с рыбьей кровью. Бедняжка миссис Бартоломью почти то же самое в сравнении со мной, что я в сравнении с Шекспиром.
Банковский выходной
Очень толстая женщина, девушка и мужчина проводят этот день — необыкновенно погожий, солнечный день — на кладбище, навещая могилы родственников. Двадцать три человека — юноши и девушки — проводят этот день, шагая по дорогам с уродливыми ящиками в руках, и делают фотографии. Мужчина тоном превосходства и легкого пренебрежения говорит женщине: «Наверное, не все в этих тихих деревушках знают о банковском выходном дне».
Семейные отношения
Арнольд Беннетт утверждает, что ужас брака в его «повседневности». Из-за нее исчезает острота ощущений. Правда, скорее всего, заключена в том, что жизнь — скажем, четыре дня из семи — проходит автоматически; однако на пятый день капля чувств (мужа и жены) создает нечто полное и нежное именно из-за автоматических привычных бессознательных дней, прожитых обеими сторонами. Скажем так, год отмечен мгновениями великой насыщенности. «Моменты провидения» Гарди. Если этого нет, то какие могут быть семейные отношения?
Пятница, 3 сентября
Женщины в чайном саду в Брамбере — душный жаркий день: розовые шпалеры; добела отмытые столы; низы среднего класса; мимо все время проезжают омнибусы с моторами; серые камешки валяются на замусоренной траве — это все, что осталось от замка.
Облокотившаяся на стол женщина командует праздником двух пожилых женщин, за которых платит официантке (толстой девушке с апельсиновыми волосами и телом, как самый мягкий лярд, которой надо поскорее замуж, но ей всего лишь шестнадцать или около того).
Женщина: Что вы можете предложить нам к чаю?
Девушка (уперев руки в бока, со скучающим видом): Кекс, хлеб с маслом, чай. Джем?
Женщина: Тут много ос? Они ползают в джеме (говорит с таким видом, будто полагает, что джем не стоит брать).
Девушка соглашается.
Женщина: Ах, в этом году столько ос!
Девушка: Так и есть.
В итоге женщина не берет джем.
Меня это как будто позабавило.
Еще были Чарльстон, Тилтон (дом Кейнсов), «На маяк». Вита, поездки: все лето я чувствовала, будто купаюсь в безбрежном теплом чистом воздухе — такого августа уже давно не было; велосипед; никакой определенной работы, зато дышала, сколько хотела, отправляясь к реке или за холмы. Конец романа уже виден, но, как ни странно, он не становится ближе. Я пишу о Лили на лужайке, но в последний раз или не в последний, не знаю. И еще я не уверена в качестве написанного; единственное, в чем я уверена, гак это в том, что каждое утро, примерно на час выставляя щупальца в небо, я, как правило, пишу с жаром и легкостью до двенадцати тридцати; и таким образом заполняю две страницы. Итак, я закончу его, допишу, если ничего не изменится, за три недели, начиная с сегодняшнего дня.
5 сентября
Что получится? В настоящий момент я думаю о том, как добраться до конца. Проблема состоит в том, что надо свести Лили и мистера Р. вместе и в конце объединить их интересы. У меня сплошные идеи. Последняя глава, которую я начинаю завтра, называется «В лодке»: намереваюсь закончить тем, что мистер Р. карабкается на гору. А если так, что станется с Лили и ее картиной? Должна ли я написать финальную страницу о том, как она и Кармайкл смотрят на картину и обсуждают мистера Р.? В этом случае я теряю в напряжении. А если сделать это между Р. и маяком, то получится, полагаю, слишком много перемен, волнений. Вводная главка? Чтобы читатель как будто читал одновременно о разных вещах?
Какое-нибудь решение наверняка найдется. А потом передо мной встанет вопрос качества. Думаю, роман должен быть очень динамичным, свободным и обязательно небольшим. С другой стороны, он кажется мне более утонченным и более человечным, чем «Комната Джейкоба» и «Миссис Дэллоуэй». Внутри у меня богатство, вдохновляющее меня, когда я пишу. Полагаю, уже не требуется доказательств — то, что я хочу сказать, должно быть сказано именно так, и никак иначе. По обыкновению, в большом количестве проклевываются дополнительные сюжеты, когда я вытягиваю основной сюжет: книга персонажей; можно вытянуть целую нить из какой-нибудь простой фразы, например, Клара Пейтер говорит: «Вы не находите, что у булавок Баркер нет острых кончиков?» Думаю, я могла бы таким образом раскрутить все их кишки, но меня останавливает безнадежное отсутствие драмы. Все это непрямая речь. Нет, не все. У меня есть несколько прямых фраз. Лирическая часть романа «На маяк» собрана за десять лет проб и ошибок и не мешает тексту в такой мере, как обычно. Я чувствую, что на сей раз все замкнуто с предельной точностью, и не представляю, какой будет критика. Сентиментальной? Викторианской?
Потом примусь за книгу о литературе для «Пресс». Шесть глав. Почему бы не сгруппировать идеи под каким-нибудь броским заголовком — например: «Символизм. Бог. Природа. Сюжет. Диалог». Берем роман и смотрим, сколько у него полноправных частей. Разделяем их и к каждой даем наиболее убедительные примеры из соответствующих книг. Возможно, получится удачно с исторической точки зрения. Можно раскрутить теорию, которая соединит главы. Но не думаю, что мне всерьез понравится начитывать для этого материал. Скорее, хочется рассортировать идеи, которые аккумулировались во мне.
Потом я намереваюсь написать серию «Очерков», чтобы заработать деньги (по новому соглашению мы должны делить все деньги, которые я зарабатываю, если я зарабатываю больше двухсот фунтов); что будет в «Очерках», зависит от того, какие книги я буду читать. Кстати, я ужасно довольна в последние несколько дней. И не совсем понимаю, почему. Возможно, причина отчасти в моей голове.
Понедельник, 13 сентября
Настоящее блаженство, когда заканчиваешь работу, со стоном говорю я себе. Похоже на долгий и довольно-таки болезненный, но все же приятный и естественный процесс, который очень хочется оставить позади. О, какое облегчение просыпаться и думать о том, что все кончено, — облегчение и, наверное, разочарование. Я говорю о романе «На маяк». Меня ожесточила необходимость на прошлой неделе в течение четырех дней ковать де Куинси, который лежал примерно с июня; отказалась от тридцати фунтов, чтобы писать о Вилле Кэтер; разделаюсь за неделю со своим неприбыльным занятием и вернусь к незаконченным вещам. Итак, к октябрю у меня должны быть мои семьдесят фунтов из годовых двухсот. (Жадность моя безмерна, потому что мне нужны личные пятьдесят фунтов в банке для покупки персидских ковров, посуды, стульев и так далее). Проклятый Ричмонд, Проклятый «Таймс», проклятые моя медлительность и мои нервы. Я сделаю Кобдена-Сандерсона и миссис Хеманс, однако и они сделают кое-что для меня. Теперь о книге — Морган сказал, что когда закончил «Поездку в Индию», то чувствовал; «Это провал». А что чувствую я? Из-за постоянной работы на прошлой неделе, и на позапрошлой тоже, мне казалось, будто я немного выдохлась. Но чувствовала себя триумфаторшей. Если я правильно понимаю, то мне удалось применить свой метод на самом большом объеме, какой только возможен, и как будто метод выдержал. Под этим я подразумеваю, что все-таки вытащила на свет больше, чем нужно, чувств и персонажей. Пока об этом знает один Господь. Мои чувства переменчивы. Странно, как меня преследуют чертовы слова Джэнет Кейз: «Все это внешняя… техника» («Миссис Дэллоуэй»). ««Обыкновенный читатель» густо замешан». Но когда пребываешь в напряженном состоянии, любая муха имеет право сесть на тебя, и чаще всего садятся оводы. Мюир по-умному меня хвалит — но имеет сравнительно мало власти, чтобы поддержать меня, когда я работаю, то есть — когда возникают идеи. А последний кусок, в лодке, трудный, потому что мало материала, не то что Лили на лужайке. Мне приходится быть прямолинейнее и напористее. Я понимаю, что у меня теперь больше символизма; но «сентиментальность» наводит на меня ужас. Неужели это обвинение можно предъявить всей теме? Не уверена, что сама по себе тема может быть хорошей или плохой. Она лишь дает шанс выявить человеческие странности — вот и все.
Четверг, 30 сентября
Хотелось бы кое-что добавить по поводу мистической стороны волнения; это состояние похоже не на то, какое бывает, когда остаешься наедине сама с собой, а на то, какое наступает, когда остаешься наедине со Вселенной. Именно оно пугает и возбуждает, когда я попадаю во власть мрака, депрессии, скуки, чего хотите. Вдалеке виден плавник. Какой образ мне нужно придумать, чтобы выразить все до конца? Думаю, такого образа нет. Интересно, сколько я ни размышляла о своих чувствах и мыслях, прежде это никогда не приходило мне в голову. Если рассуждать здраво, жизнь странная штука; в ней есть спрессованная реальность. Я помню это привычное детское ощущение — один раз даже не могла переступить через лужу, потому что думала, как это странно — кто я? — и все в таком роде. И писательством я ничего не достигаю. Все, чего мне хочется, — увековечить любопытное состояние ума. Рискую думать, это и есть импульс, толкающий меня к следующей работе. Сейчас мой разум совершенно чист и свободен от книг. Я хочу наблюдать, смотреть, как зарождается мысль. Хочу проследить шаг за шагом весь процесс.
Вторник, 23 ноября
Каждый день переделываю по шесть страниц романа «На маяк». Не так быстро, как, скажем, это было с «Миссис Дэллоуэй»; однако многое мне кажется поверхностным, и я импровизирую прямо на машинке. Так гораздо легче, чем переписывать. Сейчас у меня впечатление, будто это лучшая из моих книг: гораздо более полная, чем «Комната Джейкоба», и менее судорожная, в ней куда больше интересного, чем в «Миссис Д.», она не усложнена печальным аккомпанементом безумия. Полагаю, она свободнее и искуснее. Все же не представляю, кто мог бы пойти следом за мной; и это, верно, означает, что я довела свой метод до совершенства и он таким останется, служа мне везде, где будет в нем нужда. Развивающийся метод предоставлял моему взгляду новые объекты, и у меня была возможность рассказать о них. Но и тогда, и теперь меня преследует некая полумистическая, очень насыщенная жизнь женщины, которая должна быть рассказана на одном дыхании; времени не должно быть; будущее каким-то образом станет возникать из прошлого. Что-то — скажем, падение цветка — будет его определять. Моя теория бытия состоит в том, что реальное действо практически не существует — и время тоже не существует. Но я не хочу ничего форсировать. Надо писать как пишется, по порядку.
1927
Пятница, 14 января
Это непорядок, но у меня нет новой тетради, поэтому придется писать в старой (в ней я писала о том, как начинала работать над романом «На маяк»), придется писать в старой тетради о конце работы. Только что завершила свой тяжкий труд. Теперь все готово, и Леонард начнет читать в понедельник. Итак, я написала роман за год без нескольких дней и чувствую радость оттого, что выбралась из него. С 25 октября я переделывала и перепечатывала (некоторые места по три раза), и, несомненно, мне нужно было бы поработать еще, но я больше не могу. У меня ощущение твердой мускулистой книги, которое в данный момент свидетельствует, что у меня что-то есть за душой. Роман не истощился и не ослабел, по крайней мере, мне так не кажется, пока я не взялась его перечитывать.
Воскресенье, 23 января
Итак, Леонард прочитал «На маяк» и сказал, что, похоже, это моя лучшая книга и что это «шедевр». Я ждала, не говоря ни слова, после того как вернулась домой из Кноула. Он назвал роман совершенно новым — «психологической поэмой», так он назвал его. Шаг вперед по сравнению с «Дэллоуэй», гораздо интереснее. Ощутив великое облегчение, мой разум, как всегда, выключился, и я забыла обо всем, чтобы потом проснуться и вновь волноваться по поводу корректуры и публикации книги.
Суббота, 12 февраля
Проза Г.[108] слишком гладкая. Я читала ее, и мой карандаш бежал не останавливаясь. Когда я читаю классику, я обуздана, но не кастрирована; нет, совсем наоборот; не могу придумать слово. Если бы я писала «Y---», то бежала бы вон из луж с подобной подкрашенной водичкой, чтобы (полагаю) найти собственный метод. Мое отличие как писателя, думаю, — ясность темы и точность ее выражения. Если бы я писала о путешествиях, то подождала бы, пока выявится некий угол зрения, и отправилась в этом направлении. Метод гладкописи неправильный; ничего гладкого не бывает даже в мыслях. Однако эта гладкопись очень умелая и сладкоголосая. Она побудила меня решить, что завтра и в понедельник я должна читать «На маяк» в отпечатанном виде, читать насквозь от начала до конца, руководствуясь собственными необычными методами, — это на первый раз. Я хочу для начала пройтись широко, а уж потом заняться деталями. Могу отметить, что первые симптомы, касающиеся романа «На маяк», неблагоприятные. Роджеру, это уже ясно, не понравилось «Время проходит»; «Харперс» и «Форум» отказались от своих «серийных» прав; Брейс пишет, как мне кажется, с куда меньшим энтузиазмом, чем о «Миссис Д.». Однако это относится к первому варианту, непеределанному. Я не реагирую: мнение Л. внушает мне стойкость; я спокойна.
Понедельник, 21 февраля
Почему бы не ввести новую игру, например:
Женщина думает…
Он делает.
Орган играет.
Она пишет.
Они говорят.
Она поет.
Ночь говорит.
Они скучают.
Думаю, в этом что-то есть, — хотя сама не знаю, что именно. Подальше от фактов; быть свободной; но сосредоточенной; проза и все же поэзия; роман и пьеса.
Понедельник, 28 февраля
Но я намереваюсь работать еще упорнее. Если почтенные люди — мои друзья — посоветуют мне не выпускать «На маяк», я начну писать мемуары; у меня уже есть план заполучить исторические манускрипты и написать «Жизнь неизвестных людей»; но почему я делаю вид, будто приму совет? Вот отдохну, и прежние мысли вновь, как всегда, вернутся ко мне; они, возможно, будут свежее и даже значительнее, чем прежде; а я опять выключусь из жизни, ощущая потрясающее возбуждение, жар и страсть творения, — и это странно, если то, что я пишу — почему бы и нет? — никуда не годится.
Понедельник, 14 марта
Фейт Хендерсон пришла к чаю; и, доблестно подталкивая волны беседы, я думала о возможностях непривлекательной, бедной, одинокой женщины. Начала воображать ее — как она останавливает автомобиль на дороге в Дувр, добирается до Дувра, пересекает Ла-Манш и так далее. Мне даже пришло в голову, что я могла бы написать роман в стиле Дефо — ради смеха. Неожиданно между двенадцатью и часом я решила, что моя фантазия должна называться «Невесты Джессами» — сама не знаю почему. Словно лучом, я выхватила несколько сцен. Две женщины, бедные, одинокие, на крыше дома. Одна видит все (это же фантазия); мост Тауэра, облака, аэропланы. В своей комнате старик прислушивается к тому, что происходит снаружи. Все рушится в полной неразберихе. Это надо написать так, как я пишу письма, на предельной скорости; о дамах из Лланголлена[109], о миссис Флэдгейт, о прохожих. Никакой попытки определить характер. Здесь чистый сапфизм[110]. Сатира должна выйти на первый план — сатира и необузданность. У дам в виду Константинополь. Мечты о золотых куполах. Мой лирический настрой должен перевоплотиться в сатиру. Насмешка над всем и всеми. Таким образом покончить с отточием… вот.
По правде говоря, я ощущаю необходимость в подобной эскападе после всех своих серьезных поэтических экспериментальных книг, о форме которых мне приходилось очень серьезно думать.
От «Ораландо» к «Волнам» (8 июля 1933)
Мне хочется взбрыкнуть — и была такова. У меня огромное желание воплотить в слова бесчисленные идеи, коротенькие сюжеты, которые постоянно мелькают у меня в голове. Наверное, это было бы очень забавно; и голова у меня отдохнула бы перед серьезной, мистической, поэтической работой, за которую я хочу взяться. Тем временем, прежде чем взяться за «Невест Джессами»[111], надо написать книгу о литературных произведениях, но это я сделаю, полагаю, не раньше января. Правда, можно было бы пока писать страничку-две ради эксперимента. И не исключено, что идея испарится сама собой. В любом случае, эта запись отражает странное, ужасное, неожиданное самосотворение чего-то непредвиденного — одного за другим в течение часа. Так я придумала «Комнату Джейкоба», глядя на огонь в Хогарт-хаус; и так же придумала как-то вечером «На маяк», но уже здесь, на площади.
Понедельник, 21 марта
Мои мысли невероятно активны. И мне невтерпеж приняться за писание книг, как будто я теряю время, ведь есть старость и смерть. Боже мой, как чудесны некоторые места в моем «Маяке»! Нежные, легкие и, как мне кажется, глубокие, и ни одного неправильного слова на протяжении многих страниц. Так я воспринимаю обед и детей в лодке; а вот с Лили на лужайке не так. Это мне не очень нравится. Зато мне нравится конец.
Воскресенье, 1 мая
Я запомню, как книга выходит в свет. Будут говорить, что у меня много не относящегося к делу, — много чего наговорят. Но я, если честно, думаю, что на этот раз мне почти все равно — мне безразличны даже мнения моих друзей. Не уверена, что это хорошо; я была разочарована, когда в первый раз читала роман насквозь. Потом он мне понравился. Как бы то ни было, это лучшее, на что я была способна. Стоит ли читать свои книги, когда они выходят из печати, да еще критически? Меня поддерживает то, что, несмотря на непонятность, искусственность и так далее, число раскупаемых книг растет постоянно. Мы уже продали — до выхода в свет — 1220 экземпляров, и я уверена, продадим не меньше 1500, что для такого писателя, как я, совсем неплохо. И все же, доказывая свою искренность, я ловлю себя на мыслях о других вещах, и меня вовсе не волнует, что будет в четверг.
Четверг, 5 мая
Книга вышла[112]. Мы продали (насколько я знаю) 1690 экземпляров еще до получения тиража — вдвое больше, чем «Миссис Дэллоуэй». Пишу, однако, под тенью черной тучи, то есть рецензии в «The Times Lit. Sup.», которая в точности копирует рецензии на «Комнату Джейкоба» и «Миссис Дэллоуэй», — джентльменской, добродушной, робкой, хвалящей за красоту стиля, сомневающейся в персонажах и нагоняющей на меня умеренное уныние. Меня беспокоит «Время проходит». Думаю, это можно сделать мягко, поверхностно, скучно и сентиментально. Все же, если честно, мне все равно, пусть меня оставят в покое и дадут возможность поразмышлять.
Среда, 11 мая
Моя книга. Что толку повторять о своем безразличии к откликам, когда искренние похвалы, даже вперемежку с критикой, вливают силы — и перестаешь ощущать себя иссякшей, наоборот, снова бурлишь новыми идеями? Из смутных намеков, через Марджери Джоад, через Клайва, узнаю, что некоторые считают это моей лучшей книгой. Вита хвалит; Долли[113] в восторге; неизвестный осел тоже пишет. Думаю, никто еще не дочитал роман до конца; а я еще две недели буду не в радостном, а в беспокойном ожидании, когда же наконец все закончится.
Понедельник, 16 мая
Книга. Теперь она на своих ногах, по крайней мере, что касается похвал. Уже десять дней, как она вышла в свет: в позапрошлый четверг. Несса отзывается с энтузиазмом — величественное и почти печальное зрелище. Говорит, что это потрясающий портрет мамы; великолепная портретистка; вжилась; для нее оживление умершей почти болезненное. Потом Оттоллин, потом Вита, потом Чарли, потом лорд Оливье, потом Томми, потом Клайв.
Суббота, 18 июня
Эта тетрадка почему-то очень тонкая. Прошла только половина года, а осталось всего несколько страничек. Возможно, я слишком усердно писала в ней по утрам. За три недели головной боли как не бывало. Мы провели неделю в Родмелле, и у меня в памяти остались разные виды, неожиданно разворачивавшиеся передо мной (например, приморская деревня июньской ночью с домами, словно корабли; горячий дым с болота), а еще немыслимое удовольствие лежать там в полном покое. Я целыми днями лежала в новом саду, где терраса. Она уже достроена. Синие синички устроили гнездо в полой шее моей Венеры. Один раз, в очень жаркий день, приехала Вита, и мы с ней отправились к реке. Пинкер[114] уже плавает за палкой Леонарда. Я читаю — все, что попадает под руку; Мориса Бэринга; спортивные мемуары. Очень медленно, но начинают появляться идеи; а потом я вдруг разразилась (в тот вечер, когда Л. обедал с Апостолами) историей мотыльков, которую, мне кажется, напишу очень быстро, возможно, между главами длинной надвигающейся книги о литературе. Теперь мотыльки, полагаю, облепят скелет, который я бросила здесь; идея поэмы-драмы; идея бесконечного движения не только человеческой мысли, но и корабля, ночи и так далее, но чтобы они все двигались вместе; и в этот поток врывались яркие мотыльки.
«Волны»
Мужчина и женщина должны сидеть за столом и разговаривать. Или они молчат? Нужна любовная история; в конце она впускает в дом самого большого мотылька. Контрасты должны быть примерно такими: она говорит или думает о возрасте земли; о смерти человечества; а мотыльки продолжают прилетать. Возможно, мужчину стоит оставить как бы в тумане. Франция: слышно море; ночь; сад под окном. Однако это еще должно созреть. Я немного занимаюсь этим романом по вечерам под исполняемые на граммофоне поздние бетховенские сонаты. (Окна рвутся с задвижек, словно мы на море.)
Мы видели Виту, открывающую Готорнден[115]. Ужасное представление, на мой вкус: на возвышении никого из дворян — лишь Сквайр, Дринкуотер и Биньон — из всех нас; болтливые писаки. Господи! До чего же жалкими мы выглядели! Мы не могли делать вид, будто интересны кому-то, будто наша работа что-то значит. Само сочинительство вдруг стало бесконечно противным. Там не было никого, о ком я могла бы сказать, что он читал и ему понравилось или не понравилось написанное мной. Никому не было дела до моей критики; умеренность и обыкновенность авторов потрясли меня. Однако, возможно, движение чернил в них интереснее, чем внешний вид — аккуратный, умеренный, пристойный. Я чувствовала, что среди нас нет ни одного человека со зрелым умом. По правде говоря, это был непробиваемо скучный средний класс от литературы, а не ее аристократия.
Среда, 22 июня
Меня приводят в уныние люди, ненавидящие женщин, а Толстой и миссис Асквит — оба ненавидят женщин. Думаю, моя депрессия — форма тщеславия. В конце концов, таковы крайние мнения обеих сторон. Я ненавижу жесткий догматический пустой стиль миссис Асквит. Но хватит; о ней я буду писать завтра. Я каждый день пишу о чем-нибудь и по доброй воле посвятила несколько недель деланию денег, чтобы к сентябрю положить в наши карманы по пятьдесят фунтов. Это будут мои первые собственные деньги с тех пор, как я вышла замуж. Но у меня никогда, до последнего времени, не было в них нужды. Ведь я могу получить их, если захочу, и уклониться от писания ради денег.
Четверг, 23 июня
Этот дневник подтверждает, что в последнее время я почти не участвую в светской жизни. Никогда еще мне не приходилось так тихо проводить лондонское лето. На редкость легко ускользать из толкотни незамеченной. Все знают, что я инвалид, и никто меня не тревожит. Никто не просит что-нибудь сделать. Я тщеславно лелею чувство, будто это мой собственный выбор; ведь нет большей роскоши, чем хранить покой в самом сердце хаоса. Когда я с кем-то разговариваю и напрягаю мозги, потом у меня весь день угнетенное состояние и болит голова. Тишина дарит мне спокойные безмятежные быстрые утра, когда я делаю основную работу и проветриваю мозги во время прогулок. Вот уж отпраздную победу, если сумею этим летом ускользнуть от головной боли.
Четверг, 30 июня
Теперь я должна рассказать о Затмении.
Во вторник около десяти часов вечера несколько очень длинных поездов, полностью заполненных (наш — государственными служащими), покинули Кингс-Кросс. В нашем отделении были Вита, Гарольд, Квентин, Л. и я. Полагаю, это Хэтфилд, сказала я, куря сигару. Потом опять, это Питерборо, сказал Л. Пока не стемнело, мы не сводили глаз с нежно-бархатистого неба; одна звезда была над Алекзэндр-парк. Смотри, Вита, Алекзэндр-парк, сказал Гарольд. Николсоны задремали; Г. свернулся калачиком и положил голову Вите на колени. Она же, спящая, смотрелась как лейтоновская Сапфо; мы ехали дальше по центральным графствам Англии; сделали очень долгую остановку в Йорке. В три часа достали сэндвичи, и когда я вернулась из туалета, оказалось, что у Г. исчезло все масло. Потом он разбил фарфоровую коробочку для сэндвичей. Тут Л. стал смеяться и никак не мог остановиться. Потом мы опять спали, то есть спали Н. На железнодорожном переезде было много омнибусов и автомобилей, все с включенными бледно-желтыми фарами. Небо серело — но было бархатистым. В Ричмонд мы прибыли в три тридцать; было холодно, и Н. поссорились, как сказал Эдди, из-за багажа Виты. Мы забрались в машину и увидели большой замок (кто это делает, сказала Вита, принадлежит к тем, кто интересуется замками). На фасаде было лишнее окно и горел свет, как мне показалось. На лугах росла молоденькая июньская травка и растения с красными кисточками, которые казались белыми, а не красными. Белыми или серыми были и маленькие бескомпромиссные йоркширские фермы. Когда мы миновали одну, из дома вышли фермер с женой и сестрой в аккуратных черных платьях, словно они собрались в церковь. На другой уродливой квадратной ферме две женщины выглядывали из верхних окон, наполовину закрытых белыми ставнями. Мы представляли караван из трех больших машин, и одна остановилась, пропуская другие вперед; они были низкие и мощные; им предстояло одолеть очень крутые горы. Водитель вышел из машины и положил небольшой камень под колесо, но его оказалось недостаточно. Слава Богу, не случилось несчастья; ведь следом двигалось еще много машин. Их стало еще больше, когда мы взобрались на вершину Бардон-Фелл. Приехавшие разбивали палатки рядом с автомобилями. Мы вышли и обнаружили, что находимся очень высоко на пустоши с заросшими травой дорогами, где собралось уже довольно много народа. Мы присоединились к остальным, как оказалось, на самом высоком месте, с которого открывался вид на Ричмонд. Внизу горел один фонарь. Повсюду нашим глазам открывались долины и пустоши. Мне вспомнился Хейворт. Над Ричмондом, где поднималось солнце, висело пушистое серое облако. По пробивающемуся сквозь него золотому пятну мы легко определили его положение. Однако еще было рано. Пришлось ждать, притоптывая, чтобы не замерзнуть. Рэй завернулась в двуспальное одеяло с синими полосами. Она выглядела очень большой и домашней. Саксон постарел на глазах. Леонард все время смотрел на часы. Четыре огромных рыжих сеттера появились, прыгая, на пустоши. Они сторожили кормившихся неподалеку овец. Вита попыталась купить морскую свинку — Квентин посоветовал дикую, — и она посматривала на животных. В облаках наметились узкие трещины и довольно большие дыры. Вопрос заключался в том, увидим мы затмение солнца через облако или на чистом небе. Нас охватило возбуждение. Из-под облаков показались солнечные лучи. Потом, всего мгновение, мы видели солнце — казалось, оно быстро и без помех плывет в бездне; мы схватились за специальные очки; мы видели горящий огнем серп; в следующий момент оно опять зашло за облако; от него остались лишь красные ленты; потом золотистый туман, который случается довольно часто. Шло время. Мы решили, что нас обманули; посмотрели на овец; они не выказывали страха; вокруг бегали сеттеры; люди стояли длинными шеренгами и с чувством собственного достоинства смотрели вверх. Мне показалось, что мы — древние люди, свидетели рождения мира — друиды из Стоунхенджа (правда, эта мысль стала ярче, когда появился первый бледный свет). За нашими спинами в облаках прятался беспредельный синий простор. Все еще синий. Потом он как будто начал линять. Облака бледнели; стали красновато-черного цвета. Внизу, в долине, началась потрясающая битва красного и черного цветов; все так же горел один фонарь; все было затянуто облачной пеленой, очень красивой, с тонкими прожилками. Сквозь нее мы не могли ничего разглядеть. Миновали двадцать четыре секунды. Все обернулись посмотреть на синее небо; и очень быстро, на самом деле очень-очень быстро, цвета потускнели; стало темнеть; и темнело, словно перед сильной бурей; свет тонул и тонул; мы повторяли — это тень и думали, что все закончилось, — это тень; когда неожиданно света не стало. Мы сникли. Солнце погасло. Стояла сплошная тьма. Земля была как мертвая. Удивительное мгновение, и следующее тоже, а потом, словно отвязался шар, облако опять обрело цвет, искрящийся небесный цвет, и опять стало светло. У меня появилось, когда стемнело, очень сильное чувство благоговения, я словно упала на колени, но вскочила, когда краски вернулись.
Несколько мгновений цвета были на редкость прекрасны — свежие, разные: здесь синий, там коричневый; все яркие, словно отмытые.
Они вернулись удивительно яркими и прекрасными и в долине, и над холмами — поначалу волшебной, мерцающей, небесной голубизной, а потом почти нормально-земными оттенками, даря великое облегчение людям. Это походило на выздоровление. Нам было гораздо хуже, чем мы ожидали. Мы видели мертвый мир. Ощутили власть природы. Наше величие тоже было очевидно. Мы вновь стали — Рэй в одеяле, Саксон в кепи и так далее. Нам было ужасно холодно. Я бы сказала, холод усиливался по мере того, как гас свет. И мы очень сердились. Итак — все кончено до 1999 года. Осталось приятное чувство — есть много света и цвета, то есть того, к чему мы привыкли. Некоторое время это радовало. А потом, когда все вернулось на круги своя, люди потеряли ощущение легкости и отсрочки, которое охватило нас всех, когда после тьмы вновь вернулся свет. Как мне выразить тьму? Это было словно внезапное погружение в воду, когда его совсем не ожидаешь; существование по милости небес; наше благородство; друиды; Стоунхендж; бегающие рыжие псы; все это было в мыслях. А еще меня волновало то, что я покинула лондонскую гостиную и нахожусь на дикой английской пустоши. Насчет остального помню лишь, как старалась не заснуть в Йорке, пока Эдди говорил и говорил, прежде чем заснул сам. В поезде опять спали. Из-за духоты мы были потные. Оказалось, у нас много вещей. Гарольд был добрым и внимательным. Эдди брюзгливым. Он сказал, что ростбиф и яблочный пирог очень толстые. Домой мы вернулись примерно в половине девятого.
Вторник, 18 сентября
Я написала бы тысячу вещей, будь у меня время и силы. Пишу совсем немного, но на большее не способна.
Лотон-плейс и смерть Филипа Ритчи[116].
Вот как все было. Десять дней назад приехала Вита, и мы отправились в Лотон; я ворвалась в дом и не могла им налюбоваться. Наверное, свою роль сыграло солнечное утро, на редкость прекрасное и спокойное; в доме как будто бесконечная анфилада старых комнат. Я вернулась домой, разгоряченная мыслью купить дом; мое возбуждение передалось Леонарду, так что он написал фермеру, мистеру Расселлу, и, тоже возбужденный, словно на иголках, стал ждать ответа. Мистер Расселл приехал к нам через несколько дней, и мы уговорились еще раз посмотреть дом. Все было как будто улажено, но тут я открываю «Морнинг пост» и читаю о смерти Филипа Ритчи. «Бедняжка Филип, ему больше не нужен дом», — подумала я. А потом появились обычные образы. Мне втемяшилось в голову, что эта смерть превратила меня в старую колоду; я решила, что у меня нет права жить; словно моя жизнь продолжалась за его счет. Я не была с ним доброй — не приглашала к обеду… Итак, два чувства — покупка дома и его смерть — боролись друг с другом; то побеждал дом, то побеждала смерть; когда же мы поехали поглядеть на дом, то он показался нам невыразимо ужасным; осыпающийся, в заплатах, гниющий дуб, серая бумага; сырой сад с ярко-красным коттеджем в глубине. Я отметила, что сильные яркие чувства вдруг поблекли и испарились. Начинаю забывать Филипа Ритчи.
На днях напишу тут большую историческую картину, составив ее из портретов моих друзей. Ночью, в постели, я размышляла об этом, и почему-то мне пришло в голову начать с Джеральда Бренана. Что-то в этом есть. Мемуары о своем времени через еще живых людей. Может получиться очень интересная книга. Вопрос в том, как ее писать. Вита станет Орландо, юным аристократом. Литтон тоже будет; книга должна быть одновременно правдивой и фантастической. Роджер, Дункан, Клайв, Адриан. Все связаны между собой. Однако я позволяю себе размышлять о куда большем количестве книг, чем мне наверняка удастся написать. В голове полно сюжетов! Например: Этель Сэндс не читает полученных писем. Из этого можно много извлечь. Можно написать книгу с короткими, но важными и не зависимыми друг от друга сценами. Она не вскрывает письма.
Вторник, 25 сентября
На другой стороне наметки для Шелли, думаю, ошиблась тетрадями.
Теперь позволю себе стать историографом Родмелла.
Тридцать пять лет назад здесь жили сто шестьдесят семей, а сейчас осталось не больше восьмидесяти. Деревня приходит в упадок, потому что молодые люди бегут в город. Ни одного из мальчишек, как сказал преподобный мистер Хоксфорд, здесь не учат пахать. Крестьянские дома за баснословные деньги покупают богатые люди, у которых нет загородных домов для уикендов. Монкс-хаус был предложен мистеру X. за 400 фунтов; мы дали семьсот. Он отказался под тем предлогом, что не хочет иметь загородный дом. Теперь мистер Аллисон заплатит 1200 фунтов за два дома, а мы, как он говорит, могли бы получить за свой дом 2000 фунтов. Он (Хоксфорд) — больной старик — опустившийся. Его цинизм, который придает простым затертым изречениям забавный поворот, развлекает меня. Он тонет в старости, неопрятный, с развинченной походкой, всегда в черных шерстяных варежках. Его жизнь отступает, как отлив, медленно; еще его можно представить догорающей свечой, фитилек скоро утонет в теплом сале, и свеча погаснет. Если поглядеть на него, то он напоминает старую птицу; маленькое, с мелкими чертами лицо, тяжелые веки прикрывают дымчатые блестящие глаза; у него все еще румяные щеки; но борода — словно заброшенный сад. Редкие волосы покрывают щеки, и две полоски, будто нарисованные карандашом, лежат на облысевшем черепе. Он погружается в кресло и рассказывает старые деревенские истории, в которых всегда есть некоторый насмешливый оттенок, как будто, совершенно не тщеславный и не очень удачливый, он компенсирует свои недостатки, смеясь над здравомыслием более энергичных людей. Расходы, которые неизбежны для мелькающих новичков, обихаживающих поля и фермы, вызывают у него сардонический смех. Сам он и пальцем не шевелит; любит индийский чай, предпочитая его китайскому, и не очень-то заботится о чужом мнении. Курит сигарету за сигаретой, и руки у него не отличаются чистотой. Говоря о своем колодце, он сказал: «Совсем другое дело, будь у меня ванна». А все свои семьдесят лет он обходился без нее. Ему нравится всерьез рассуждать о лампах «Аладдин», например, и как ректор в Ифорде приспосабливает круглую лампу «Веритас», что дешевле, к работе. Лампа «Аладдин» стоит 2 шиллинга и 10 пенсов. Но она быстро чернеет, и ее приходится выкидывать. Перегнувшись через ограду, оба ректора беседовали о лампе. Или он дает советы насчет строительства гаража: Перси, мол, выроет яму, а потом старик Фиарс укрепит стены цементом. Именно это он советовал; и я могу только предположить, какой кусок своей жизни он провел, беседуя с Перси и Фиарсами о цементе и ямах. Что касается его священнической сути, то ее почти не разглядеть. Он не купил бы Боуэн[117] школу верховой езды, сказал он; а ее сестра купила. Он же в это не верит. У сестры школа в Роттингдине, двенадцать лошадей, она нанимает конюхов и сама все дни работает, включая воскресенья. Однако, высказав свое мнение на семейном совете, он не пошел дальше этого. Миссис X. поддержит Боуэн. Она выбрала свой путь. А ректор будет сидеть в своем кабинете и. Бог знает, чем заниматься. Я спросила его, не надо ли ему работать; и мой вопрос немного удивил его. Дело не в работе, сказал он; у меня беседа с молодой женщиной. Потом он вновь уселся в кресло и провел в нем часа полтора.
Среда, 5 октября
Я пишу в атмосфере отвратительной ночлежки из-за приближающегося отъезда. Пинкер спит в кресле; Леонард подписывает чеки, сидя за маленьким столиком под ярко пылающей лампой. В камине полно золы, потому что он горел целый день, а миссис Б. его не чистит. Конверты лежат на решетке. Я пишу ручкой, тонкой ломкой ручкой; а вечер, кстати, великолепный, с красивым закатом.
Вчера мы отправились в Эмберли, думая купить там дом. На удивление забытое и прекрасное место в краю лугов и холмов. Мы оба очень разволновались, это в наши-то годы.
Но мы не такие старые, как миссис Грей, которая пришла поблагодарить нас за яблоки. Она никогда их не покупает, и это похоже на попрошайничество, ибо мы не берем деньги. Все лицо у нее в глубоких морщинах, словно ее исполосовали прутом. Ей восемьдесят шесть лет, и она не упомнит такого лета. Когда она была молодой, в апреле довольно часто стояла такая жара, что невозможно было укрываться даже простынями. Ее юность, по-видимому, пришлась на то же время, что и юность моего отца. Она на девять лет моложе, как я выяснила; родилась в 1841 году. Интересно, что она помнит о викторианской Англии?
Я могу сочинять ситуации, но не могу — сюжеты. Это значит: если я прохожу мимо хромой девушки, то могу, не особенно задумываясь, вообразить сцену (сейчас я не могу придумать ни одной). Это зародыш того литературного дара, который у меня есть. Кстати, я получаю письмо за письмом о своих книгах, но они меня почти не радуют.
Если ручка не подведет, то попытаюсь составить рабочий план, ибо закончила последнюю статью для «Трибюн» и опять свободна. И тотчас волнующие образы заполняют мои мысли: биография, которая началась в 1500 году и продолжается до сегодняшнего дня, под названием «Орландо»: Вита; разве что, как мне кажется, стоит ради удовольствия менять ей пол; пожалуй, я позволю себе набросать кое-что за неделю, пока…
Суббота, 22 октября
О книге, которую я пишу после чая, кажется, я уже говорила прежде. Голова у меня полна идей, но я потратила их на моих пламенных обожателей мистера Ашкрофта и мисс Финдлейтер.
«Пожалуй, я позволю себе набросать кое-что за неделю» — я не сделала ничего, ничего, ничего за две недели; и теперь принимаюсь, в какой-то мере скрытно, но с тем большей страстью, за «Орландо». Биографию. Это будет небольшая книжка, и я напишу ее к Рождеству. Мне кажется, я смогу сделать ее Художественной; когда голова горит, ее уже не остановить: я брожу и сочиняю на ходу фразы; сижу и придумываю сцены; то есть я в гуще известного мне восторга, какого не ощущала с февраля, а то и дольше. Разговоры о будущей книге, ожидание идей! А потом начнется спешка; я сказала, что мне надо успокоиться, ибо мне осточертело заниматься критикой и читать невыносимо скучную Прозу. «Ты напишешь страничку ради удовольствия; остановишься ровно в половине двенадцатого, а потом опять примешься за Романтиков». У меня почти не было представления о том, во что выльется эта история. Однако мне стало легче, когда удалось занять ею свой мозг, настолько легче, что я почувствовала себя счастливой, чего со мной не случалось уже несколько месяцев; словно меня положили на солнце или на мягкие подушки; через два дня я полностью забыла о своих планах и погрузилась в несказанное удовольствие сочинять мой фарс; я наслаждаюсь им так, как еще никогда не наслаждалась; и дописалась до того, что у меня почти началась головная боль, пришлось остановиться, словно уставшей лошади, и выпить на ночь снотворное; из-за этого наш завтрак был испорчен. Я не доела яйцо. «Орландо» пишу в несколько ироничном стиле, но просто и ясно, чтобы читатели поняли каждое слово. Однако стараюсь точно соблюсти равновесие правды и фантазии. В основе всего Вита, Вайолет Трефузис, лорд Ласцеллс, Кноул и так далее.
Воскресенье, 20 ноября
Пожалуй, пора урвать момент оттого, что Морган называет «жизнью», и кое-что по-быстрому записать. В последнее время заметок немного; у нас водопад, лавина, ураган; все вместе. Думаю, в целом, это наша самая счастливая осень. Много работы; есть успех; жизнь легка; что еще надо? Мои утра торопливые, суетливые от десяти до часу. Я пишу так быстро, что до ланча не успеваю перепечатать написанное. Думаю, главное в этой осени — «Орландо». Я как-то не чувствую ничего особенного, разве что раз-два, по утрам, когда писала критику. Сегодня начала третью главу. Научилась ли я чему-нибудь? Наверное, тут слишком много от шутки; однако мне нравятся простые предложения; и, для разнообразия, внешний вид. Конечно же, он жидковат; нет цельного полотна; но я закончу вчерне к седьмому января (наверное), а потом буду переписывать.
Среда, 30 ноября
Торопливо пишу о ланче, Л. обедал в «Краниум». Искусство легкой беседы; о людях. Боги Харрис[118]; Морис Бэринг. Б.X. «знает» всех; то есть никого. Фредди Фоссл? О да, я знаком с ним; знаком с леди такой-то. Со всеми знаком; не может признаться, что с кем-то не знаком. Начищенный, отполированный завсегдатай обедов — римский католик. В середине мистер М. Бэринг говорит: «Леди Б. умерла сегодня утром». Сибил просит: «Повторите еще раз». — «Но вчера она обедала с Р. М.», — говорит Боги. «В газетах есть сообщение о ее смерти», — сообщает М. Б. Сибил говорит; «Но ведь она еще совсем молодая. Лорд Айвор просил меня встретиться с молодым человеком, за которого его дочь должна была выйти замуж». — «Я знаком с лордом Айвором», — говорит или должен сказать Боги. «Странно это», — замечает Сибил, оставляя попытку во время ланча осознать смерть юной девушки. Потом речь зашла о париках: «Для леди Чарли парик завивает палубный матрос, прежде чем она встает с кровати, — говорит Боги. — О, я знаком с ней всю жизнь. Плавал на их яхте. Леди… — Он затрудняется продолжать, и у него брови лезут на лоб от напряжения. — Сэр Джон Кук был таким толстым, что его приходилось на руках втаскивать наверх. Однажды ночью он упал с кровати и пролежал на полу пять часов — не мог подняться. Б.М. прислал мне с официантом грушу и длинное письмо». Разговоры о домах и временах. Очень гладкие и поверхностные разговоры; в основном знакомство с разными людьми, а не интересная информация. У Боги каждый день горят уши.
Вторник, 20 декабря
Сегодня как будто самый короткий день и, возможно, самая холодная ночь в году. Мыв самом сердце жуткого мороза. Я вижу черные атомы в чистом воздухе, но, не знаю почему, никогда не смогу описать их так, чтобы мне самой понравилось. Тротуар был весь в белом блестящем снегу вечером, когда я возвращалась с Роджером и Хелен; когда в воскресенье я в последний раз была у Нессы — в последний раз, боюсь, на много месяцев. У меня, как всегда, «нет времени»; пожалуй, сегодня вечером, пока Леонард на лекции, а Пинкер спит в кресле, мне пора подсчитать, сколько и чего я должна сделать. Я должна прочитать рассказ Бейджнела, пьесу Джулиана, письма лорда Честерфилда; написать Хьюберту (о чеке из «Нейшн»). У меня в голове иррациональная шкала ценностей, которая ставит эти долги выше обычных отписок.
Вот что пришло мне на ум вечером на детском празднике у Нессы. Маленькие существа тронули меня до слез. Анджелика уже почти взрослая и собранная, вся в сером и серебристом; женственность в миниатюре; еще не раскрывшаяся почка разума и чувств; на ней был серый парик и платье цвета морской волны. Все же очень странно, что я почти не думаю о собственных детях. Вместо этого ненасытное желание успеть написать что-нибудь, прежде чем я умру; разрушительное ощущение быстротечной и лихорадочной жизни заставляет меня, как человека на скале, крепко держаться за свой камень. Мне не нравится неизбежно физическая суть связи с собственными детьми. Это пришло мне в голову в Родмелле; однако я никогда не буду об этом писать. Но, если по правде, я могу представить себя матерью. Возможно, я сама подсознательно убила в себе материнское чувство; или это сделала природа.
Все еще пишу третью главу «Орландо». Естественно, мне уже не закончить его к февралю и не выпустить весной. Получается не так быстро, как я предполагала. Только что обдумывала сцену, в которой О. встречается с девушкой (Нелл) в Парке и идет с ней в комнатушку на Джеррард-стрит. Там она открывается ему. Они разговаривают. Речь идет о неоднозначности женской любви. Ночная жизнь О.; ее клиенты (вот нужное слово). Потом она встречается с доктором Джонсоном и, возможно, что-то пишет (мне хочется найти способ и процитировать) Всем Дамам. Итак, я извлеку пользу из пролетающих лет; там будет описание горящих фонарей восемнадцатого столетия и плывущих облаков девятнадцатого столетия. Потом будет само девятнадцатое столетие. Но об этом я еще не думала. Я хочу написать все быстро, как бы на одном дыхании, что для этой книги очень важно. Она должна быть полусмешной-полусерьезной; с яркими всплесками преувеличения. Возможно, я наберусь мужества и попрошу «Таймс» о прибавке. Если бы я могла писать только для моего «Эннюал», то не писала бы больше ни для одной газеты. Каким же в высшей степени нежеланным, но уверенным в своем праве на существование появился этот «Орландо»! Он все отодвинул, чтобы родиться на свет. Оглядываясь на март, я вспоминаю — он был тогда только в моем воображении, ничего реального, придуманный мною как шальная шутка; дух — сатирический, структура — как придется. Так и было.
Да, я повторяю, очень счастливая, на редкость счастливая осень.
Четверг, 22 декабря
Открываю тетрадь на минутку, от уныния, чтобы всерьез отругать себя. Значение общества в том, чтобы унизить или осадить кого-то. Я показушница, серость, врунья; у меня появляется привычка к бахвальству. Как будто блеснула вчера вечером у Кейнсов. Но я была не в настроении и сама понимала прозрачность своих высказываний. Дэди правильно говорит: когда В. позволяет своему стилю взять над собой верх, все только о нем и думают; когда она пользуется клише, все размышляют, что бы это значило. Но, говорит он, я не владею логикой, поэтому живу и пишу, как в опиумном сне. И сон этот слишком часто обо мне самой.
Теперь, когда я уже дожила до среднего возраста, очень важно жестоко пресекать подобные ошибки. Мне легко стать бездумной эгоисткой, требующей комплиментов, высокомерной, ограниченной, поблекшей. Дети Нессы (я всегда сравниваю себя с ней и нахожу, что она лучше и человечнее меня) относятся к ней с обожанием, в котором нет места зависти; они сохранили что-то из того детского чувства, которое объединяло нас с ней против всего мира; и теперь я горжусь ее триумфальными победами во всех наших битвах; она с таким бесстрастием и такой скромностью, почти не объявляя о себе, добивается очередной пели, окруженная своими детьми; и лишь некая сверхнежность (трогательная черта) выдает, что она тоже радуется и удивляется, как, пройдя через столько ужасов и печалей, сохранила…
Сны слишком часто рассказывают мне обо мне самой. Чтобы исправить это, забыть о своей нелепой никчемной личности, отречься от нее, надо читать; видеться с людьми; больше думать; писать, подчиняясь логике; главное — работать и работать; и соблюдать анонимность. Молчать на людях; быть тихоней, не демонстрировать; жить «под лекарствами», как говорят врачи. Пустенькая вечеринка была вчера. И все-таки здесь очень неплохо.
1928
Вторник, 17 января
Вчера были похороны Гарди. О чем я думала? О только что полученном и прочитанном письме Макса Бирбома; о лекции в Ньюнхеме о женской литературе. В перерывах, конечно же, возникали какие-то чувства. Но сомневаюсь в способности зверя разумного быть облагороженным церемониями. Некто наблюдает за тем, как хмурится и дергается епископ; его внимание привлекает епископский блестящий нос; он предполагает притворство в возвышенном молодом священнике-очкарике, который не сводит глаз с креста в своих руках; ловит отсутствующий измученный взгляд Роберта Линда; потом размышляет о заурядности Г; гроб очень большой, словно сценический, покрытый белым атласом; его несут пожилые мужчины, их четверо, они красные и напряженные; снаружи летают голуби, свет искусственный и недостаточный; процессия движется в уголок поэтов; драматическое «на вечность уповая» звучит несколько мелодраматически. Литтон после обеда у Клайва заявил, что романы великого человека хуже самых худших и он был не в силах их прочитать. Литтон сидит или лежит не двигаясь, с закрытыми глазами, а когда открывает их, то сердится. Леди Стрэчи медленно угасает, но так может продолжаться еще многие годы. Над всем этим витает ощущение неприятных перемен, нашей смертности и расставаний в смерти; и еще ощущение моей славы — почему вдруг? — и ее отдаленности; необходимости написать две статьи — одну о Мередите, другую, посмертную, о Гарди. Леонард сидит дома и читает. Письмо от Макса; и ощущение тщеты.
Суббота, 11 февраля
Мне так холодно, что я с трудом удерживаю ручку в пальцах. Тщета — на этом я закончила; но все же чувствовала, что буду должна еще что-то написать. Гарди и Мередит вместе уложили меня с головной болью в постель. Теперь мне известно это чувство, когда я не могу развернуть фразу и сижу, что-то мямля, и мне ничего не приходит в голову, а мозги напоминают пустое окно. Итак, я заперла дверь в студию и отправилась в постель, закрыв уши, чтобы ничего не слышать; так я пролежала день или два. Сколько же лиг я одолела за это время! Какие только «ощущения» не были в позвоночнике и голове, стоило лишь дать им волю — преувеличенная усталость; злость и отчаяние; божественная легкость и покой; а потом опять мука. Наверняка ни один человек на свете не ощущает такого парения и такого падения из-за своей плоти. Но все; хватит…
Сама не знаю зачем, я вяло перечитываю последнюю главу «Орландо», которая должна была стать лучшей. Всегда, всегда последняя глава ускользает от меня. Усталость. Опустошенность. Все же надеюсь, еще подует свежий ветерок, и не очень беспокоюсь, разве что не испытываю той радости, которой так расточительно наслаждалась в октябре, ноябре и декабре. У меня появились сомнения, а вдруг в романе ничего нет? Слишком фантастично писать такое.
Суббота, 18 февраля
Сейчас надо пересмотреть лорда Честерфилда, но я не могу. Мои мысли витают вокруг «Женщин и художественной литературы». Эту лекцию я буду читать в Ньюнхеме в мае. Из всех насекомых, летающих и порхающих, самое капризное — разум. Рассчитывала вчера быстренько переписать лучшие страницы в «Орландо» — и ничего, увы, не получилось из-за обычных физических недомоганий, которые мешают мне и сегодня. Ужасно странное чувство; словно палец пережал поток идей в мозг; а ведь он не запечатан и кровь течет по жилам. Вот опять вместо того, чтобы писать «О.», я скачу то туда, то сюда по полю моей лекции. Завтра, увы, мы едем; но я должна вернуться к книге, которая стала мне яснее, более или менее, в последние несколько дней. Но я не считаю, что моя интуиция непогрешима.
Воскресенье, 18 марта
Я потеряла свою писательскую волну; отговорка, так как книжка в жалком состоянии. Сейчас взялась за дневник — между письмами — только для того, чтобы сообщить; «Орландо» закончен вчера, когда часы пробили один раз. Что бы там ни было, краски на холсте. Но предстоят еще три месяца кропотливой работы, это необходимо, прежде чем печатать книгу; потому что я не очень аккуратничала и в тысяче мест проглядывает основа. Все равно меня переполняет спокойное удовлетворение, потому что, несмотря ни на что, это Конец, и мы уезжаем в субботу; мои мозги в умиротворенном состоянии.
Эта книга написана быстрее всех остальных; она — сплошная шутка, и читать ее весело и быстро. Я думаю; писательский отдых. Во мне крепнет уверенность, что больше я не напишу ни одного романа. Приходят в голову короткие стихотворения. Итак, в субботу мы едем во Францию и возвратимся сюда 17 апреля — на все лето. Время летит — о да; это лето мы опять проведем здесь; и мне здесь все еще интересно. Мир крутится вокруг себя, и, зелено-голубой, он все ближе к глазам.
Четверг, 22 марта
Последние страницы «Орландо». Сейчас без двадцати пяти час; я написала все, что хотела написать, и в субботу мы отправляемся за границу.
Дело сделано. «Орландо» был начат восьмого октября как шутка; а теперь стал слишком длинным, на мой вкус. Он может провалиться между двумя стульями, ибо слишком длинен для шутки и слишком легкомыслен для серьезной книги. Эти мысли я гоню прочь и жадно жду зеленых полей, солнца, вина; ничегонеделанья. Последние шесть недель я была скорее бадьей, чем колодцем, и, не сходя с места, представляла собой мишень то для одного, то для другого. Заяц бегает в тире, друзья стреляют. Слава небесам, Сибил увозит нас сегодня; предоставляя Дэди, дай Бог, целый день одиночества. Но я намерена после возвращения проконтролировать его стрельбу по зайцам. Еще деньги. Надеюсь осесть и писать каждый месяц по одной небольшой симпатичной и осторожной статье фунтов на двадцать пять; и жить так; без стрессов; читать — то, что я хочу читать. В сорок шесть лет надо быть скрягой; тратить время только на самое главное. Однако мне кажется, я уже довольно много рассуждала на темы морали и должна поговорить о людях, потому что без этого, если видишь их бесцветными, по долгу, а не по желанию, мысли становятся вялыми и мало на что способными.
Дождь, ветер; в это время на следующей неделе мы уже будем в центре Франции.
Вторник, 17 апреля
Опять дома, как предполагалось, со вчерашнего вечера, и, чтобы осела пыль в голове, пишу здесь. Мы проехали через всю Францию и обратно — каждый дюйм этой плодородной земли воспет великим Певцом. Теперь города, и шпили, и пейзажи поднимаются в моей памяти, тогда как все остальное тонет. Я вижу в первую очередь Шартр, улитку, с поднятой головой пересекающую равнину, самый замечательный из соборов. Розовое окно похоже на бриллиант на черном бархате. Снаружи все замысловато, но просто; вытянуто; каким-то образом не производит впечатления фантастичности и витиеватости. Все время непогода; мне помнится, я почти каждый вечер возвращалась в дождь и в отеле слышала, как он шумит снаружи. Частенько меня развозило от двух стаканов местного вина. Мы все время бежали куда-то и впихивали в себя что-то — как свидетельствуют мои сумбурные записи. Один раз оказались на горе в снежную бурю; и были не на шутку напуганы длинным туннелем. Частенько двадцать миль напрочь отрезали нас от цивилизации. Однажды вечером, когда шел дождь, мы оказались в горной деревушке, и я вошла в дом и сидела с семейством — милая щепетильная вежливая женщина и прелестная застенчивая девушка, у которой в Эрлсфилде живет подружка Дэйзи. Ловили форель и охотились на диких кабанов. Потом мы поехали во Флорак, где я отыскала книжку — мемуары Жирардона — в старом книжном шкафу, проданном вместе с домом. Здесь всегда хорошая еда и горячие бутылки в постели. Ох, и моя награда — сорок фунтов от французов. И Джулиан. И один-два теплых дня, и Понт-дю-Гард в лучах солнца; и Les Beaux[119] (здесь Данте пришла его идея Ада, как сказал Дункан); и постоянно усиливавшееся желание складывать слова, пока я наконец не стала думать о бумаге, ручке и чернилах как о чем-то волшебном — получая удовольствие от простого бумагомаранья, словно это Божественное благословение. Потом Сан-Реми и руины на солнце. Я уже забываю, как это было — что за чем шло; однако выявляется главное, и я понимаю как; разговаривая сегодня с Рэймондом в «Нейшн», мы как раз обсуждали высоты. До этого, идя по кладбищу[120] под сильным дождем с ветром, мы встретили Хоуп и темноволосую ухоженную женщину. Взмахнув ресницами, они прошествовали мимо. И почти тотчас я услыхала; «Вирджиния!» Обернулась и увидела, что Хоуп идет обратно. «Джейн умерла вчера», — пробормотала она, будто спросонья, и заговорила как безумная, «не в себе». В честь смерти Джейн мы расцеловались возле могилы дочери Кромвеля, где обычно гулял Шелли. Но сама она лежала не на кладбище, а неподалеку, в той самой комнате, где мы недавно видели ее на высоких подушках, похожую на древнюю старуху, которую жизнь выпила залпом и бросила: благородную, удовлетворенную, уставшую. Лицо у Хоуп, как грязно-бурая бумага. Потом я отправилась в издательство, потом вернулась домой работать и теперь работаю и работаю изо всех сил.
Суббота, 21 апреля
Опять мчусь в обычном вихре против времени. А иначе я писала когда-нибудь? Даю слово, больше не прикоснусь к «Орландо», потому что он уродец; в сентябре он выйдет, хотя настоящий художник еще поработал бы над ним, почистил, отполировал — это можно делать до бесконечности. У меня есть несколько часов, которые хорошо бы заполнить чтением — не знаю, чего. Какого лета мне хотелось бы? У меня есть шестнадцать фунтов, которые я могу потратить до первого июля (по нашей новой системе), и я чувствую себя свободнее; могу купить платье и шляпку и пойти в них на прогулку, если пожелаю. Все же по-настоящему волнующая жизнь — воображаемая. Как только колесики у меня в голове начинают крутиться, мне не нужны деньги, не нужно платье, не нужны ни шкаф, ни кровать для Родмелла, ни диван.
Вторник, 24 апреля
Сегодня солнечный летний день; зима отправлена выть в своей родной Арктике. Вчера вечером читала «Отелло» и была под впечатлением бесконечного и беспорядочного потока слов; их слишком много, сказала бы я, если бы писала статью для «Таймс». А он пользуется этим как приемом, когда падает напряжение. В великих сценах слова пригнаны плотно, как перчатка к руке. А вот в потоке необязательных слов его мозг мечется и бултыхается; я хочу сказать, это происходит в голове величайшего мастера слова, когда он пишет, не желая прилагать усилий. Он изобилен. Писатель послабее ограничен. Как всегда, потрясение от Шекспира. Мой разум открыт словам — английским словам — в данный момент; они бьют меня, жестоко бьют, а я смотрю, как они скачут и прыгают. Целую неделю я читала только по-французски. Мне пришла идея насчет статьи о французской литературе; что мы о ней знаем.
Пятница, 4 мая
Надо написать о Женской премии, прежде чем в этот великолепный летний день я отправлюсь на Даути-стрит пить чай с мисс Дженкинс. Иду исполнить свой долг и не собираюсь унижать юную даму. Но искушение будет велико, не сомневаюсь. День все-таки чудесный.
Премия — это несколько дурацких скучных часов; все автоматически; не страшно; глупо. Хью Уолпол сказал, как сильно он не любит мои книги; скорее, как он боится за свои собственные. Маленькая мисс Робинс, похожая на малиновку, лезла из кожи вон. «Я помню вашу матушку — она была самой прекрасной Мадонной и самой совершенной женщиной на земле. Она навещала меня в моей квартире. (Представляю этот визит в жаркий летний день.) Она никогда не говорила ничего лишнего, но иногда произносила нечто совершенно неожиданное, со своим лицом Мадонны, что можно было принять за порочное». Это мне понравилось; а все остальное не произвело особого впечатления. Потом был ужас от моего отвратительного вида в дешевом черном платье. Этот комплекс контролировать трудно. Утром проснулась, как от толчка. Опять «слава» становится вульгарной и утомительной. Она ничего не значит; но отнимает много времени. Постоянно американцы. Кроули; Гейдж; предложения.
Четверг, 31 мая
Опять нет солнца; я уже почти забыла «Орландо», поскольку Л. прочитал его и он уже наполовину не мой; мне кажется, в нем нет грохота, который обязательно был бы, поработай я над ним подольше; он слишком причудлив, неровен, но местами просто замечателен. Что же до общего впечатления, то не мне судить. Думаю, он не «важный» в списке моих работ. Л. называет его сатирой.
Л. принимает «Орландо» серьезнее, чем я ожидала. Думает, что он кое в чем лучше, чем «На маяк»: о более интересных вещах и с большим и более широким приближением к жизни. По правде говоря, я бралась за него как за шутку и уж потом стала относиться к нему серьезно. Поэтому в нем нет единства. Л. говорит, что он по-настоящему оригинальный. Как бы то ни было, я рада, что на сей раз избежала писания «романа», и надеюсь, в этом меня никогда больше не обвинят. Теперь я хочу написать предельно обоснованную критику; книгу о художественной литературе; своего рода эссе (но не «Толстой» для «Таймс»). Полагаю, «Вечерний прием доктора Берни» для Десмонда. А потом? У меня большое желание держать люк закрытым; не хочу, чтобы в него проникало слишком много проектов. Пусть в следующий раз будет что-нибудь абстрактно-поэтическое. Не знаю. Мне в общем-то нравится идея биографий живых людей. Оттолин предлагает себя, но нет. Мне еще надо перелопатить рукопись и выпустить в мир побольше эссе и «авантюр».
Июньская погода. Тихо, чисто, солнечно. Благодаря «Маяку» (автомобилю) я не чувствую себя запертой в Лондоне, как прежде, и могу вообразить, будто провожу вечер где-нибудь на вересковой пустоши или во Франции, не испытывая привычной зависти оттого, что теплым вечером сижу в Лондоне. Правда, Лондон постоянно привлекает меня, стимулирует, щедро дарит мне пьесу, рассказ или стихотворение, когда я отправляюсь гулять по его улицам. Сегодня прогуливала Пинкер по Грейз-Инн-Гарденс и увидела — Ред-Лайон-сквер: дом Морриса; стала представлять, как они проводили зимние вечера в пятидесятых годах; решила, что мы не менее интересны; увидела Грейт-Ормонд-стрит, где вчера нашли мертвую девушку; послушала и посмотрела, как Армия спасения превращает христианство в веселое действо; подталкивают локтями, шутят с непривлекательными юношами и девушками, чтобы оживить действо, полагаю; и все же, если честно, когда я вижу это, то не смеюсь и не критикую, лишь чувствую, что это странно и интересно; и размышляю над смыслом их призыва: «Приди к Богу». Смею сказать, отчасти это эксгибиционизм; аплодисменты галерки; юноши поют гимны и громкими голосами объявляют, что они спасены. Это то, зачем нужно писать для «Ивнинг стандарт», — и — я собиралась сказать себе; но пока еще не сказала.
Среда, 20 июня
Мне так плохо из-за «Орландо», что не могу ничего писать. Всю неделю вычитывала гранки; и не в состоянии придумать ни одной фразы. Презираю себя за говорливость. Почему я всегда разглагольствую? И еще я почти потеряла способность к чтению. Читая гранки по пять, шесть, семь часов в день, дотошно выверяя их, я жестоко обошлась с моим чтением. После обеда беру Пруста и кладу обратно. Самое плохое время. Появляются мысли о самоубийстве. Делать совсем нечего. Все кажется безвкусным и ненужным. Буду наблюдать, как я оживаю. Думаю, что-то вес же нужно читать — скажем, жизнь Гёте.
Среда, 9 августа
…Описываю это частично, чтобы избежать «повествовательной» скуки; так вот, мы приехали сюда[121] две недели назад. Обедали в Чарльстоне, приехала Вита, и мы отправились погулять, а заодно посмотреть ферму в Леймкилне. Вне всяких сомнений, через десять лет меня будут больше интересовать факты; и я захочу, как мне хочется теперь, когда я читаю свои записи, знать подробности, подробности, чтобы я могла оторваться от страницы и увидеть их, представить себе, иногда воображаемое кажется правдивее, чем то, что есть на самом деле, ведь оно создано из кучи нерассортированных фактов и не может походить на мое теперешнее воспоминание, когда я еще не успела ничего забыть. В понедельник, насколько мне помнится, была чудесная погода; мы поехали через Райп; там девушка и ее приятель стояли на узкой дорожке у калитки, и нам пришлось помешать им, потому что мы свернули на эту дорожку. Я подумала, как то, что они говорят, чертовски похоже на реку из-за нашего появления; они стояли там, любопытные и нетерпеливые, объясняя, что надо ехать налево, хотя дорога шла прямо. Они были рады, когда мы уехали; но все же одарили нас своим вниманием. Кто эти люди в автомобиле? куда они едут? Потом это ушло в их подсознание, а потом и вовсе исчезло. Мы продолжали свой путь. Потом появилась ферма. Из печей для сушки хмеля торчали спицы от зонтика; все было разрушенное, поблекшее. Тюдоровская ферма — почти слепая; очень маленькие окошки; в стюартовскую старину фермеры, видимо, любили глядеть вдаль на ровную землю, запушенную, неухоженную, и походили на жителей трущоб. Но у них было достоинство; по крайней мере, они ставили толстые стены; складывали камины; все было солидным; а теперь в доме живет один розовощекий старик-вдовец, который не встал со своего кресла, — идите куда хотите, сказал он, и у него были неловкие движения, он производил впечатление разрушения, как печь для хмеля; там было сыро; отсыревшие ковры, жалкие, как кровати с плесневевшими под ними горшками. Стены были липкими; мебель середины Викторианской эпохи; внутри стоял полумрак. Дом умирал, разрушался; старик прожил в нем пятьдесят лет, и вот теперь дому предстояло исчезнуть, потому что ему не хватало красоты и силы заставить человека привести себя в порядок.
Суббота, 12 августа
Буду ли я продолжать свой монолог или воображу аудиторию, которой интересны мои размышления? Эта фраза подходит книге о литературе, которую я сейчас пишу — еще раз, о да, еще раз. Что думаю, то и пишу. Пишу все, что приходит в голову о Сказании, о Диккенсе и так далее, сегодня нужно поспешить с заметками о Джейн Остин и приготовить что-нибудь на завтра. Вся эта критика, однако, может быть в один прекрасный момент сметена желанием написать историю. «Мотыльки»[122] порхают где-то в задней части мозга. Вчера мы были в Чарльстоне, и Клайв сказал, что нет разделения на классы. На нас падал розовый отсвет великанши-розы, когда мы пили чай из ярких синих чашек. Всем было немного не по себе за городом; я еще подумала, этакая буколика. Очень красиво — я даже позавидовала мирной сельской жизни; деревья стояли навытяжку, словно стражи, — почему я обратила внимание на деревья? На меня большое впечатление оказывает внешний вид вещей. Даже теперь, глядя на грачей, бьющих крыльями высоко в небе, я по привычке спрашиваю себя: «Как это лучше описать?» И пытаюсь придумать такое описание, чтобы можно было почувствовать колючий ветер и дрожащие крылья грачей, режущие воздух, как будто в нем сплошные твердые складки и выступы. Грачи поднимаются выше и падают вниз, вверх и вниз, словно упражняются в сопротивляющемся воздухе, как пловцы, плывущие в бурном море. Все-таки очень мало я могу передать чернилами из всего того, что столь живо дано моим глазам, и не только глазам; что я ощущаю всеми нервными клетками или похожими на вееры мембранами моего существа.
Пятница, 31 августа
Последний день августа, подобно почти всем последним дням августа, невероятно красив. Каждый день прекрасен сам по себе, и все они довольно теплые, так что можно сидеть в саду; однако по небу все время плывут облака; поэтому то светло, то сумеречно, что так восхищает меня в гористой местности и что я всегда сравниваю со светом под алебастровой вазой. Пшеница встала кругом в два, три, четыре, пять рядов тяжелых желтых пирогов — как будто жирных и воздушных; и вкусных. Иногда я смотрю, как через ручьи бежит стадо, «будто сошло с ума», сказал бы Достоевский. Облака — если бы я могла описать их, я бы это сделала; вчера одно было со струящимися волосами, красивыми седыми волосами старика. Сейчас они белые на свинцовом небе; однако трава, освещенная солнцем за домом, зеленая. Сегодня я ходила к ипподрому и видела ласку.
Понедельник, 10 сентября
…Меня забавляет, что Десмонд сразу же попадается на удочку, стоит Ребекке Уэст сказать «все мужчины снобы»; но вчера я парировала ее замечание емкой фразой из «Жизни и писем» об «ограниченности» женщин-новеллисток. В ней нет желчности. Мы плодотворно беседовали, не исчерпав наш интерес друг к другу. Думаете, мы теперь, как грачи, возвращаемся домой на верхушку дерева? и все эти беседы означают приготовления на ночь? Мне кажется, я замечала у некоторых из наших друзей нежные сердечные отношения; удовольствие от общения, похожее на луч заходящего солнца. Этот образ часто является мне вместе с пониманием, что физически я стала холоднее, солнце только что зашло; старый диск бытия становится прохладнее — но пока это лишь начало; а потом станешь холодной и серебряной, как луна. Это лето было очень оживленным; почти целиком прожитым на людях. Довольно часто я навешала святилище; женский монастырь; у меня был приступ религиозности; однажды я сильно страдала; и все время ощущала ужас; что-то похожее на страх одиночества; будто увидела дно колодца. Нечто подобное со мной уже было тут в один из августов; но тогда мне удалось выбраться в осознание того, что я называю «реальностью»; то есть того, что вижу перед собой: нечто абстрактное; но пребывающее в горах или на небе; помимо этого нет ничего, в чем я могла бы отдыхать и продолжать свое существование. Я называю это реальностью. И иногда мне кажется, что для меня нет ничего важнее нее; что именно ее я ищу. Но потом берешь в руки перо и начинаешь писать — и кто знает? На редкость трудно не «делать реальность» такой и сякой, ведь она одна. Наверное, в этом и есть мой дар: и, видимо, это отличает меня от остальных: думаю, не часто встречается столь же острое чувство чего-то подобного — и опять же, кто знает? Мне бы хотелось это выразить.
Суббота, 22 сентября
Это было самое замечательное, и не только замечательное, самое прекрасное лето. Несмотря на ветер, воздух чистый и ясный; облака опаловые; длинные амбары у меня на горизонте мышиного цвета; столбы бледно-золотистые. Получив во владение поле, я изменилась по отношению к Родмеллу. Теперь я копаю, принимаю участие во всем. Если мне удастся заработать денег, то пристрою еще один этаж к дому. Однако вести об «Орландо» ужасные. Мы можем продать третью часть, как это было с «Маяком», до публикации — ни один магазин не купит больше полудюжины или дюжины экземпляров. Они говорят, что не могут больше. Им не нужны биографии. Но ведь это роман, говорит мисс Ритчи.
На титульном листе написано «биография», возражают они, и книга будет стоять на полке с Биографиями. Поэтому хорошо, если мы сумеем покрыть расходы, — высокая цена за придуманный мною розыгрыш с биографией. А я-то была уверена, что книга пойдет нарасхват! И еще она будет стоить шесть шиллингов десять пенсов или шесть шиллингов двенадцать пенсов, а не девять пенсов. Господи! Господи! Итак, мне придется этой зимой писать статьи, если мы хотим положить яички в банк. Я изо всех сил работаю над романом и закончила бы черновой вариант, если бы не Дороти Осборн, за которую теперь надо браться. Наверняка придется все переписать, но начало положено — я читала книгу за книгой, и что читать теперь? Романы слишком долго окружали меня. Избавиться бы от них; я бы читала английскую поэзию, французские мемуары — не почитать ли мне теперь для книги, которую я назову «Жизнь неизвестных людей»? А когда, интересно, я начну «Мотыльков»? Не раньше, чем они сами призовут меня. Не имею ни малейшего представления, что это будет, — нечто совершенно новое, как я полагаю. Я всегда так полагаю.
Суббота, 27 октября
Позор, позор, столько времени прошло впустую, а я стояла на мосту и смотрела, как оно уходит. Разве что не перегибалась через перила; в ажиотаже бегала взад-вперед, беспрерывно, возбужденно. Река устроила отвратительный водоворот. Почему я пишу эти метафоры? Потому что целую вечность ничего не писала. «Орландо» опубликован. Мы с Витой ездили в Бургундию. Будто одно мгновение. И все как-то отрывочно! С этого самого мгновения, то есть с без восьми шесть вечера в субботу, я полностью сконцентрирована на своем честолюбии. Сейчас, когда я пишу здесь, собираюсь читать дневники Фанни Берни и всерьез работать над статьей, о которой мне телеграфировала бедняжка мисс Маккей. Надо читать, думать. Двадцать шестого сентября я перестала читать и думать, когда отправилась во Францию. Теперь я вернулась, и мы вновь погружены в лондонскую и издательскую жизнь. «Орландо» немного надоел. Кажется, мне почти все равно, что о нем думают. Радость жизни в свершении — как всегда, убиваю цитату; я хотела сказать, что процесс писания доставляет мне радость, а не то, что меня читают. Но я не могу писать, пока меня читают, поэтому всегда немного неискренняя; возбужденная; не такая счастливая, как в своем уединении. То, как приняли книгу, говорят, превзошло все ожидания. В первую же неделю был побит наш рекорд продаж. Я лениво парила в похвалах, когда Сквайр рычал в «Обсервер» и даже когда я стала читать его в воскресенье среди падающих красных листьев, в их свете я почувствовала, что внутри меня ничего не дрогнуло. «Меня это не мучит», — сказала я себе; даже теперь; и уж точно до вечера я была спокойна, недосягаема. А теперь Хью в «Морнинг пост» опять пролил на меня елей, и Ребекка Уэст — трубный глас похвалы — таков ее стиль — я ощущаю себя слегка смущенной и глуповатой. Надеюсь, теперь все.
Слава Богу, мой долгий труд над дамской лекцией наконец-то завершен. Я вернулась, прочитав лекцию в Гиртоне[123], под проливным дождем. Голодные, но храбрые молодые женщины — вот мое впечатление. Образованные, жадные, бедные; судьбой назначенные стать школьными учительницами. Я ласково посоветовала им пить вино и иметь собственную комнату. Почему все великолепие, вся роскошь жизни должны изливаться на Джулианов и Фрэнсисов, ничего не оставляя Фарам и Томасам? Но, возможно, Джулиан не очень ими наслаждается. Думаю, когда-нибудь мир переменится. Полагаю, оснований для этого становится все больше. Но мне бы хотелось получше и поближе узнать жизнь. Иногда неплохо иметь дело с реальными вещами. У меня странное ощущение звона в ушах и прилива энергии после вечерней беседы; все угловатости смягчаются, и неясности просветляются. Как мало значит человек; я думаю, как мало значит один человек; как стремительна, яростна, совершенна наша жизнь; и как все эти тысячи плывут за милой жизнью. Я чувствовала себя старой и мудрой. А меня никто не уважал. Они были нетерпеливыми, эгоистичными и не очень-то подпали под впечатление моего возраста и моей репутации. Почти никакой почтительности или чего-то в этом роде. Коридоры Гиртона похожи на сводчатые склепы в каком-нибудь чудовищном соборе — их много, они идут и идут, холодные и светлые, ибо в них горит огонь. Готические помещения с высокими потолками: многие акры блестящего коричневого дерева; кое-где фотографии.
Среда, 7 ноября
Теперь буду писать для собственного удовольствия. И застряла из-за этой фразы; ведь если пишешь только для собственного удовольствия, то не знаешь, получится ли что-нибудь путное. Полагаю, что удовольствия больше не предвидится; поэтому не пишу вовсе. У меня немного болит голова, и я не совсем в себе из-за снотворного. Последствия (что это значит? — Тренч в ответ на мою ненужную откровенность молчит) «Орландо». Да, да; с тех пор как я писала тут в последний раз, я стала на два с половиной дюйма выше в общественном мнении. Думаю, могу сказать, что принадлежу теперь к известным писателям. Пила чай с леди Кьюнард[124] — могла бы обедать и ужинать с нею в любой день. Я нашла ее в маленькой шляпке с телефонной трубкой в руке. Это не ее стиль — разговаривать с кем-то наедине. Она умело распускает крылья, и ей нужно общество, чтобы стать стремительной и шальной, собственно, в этом ее цель. Нелепая маленькая женщина с попугаичьим лицом; но не такая уж на самом деле нелепая. Я продолжала ждать чего-то необыкновенного; но не могла представить хлопанья крыльями. Лакеи, да; но немного однообразные и добродушные. Мраморный пол, да; но нет волшебства; ни одна струна не звенит, по крайней мере для меня. И мы две сидим, такие заурядные, плоские — это напомнило мне о сэре Томасе Брауне — величайшая книга нашего времени, — сказала со скукой в голосе деловая женщина, которая не верит в такие вещи, разве что под ланч с шампанским и гирляндами. Потом пришел лорд Донегалл, бойкий ирландский юноша, темноволосый, с болезненным цветом лица, быстрый, и направился к прессе. «Разве они не третируют вас, как собаку?» — спросила я. «Вовсе нет», — ответил он, удивившись тому, что маркиза можно третировать, как собаку. Потом мы пошли наверх и еще наверх, чтобы посмотреть картины, повешенные вдоль лестницы, в бальных залах и, наконец, в спальне леди К. в окружении цветов. Над кроватью треугольный балдахин из розовато-красного шелка; окна выходят на Площадь и завещаны зеленой парчой. Ее трюмо — как у меня, только покрашенное и позолоченное — стояло нараспашку с золочеными щетками, зеркалами, и там же на золотистых шлепанцах аккуратно лежали золотистые чулки. Вся эта параферналия ради одного старческого движения моего большого пальца. Она завела два больших музыкальных ящика, и я спросила, слушает ли она их, ложась в постель. Нет. В этом смысле в ней нет ничего этакого. Важны деньги. Она рассказала мне довольно противные истории о леди Сэквиль, которая никогда не приходила к ней, чтобы не всучить какую-нибудь дрянь, или бюст, которому цена пять фунтов, а та заплатила сто; или медный молоток. «И потом, ее разговоры — я никогда не слушаю…» Мне не стоило труда представить примитивные низкие разговоры, но было нелегко добавить в воздух золотой пыли. Вне всяких сомнений, она цепко держится за жизнь; но как же это восхитительно, думала я, в слишком узких туфлях шагая к своему дому, в тумане, в холоде, неужели нельзя открыть одну из дверей, которые я все еще открываю с осторожностью, и найти за ней живого интересного настоящего человека, чтобы он был как Несса, Дункан, Роджер? Кого-нибудь незнакомого, но с живым умом. Грубые, заурядные, скучные все эти Кьюнарды и Коулфаксы — несмотря на их потрясающую компетенцию в коммерческой стороне жизни.
Не могу придумать, что писать теперь. То есть положение таково, что «Орландо», конечно же, быстрая и блестящая книга. Правильно, но я не пыталась ничего исследовать. И надо ли всегда исследовать? Да, надо, я и теперь в этом уверена. У меня ведь необычная реакция. Не могу я после всех этих лет с легкостью сбежать прочь. «Орландо» научил меня, как писать простые фразы; научил меня последовательности в повествовании, как держать в страхе реальность. Однако я намеренно обходила другие трудности. Я не лезла в свои глубины и не заставляла персонажей противостоять друг другу, как это было в романе «На маяк».
Что ж, «Орландо» стал результатом совершенно очевидного и, естественно, непреодолимого импульса. Я хочу веселья. Я хочу фантазии. Я хочу (и это серьезно) показать карикатурную ценность вещей. Это настроение не дает мне покоя. Я хочу написать историю, скажем Ньюнхема[125] или женского движения, но в этом русле. Оно глубоко для меня — по крайней мере, светит мне, зовет меня. Но не стимулируется аплодисментами? или слишком стимулируется? Я думаю, есть вещи, которые талант должен делать для освобождения гения: чтобы он мог сыграть свою часть; одно дело — дар, когда он просто дар, ни к чему не приложенный, и другое дело — дар, когда он серьезный и пристроен к делу. Один освобождает другой.
Все так, а что «Мотыльки»? Это должно было стать абстрактной мистической, слепой книгой: поэмой-драмой. В ней можно позволить себе аффектацию, быть слишком мистической, слишком абстрактной; скажем, Несса, и Роджер, и Дункан, и Этель Сэндс обожают такое; это бескомпромиссная часть меня; поэтому мне лучше заручиться их одобрением.
Опять кто-то из журналистов сказал, что у меня кризис стиля: сейчас он легкий и гладкий, как вода, и не задерживает на себе взгляд.
Эта болезнь началась в романе «На маяк». Первая часть была легкой — я писала и писала без остановки!
Смогу ли я теперь вернуться назад и укрепиться в стиле «Дэллоуэй» и «Комнаты Джейкоба»?
Мне кажется, результатом будут книги, которые освобождают другие книги: множество стилей и предметов: ибо, если не считать того, что называется моим темпераментом, мне кажется, мало что остается, убежденного в правдивости — того, что я говорю, что люди говорят, — но всегда следует инстинктивно, слепо, так, будто прыгает через пропасть — зов — зов — теперь, если я напишу «Мотыльков», я пойму эти мистические чувства.
Из-за X. не состоялась наша субботняя прогулка: он сейчас какой-то заплесневелый и ввергает меня в уныние. Но он совершенно здравомыслящ и очарователен. Его ничто не удивляет и не пугает. Он через все прошел, это чувствуется. И вышел крученый, гладкий, поглупевший, определенно помятый и растрясенный, как человек, который просидел всю ночь в вагоне третьего класса. Пальцы у него пожелтели от сигарет. Одного зуба внизу не хватает. Волосы влажные. Глаза какие-то подозрительные. В синем носке дырка. И все же он решителен и самоуверен — именно это приводит меня в уныние. Он как будто убежден, что только его точка зрения правильная; а у нас причуды, отклонения. Но если он прав, то, Боже Всемилостивейший, человеку незачем жить; ведь не ради же жирного бисквита. Даже меня стал удивлять и пугать мужской эгоизм. Среди моих знакомых женщин нет ни одной, которая просидела бы у меня в кресле с трех до половины седьмого, делая вид, будто не подозревает, что я могу быть занятой, усталой или умирать от скуки; которая просидела бы все это время, разговаривая, ворча и сетуя на свои трудности, несчастья; а потом ела бы шоколад, читала книгу и наконец удалилась бы в полном мире с собой, завернувшись в нечто вроде рыданий туманных самопоздравлений. Ни в Ньюнхеме, ни в Гиртоне нет ни одной такой девушки. Они слишком активны и слишком воспитанны. Подобная самоуверенность им не свойственна.
Среда, 28 ноября
День рождения папы. Сегодня ему было бы девяносто шесть лет, да, девяносто шесть лет; ему могло бы быть девяносто шесть лет, как другим людям, но, Бог милостив, этого не случилось.
Его жизнь полностью поглотила бы мою. И что тогда было бы? Я не писала бы, у меня не было бы книг — невероятно.
Я привыкла каждый день думать о нем и о маме; но когда я писала «На маяк», то как-то усмирила свои мысли. С тех пор он приходит ко мне время от времени, но по-другому. (Я верю, что это правда — что я была болезненно захвачена ими обоими и мне было необходимо написать о них.) Теперь он приходит ко мне как ровесник. Надо будет почитать ему что-нибудь. Интересно, услышу ли я опять его голос, почую ли его сердцем?
Итак, дни проходят, и иногда я спрашиваю себя, неужели человека не гипнотизирует, как в детстве серебряный глобус, живая жизнь? И жизнь ли это? Все так быстро, ярко, волнующе! Но как будто поверхностно. Мне бы хотелось взять глобус в руки и ощутить его мирную округлость, гладкость, тяжесть, и вот так держать его в руках изо дня в день. Думаю, я буду читать Пруста. И буду читать его кусками.
Что до моей следующей книги, то я собираюсь удерживать себя от писания, сколько потребуется: но что-то тяжелое созрело у меня в голове, словно спелая груша; висит, налитая, и просит, чтобы ее сорвали, не то грозится упасть. «Мотыльки» все еще не отпускают меня, являются всегда непрошеными между чаем и обедом, когда Л. заводит граммофон. Я пишу страничку-другую и заставляю себя остановиться. В самом деле, я против некоторых трудностей. Начиная со славы. «Орландо» был встречен очень хорошо. И теперь я могу писать в том же ключе — что может быть проще? Все говорят о непринужденности, естественности. И мне бы хотелось это сохранить, но не теряя остального. Однако эти качества были в основном результатом игнорирования других. Они принадлежат поверхностному писанию; и если я начну копать, не исключено, потеряю их. Стоит подумать о своей позиции по отношению к внешнему и внутреннему? Мне кажется, легкость и порыв — это хорошо, да, хорошо: я даже думаю, что внешнее — тоже хорошо; но какие-то комбинации должны быть возможны. Мне в голову пришла мысль, что я хочу насытить каждый атом. Следовательно, надо убрать все ненужное, мертвое, избыточное; воссоздать мгновение целиком; что бы оно ни включало в себя. Скажем, мгновение есть единство мысли; ощущения; голоса моря. Ненужное, мертвое приходит из-за включения того, что уже не принадлежит мгновению; отталкивающе повествовательный бизнес реалиста: например, переход от ланча к обеду — фальшивый, нереальный, по своей сути условный. Зачем брать в литературу то, что не является поэзией — под чем я имею в виду насыщенность? Не в этом ли моя основная претензия к романистам? Не в том ли она, что они ничего не отбирают? Поэты преуспевают, потому что упрощают: они выкидывают почти все. А я хочу почти все сохранить и сатурировать. Именно этого я добиваюсь в «Мотыльках». Мгновение должно включать в себя чепуху, факт, грязь: но быть прозрачным. Думаю, мне надо почитать Ибсена, Шекспира и Расина. И я что-нибудь напишу о них; лучших шпор не придумаешь — и мой разум станет таким, каким он должен быть, я буду читать с яростью и дотошностью; иначе многое пропущу, ведь я ленивый читатель. И все же я удивлена и немного обеспокоена беспощадной жестокостью своего мозга: он никогда не перестанет читать и писать; заставляет меня писать о Джеральдин Джюсбери, о Гарди, о Женщинах — он слишком профессионален, и в нем почти ничего не осталось от любительской мечтательности.
Вторник, 18 декабря
Л. только что советовался насчет третьего издания «Орландо». Он уже заказан; мы продали больше шести тысяч экземпляров, а скорость продаж странным образом не снижается — сегодня, например, сто пятьдесят экземпляров; в обычные дни между пятьюдесятью и шестьюдесятью, и так все время, что удивительно. Что будет дальше? В любом случае, моя комната — моя крепость. В первый раз с тех пор, как я вышла замуж, 1912–1928 — шестнадцать лет, — я сама трачу деньги. Тратящий мускул еще плохо работает. Я чувствую себя виноватой; откладываю покупки, когда знаю, что все равно должна их сделать, и все же у меня роскошное ощущение монет в кармане, помимо моих еженедельных 13 шиллингов, которые всегда куда-то убегали или требовались на что-то необходимое.
Пятница, 4 января
Жизнь стала или слишком устойчивой, или слишком изменчивой. Меня преследует это противоречие. Оно было всегда; будет всегда; доходит до самого центра мира — где я теперь нахожусь. А еще жизнь временная, летучая, прозрачная. Я проскользну, как облако над волнами. Возможно, хотя мы меняемся, но летим очень быстро одно за другим, очень быстро, но все же наследуем и продолжаем, мы, человеческие существа, и освещаем путь. Но что такое свет? Я под большим впечатлением мимолетности человеческой жизни, причем до такой степени, что часто прощаюсь — пообедав — с Роджером, например; или считаю, сколько еще раз смогу повидаться с Нессой.
Четверг, 28 марта
Право, это ужасно; еще ни один дневник я не бросала так надолго. Суть в том, что шестнадцатого января мы уехали в Берлин, потом я три недели провалялась в постели и не могла писать по крайней мере еще три недели, а с тех пор отдаю свою энергию еще одному приступу сочинительства — пишу, что придумала в постели, окончательную версию «Женщин и художественной литературы»[126].
И, как всегда, мне скучен повествовательный жанр. Хочу рассказать, как сегодня встретила Нессу на Тоттенхем-Корт-роуд, мы обе совсем утонули в отражениях, в которых плаваем. Она уезжает в среду на четыре месяца. Странно, но вместо того, чтобы разбежаться в стороны, мы все больше сближаемся. В голове у меня теснились тысячи мыслей, когда я несла чайник, граммофонные пластинки и чулки под мышкой. Это один из тех дней, которые я называла «могущественными», когда мы жили в Ричмонде.
Возможно, я не должна повторять то, что всегда говорила о весне. Надо, по-видимому, постоянно искать что-то новое, пока жизнь продолжается. Надо придумать новый стиль повествования. В моей голове все время появляется много новых идей. Вот одна из них: я должна отправиться в монастырь на несколько месяцев; дать себе возможность покопаться в своих мыслях; с Блумсбери покончено. Мне надо прямо посмотреть на некоторые вещи. Начинается время приключений и наступления, довольно одинокое и болезненное, как мне кажется. Однако одиночество полезно для новой книги. Конечно же, у меня будут друзья. Я стану более открытой. Куплю несколько красивых платьев и буду ходить в гости. И постоянно буду наступать на угловатое нечто у себя в голове. Думаю, у «Мотыльков» (если я так назову книгу) окажутся очень острые углы. Однако мне не нравится форма. Здесь есть неожиданное изобилие, которое может обернуться обычной беглостью. В книгах прежних времен очень многие фразы были как будто вырублены топором изо льда: а теперь мой разум очень нетерпелив, очень спешит и в каком-то смысле доведен до отчаяния.
Воскресенье, 12 мая
Ну вот, закончила то, что называется последней редакцией «Женщин и художественной литературы», так что Л. может почитать книгу после чая, а я сделаю передышку. Насос, который я радостно считала замершим, заработал снова. Насчет «Женщин и художественной литературы» я не уверена — блестящее эссе? — скажем так: в нем много работы, многие мысли сварены до консистенции желе, ставшего таким красным, каким только возможно. Мне не терпится освободиться — писать, не чувствуя границ, заметных в чьих-то глазах: здесь слишком знакомая публика; факты; их можно перековать; легко подогнать друг к другу.
Вторник, 28 мая
Насчет моих «Мотыльков». Как мне начать? Какой эта книга должна быть? Я не чувствую большого подъема; горячки; лишь непосильный гнет трудностей. Зачем же ее писать? Зачем вообще писать? Каждое утро я пишу небольшой набросок, чтобы доставить себе удовольствие. Я не говорю, но могла бы сказать, что эти скетчи имеют некий смысл. Я не пытаюсь рассказать историю. И все же, возможно, получится именно так. Мозг думает. Может быть, это островки света — островки в потоке, который я пытаюсь показать, безостановочной жизни. Туча мотыльков, устремленных в этом направлении. В центре лампа и горшок с цветами. Цветок может постоянно меняться. Но между сценами должно быть больше единства, чем есть в данный момент. Можно назвать это автобиографией. Как мне сделать один раунд, или акт, в устремлении мотыльков более интенсивным, чем другой, если это всего лишь сцены? Читатель должен понять, где начало; где середина; где кульминация — когда она открывает окно и мотылек влетает в комнату. У меня должно быть два разных потока — летящие мотыльки; в центре цветок, тянущийся вверх; постоянное умирание и воскрешение растения. В его листьях она могла бы видеть происходящее. Но кто она? Мне бы очень хотелось, чтобы у нее не было имени. Я не хочу ни Лавинии, ни Пенелопы; пусть будет «она». Однако так слишком искусственно. Свобода, листья, стая; символика в свободных одеждах. Конечно же надо, чтобы она размышляла сознательно и бессознательно; я умею рассказывать истории. Но здесь не то. Что угодно может быть за окном — корабль — пустыня — Лондон.
Воскресенье, 23 июня
Был очень жаркий день; ездили в Вортинг навестить мать Леонарда; у меня болело горло. На другое утро началась головная боль — так что мы до сегодняшнего дня в Родмелле. Здесь я читаю «Обыкновенного читателя»; и это очень важно — я должна научиться писать более сжато. Особенно в эссе на общую тему, потому что, читая последнее — «Впечатления современника» — я была в ужасе от собственных разглагольствований. Так получается отчасти потому, что я ничего не продумываю заранее; отчасти потому, что я слишком занята своим стилем и теряю смысл. В результате вихляние, многословность и отсутствие воздуха, чего я терпеть не могу. Надо будет всерьез поработать над «Своей комнатой», прежде чем ее печатать. А я вновь в моем великом озере печали. Господи, какое же оно глубокое! Да я прирожденная меланхоличка! Единственное, что держит меня на плаву — это работа. Заметка на лето — я должна набрать больше работы, чем реально смогу сделать, — я не знаю, откуда это приходит. Только перестаю работать и сразу начинаю тонуть, тонуть. И всегда чувствую, что если буду плыть дальше, то дотянусь до правды. Это единственное оправдание; в какой-то мере благородство. Торжество. Я заставлю себя увидеть, что там ничего нет — ничего нет ни для кого из нас. Работа, чтение, творчество — маски; и отношения с людьми. Да, бессмысленно даже иметь детей.
Тем не менее, я начинаю видеть «Мотыльков» даже слишком ясно или, скажем, упорно — для моего спокойствия. Думаю, книга будет начинаться так: заря; ракушки на берегу; не знаю — голос петуха и соловья; потом все дети собираются за длинным столом — уроки. Начало. Ну, должны быть разные персонажи. Человек, который за столом, может в любой момент позвать кого-то из них и с его помощью создать соответствующее настроение, рассказать историю; например, о собаках или нянях; или о каком-нибудь детском приключении; о лодках на пруду; должно быть детское ощущение; нереальность; неправильные пропорции. Потом надо выбрать другого человека, все равно кого. А вокруг нереальный мир — фантомные волны. Прилетает мотылек; прелестный мотылек; один. Можно ли сделать так, чтобы все время слышались волны? Или шум с фермы? Неясные звуки. У нее может быть книга — одна книга, чтобы читать, — другая книга, чтобы писать в ней, — старые письма. Свет как ранним утром — однако это не обязательно; потому что все должно быть совершенно свободно от «реальности». И все же ничего случайного.
И все это, конечно же, «реальная» жизнь; а ничто приходит, лишь когда ее нет. Я доказала это совершенно определенно в последние полчаса. Стоит мне задуматься о «Мотыльках», и все внутри меня зеленеет и оживает. Еще мне кажется, человек вполне в состоянии войти в другие…[127]
Понедельник, 19 августа
Наверное, прервалась из-за обеда. Однако сейчас открыла дневник в другом настроении — отметить тот благословенный факт, что на радость или на беду, но я закончила править «Женщин и художественную литературу», или «Свою комнату». Никогда больше не буду ее читать, как мне кажется. Радость или беда? Какая все же нелегкая жизнь отражена в ней; есть ощущение человека, который, выгнув спину, скачет что есть мочи, хотя, как обычно, много воды, нет устойчивости и голос слишком высокий.
Понедельник, 10 сентября
Леонард на пикнике в Чарльстоне, а я тут — «усталая». Почему я устала? Ну, я никогда не бываю одна. Это первое из моих сетований. Я устала не столько физически, сколько психологически. Я переутомляюсь и выжимаю из себя все на журналистику и гранки; да еще подспудно складывается книга «Мотыльки». Складывается, но складывается слишком медленно; и не могу сказать, что хочу писать ее, хотя думаю о ней вот уже две или три недели, скажем — чтобы собрать все мысли в один поток и позволить ему затопить себя. Напишу, пожалуй, несколько фраз утром на подоконнике. (Все ушли в какое-то красивое место — Хёрстмонсо[128], возможно — странным туманным вечером — и все же, когда наступило время идти, мне хотелось лишь одного — одной отправиться в горы. И вот теперь я чувствую себя немного забытой, брошенной и обманутой, что было неизбежно.) Каждый раз, стоит мне попасть в нужный поток мыслей, я тотчас выпрыгиваю из него. У нас Кейнсы; приехала Вита; потом Анджелика и Ева; потом мы поехали в Вортингтон, а потом у меня стало стучать в голове — и вот я здесь; не пишу — это не имеет значения, но и не думаю, не чувствую, не смотрю — и в одиночестве жду вечера как счастья — в это мгновение в стеклянной двери появился Леонард; они не поехали ни в Хёрстмонсо, ни куда бы то ни было еще; здесь были Спротт и горняк, так что я ничего не потеряла — первое эгоистическое удовольствие.
На самом деле это предчувствие книги — состояние творящей души — очень странное и немного страшное…
И потом, мне уже сорок семь лет: да; и мои немощи не дают мне покоя. Начнем с того, что у меня неладно с глазами. В прошлом году, кажется, я могла читать без очков; взять газету и читать ее в ванне; но постепенно выяснилось, что мне нужны очки, когда я читаю в постели; а теперь я не могу прочитать ни строчки (если только под очень странным углом) без очков. Мои новые очки гораздо сильнее прежних, и когда я снимаю их, то на мгновение совсем слепну. Остальные немощи? Слышу я, кажется, превосходно; хожу как будто тоже как прежде. Но ведь все равно придется менять уклад жизни. Разве это не трудно и не опасно? Очевидно, что можно это одолеть, не теряя рассудка — естественный процесс; можно лежать тут и читать; способности останутся прежними; нечего волноваться, но это в одном смысле — я написала несколько интересных книг и могу зарабатывать деньги, могу позволить себе отдых. — О нет; нечего беспокоиться; и эти забавные перерывы в жизни — у меня их было много — в художественном отношении они очень плодотворны — вспоминаю свое безумие в Хогарте — и все мелкие болячки — это было до того, как, например, я написала «На маяк». Шесть недель в постели сделают из «Мотыльков» шедевр. Только название нужно другое. Мотыльки, как я только что вспомнила, не летают днем. У меня не должно быть зажженной свечи. Да и об объеме книжки надо подумать — со временем все уладится. А пока конец.
Среда, 25 сентября
Вчера утром я предприняла еще одну попытку начать «Мотыльков», но нужно менять название; и еще несколько проблем кричат благим матом, требуя разрешения. Кто думает об этом? Только не я. Хочется какого-то приема, который не был бы трюком.
Пятница, 11 октября
Я ухватилась за мысль писать тут, лишь бы не писать «Волны», или «Мотыльков», как это ни назови. Считаешь, что уже научилась писать быстро, ан нет. И что странно, я пишу без радости и удовольствия; из-за сосредоточенности. Я не разматываю историю, а клею ее. И еще никогда в жизни я не пыталась освоить столь размытый, хотя и разработанный проект; когда я что-то вношу в текст, то должна соотнести это с дюжиной других «что-то». Мне не составляет труда двигаться вперед, а я все время останавливаюсь, чтобы уточнить результат целого. В частности, нет ли в моей конструкции какой-нибудь серьезной ошибки? Я не совсем удовлетворена моим методом — брать какую-то вещь в комнате и с ее помощью вспоминать о других вещах. Все же в данный момент не могу выбросить ничего из того, что близко к первоначальному плану и от чего зависит движение. Надеюсь, эти октябрьские дни будут хоть и немного напряженными, но тихими. Я сама не совсем понимаю, что имею в виду под последним словом, поскольку никогда не прекращала «видеть» людей — Нессу и Роджера, Джефферсов, Чарльза Бакстона, хотела бы свидеться с лордом Дэвидом и Элиотами — о, и конечно же, с Витой. Нет, дело не в физической тишине; речь о каком-то внутреннем одиночестве — интересно было бы проанализировать его, если это кому-то по плечу. Вот пример — я шла сегодня по Бедфорд-плейс, прямой улице с пансионами, — и вдруг сказала себе что-то вроде этого. Я очень страдаю. И никто не знает, как я страдаю, проходя по этой улице, вся поглощенная своей мукой и точно так же, как когда умер Тоби, — одна; сражаюсь тоже одна. Но тогда был дьявол, с которым я сражалась, а теперь нет ничего. И когда я вхожу в дом, в нем совсем тихо — я не несу в голове стремительно кружащихся колесиков — и все же я пишу — о да, мы добились большого успеха — и еще есть — то, что я больше всего люблю — перемена впереди. Кстати, вчера вечером, когда Леонард против своей воли приехал за мной в Родмелл, приехал и Кейнс. Мэйнард отказывается от «Нейшн», Хьюберт[129] тоже, мы наверняка тоже откажемся. Стоит осень; рано зажгли свет; Несса на Фицрой-стрит — в большой сыроватой комнате, где горит газ и куча тарелок и бокалов на полу — быстро растет спрос на «Пресс»[130] — известность становится непреходящей — я богаче, чем когда бы то ни было — сегодня купила себе пару сережек — а за все это пустота и тишина где-то в машине. Вообще-то я не очень возражаю; потому что люблю, когда кидает из стороны в сторону и то, что я называю реальностью, не дает сбиться с пути. Если бы я не ощущала это невероятное всепоглощающее напряжение — беспокойство, или покой, или счастье, или дискомфорт, — я бы скатилась в уступчивость. Должна быть борьба; и когда я просыпаюсь рано утром, я говорю себе: сражайся, сражайся. Если бы у меня был шанс ухватить это ощущение, я бы это сделала; ощущение того, как поет реальный мир, когда одиночество и тишина извлекают человека из привычной жизни; не покидающее меня ощущение, что моя судьба — приключение; что я до странности вольна теперь, имея деньги и все прочее, делать что хочу. Иду покупать билеты в театр (Мать) и просматриваю список дешевых экскурсий, который висит на стене, и тотчас мне приходит в голову поехать на завтрашнюю общедоступную ярмарку в Стратфорде-он-Эйвоне — почему бы нет? — или в Ирландию, или в Эдинбург на уикенд. Увы, я не поеду. Но все-таки есть возможность. И эта забавная лошадка, жизнь, настоящая. Понятно ли то, что я хотела сказать? Однако я еще не опустила руки. Странно, но мне вдруг пришло в голову — я скучаю по Клайву.
Среда, 23 октября
Вот так — пишу около часа, потом на меня накатывает страх, что я не в состоянии управлять собственными мыслями, — потом печатаю, и к двенадцати часам совершенно вымотана. Я суммирую здесь мои впечатления, пока «Своя комната» не вышла в свет. Немного страшно, что Морган не будет писать статью о книге. Я начинаю подозревать, что в ней заключен резко выраженный феминизм, которого мои друзья не любят.
Он написал мне вчера, 23 дек., сообщил, что ему очень понравилось.
Приходится прогнозировать, что никто ничего не напишет, разве лишь будут шутливые уклончивые отклики Литтона, Роджера и Моргана; пресса отнесется ко мне по-доброму и особенно выделит очарование и живость повествования; а еще на меня нападут как на феминистку и намекнут, будто я последовательница Сапфо; Сибил пригласит меня на ланч; я получу довольно много писем от молодых женщин. Боюсь, книгу не воспримут серьезно. Миссис Вулф настолько владеет мастерством, что ее книги легко читаются… чисто женская логика… эту книгу полезно читать девушкам. Впрочем, мне почти все равно. «Мотыльки» — правда, думаю, они станут «Волнами» — продвигаются туго; но они у меня есть, если будет совсем плохо. Это безделушка, как я считаю, так оно и есть, но я писала ее с жаром и убежденностью.
Вчера вечером обедали с Уэббами, к чаю пришли Эдди[131] и Дотти[132]. Что касается подобных продуманных обедов, то поговорить на них можно лишь с одним человеком — с Хью Макмилланом — о Бьюкенах и о его собственной карьере; Уэббы дружелюбны, но остаются при своем мнении насчет Кении; мы сидим в двух комнатах арендуемого дома (в столовой медный остов кровати за ширмой); едим большие куски красного мяса; и нам предлагают виски. Все та же просвещенная, безличная, отлично управляемая атмосфера. «Моему малышу нужны игрушки» — подальше заходить не рекомендуется — «так говорит моя жена насчет моего времяпрепровождения в кабинете». Нет, у них нет иллюзий. А я сравнивала их с Л. и с собой и чувствовала (именно по этой причине) пафос, символический смысл бездетной пары, которая что-то значит, которую что-то объединяет.
Суббота, 2 ноября
Пока у меня все в порядке со «Своей комнатой»; полагаю, она продается; а я получаю неожиданные письма. Однако сейчас меня волнуют «Волны». Только что напечатала утреннюю порцию и не чувствую уверенности. Что-то в этой книге есть (так же я чувствовала насчет «Миссис Дэллоуэй»), но я не могу до конца понять ее; ничего похожего на скорость и уверенность романа «На маяк»; а «Орландо» — лишь детская игрушка. Может быть, в методе заложена фальшь? Трюкачество? — и интересные веши не обоснованы фундаментально? У меня странное состояние; я чувствую расслоение; вот что-то интересное; а достаточно массивного стола, чтобы это на него поставить, нет. Не исключено озарение при повторном чтении — какой-нибудь растворитель. Я убеждена, что имею право искать место, где мои персонажи будут на фоне времени и моря — но, Господи, как трудно вписать их туда, причем убедительно. Вчера я была уверена в своей правоте; а сегодня от моей уверенности не осталось и следа.
Суббота, 30 ноября
Пишу с омерзением; закончила утреннюю работу. Начала вторую часть «Волн» — не знаю. Не знаю. Чувствую, что пока лишь собираю заметки для книги — один Бог знает, смогу ли осилить ее. Я могла бы соединить все вместе, продумай я все получше — в Родмелле, в моей новой комнате. Чтение «Маяка» не облегчает работу…
Воскресенье, 8 декабря
Я читаю и читаю и прочитала, думаю, целых три фута толстой рукописи, внимательно прочитала; слишком многое погранично и требует размышлений. Теперь, когда груз сброшен, я вольна читать елизаветинцев — забытых, маленьких авторов, которых я по своему невежеству никогда не читала, — Путтенхэма, Уэбба, Харви. Эта мысль наполняет меня радостью — без преувеличения. Читать с карандашом в руке, делать открытия, искать промахи, думать о фразах, когда почва совсем чужая, остается моим любимым занятием. Ох, Л. хочет сортировать яблоки, а даже малейший шум меня раздражает; не могу придумать, что сказать ему.
Итак, я прекратила писать, и ничего особенного не произошло, зато я составила список Елизаветинских поэтов. И еще я с большой радостью отказалась писать о Роде Бротон и Уиде ради де ла Мэра. Эта жила, какой бы богатой она ни была теперь, беру в свидетельницы Джейн и Джеральдин, скоро иссякнет во мне. Хочу писать критику. Почему бы не вытащить одного-двух неизвестных персонажей. В первую очередь я полюбила Елизаветинскую прозу, и сильнее всего меня притягивает к себе Хэклит, которого папа когда-то принес мне, — я думаю об этом с нежностью — папа ищет книгу в библиотеке, помня о маленькой девочке на Гайд-Парк-гейт. Ему тогда было лет шестьдесят пять; а мне пятнадцать или шестнадцать; и я, сама не знаю почему, так увлеклась Хэклитом, хотя и не очень им заинтересовалась, но вид большой желтоватой страницы заворожил меня. Я читала, и мечтала о неведомых путешествиях, и, несомненно, копировала стиль в своей тетрадке. Тогда я писала длинное колоритное эссе о христианской религии, насколько помнится; под названием «Religio Laici», если не ошибаюсь, доказывая, что человек нуждается в Боге; однако Бог был описан в процессе перемен; и еще я написала историю Женщин; и историю моей собственной семьи — все эссе были очень многословными и елизаветинскими по стилю.
Родмелл — Святки
Это было почти неправдоподобно умиротворяюще — две недели назад — почти невозможно разрешать себе такое. Мы безжалостно отвергли всех гостей. Мы сказали себе, что хотя бы один раз проведем этот день одни; и в самом деле, это оказалось возможным. Кстати, Анни мне очень симпатична. Хлеб получился на славу. Все было довольно весело, просто, быстро и хорошо — кроме того, что я случайно натолкнулась на «Волны». Написала две страницы сущего вздора; как бы с напряжением; вариации всех фраз; компромиссные варианты; плохие куски; возможности; пока моя тетрадь не стала похожа на бред сумасшедшего. Тогда я доверилась вдохновению и вновь все перечитала, возвращая книге кое-какой смысл. Все же у меня нет удовлетворения. Мне кажется, я что-то упустила. Но я ничего не приносила в жертву приличиям. Жму в самый центр. И наплевать, если придется все вычеркнуть. Что-то там есть. Теперь я собираюсь принять жестокие меры — в Лондоне — в беседе — локтями пробивая себе дорогу, — а потом, если ничего не получится — пусть, я испробовала все возможности. Однако жаль, что книга мне не нравится. Я не держу ее целые дни в голове, как «На маяк» и «Орландо».
1930
Воскресенье, 12 января
Воскресенье. И я только что воскликнула: «Как это у меня получается ни о чем больше не думать!» Из-за моей неуступчивости, из-за моего упрямства я теперь вряд ли смогу бросить «Волны». Эта мысль пришла ко мне ровно неделю назад, когда я начала писать «Фантомный прием»; и теперь я чувствую, что могу устремиться вперед после шести месяцев тяжелой работы и закончить книгу; однако у меня нет никакого представления, какую форму придать ей. Многое надо отбросить: главное — писать быстро и не терять настрой — никаких каникул, никаких перерывов, если получится, пока книга не будет написана. Потом отдыхать. Потом все переписывать.
Воскресенье, 26 января
Мне сорок восемь лет: мы были в Родмелле — опять дождливый, ветреный день; в мой день рождения мы бродили между холмами, похожими на сложенные крылья серых птиц; и сначала увидели одну лисицу, очень длинную и с вытянутым хвостом, а потом другую, эта лаяла, потому что солнце светило слишком ярко; она легко перепрыгнула через изгородь и вошла в заросли дрока — такое редко увидишь. Сколько еще лис осталось в Англии? Вечером читала жизнь лорда Чаплина. Пока еще не привыкла писать в моей новой комнате, потому что стол не той высоты и мне приходится наклоняться, чтобы согреть руки. Все должно быть в точности так, как я привыкла.
Забыла сказать, что когда мы подводили итог за полгода, оказалось, в прошлом году я заработала 3020 фунтов — жалованье государственного служащего: удивительно для человека, много лет довольствовавшегося 200 фунтами. Тем больнее будет падать.
Продано около 6500 экземпляров на сегодня, 30 октября 1931 г. — через три недели. На этом, думаю, все закончится.
«Волн» мы продадим не больше 2000 экземпляров. Думаю, все закончится. Я очень привязана к этой книге — то есть приклеена к ней, как муха к липкой бумаге. Иногда меня лучше не трогать, но проходит время, и я опять через какое-нибудь яростное действо — например, продираюсь через утесник — понимаю, что получаю в руки нечто важное. Возможно, я сумею что-то сказать: по крайней мере, мне не надо постоянно подсчитывать строчки, чтобы моя книга стала нужного объема. Но как все соединить, как согласовать — сделать единым — я не знаю; и не могу придумать конец — это может быть гигантская беседа. Трудно с интерлюдиями, как мне кажется, важными: надо построить мосты и сделать задник — море; бесчувственная природа — не знаю. Но думаю, если я вдруг чувствую ясность, что все правильно: никакая другая художественная форма не дает шанс повторить мгновение.
Воскресенье, 16 февраля
Полежать бы неделю на диване. Сегодня я сижу в обычном состоянии неадекватного оживления. Немного хуже нормального — со спазматическими порывами писать, потом — спать. День прекрасный, холодный; если верх возьмут чувство долга и запасы энергии, то я отправлюсь в Хемпстед. Но сомневаюсь, что смогу писать. У меня в голове плавает облако. Я слишком занята своей плотью и вытолкнута из жизненной колеи, чтобы вернуться к литературе. Пару раз ощутила странное шуршание крыльев в голове, которое обычно слышу, когда слишком часто болею, — в прошлом году, например, в это время я лежала в постели, придумывая «Свою комнату» (два дня назад было уже продано 10 000 экземпляров). Если бы я могла оставаться в постели недели две (но это невозможно), мне кажется, я бы увидела «Волны» целиком. Или — почему бы нет? — могла бы подумать о чем-нибудь другом. Итак, я почти намерена настаивать на поездке в Касси; но, наверное, на это потребуется больше настойчивости, чем есть у меня; и мы останемся тут. Пинкер кружит по комнате, приглядывая солнечное местечко, — знак весны. Я верю, что в моем случае болезни — как бы это сказать? — отчасти мистические. Что-то происходит у меня в голове. Мозг отказывается регистрировать впечатления.
Закрывается. Превращается в куколку. Я лежу оцепеневшая, частенько ощущая сильную боль — как в прошлом году; а в этом году — лишь дискомфорт. Потом — вдруг — что-то появляется. Вечера два назад приходила Вита; и когда она ушла, я прочувствовала вечер — приход весны: серебряный свет соединяется со светом рано включенных ламп; по улицам едут такси; у меня было потрясающее ощущение начала жизни и еще чувство, которое для меня главное, однако не поддается описанию (я продолжаю сочинять сцену в Хемптон-Корт для «Волн» — один Бог знает, как я удивлюсь, если закончу эту книгу! Пока передо мной куча мусора). Итак, я уже сказала, между долгими паузами, ибо мои мысли без толку кружат в голове и пишу я скорее, чтобы стабилизировать себя, нежели создать что-то стоящее, — я почувствовала, что началась весна: у Виты жизнь наполненная и блестящая; все двери открыты; мне кажется, мотылек машет крылышками у меня внутри. Я как будто начинаю видеть свою историю, что бы там ни было дальше; идеи бьются; очень часто исчезают, увы, прежде чем я запоминаю их и беру ручку. На этой стадии нет смысла записывать. Очень сомневаюсь, что мне удастся заполнить белое чудовище. Хотелось бы лечь и заснуть, но мне стыдно. Леонард за один день справился со своей инфлюэнцей и уже занимается делами, хотя все еще слаб. Я же бездельничаю, не одета, а завтра визит Элли. Но, как я сказала, мой мозг продолжает трудиться. У меня ничегонеделанье обычно самый продуктивный период. Читаю Байрона, Моруа, это отсылает меня к «Чайльд Гарольду»: заставляет размышлять. До чего странно: слабенькая сентиментальная миссис Хеманс и откровенная жизненная сила. Как они сошлись? В «Чайльд Гарольде» иногда «прекрасные» описания; как у великого поэта. У Байрона три элемента:
1. Романтическая черноволосая дама поет романсы под гитару.
Тамбурджи, тамбурджи! Ты будишь страну. Ты, радуя храбрых, пророчишь войну… Косматая шапка, рубаха как снег. Кто может сдержать сулиота набег? —нечто искусственное; поза; глупость.
2. Энергичная риторика, подобная его прозе и такая же замечательная, как проза.
Рабы, рабы! Иль вами позабыт Закон, известный каждому народу? Вас не спасут ни галл, ни московит. Не ради вас готовят их к походу…3. То, что звучит для меня почти истиной и почти поэзией.
Но ты жива, священная земля, И так же Фебом пламенным согрета. Оливы пышны, зелены поля. Багряны лозы, светел мед Гимета. …И небо чисто, и роскошно лето. Пусть умер гений, вольность умерла, — Природа вечная прекрасна и светла.4. Есть еще чистая сатира, как в описании воскресного Лондона; и…
5. наконец (однако уже больше, чем три) очевидная полупризнанная полуискренняя трагическая нота, которая повторяется как рефрен о смерти и потере друзей.
Что в старости быстрее всяких бед Нам сеть морщин врезает в лоб надменный? Сознание, что близких больше нет. Что ты, как я, один во всей Вселенной. …Все жизнь без сожаленья отняла, И молодость моя, как старость, тяжела.[133]В этом, я думаю, весь Байрон; то, что делает его поэзию ненастоящей, безвкусной, тем не менее, очень переменчивой и уж точно, богатой и гораздо более щедрой, чем у других поэтов, если бы он мог привести все это в порядок. Он мог бы быть романистом. Очень странно читать в его письмах настоящую прозу и чувствовать его искреннюю любовь к Афинам и сравнивать это с банальностью, которую он произносит в стихах. (Там есть даже глумление над Акрополем.) Впрочем, глумление тоже могло быть позой. Суть в том, что если поднимаешься на такую высоту, то приходится забыть об обычных человеческих чувствах; непременно появляется поза; напыщенная речь; остальное лишнее. Он писал в Альбоме, что ему сто лет. И это правда, если мерить жизнь чувствами.
Понедельник, 17 февраля
Температура поднимается, теперь опускается; а я…[134]
Четверг, 20 февраля
Я должна постараться и привести в порядок мозги. Может быть, написать о ком-нибудь скетч.
Понедельник, 17 марта
Тест для книги (с точки зрения писателя) в том, может ли она создать пространство, в котором с полной естественностью высказано то, что хотел высказать автор. Сегодня утром я могла бы повторить слова Роды. Это доказывает, что книга живая: ибо она не изуродовала сказанное мной, а приняла это в целости и сохранности.
Пятница, 28 марта
Ну да, эта книга нечто странное. Я была очень возбуждена в тот день, когда сказала: «Дети не идут с ними ни в какое сравнение». Мы с Л. обсуждали книгу в общих чертах, и я ссорилась с Л. (из-за Этель Смит) и победила; чувствую давление формы — блеск, величие, — как, вероятно, никогда не чувствовала прежде. Однако я не поддаюсь возбуждению и продолжаю упорно работать; и мне кажется, это самая сложная и самая трудная из моих книг. Просто не представляю, как закончить ее, если не всеобщей дискуссией, в которой все виды жизни получат право голоса — мозаикой. Трудность, наверное, в сильном давлении изнутри. Я еще не выработала нужный тон. Все же мне кажется, в ней что-то есть; и я собираюсь напряженно работать, а потом все переписать, читая строчку за строчкой вслух, как стихи. Эта книга выдержит, если ее увеличить. Думаю, я ее слишком ужала. В ней — что бы там ни получилось — большая и важная тема, какой в «Орландо» все-таки не было, В любом случае я себя защитила.
Среда, 9 апреля
Теперь я думаю (насчет «Волн»), что умею несколькими мазками выделить индивидуальные черты в персонаже. Это надо делать храбро, словно рисуешь карикатуру. Вчера я взялась за, вероятно, последнюю часть. Как все другие части, он пишется судорожно, то быстро, то никак. Никогда мне не справиться с ним, он все время тащит меня назад. Но, надеюсь, он придаст вес книге; однако мне приходится очень следить за фразами. «Орландо» и «На маяк» держатся в большой степени на невероятно трудной форме — как это было в «Комнате Джейкоба». Мне кажется, я делаю шаг вперед; но, увы, кое-где за счет огня; мне как будто удалось — стоическим усилием — сохранить первоначальную концепцию. Чего я боюсь, так это переписывания, которое может решительным образом все спутать. Книга обречена на несовершенство. Но, полагаю, мне удалось поставить мои статуи на фоне неба.
Суббота, 13 апреля
Едва закончила писать, как взялась читать Шекспира. Мой мозг еще весь в нем и полыхает, как огонь. Это поразительно. Я даже представить не могла, как он велик — масштаб, скорость, словесная мощь, — пока не вытащила из себя все возможное и, как мне показалось, не стартовала вровень с ним, а потом увидела, что он уже далеко впереди и делает такое, о чем я даже в самых дерзких мечтах и буйных фантазиях не могла помыслить. Даже его менее известные пьесы имеют гораздо большую скорость, чем самые быстрые пьесы любого другого драматурга; слова падают так стремительно, что их невозможно подобрать. Вот: «Upon а gather’d lily almost wither’d»[135]. (Пример совершенно случайный. Просто эта фраза попалась на глаза.) Очевидно, гибкость его ума была столь совершенной, что ему ничего не стоило воплощать в словах цепочки мыслей; и, расслабляясь, он беззаботно проливал на нас целый дождь подобных цветов. Почему у других хватает смелости писать после него? Вот только это не «писание». В самом деле, я бы сказала, что Шекспир обогнал литературу, если бы знала, что это значит.
Среда, 23 апреля
Сегодня очень важное утро в истории «Волн»; мне кажется, что я свернула за угол и вижу впереди последнюю финишную прямую. Думаю, без Бернарда не обойтись. Теперь он будет шагать, пока не остановится возле двери: а потом — последняя картина «Волн». Мы в Родмелле, и, надеюсь, я пробуду тут пару дней (если получится), чтобы не прерываться и довести дело до конца. О господи, потом можно будет отдохнуть; потом статья; а потом обратно к ужасному процессу перекраивания и переделывания. И все-таки в нем тоже есть свои радости.
Вторник, 29 апреля
Я только что написала, этими же чернилами, последнюю фразу «Волн». Мне показалось необходимым это отметить, чтобы не забыть. Да, я познала величайшее напряжение ума; естественно, последние страницы; не думаю, что они провалятся, как обычно. И еще я думаю, что на сей раз в точности держалась намеченного плана. Это я себе в похвалу. Однако мне еще не приходилось писать книгу, в которой было бы столько дыр и заплат, которая требует полной переделки, да-да, а не только отдельных изменений. Предполагаю, что сама структура неправильная. Неважно. Я могла бы написать что-нибудь легкое и простое; а это попытка описать видение, которое у меня было в то несчастливое лето — или три недели — в Родмелле после того, как я закончила «На маяк». (И это напоминает мне — я должна немедленно занять свой мозг чем-то еще или он опять станет ни на что не годным — какой-нибудь фантазией, если только это возможно, и светом; ибо мне еще предстоит утомиться Хэзлиттом и критикой после недолгого божественного отдыха; и у меня в голове уже мелькают смутные тени; жизнь Дункана; нет, что-нибудь о картинах, светящихся в студии; это пока подождет.)
После полудня
Я думаю, идя по Саутгемптон-Роу: «Вот, я дала тебе новую книгу».
Четверг, 1 мая
Я полностью испортила себе утро. И это совершенная правда. Из «Таймс» прислали книгу, словно Небеса сообщили им о моей свободе; и я, чувствуя, что шалею от свободы, бросилась к телефону и заявила Ван Дорену, что буду писать о Скотте. А теперь, прочитав Скотта, или редактора, которого Хью нанял, я не буду и не могу писать; стараясь прочитать, я впала в раздражение и написала Ричмонду отказ: зря потратила великолепное первое мая, когда небо золотисто-голубое; и добилась лишь смуты у себя в голове; не могу ни читать, ни писать, ни думать. Суть в том, конечно же, что мне хочется вернуться к «Волнам». Да, так оно и есть. Не похожая на все остальные мои книги, она не похожа на них и в этом смысле, ибо я начинаю переписывать или передумывать ее с жаром, как было, когда я писала первый вариант. Кажется, я начинаю понимать, что было у меня в голове; и жажду убрать множество неточностей, кое-что прояснить и отточить, чтобы хорошие фразы засверкали ярче. Одна волна за другой. Нет места. И так далее. А потом в воскресенье мы поедем в Девон и Корнуолл, то есть неделю я не смогу работать; зато после этого, не исключено, мои критические мозги для тренировки осилят месячную работу. Какую бы задачу перед ними поставить? Или придумать сюжет? — нет, только не это…
Среда, 20 августа
«Волны», насколько я понимаю (я на сотой странице), распадаются на серию драматических монологов. Смысл в том, чтобы они стали однородными, накатывали и откатывали в ритме волн. Можно ли читать их подряд? Понятия не имею. Полагаю, это величайшая свобода, какую я только могла предоставить себе; поэтому, полагаю, это самый настоящий провал. Все же я уважаю себя за написание этой книги — да! — хотя она выставляет напоказ мои недостатки.
Понедельник, 8 сентября
Сигнализирую свое возвращение к жизни — то есть к писанию, — ибо начала новую книгу, как раз в день рождения Тоби, должна сказать. Ему бы сегодня исполнилось пятьдесят лет. После приезда у меня, как всегда, — ох уж это «как всегда» — заболела голова; и я лежала совершенно без сил, словно тряпка, на кровати в гостиной до вчерашнего дня. Теперь я уже на ногах и за работой; с одной новой картинкой в голове; мой вызов смерти в саду.
Однако фраза, с которой книга должна начаться, такова: «Никто не работал так напряженно, как работаю я» — я вскричала это только что, торопливо правя четырнадцатистраничную статью о Хэзлитте. Было время, когда я справлялась с подобной работой за один день! А теперь, отчасти потому что пишу для Америки и договорилась об этой работе очень давно, провожу, признаюсь, много времени в раздражении. Хэзлитта я начала читать в январе, если не ошибаюсь. Но я совершенно не уверена, что угорек у меня на остроге — что я попала как раз в ту болезненную точку, которая есть объект критики. Отыскать ее в эссе дело трудное, вне всяких сомнений; таких точек слишком много; я пишу коротко; и по всем поводам. Тем не менее, сегодня я это отошлю, но у меня, как ни странно, появился аппетит на критику. У меня есть к ней способности, не будь в ней столько скучной работы, выкручивания рук, пытки.
Вторник, 2 декабря
Нет, сегодня утром у меня не получается написать один очень трудный кусок в «Волнах» (как их жизни повисают зажженными напротив Дворца), а все из-за Арнольда Беннетта и приема у Этель[136]. У меня нет слов. Я пробыла там, как мне показалось, два часа наедине с А. Б. в маленькой комнатке Этель. И эта встреча была, я уверена, спровоцирована Б., чтобы «быть в добрых отношениях с миссис Вулф» — когда, видит Бог, мне совершенно безразлично, есть у меня добрые отношения с Б. или нет.
Вскоре А.Б. уехал во Францию, выпил там стакан воды и умер от тифа. (30 марта. Сегодня его похороны.)
Я говорю за Б., потому что он не может говорить за Б. Он молчит; закрывает глаза; откидывается назад; а я жду. «Ну же», — произносит он наконец еле слышно; и совершенно спокойно. Однако привычка ведет за собой, что невыносимо, безвкусное рассуждение. Это забавно. Мне нравится старик. И я сделала все зависящее от меня как от писательницы, чтобы определить признаки гениальности в его дымчато-карих глазах: я вижу некоторую чувственность, силу, так мне кажется; но, ох, потом он прокудахтал: «Какой же я никчемный дурак — просто ребенок — по сравнению с Десмондом Маккарти — так глупо — не стоило противоречить профессорам!» Его наивность завораживает; но было бы куда лучше, если бы я ощущала в нем, как он говорит, «творящего художника». Он сказал, что Джордж Мур в «Жене актера» показал ему «Пять городов»: научил его, что там надо видеть; у него глубокое обожание Д.М.; однако он презирает его за хвастовство своими сексуальными победами. «Он рассказал мне, как молодая девушка пришла посмотреть на него и он попросил ее, когда она села на диван, раздеться. Он сказал, чтобы она все сняла и позволила глядеть на себя… Не то, чтобы я очень верил… Но он большой писатель — он живет ради слов. А теперь он заболел. И стал невыносимо скучным — все время рассказывает одни и те же истории. Скоро люди будут говорить обо мне: «Он мертв»». Я тотчас спросила: «О ваших книгах?» — «Нет, обо мне», — ответил он, вероятно, предполагая, в отличие от меня, долгую жизнь своих книг.
«Единственно возможная жизнь, — сказал он (обязательное писательство, слово за словом, тысяча слов в день). — Я не хочу ничего другого. Не могу думать ни о чем, кроме писательства. Некоторым надоедает». — «У вас есть любая одежда, какую вы хотите, насколько я понимаю, — заметила я. — И ванна. И кровати. И яхта». — «О да, у меня отличные костюмы».
Наконец я притащила к нему лорда Дэвида[137]. И мы насмехались над стариком, думая, какие мы изысканные. Он сказал, что ворота Хэтфилда[138] закрыты — «закрыты от жизни». «Но открыты по четвергам», — заметил лорд Дэвид. «А я не хочу по четвергам», — сказал Б. «И вы бросаете кости, — вмещалась я, — думая, что в вас больше «жизни», чем в нас». — «Иногда я шучу, — сказал Б. — Но не думаю, что во мне больше жизни, чем в вас. А теперь мне пора домой. Завтра утром я должен написать тысячу слов». Это лишь скелет вечера; а я в таком состоянии, что едва вожу пером по бумаге.
Впечатление: в общем-то, нехорошо просматривать статьи, рецензии в поисках своего имени. А я часто это делаю.
Четверг, 4 декабря
Одно слегка пренебрежительное слово в «Lit. Sup.» сегодня, и я решаю: первое, все переделать в «Волнах»; второе, повернуться спиной к публике — всего-то из-за одного слегка пренебрежительного слова.
Пятница, 12 декабря
Сегодня, полагаю, последний день свободы, который я позволяю себе, прежде чем взяться за финальную часть «Волн». У меня была занятая неделя — за которую я написала три небольших скетча; бездельничала, ходила по утрам за покупками, а сегодня утром разбирала у себя на столе всякий хлам — думаю, мне стало полегче, и теперь я смогу поработать еще три или четыре недели. Как мне кажется, у меня получится вновь и всерьез взяться за «Волны» и т. д. — интерлюдии — как встроить их в целое — а потом, ох, кое-что придется опять переписать; потом исправления; и только потом я пошлю рукопись Мэйбел; потом выправлю ее и перепечатаю, и уж потом дам Леонарду. Скорее всего, Леонард получит ее во второй половине марта. Потом перерыв, потом перепечатка, наверное, в июне.
Понедельник, 22 декабря
Накануне, слушая бетховенский квартет, мне пришло в голову связать все соотносимые между собой куски в финальной речи Бернарда и закончить ее словами «Об одиночество»: таким образом он свяжет все сцены и избавит меня от ложного шага. А я покажу, что доминирует тематическое движение, движение, а не волны; и индивидуальность; и вызов; но не уверена в движении с художественной точки зрения; потому что в конце для соблюдения пропорций нужны волны, чтобы получилось завершение.
Родмелл. Суббота, 27 декабря
Что толку говорить о финальной речи Бернарда? Мы приехали во вторник, на следующий день моя простуда стала инфлюэнцей, и я в постели с обычной температурой, не могу ни о чем думать и, что очевидно, даже выводить буквы. Надеюсь на два нормальных дня, иначе вещество, спрятанное за лбом, станем бледным и сухим — и мои драгоценные две недели радости и работы останутся в мечтах; а я вернусь к шуму и к Нелли, ничего не сделав. Утешаю себя тем, что меня хватит на пару мыслей. А тем временем идет дождь; у Анни болен ребенок; без конца лают соседские собаки; краски как будто потускнели, и пульс жизни стал реже. Я провожу время за бессмысленным просматриванием книги за книгой: «Путешествие» Дефо, автобиография Роуана, мемуары Бенсона, Джинс, все как всегда. Священник — Скиннер, — который застрелил себя, выплывает кровавым солнцем в тумане: на книгу, наверное, стоит еще раз внимательно посмотреть, когда вернется ясность.
Дневник приходского священника из Сомерсета
Он застрелил себя в буковой роще за домом; всю жизнь очищал землю от камней и отдавал ее Камелодунуму; скандалил; дрался; и все-таки любил своих сыновей; но выгнал их излома — четкая ясная картина одного из типов человеческой жизни — болезненной, несчастной, вечно воюющей и неизбежно страдающей. Кстати, я читала письма К. В.[139] и думала о том, что было бы, если бы Элен Терри родилась королевой. Катастрофа для империи? Королева Виктория совершенно неэстетична; прусская самоуверенность и вера в свое предназначение; материалистка; грубила Гладстону; обращалась с ним, как хозяйка с нечестным лакеем. Была себе на уме. Но ее ум был банальным, лишь унаследованная самоуверенность и приобретенная властность придавали ему значительность.
Вторник, 30 декабря
Если книге что-то и нужно, так это целостность; но она, думаю, довольно хороша (я разговариваю сама с собой около камина о «Волнах»). А что, если еще крепче соединить сцены? — с помощью, в первую очередь, ритма. Чтобы избегнуть сокращений; чтобы от начала до конца кровь бурлила, как при урагане, — мне не нужны пустоты, которые получаются в паузах; мне не нужны главы; это в самом деле мое достижение, если здесь есть достижения; неделимая целостность; перемены в сценах, в мыслях, в персонажах происходят без малейшего промедления. Если бы это переработать с жаром и на одном дыхании, то большего и желать было бы нельзя. А у меня температура (99). Но я все равно отправляюсь в Льюис, и Кейнсы придут к чаю; стоит мне оседлать мою лошадку, и весь мир обретает целостность; в моем сочинительстве — мое настоящее соотношение с миром.
1931
Среда, 7 января
У меня в голове нет мыслей: за две недели никаких плещущихся волн — никаких полей и изгородей, — зато слишком много домов с зажженными каминами, освещенных страниц и ручек с чернильницами — будь проклята моя инфлюэнца. Здесь очень тихо — никаких звуков, кроме шипения газа. Ох, и холодно было в Родмелле. Я мерзла, как воробышек. Немногие книги мне так же хотелось писать, как теперь хочется писать «Волны». Почему же, когда дело подходит к концу, я убираю пару камешков, и все: никакой бойкости, никакой уверенности; смогла же я изобразить монолог Б. — разбить на кусочки, копнуть поглубже, добиться движения прозы — клянусь, такого движения прозы еще никогда не было: от кудахтанья, бурчания до рапсодии. Что-то новое закладывается в мой горшок каждое утро — что-то такое, чего не было прежде. Но даже ветер не дует, потому что я все время проявляю нерешительность. У меня есть несколько новых мыслей для статей: одна о Госсе — критик как любитель поговорить; критик в кресле; другая — о Письмах; третья — о Королеве.
Суть в том, что все фразы в «Волнах» соединены под таким давлением, что я не в состоянии браться за книгу и просматривать ее между чаем и обедом; я могу писать ее один час — от десяти до половины двенадцатого. Перепечатывание, пожалуй, самая трудная часть работы. Боже, помоги мне, если мои маленькие книжки из восьмидесяти тысяч слов будут в будущем отнимать у меня по два года жизни! Нет уж, я стану, как резчик, кромсать тут-там, чтобы получалось живое легкое приключение — наподобие, может быть, «Орландо».
Вторник, 20 января
Как раз сейчас, принимая ванну, придумала совершенно новую книгу[140] — продолжение «Своей комнаты» — о сексуальной жизни женщин: возможно, я назову ее «Женские профессии» — боже, как увлекательно!
(Это, полагаю, «Здесь и сейчас». Май, 1934)
Это выпрыгнуло из моего доклада, который я должна прочитать в среду гостям Пиппы. Теперь о «Волнах». Слава Богу — но я очень возбуждена.
Пятница, 23 января
Слишком возбуждена, увы, чтобы работать над «Волнами». Сочиняю «Открытую дверь»; можно назвать иначе. Дидактический демонстративный стиль конфликтует с драматическим: мне трудно вернуться к Бернарду.
Понедельник, 26 января
Слава Богу, в мой сорок девятый день рождения от всей души признаюсь, что сбросила с себя «Открытую дверь» и вернулась к «Волнам»: воспользовалась возможностью посмотреть на всю книгу целиком и вот надеюсь закончить ее меньше чем за три недели. То есть к шестнадцатому февраля; потом у меня Госс или другая статья и черновик «Открытой двери» — к первому апреля (Пасха начнется третьего апреля). Надеюсь, мы сможем отправиться в путешествие по Италии, чтобы вернуться, скажем, в мае и подготовить «Волны» для типографского набора. Если книгу сдать в июне, то в сентябре она выйдет в свет. Это, скажем так, примерные даты. Вчера в Родмелле мы видели сороку и слышали первых весенних птиц: истинных эгоистов, подобных мужчинам. Солнце припекает; прошли через Кэберн; там дом возле Хорли, мы видели, как трое мужчин выскочили из синего автомобиля и бросились, не надевая шляп, через поле. Посреди поля стоял серебристо-голубой аэроплан, по-видимому, неповрежденный, а вокруг деревья и коровы. Утренняя газета сообщила о смерти трех мужчин — в упавшем аэроплане. А мы продолжаем жить, и это напомнило мне эпитафию из греческой антологии: когда я тону, другие корабли плывут дальше.
Понедельник, 2 февраля
Я думаю, что почти закончила «Волны». Наверное, совсем закончу в субботу.
Авторская пометка: никогда еще у меня не было такой тесной связи с сочиняемой книгой. Доказательство — я почти не могу читать и писать. Могу лишь целый день лежать на диване. О господи, какое облегчение я испытаю, когда неделя закончится и у меня появится ощущение, что я больше с ней не связана, ибо покончила с долгой работой: покончила с этим видением. Полагаю, мне удалось совершить то, что я намеревалась совершить; конечно же, первоначальный план изменился; но у меня такое чувство, что я, несмотря ни на что, высказала — не мытьем, так катаньем — все то, что жаждала высказать. Боюсь, благодаря упорному мытью это будет провал с читательской точки зрения. Ну и пусть: попытка того стоила. Думаю, мне было за что бороться. Ох, какое же удовольствие снова быть свободной — удовольствие лениться и ни о чем не думать; попозже я опять смогу читать, и мой разум будет воспринимать прочитанное, в отличие от четырех прошедших месяцев. Восемнадцать месяцев труда, и мы не сможем опубликовать книгу, полагаю, до осени.
Среда, 4 февраля
День пропал для нас обоих. Л. каждый день в десять пятнадцать отравляется в суд, где заседает в числе других присяжных, но отдыхает до десяти пятнадцати следующего утра; а сегодняшний день, когда должен был быть нанесен решительный удар по «Волнам» — Б. уже два дня, если не ошибаюсь, застыл на словах «О смерть» — оказался совершенно испорченным из-за Элли, которую ждали ровно в девять тридцать, но она не пришла и в одиннадцать. Сейчас уже двенадцать тридцать, мы сидим и разговариваем о времени и о работающих женщинах после обычных ритуалов со стетоскопом и термометром. Если бы нам не было жалко семи гиней, мы могли бы сделать обследование, но нам жалко. Так что буду есть свои лекарства — обычная рутина.
Все-таки на удивление непонятны последние пароксизмы «Волн»! А ведь я собиралась закончить книгу к Рождеству.
Сегодня будет Этель[141]. В понедельник я отправилась на репетицию. Огромный Портленд-плейс с холодным свадебным пирогом из штукатурки в неоклассическом стиле; красные вытертые ковры; ровные поверхности унылого зеленого цвета. Репетиция проходила в длинной комнате с эркером, чуть ли не упирающимся в дом на противоположной стороне, — железные лестницы, трубы, крыши — ничем не примечательный кирпичный пейзаж. В неоклассическом камине ревел огонь. Леди Л., похожая на сосиску, и миссис Хантер[142], запеленутая в атлас сосиска, сидели рядышком на диване. Возле рояля в эркере стояла Этель в мятой фетровой шляпе и джерсовом костюме с короткой юбкой и махала карандашом. На кончике носа у нее висела капля. Мисс Саддабай пела партию Души, и я обратила внимание, что она одинаково изображает приступы экстаза и вдохновения в комнате и в зале; там была еще пара молодых, или моложавых, мужчин. Pince nez Этель постепенно сползало ей на кончик носа. Она время от времени пела и один раз, желая взять низкую ноту, издала кошачий вопль — однако она все делает с такой отдачей и прямотой, что в этом не было ничего смешного. У нее совершенно пропадает застенчивость. Жизнь бьет в ней ключом; и она ни минуты не может побыть в покое. Шляпа у нее то на одном, то на другом боку. Сама она ритмично шагает по комнате в одну сторону, доказывая Элизабет, что это и есть греческая мелодия; потом шагает обратно. Начинается движение, говорит она, привлекая ее внимание к нечеловеческому веселью, имеющему отношение к бегству пленника, или неповиновению, или смерти. Думаю, эта музыка слишком буквалистская — слишком акцентированная — слишком дидактичная на мой вкус. Но на меня всегда производит впечатление сам факт музыки — то есть как раскручиваются связанные между собой аккорды, гармонии, мелодии, взятые из практичной энергичной ученой головы. А что если она великий композитор? Самая фантастическая идея — для нее банальность: это остов ее существования. Судя по ее поведению, она слышит музыку, как Бетховен. Когда она шагает, поворачивается и кругами идет к нам, замершим в креслах, она думает, будто самое важное то, что в данную минуту происходит в Лондоне. Возможно, оно так и есть. Да — я наблюдала за удивительно восприимчивым подвижным еврейским лицом старой леди Л., которая трепетала, настроенная на музыку, как усики бабочки. Старые еврейки на редкость впечатлительны, когда речь идет о музыке, — до чего же они податливы, до чего послушны. Миссис Хантер сидела, похожая на восковую фигуру, собранная, упакованная в атлас, прикованная к своему месту, вцепившаяся в золотую цепочку сумочки.
Суббота, 7 февраля
У меня всего несколько минут, чтобы отметить, слава Богу, окончание «Волн». Слова «О смерть» я написала всего четверть часа назад, проходя последние десять страниц с такими напористостью и неистовством, что едва поспевала за собственным голосом, или, скорее, за кем-то другим, произносившим фразы (как бывает, когда я схожу с ума); я почти испугалась, вспомнив голоса, которые летали у меня в голове. Что бы там ни было, это всё. Пятнадцать минут я просидела в состоянии блаженства и покоя и даже всплакнула, думая о Тоби: а что если написать на первой странице — посвящается Джулиану Тоби Стивену (1881–1906)? Думаю, нельзя. Физическое ощущение победы и свободы! Хорошо ли, плохо ли — дело сделано; и, как я чувствовала в первую минуту, не просто сделано, а завершено, закончено, сформулировано — знаю, что поспешно, фрагментарно; но я поймала рыбу в сети, закинув их в волны, что явились мне над пустошами, когда я смотрела из окна в Родмелле, заканчивая «На маяк».
Что особенно интересно в последнем этапе, так это свобода и смелость, которые обрело мое воображение и которыми воспользовалось, отставив в сторону заготовленные образы и символы. Я уверена, что это самое правильное — не продуманные куски, какие я брала прежде, связывая их между собой, а образы, но не выставленные полностью напоказ, а лишь представленные намеком. Так, надеюсь, мне удалось удержать шум моря и пение птиц, зарю и сад, присутствующие подсознательно и незаметно совершающие свой труд.
Суббота, 28 марта
Вчера ночью умер Арнольд Беннетт; и мне гораздо грустнее, чем я ожидала. Милый искренний человек; трудный и немного неловкий в жизни; значительный; скучный; добрый; грубый; знающий об этом; путающийся; ищущий; пресыщенный успехом; раненный в сердце; жадный; толстогубый; невыносимый как прозаик; довольно величественный; вечно пишущий; вечно обманывающийся; разочарованный в блеске и успехе; однако наивный; скучный старик; эгоист; избранник жизни, несмотря на все собственные заслуги; торгаш в литературе; но с рудиментарной чувствительностью, не видной за жиром и благоденствием, и с мечтой об отвратительной имперской мебели. У него была настоящая сила в понимании вещей, так же как гигантская абсорбирующая мощь. Об этом я урывками думаю сегодня утром, занимаясь своей журналистикой; я помню его решимость писать тысячу слов в день; и как он удалился в тот вечер с приема, чтобы сделать это наутро, и теперь мне грустно оттого, что ему уж не придется методически покрывать определенное количество страниц своим женственным красивым, но скучным почерком. Забавно, как человек жалеет об роде того, кто казался — как я сказала — искренним: у кого был прямой контакт с жизнью — ибо он поносил меня; а я готова пожалеть, что он не будет поносить меня в будущем; и я не буду поносить его. Этот элемент жизни — моей — хотя и не был близким — отобран у меня. Об этом я жалею.
Суббота, 11 апреля
Ох, как же я устала от исправлений в собственных писаниях — восемь статей, — однако я научилась, как мне кажется, делать рывок вместо того, чтобы застревать на частностях. Я хочу сказать, что пишу теперь довольно свободно; мне противен сам процесс. Что-то надо впихнуть, что-то выбросить. А у меня все просят и просят статьи. Статьи я могла писать всегда.
У меня нет стиля — ладно, пусть так. Почти нечего сказать, или есть, но слишком много, однако нет настроения.
Среда, 13 мая
Если я время от времени не буду писать в дневнике хотя бы несколько фраз, то, как говорится, вовсе разучусь писать. Сейчас перепечатываю 332 страницы очень густой книги «Волны». Печатаю семь-восемь страниц каждый день и надеюсь закончить примерно к шестнадцатому июня. Это требует некоторой твердости; но я не вижу иного способа вносить правку и держать скорость, где-то уплотнять, где-то расширять и делать все остальное, что полагается делать, заканчивая работу. Это как мокрой кистью проходить по всей картине.
Суббота, 30 мая
Нет, я только что сказала, двенадцать сорок пять. Дольше писать не могу, в самом деле, не могу. Сейчас перепечатываю главу о смерти; пришлось переделать ее дважды.
Предыдущая страница. Сделана половина за 26 дней. Если повезет, закончу к первому июля.
Буду просматривать ее еще раз и, вероятно, сегодня закончу. Но она превратила мои мозги в каменный мяч! Мне еще не приходилось заниматься таким концентрированным текстом — вот будет радость, когда я закончу. Но ничего интереснее у меня прежде не было.
Вторник, 23 июня
Вчера, двадцать второго июня, когда, насколько мне известно, дни начинают уменьшаться, я закончила перепечатывать «Волны». Не то чтобы книга была совсем закончена — увы, нет. Надо еще внести исправления в перепечатку. Это я начала делать пятого мая, и на сей раз никто не скажет, что я торопилась или была небрежной; хотя не сомневаюсь в большом количестве опечаток и пропусков.
Вторник, 7 июля
Ох, хочу отдохнуть от бесконечных исправлений (я работаю над интерлюдиями) в нескольких, написанных без особой цели, словах. Но лучше ничего не писать; лучше бродить по горам, словно гонимый ветром, беззаботный чертополох. Хорошо бы избавиться от тугого узла, в который завязаны мои мозги — я имею в виду «Волны». Таковы мои чувства в половине первого пополудни, во вторник, седьмого июля — день прекрасный, кажется — и всё, рефреном звучит у меня в голове, у нас замечательно.
Вторник, 14 июля
Сейчас двенадцать часов четырнадцатого дня июля месяца — и Боб явился с просьбой подписать прошение о пенсии для Палмера. Боб говорит… большей частью о своем новом доме, о раковинах, о том, что до сих пор идет вечером в спальню со свечкой; Бесси переезжает сегодня; а он отправляется на месяц в Италию; не послать ли мне экземпляр моей новой книги графу Мойре, все итальянцы — графы; один раз он показал четырех графов в Кембридже; Палмер… и так далее; переминается с ноги на ногу, снимает шляпу и опять надевает ее, открывает дверь и возвращается.
Я собиралась сказать, что покончила с исправлениями в Хэмптон-Корт. (Это последние исправления, дай Бог!)
Итак, «Волны» я писала, насколько помню, в следующие сроки:
Всерьез я начала работать около десятого сентября 1929 года.
Первый вариант был закончен десятого апреля 1930 года.
Второй вариант был начат первого мая 1930 года.
Второй вариант был закончен седьмого февраля 1931 года.
Я начала править второй вариант первого мая 1931 года и закончила правку двадцать второго июня 1931 года.
Я начала править машинопись двадцать пятого июня 1931 года.
Закончу (надеюсь) восемнадцатого июля 1931 года.
Потом останутся лишь гранки.
Пятница, 17 июля
Итак, сегодня утром мне кажется, я могу сказать, что закончила книгу. Скажем так, я еще раз, в восемнадцатый раз, переписала начало. Л. начнет читать завтра; а я открою дневник, чтобы записать его вердикт.
Он потерян.
Мое собственное мнение — ох — это трудная книга. Не помню, чтобы когда-нибудь мне приходилось ощущать такое же напряжение. Признаюсь, я нервничаю из-за Л. Уж он-то будет честным, даже честнее, чем обычно. И вполне возможно, у меня ничего не получилось. А я больше ничего не могу сделать. И мне кажется, у меня получилось, разве что книга бессвязная и очень густая; совсем нет пауз. В любом случае, она отработана и ужата до предела. В любом случае, я выстрелила в свое видение — если даже не попала, то стреляла в верном направлении. Но я нервничаю. Может быть, она слишком короткая и чересчур перегруженная? Бог ее знает. Когда я это говорю, повторяю, на сердце у меня тяжело, я буду нервничать, пока Л. не придет с рукописью в мой садовый домик, предположим, в субботу вечером или в воскресенье утром, не усядется в кресло и, как всегда, не произнесет первым делом: «Ну!»
Воскресенье, 19 июля
«Это шедевр, — сказал Л., войдя ко мне сегодня утром. — Лучшая из твоих книг». Вот что я записала, и еще он думает, будто первые сто страниц невероятно трудны, и непонятно, как их одолеет обыкновенный читатель. Но, Господи, какое блаженство! От радости я отправилась гулять под дождем вокруг Крысиной фермы и почти покорилась мысли о строительстве Козлиной фермы с домом на склоне горы возле Нортиза.
Понедельник, 10 августа
Только что — десять сорок пять — я прочитала первую главу «Волн» и не внесла никаких поправок, если не считать двух слов и трех запятых. Не знаю уж, как это получилось, но все точно и на месте. Мне понравилось. Хоть один раз моя правка ограничится несколькими карандашными пометками. Мой выводок растет; и я думаю: «Поставлю-ка изгородь… С Рэймондом мы уже говорили. Меня не остановит море, несмотря на головную боль, несмотря на горечь. У меня еще будет…» Пора браться за «Флаша».
Суббота, 15 августа
Я в некотором волнении — читаю гранки. Могу прочитать подряд всего несколько страниц. Так же было, когда я писала, и один Бог знает, какая это исступленная книга.
Воскресенье, 16 августа
Я должна принести искренние извинения своему дневнику за то, что использовала его для всякой чепухи; итак, я читаю гранки — сегодня утром последняя глава — и думаю, что должна остановиться через час и дать своим мозгам отдых после столь неслыханного напряжения. Я не могу писать «Флаша», потому что надо изменить ритм. Думаю, в «Волнах», несмотря ни на что, есть напряжение и форма, если книга не отпускает меня. Что, интересно, скажут критики? А друзья? Наверняка у них не найдется ничего новенького.
Понедельник, 17 августа
Отлично, это случилось сразу после двенадцати тридцати. Я внесла последнюю правку в «Волны»; прочитала гранки; и завтра их увезут — чтобы мне больше никогда-никогда их не видеть.
Вторник, 22 сентября
Мисс Холтби говорит: «Это поэма более цельная, конечно же, чем ваши другие книги. В ней почти нет ничего искусственного. Она так глубоко проникает в человеческое сердце, возможно, даже «На маяк»…» И я записываю ее фразу, потому что она тоже определяет кривую моей температуры, которая, о господи, была смертельно низкой в это же время на прошлой неделе, потом стремительно поползла вверх, но больше не поднимается. Думаю, я спасена; все только и делают, что повторяют уже сказанное. Я о многом забыла. Если мне чего-то и хочется, так это услышать, что книга солидная и в ней есть смысл. Какой смысл — я сама не узнаю, пока не напишу другую книгу. Я как олениха, которая далеко впереди псов — критиков.
Тависток-сквер, 52. Понедельник, 5 октября
Не могу не написать, что вся трепещу от удовольствия, — не могу продолжать «Письмо»[143] — позвонил Гарольд Николсон и сказал, что «Волны» — шедевр. Слава богу — не все напрасно. Я хочу сказать, что мое видение подействовало и на других. Теперь сигарета, и я возвращаюсь в спокойное состояние.
Продолжая свой эгоистический дневник, скажу, что я не очень-то радуюсь, нет; может быть, чуточку больше обычного; пусть себе говорят, ведь если в «В.» что-то и есть, то приключение, совершаемое мной в одиночку; милый старичок «Lit. Sup.», который подмигивает, сияет и берет меня под свою опеку, длинная и (для «Таймс») добрая и искренняя рецензия — не очень-то меня взволновали. И Гарольд в «Экшн» тоже. Да; до некоторой степени; мне было бы плохо, если бы они ругали меня, но, господи, как я теперь далека от всего этого; мы измучены людьми, измучены посылками. Не знаю, хорошо или плохо чувствовать свою удаленность, — но ведь «Волны» совсем не то, что они говорят. Странно, что они («Таймс») хвалят моих персонажей, когда у меня нет ни одного. Я устала; хочу на мои пустоши; на мои холмы; хочу спокойного утра в просторной спальне. Сегодня радиопередача, завтра — Родмелл. На следующей неделе придется выдержать шум.
Пятница, 9 октября
В самом деле, непонятную книгу «принимают» лучше всех остальных. Приличная заметка в «Таймс» — это дано мне впервые. И книга продается — вот уж неожиданность; странно, что люди читают такое:
Суббота, 17 октября
Отклики на «Волны». Продажи за последние три дня упали до пятидесяти экземпляров или около того; это после грандиозного скачка, когда мы продали пятьсот книг за один день, но я знала, что чудес не бывает. (Дело не в том, будто я думала, что мы продадим больше трех тысяч экземпляров.) Случилось другое. Читатели библиотек не могут одолеть ее и посылают свои экземпляры обратно. Итак, я пророчествую, книга будет постепенно продаваться — примерно до шести тысяч экземпляров, после чего ее будут покупать совсем понемногу. Ибо она была принята, я цитирую без особого тщеславия, с аплодисментами. В провинции ее читают с энтузиазмом. Я в общем-то, как сказал бы М., тронута. Неизвестные провинциальные репортеры пишут почти одинаковые отзывы, миссис Вулф создала свою лучшую книгу; она не может быть популярной; но мы уважаем ее за этот труд; и находим «Волны» определенно замечательной книгой. Мне грозит опасность стать лидирующей новеллисткой, и не только у интеллектуалов.
Понедельник, 16 ноября
Сейчас доставлю себе удовольствие — доставлю ли? — процитировав одну-две фразы из написанного по доброй воле письма Моргана насчет «Волн»:
«я думаю, что должен написать Вам теперь, когда перечитал «Волны»… Я отнесся к книге с вниманием, я говорил о ней в Кембридже. Очень трудно выразить свое отношение к работе, которую считаешь очень важной, но я к тому же испытал волнение, которое появляется, только если можешь причислить книгу к классической литературе».
Смею заметить, это письмо доставило мне куда больше удовольствия, чем все остальные. Да, так оно и есть, ведь оно от Моргана. По крайней мере, у меня есть основания считать, что я права и могу идти дальше своей одинокой тропинкой. Я хочу сказать, сегодня в городе я думала о другой книге — о владельцах магазинов, о публике, об их обыденной жизни: и я скрепила этот скетч суждением Моргана. Дэди тоже согласен. О да, между пятьюдесятью и шестьюдесятью, полагаю, я буду писать уникальные книги, если, конечно, доживу. Это значит, что мне хочется наконец воплотить на бумаге формы, заключенные у меня в мозгу. Долгий же путь пришлось одолеть, чтобы прийти к началу — если «Волны» моя первая книга, написанная моим, и только моим, стилем! Отмечу как курьез моей литературной биографии: я старательно избегаю встреч с Роджером и Литтоном, которые, подозреваю, не в восторге от «Волн».
Работаю очень напряженно — по-своему — готовлю две большие статьи об елизаветинцах для нового «Обыкновенного читателя»: потом пройдусь по всему длинному списку статей. Всеми фибрами души я чувствую, что могу выработать новый критический метод; что-то менее жесткое и заформализованное, чем статьи в «Таймс». Но в этом томе мне придется держаться старого метода. А как, интересно, это делать? Должны быть более простые, более утонченные, более точные способы писать о книгах — как о людях — надо лишь найти их. (Продано больше 7000 экземпляров «Волн».)
1932
Среда, 13 января
Увы, но, как всегда, приходится просить прощения у себя самой и отмечать, что уже не первый день года. Сегодня тринадцатое число, и я в том состоянии апатии и упадка, когда не могу выдавить из себя ни слова. Господи, как же тяжело мне дались «Волны», если я до сих пор не могу освободиться от них!
Можно ли рассчитывать еще лет на двадцать? Двадцать пятого, в понедельник, мне исполнится пятьдесят: иногда я чувствую, будто прожила двести пятьдесят лет, а иногда — будто нет никого моложе меня в омнибусе. (Несса говорит, что до сих пор ощущает это.) Я хочу написать еще четыре романа: считая «Волны» и «Стук в дверь»; а еще пройтись по английской литературе насквозь, как струна, когда режет сыр, или, скажем, как трудолюбивое насекомое, прокладывающее себе дорогу от книги к книге, от Чосера до Лоренса. Это программа, учитывая мою медлительность, учитывая, что я становлюсь еще медлительней, еще неповоротливей, еще менее способной на порыв, лет на двадцать, если они у меня есть.
Воскресенье, 31 января
Только что закончила, возможно, последнюю версию, как я это называю, «Письма юному поэту» и имею право на короткую передышку. По своему ироничному тону понимаю, что версия не обязательно последняя. Писать становится все труднее и труднее. То, что я набрасывала вначале, теперь где-то ужато, где-то восстановлено. Ради целей, в которые не стоит сейчас вдаваться, я хочу какое-то время использовать эти страницы под диалог.
Понедельник, 8 февраля
Зачем мне надо было говорить, что я сделаю второй том «Обыкновенного читателя»? Это ведь займет не одну неделю и не один месяц. Однако год прошел — если не считать набегов на Грецию и Россию — в чтении английской литературы, что, вне всяких сомнений, пошло на пользу моим литературным мозгам. А теперь пусть отдыхают. Когда-нибудь, совершенно неожиданно, литература вырвется наружу. Это написано после долгой утренней работы над Донном, которую неплохо было бы продолжить, а стоит ли? Я проснулась ночью с ощущением, будто нахожусь в пустом зале: Литтон умер, вокруг фабрики. Смысл жизни — когда я не работаю — сразу мельчает и теряется. Литтон умер, и нет ничего конкретного, чем можно было бы отметить его жизнь. А они пишут о нем дурацкие статьи.
Четверг, 11 февраля
Мои мысли крутятся вокруг «Стука в дверь»[144] (сохранится ли это название?), навеянного в основном чтением «Уэллс о женщине» — какой она должна быть подчиненной и декоративной в будущем мире, потому что за десять лет ничего не смогла доказать.
Вторник, 16 февраля
Только что «закончила» — кавычки ставлю нарочно — моего Донна, большую, но, думаю, исполненную благих намерений и скучную работу. Теперь дрожу от желания написать — как бы это назвать? — «Таковы мужчины»? — нет, это уж слишком по-феминистски. Продолжение, для которого я собрала достаточно пыли, чтобы засыпать Святого Павла[145]. Должны быть четыре картины. Но мне надо продолжать «Обыкновенного читателя» — хотя бы ради того, чтобы оправдать доверие.
Вторник, 17 мая
Что значит правильное отношение к критике? Что я должна чувствовать, если мисс Б. печатает статью в «Скрутини» о том, какая я плохая писательница. Она молодая, из Кембриджа, пылкая. Итак, я думаю, надо отметить суть написанного — этого я не думаю, — потом воспользоваться энергией, которую дает противостояние. Наверное, моя репутация все-таки запятнана, и теперь надо мной будут смеяться, будут показывать на меня пальцем. А мне как вести себя? Очевидно, что Арнольд Беннетт и Уэллс неправильно воспринимали критику молодых. Правильно — не раздражаться; не страдать, не изображать христианскую мученицу и не сдаваться. Наверняка, с моей странной смесью невероятной вспыльчивости и скромности (если судить прямолинейно) я скоро оправляюсь от ругани и от похвалы. Однако мне необходимо знать отношение к себе. Тем не менее, самое главное — не очень задумываться о себе. Надо искренне разобраться в обвинении; однако не суетиться и не волноваться. И ни в коем случае не впадать в другую крайность — не следует слишком много размышлять. Итак, заноза вынута, пожалуй, слишком легко.
Среда, 25 мая
Вот, я «закончила» «Дэвида Копперфилда» и теперь спрашиваю себя, не податься ли мне куда-нибудь в более приятное место? Не пора ли расправить крылышки, стать благоуханным и чувствительным существом? Один Бог знает, как я страдаю! Это ужасное свойство — все переживать с максимальной силой. Теперь, когда мы вернулись, я как будто скручена в твердый мяч; не могу сделать ни шага; не могу заставить вещи плясать; чувствую себя ужасно одинокой; смотрю молодыми глазами; ощущаю себя старухой; нет, не совсем так: не знаю, чем меня одарит этот год. Подумать только, люди продолжают жить; даже не представляют, что происходит внутри них. Одна лишь непроницаемая поверхность; а я орган, который принимает удары, один за другим; кошмар непроницаемых нарумяненных лиц во вчерашнем цветочном шоу: пустота, бесцельность существования: ненависть к собственной безмозглости и нерешительности; старое привычное чувство, все вперед и вперед, а зачем? Литтон умер, Каррингтон тоже. Очень хочу поговорить с ним; но это уже невозможно; никогда… женщины; моя книга о профессиях; напишу ли я еще роман; презираю себя за недостаточную интеллектуальность; читаю Уэллса и не понимаю; общество; покупаю платья; Родмелл стал мне неприятен; Англия неприятна; ужас по ночам из-за того, что во Вселенной все неправильно; покупаю платья; до чего же я ненавижу Бонд-стрит и выбрасывание денег на платья; хуже всего — угнетающая меня пустота. Глаза болят, и дрожат руки.
Одна фраза Леонарда приходит мне в голову в этот период беспредельного уныния и скуки. «Все неправильно». Он сказал это в вечер самоубийства К.[146] Мы шли по пустынной голубой улице, которая была вся в лесах. Я чуяла в воздухе насилие и безумие; мы маленькие; снаружи ураган; что-то ужасающее; бессмысленность — сделаю ли я из этого книгу? Она могла бы вернуть в мой мир порядок и движение.
Четверг, 26 мая
А сегодня, неожиданно, тяжести в голове как не бывало и я могу думать, размышлять, сосредоточивать и удерживать внимание на чем-то одном. Может быть, это начало следующего рывка. Может быть, я обязана этим нашему с Л. разговору вчера вечером. Я попыталась проанализировать свою депрессию — мой мозг измучен противостоянием критических и творческих мыслей; я утомлена борьбой, потрясениями и неопределенностью. Сегодня утром у меня в голове прохладно и приятно, нет ни беспокойства, ни бурь.
Вторник, 28 июня
Только что «закончила» де Куинси. Итак, я стараюсь держать шаг, чтобы дописать второго «Обыкновенного читателя» в последний день июня, который, как я с раздражением вижу, приходится на четверг. Прошлым летом я работала над «Волнами». Это не так жестоко, вовсе нет (…by а long chalk. What is the origin of that? cricket pitch? Billiards?)[147]. Кстати, сверкает солнце; все замерло; жара. Королевский, имперский — вот слова, которые я прокручиваю на Площади. Очень жарко было вчера — очень жарко, когда князь Мирский прибыл со своей разговорчивой русской дамой; я хочу сказать, она весьма темпераментна; у нее свободные жесты славян; однако Мирский молчал; открывал рот и тотчас прикусывал язык; у него желтые неровные зубы; лоб весь в морщинах; отчаяние, страдания отразились на лице. Жил в Англии, в пансионах, двенадцать лет; теперь возвращается в Россию «навсегда». Видя, как загораются и тускнеют у него глаза, я думала — пуля вскоре пронзит твою голову. Один из результатов войны: человек загнан в угол, откуда нет выхода. Нам от этого не легче.
Среда, 29 июня
Как только беру ручку в рот, у меня все губы в чернилах. И нет чернил, чтобы заполнить чернильницу; уже десять минут первого, и я закончила Гарди; обещаю себе, что «Обыкновенный читатель» будет дописан к следующей среде. А сегодня воскресенье. Вчера вечером, в десять, пролетел цеппелин, оставляя за собой белый след. Это утешило меня в том, что я не была на балете. Итак, я разобралась на столе, который унаследует Джон, когда меня не станет. А теперь пора в атаку на Кристину Россетти. Господи, как же я устала от своих писаний.
Сегодня среда, и, признаюсь, «Обыкновенный читатель» еще не совсем написан. Но все-таки — надо лишь переписать последнюю статью, которую я считала в целом очень хорошей. Мне потребуется немного лет, чтобы набрать еще пачку статей.
Понедельник, 11 июля
Беру новую ручку и на чистой странице отмечаю тот факт, который стал фактом, что я надела зеленую резинку на вторую серию «Обыкновенного читателя» и сейчас, то есть в двенадцать пятьдесят, он ждет, чтобы его унесли наверх. Я не ощущаю прилива счастья; проделана тяжелая нудная работа. И все же должна сказать, это довольно забавная книжка — сомневаюсь, чтобы мне удалось написать еще одну такую же, в точности такую же. Надо найти более быстрый способ сочинять подобные книги. Но, упаси Боже, не сейчас. Сейчас у меня отдых. Это значит, я не знаю, что буду писать завтра. Я буду сидеть и думать.
Среда, 13 июля
Я потеряла сон из-за будущего романа. Это тоже способ сочинять. Я размышляю, как всегда, чем украсить свою жизнь, и начала сегодня с прогулки в одиночестве по Риджентс-парк. Я хочу сказать, зачем делать что-то, чего делать не хочется, — например, покупать шляпу или читать книгу? Джозеф Райт и Лиззи Райт — вот старики, которых я уважаю. Как бы там ни было, но я очень надеюсь на то, что второй том придет сегодня утром. Райт — создатель словарей диалектов; жил в работном доме, потому что его мать была поденщицей. И он женился на мисс Лиа, дочери священника. Я совсем недавно с почтением читала их любовные письма. Он говорит; «Всегда доставляй себе радость — и будешь счастлива». А она добавляет массу деталей в целостную картину — так сохраняется пропорциональность — она обдумывает свою жизнь с Джо. Странно, до чего же редко встречаются люди, которые говорят те самые вещи, которые хотелось бы сказать самой. Их отношение к жизни очень напоминает наше. Джо плотный сильный мужчина — «Я неповторим в некоторых отношениях», — говорит он. Они забрали мать-поденщицу в Оксфорд. Она верила — если объединить Все Души, то получится доброе Сообщество. У нее была тяжелая рука, и она била мальчиков. Записи об учебе. О чем? Иногда мне самой хотелось учиться. О звуках и диалектах. Какой в этом толк? Если есть желание, почему бы не сотворить что-нибудь прекрасное? Да, и к тому же, есть еще триумф науки, которая оставляет нечто солидное будущим поколениям. Сейчас все знают о диалектах, и это благодаря его словарю. Он — грубый сильный вариант Сидни Уэбба и Уолтера Лифа — крепкий, волосатый, но поумнее и понапористее, чем они. Мог работать всю ночь, умыться и опять за работу на целый день. Мисс Вейсс, хозяйка Тови, познакомила их — заставила Лиззи забыть о цветах для церкви и уехать в Оксфорд. Она тоже была женщиной с характером. Не могла принять работу Джо, потому что чувствовала себя словно медведицей на цепи. Но вышла за него замуж. В 1896 году Вирджиния Уотер оставила их в лесу; они сидели и целый час очень мучились, а потом она приняла его предложение — они сели на телегу пекаря, и их привезли обратно к мисс Вейсс. Захватывающая история. Джо все знал о слугах. В четырнадцать лет он самостоятельно научился читать; потом учил мальчишек на мельнице за два пенса в неделю; он был, очевидно, грубым и чувствительным человеком. Доказательством того, что мне хотелось бы повидаться с Джо и Лиззи, стало появившееся у меня желание написать ей письмо. Красивое лицо с большими сияющими глазами. Интересно, что будет во втором томе?
Родмелл. Пятница, 5 августа
Вчера во время завтрака Л. пришел в мою комнату и сказал: «Умер Голди»[148]. Я никогда не была знакома с ним близко, но нас объединяло то, что объединяет всех верных кембриджцев: и мне, конечно же, было приятно, когда он написал о «Волнах»: он стал мне ближе. У меня появились очень странные ощущения насчет нашего существования внутри некоего неограниченного опыта, насчет великолепия этого эксперимента — жизни; насчет смерти: меня окружает необъятное пространство. Нет — я не могу охватить его разумом — пусть оно само, как всегда, вливается в «роман». (Таким образом у меня сложилась концепция, которая даст жизнь книге.) Вечером Л. и я опять разговаривали о смерти; во второй раз за этот год: о том, что нас, словно червей, может переехать автомобиль; о том, что червь знает об автомобиле — о его конструкции? Должна быть причина: если да, то мы как разумные существа не знаем ни одной. У Голди была некая мистическая вера.
Мы ездили в Льюис на скачки и видели толстую даму в черном, не помещавшуюся на стуле, на котором ей было небезопасно сидеть; видели подонков из спортивного общества, поставивших в ряд свои машины, на задних сиденьях которых были пристроены корзины для пикников; слышали выстрелы сзади; одно мгновение видели лошадей, колотивших по земле копытами и безжалостно избиваемых краснолицыми жокеями. А какой стоял шум — вот где ощущение напряженных и растянутых до предела мускулов; за горами ветреный солнечный день был далеким и необузданным; и я могла представить, как все вновь возвращается в начало начал.
Среда, 17 августа
Мне кажется, что я доисправляла «Обыкновенного читателя» до того, что больше не могу его видеть. У меня есть несколько свободных минут, прежде чем Л. возьмет гранки. Писать ли о том, как я опять теряла сознание? Грохочущие подковы у меня в голове были невыносимы в прошлый четверг, когда мы с Л. сидели на террасе. Особенно приятно чувствовать вечернюю прохладу после жаркого дня! — сказала я. Мы смотрели, как горы становятся невидимыми в прекрасной тьме, отполыхав за день изумрудным огнем. Теперь на них словно легла легкая пелена. Белая сова прилетела с пустоши поохотиться на мышей. Потом сердце у меня подпрыгнуло; и остановилось; опять подпрыгнуло; и я ощутила необычную горечь во рту; в голове начало стучать, и стучало, стучало, все хуже, все быстрее. Сейчас я потеряю сознание, сказала я, соскользнула с кресла и упала на траву. О нет, я не потеряла сознание. Я была жива, но в голове у меня творилось неладное: стучало невыносимо. Я думала, если так будет продолжаться, то в мозгу что-нибудь взорвется. Потихоньку мне стало легче. Я поднялась и потащилась, еле держась на ногах и не в силах отогнать страх, вправду едва не теряя сознание и видя, как сад увеличивается на глазах и меняет очертания, обратно, обратно, обратно — как же долго это продолжалось — пока я тащилась? — в дом: добралась до своей комнаты и упала на кровать. Потом появилась боль, словно я рожала, но и она потихоньку отошла; я лежала, следя за блеклым лучом света, как самая внимательная мать, за трепещущими частями собственного тела. Очень четкое и неприятное ощущение.
Суббота, 20 августа
Вчера в Лондоне был странный день. Я сказала себе, стоя у окна Л.: вглядись в это мгновение, потому что так жарко не было двадцать один год. Ветер был горячим, словно нагревался, пролетая через кухню в направлении «Пресс» из студии. На площади девушки и юноши в белом лежали на траве. Так жарко, что невозможно сидеть в столовой. Л. накормил меня и едва ли не отнес наверх, не позволив подняться самой. Вернувшись, мы открыли окошки в машине — так и сидели на сильном горячем ветру, но пока ехали мимо полей и рощиц, становилось прохладнее и зеленее. Самое прохладное место впереди, если открыты окна и машина идет со скоростью сорок или пятьдесят миль в час. Сегодня в двенадцать тридцать поднялся ветер, облака закрыли небо, но сейчас, в три сорок пять, почти нормальный летний день. Жара продолжалась десять дней. После обморока у меня часто стучит в голове; или мне так кажется. Я почти не думаю о смерти, зато думаю — что ж, теперь ешь, пей, смейся и корми рыбок. Странно — люди глупо обращаются со смертью — желание, с каким хочется преуменьшить ее значение и быть найденным ею, как говорил Монтень, в окружении девушек и друзей. А Л. отмечает расстояние и собирается меня фотографировать. Еще три книги должны появиться о миссис Вулф; и это напомнило мне, что иногда надо писать о своей работе.
Лето прекрасное, несмотря на все мои приступы и недомогания, несмотря на утренний тремор. На редкость тихо, легко, ярко. Я верю, что хочу более человеческого существования для моей следующей книги — беззаботно порхать среди друзей — чувствовать ширь и прелесть человеческой жизни; не напрягаться; сделаться мягкой и наслаждаться сутью обыкновенных вещей, бесед, персонажей, проходящими через меня ощущениями, спокойно и безвольно, пока я не скажу: стоп — и не возьмусь за ручку. Да, ноги у меня начинают ходить нормально; нервы больше не встрепаны. Вчера мы отнесли сливы старенькой миссис Грей. Она вся сморщенная и сидит на стуле в углу. Дверь открыта. Она дергается и дрожит. У нее безразличный нездешний старческий взгляд. Л. понравилось ее отчаяние; «Я ползу на кровать в надежде на день и сползаю с кровати в надежде на ночь. Я невежественная старая женщина — не умею ни читать, ни писать. Но каждый вечер я молюсь Богу, чтобы он прибрал меня — или дал мне покой. Никто не знает, как я страдаю. Посмотрите на мою руку, — сказала она и взяла булавку. Я подчинилась. — Твердая, как железо; это вода; и ноги у меня такие же. — Она спустила чулок. — Это водянка. Мне девяносто два года, все мои братья и сестры умерли; моя дочь умерла, мой муж умер…» Она говорила и говорила о своих несчастьях; вновь и вновь перечисляла свои болезни; и больше ничего не хотела понимать; могла сосредоточиться только на них; она целовала мне руку; благодарила нас за подаренный фунт. Вот во что мы превращаем свою жизнь — никакого чтения, никакого сочинительства — она живет благодаря…[149] докторам, хотя хочет умереть. Человек чрезвычайно изобретателен в пытках.
Лондон. Воскресенье, 2 октября
Пожалуй, я позволю себе эту запись. Странно, но возвращение сюда мешает моему писательству. Еще более странно, что теперь, когда мне пятьдесят лет, я сохраняю самообладание и недрогнувшей рукой попадаю в цель. Поэтому все волнения и трепетания еженедельников меня не касаются. В моей душе произошли изменения. Я не верю в возраст. Я верю в вечное движение следом за солнцем. Отсюда мой оптимизм. И, чтобы не остановиться в своем движении, мне надо, твердо и сознательно, отбрасывать все случайное: людей; рецензии; славу; всю сверкающую шелуху; отойти от всего и сосредоточиться. Итак, я не буду бегать за тряпками, не буду ни с кем встречаться. Завтра мы отправляемся в Лестер, на съезд лейбористской партии. А потом опять издательская лихорадка. Мой «Обыкновенный читатель» меня не волнует, книга Холтби тоже. Мне интересно наблюдать за каждым мгновением, не принимая ни в чем участия, — отличное состояние ума, когда человек осознает свою силу. А потом я вернусь в свои горы; в деревню; Л. и я счастливы в Родмелле; там свободная жизнь — тридцать-сорок миль: приезжаем, когда и как хотим; спим в пустом доме; с удовольствием воспринимаем всякие помехи; ныряем в благословенную красоту — обязательно гуляем; чайки на алой пашне; или отправляемся в Тэрринг-Невилл — эти полеты я теперь очень люблю — в огромном безразличном небе. Никто тебя не дергает, не толкает, не мучает. Но это прошлое или будущее. Теперь я читаю Д. Г. Лоуренса с обычным разочарованием; а ведь у нас с ним очень много общего — одинаковое стремление быть самими собой; так что я не бегу, когда читаю его: я останавливаюсь, и мне хочется освободиться от другого мира. Это делает Пруст. Для меня Лоуренс безвоздушен и ограничен; а я, повторяю, этого не хочу. И повторение одной мысли. Этого я тоже не хочу. Я ни в коей мере не желаю «философствования»: я не верю в готовность людей к чтению загадок. Что мне по-настоящему нравится (в «Письмах») — неожиданные зрительные образы: огромный призрак прыгает на волнах (водяная пыль в Корнуолле), но меня не удовлетворяют объяснения того, что он видит. И потом, это раздирает душу: попытка вновь начать дышать; и «У меня осталось шесть фунтов десять пенсов», а правительство выкидывает его, как жабу, и запрещает его книгу[150]; грубость цивилизованного общества по отношению к задыхающемуся агонизирующему человеку; как это было никчемно. От всего этого ощущение одышки в его письмах. В сущности, ничего важного. А он задыхается и дергается. И потом, мне не нравится его бренчание двумя пальцами — и высокомерие. В конце концов, в английском языке миллион слов: зачем же ограничиваться шестью? да еще хвалить себя за это? Меня раздражают проповеди. Он напоминает человека, который выносит приговор, зная лишь половину фактов: жмется к стенке, сражается с подушками. Таки хочется сказать: выйди и посмотри, что происходит снаружи. Я имею в виду, что все это пусто: легко; давать советы системе. Мораль такова: хочешь помочь, никогда не систематизируй — по крайней мере, пока тебе не стукнет семьдесят: ты был уступчивым и милым, и созидающим, и до конца испытал свои нервы и возможности. А он умер в сорок пять. Почему Олдос говорит, что он был «художником»? В искусстве не должно быть проповедничества; вещи как они есть; фразы красивы сами по себе; множество морей; нарциссы, которые появляются прежде ласточек; Лоуренс же говорит только то, что подтверждает его мысль. Я, конечно же, не читала его. Но, судя по «Письмам», он слышит только то, что хочет слышать; обязательно дает советы; включает вас в систему. Отсюда его привлекательность для тех, кто хочет войти в систему; чего я не хотела; я даже считаю это богохульством — включение Карсвеллов в систему Лоуренса. Было бы намного благороднее предоставить их самим себе: самое благородное — это карсвеллизм Карсвелла. А он по-мальчишески щипал и толкал всех, кто приближался к нему: Литтон, Берти, Сквайр — все они, мол, ограниченные и нечистые. Словно его управитель снисходил и измерял их. Зачем вся эта критика других людей? Почему не система, построенная на добре? Вот было бы открытие — система, которая не ограничивает.
Среда, 2 ноября
Молодой пустомеля с широко открытыми глазами, тощий, расхлябанный, который думает, будто он величайший поэт всех времен. Полагаю, так оно и есть — но в данный момент меня это не особенно занимает. А что занимает? Мое собственное писательство, конечно же. Я только что окончательно отделала Л.С. для «Таймс» — полагаю, неплохо, если учесть все течения вокруг него в «Таймс», в отличие от остальных газет. И я полностью переделала мое «Эссе». Теперь это будет роман-эссе под названием «Паргитеры»[151] — и в нем будет всё: секс, образование, жизнь и так далее; и время — с дальними и ловкими прыжками, словно серна через пропасти от 1880 года до нашего времени и нашего места. Таковы мои намерения. Я была в тумане, мечтаниях, иллюзиях, с пафосом произносила фразы, видела сцены, проходя по Саутгемптон-Роуд, так что вряд ли могу с уверенностью сказать, что жила это время, то есть с десятого октября.
Все само по себе бежит в единый поток, как было с «Орландо». Случилось то, что после отречения от романа факта все эти годы — после 1919 года — «Ночь и день» умер — я нахожу, как ни странно, бесконечное наслаждение в фактах и в обладании количествами, не поддающимися подсчету: хотя время от времени чувствую, что меня тянет к видению, но я отвергаю его. У меня правильная линия, я уверена, после «Волн», «Паргитеры» — то, что естественно ведет к следующей стадии — роману-эссе.
Понедельник, 19 декабря
Ну вот, сегодня я дописалась до полного изнеможения. Было бы хорошо, если бы я умела вовремя останавливаться и погружаться в прохладу, чтобы колесики моего мозга — когда я прошу их об этом — охлаждались, и замедляли ход, и останавливались. Опять возьмусь за «Флаша», надо немного охладиться. Боже мой, я написала 60 320 слов с одиннадцатого октября. Полагаю, быстрее я еще ничего не писала, даже «Орландо» или «На маяк». Кстати, 60 000 слов выпарятся и усохнут до 30 000 или 40 000 — грядет тяжелая работа. Ничего. Я закрепила контур и зафиксировала форму. В первый раз у меня такое чувство, что я не должна рисковать и переходить черту, пока книга не закончена…
Да, я буду свободной, полновластной, абсолютной хозяйкой своей жизни примерно с первого октября 1933 года. Никто не ворвется в нее на своих условиях; никто не заставит меня подчиняться. И вот тогда я начну писать поэтическую книгу. А эта, кстати, освободила во мне такой фактический поток, о каком я и не подозревала. Наверное, двадцать лет я наблюдала и собирала факты — по крайней мере, после «Комнаты Джейкоба». Такое количество вещей вдруг явилось мне, что я не могу сделать выбор, — 60 000 слов в одном параграфе. Я не должна забывать о жестком контроле; не должна быть слишком саркастичной; должна сохранять определенный уровень свободы и осторожности. Но как же легко сравнивать новую книгу с «Волнами»! Интересно, сколько каратов в обеих книгах? Естественно, это снаружи: однако золота много — больше, чем я думала — в экстерьере. В любом случае, «была мягка моя кровать в богатом графском доме, но слаще будет ночевать в амбаре на соломе!»[152] Скажем, цыгане: не Хью Уолпол и не Пристли — нет. По сути, роман «Паргитеры» — двоюродный брат «Орландо», родство плоти: «Орландо» был хорошей школой. А теперь — ох, мне не придется писать, по крайней мере, десять дней — нет, четырнадцать, если не все двадцать один — надо сочинить главу о 1880–1900 годах, которая потребует от меня максимального мастерства. Но мне нравится, когда от меня требуется максимальное мастерство. Я собираюсь побыстрее справиться со всеми работами: завтра мы уезжаем. Осень была очень плодотворной, разнообразной и, полагаю, удачной — отчасти благодаря моему уставшему сердцу: я могла навязывать свои условия: и я еще никогда не жила в такой спешке, в таком сне, в таком сильном возбуждении и принуждении — почти ничего не замечая, кроме «Паргитеров».
Родмелл. Пятница, 23 декабря
Сегодня не первый день Нового года; но обиды должны быть прощены[153]. Надо написать о моей докучной бессвязной муке — прочитала больше 30 000 слов «Флаша» и пришла к выводу, что они никуда не годятся. Пустая трата времени — жуткая скука! Четыре месяца работы и, Бог знает, сколько чтения — не возвышенного — не знаю, что можно из этого сделать. Это не предмет для такого объема: слишком он незначительный и слишком серьезный. В нем много хорошего, но должно было быть гораздо лучше. Итак, за два дня до Рождества я провалилась в знакомую серую неразбериху. Если честно, то это отчасти из-за «Паргитеров». И конечно же, я не могу вечно откладывать «Флаша»: и Л. будет разочарован; да и деньги мы потеряем — скучно. Я взялась за него с пылкостью сразу после «Волн», вроде бы для разнообразия; никаких предварительных раздумий; и вот результат: потребуется месяц напряженной работы — но все равно я в нем не уверена. А ведь за это время я могла бы сделать Драйдена и Поупа. В итоге я подошла к началу — не к концу — года с печальным сетованием. Солнце греет, как весной, и пчелы на цветах. Ничего, первопорядок останется тем же — обязательно.
Сегодня по-настоящему последний день старого, 1932 года, и я ужасно устала от «Флаша» — делаю по десять страниц в день и перегружаю свой мозг, — поэтому решила немножко отдохнуть и провести утро тут, как обычно, лениво обозревая жизнь… пруд наполняется; золотые рыбки умерли; наступил ясный бледный голубоглазый зимний день; и — и мои мысли с восторгом обращены на «Паргитеров», ибо я жажду наполнить паруса ветром и мчаться с Эльвирой, Мэгги и остальными по просторам человеческой жизни. На самом деле у меня не получается на усталую голову создать целостную книгу.
1933
3 января 1933 года
Это немного неуместно[154], но у меня все так. Мы приехали на праздник Анджелики, который был вчера, и у меня всего полчаса перед возвращением в новом «ланчестере» (не нашем — арендованном) обратно в Родмелл. Пробыли мы там почти две недели, и так как я молча скучала по машинке и одиночеству, то заработала головную боль. Теперь постараюсь снять напряжение, переписав противного пса Флаша, предполагаю, за тринадцать дней, чтобы освободиться — благословенная свобода! — и писать «Паргитеров». Я настояла на вечерней беседе.
Четверг, 5 января
Я очень довольна собственной изобретательностью, ведь не прошло и десяти лет, как мне удалось в пять минут соорудить великолепный письменный прибор, и больше не придется впадать в ярость, не имея чернил или ручки в критический момент писательской жизни и наблюдая, как мелькнувшая фраза рассеивается из-за какой-то мелочи, — кроме того, я счастлива, что одолела сотую страницу «Флаша» — в третий раз переписала сцену с Уайтчэпел и не уверена, что она достойна того, к тому же не могу не позабавить себя на чистой голубой бумаге, которая, слава богу, не требует переписывания. День дождливый, туманный; за окнами ничего не видно… верно, сказывается возвышенное читательское настроение: если серьезно, я знаю, что «Волны» на много месяцев ослабили мою способность концентрировать внимание, — а еще статья за статьей для «Обыкновенного читателя». Я уже окрепла и с тех пор, как живу в Родмелле, прочитала, внимательно и вдумчиво, двенадцать-пятнадцать книг. Вот уж радость — такое чувство, будто у меня в голове ровно шумит мотор «роллс-ройса», идущего на скорости семьдесят миль в час… На чтение меня вдохновляет прилив творческих сил, благодаря «Паргитерам» — они дарят мне свободу — как будто все вливается в один поток — все книги размягчаются и раздуваются в нем. Однако не исключено, что это всего лишь знак поверхностной, торопливой, нетерпеливой работы. Не знаю. У меня есть еще одна неделя на «Флаша», а потом я займусь проблемой двадцати лет в одной главе. Я вижу эту книгу как неравномерно распределенный во времени сериал — много больших шаров, соединенных прямолинейными подробными повествованиями. Я позволю себе такую форму, какую не могла позволить, когда писала «Ночь и день» — книгу, научившую меня многому, хотя и неважную.
Воскресенье, 15 января
Я пришла сюда, в последнее здешнее утро, написать письма, ну и, конечно же, заглянула в дневник. За три недели не написала ни строчки — печатала «Флаша», которого, слава богу, вчера «закончила», почти без кавычек. Постепенно «Флаш» был вытеснен из гнезда, словно кукушонком, «Паргитерами». Странно устроен человеческий разум! Около недели назад я стала придумывать сцены — бессознательно: проговаривала фразы как бы для себя; и так всю неделю просидела тут, глядя на машинку и громко произнося фразы из «Паргитеров». Все больше и больше смахивает на сумасшествие. Но это закончится через несколько дней, когда я вновь позволю себе писать. Читаю Парнелла. Это хорошо; но сцены так и лезут в голову, и из-за этого неприятно частит пульс. Пока я заставляла себя заниматься «Флэшем», вернулась головная боль — в первый раз за эту осень. Почему из-за «Паргитеров» у меня быстрее бьется сердце; а из-за «Флэша» стягивает затылок? Какая связь между мозгом и телом? Никто на Харли-стрит[155] не может это объяснить, но симптомы чисто физические и так же отличаются друг от друга, как одна книга отличается от другой.
Четверг, 19 января
Должна признаться, что «Паргитеры» — как кукушата в гнезде, где по праву должен быть «Флэш». Мне нужно поправить всего пятьдесят страниц и послать их Мэйбел; а проклятые сцены и диалоги из «Паргитеров» все время вспыхивают у меня в голове; и, исправив одну страницу, я сижу, ничего не делая, минут двадцать. Полагаю, у меня поднимется давление, когда я начну писать. Но пока жутко утомительно и отвлекает.
Суббота, 21 января
Ну вот, «Флэш» никак не заканчивается, и я не могу его отдать. Печальная правда. Все время хочется его ужать или сделать более цельным. Это не игра словами — так нельзя; по крайней мере, когда их ставишь «навсегда». Итак, я задраиваю моих «Паргитеров», скажем, до среды — клянусь, не дольше. У меня возникают сомнения насчет значимости персонажей. Боюсь дидактики: возможно, ложная страсть внушила мне те слова перед Рождеством. Но, так или иначе, это было прекрасно и будет опять — лишь бы снова придумывать одну сцену за другой — но осторожно. Вот о чем я плачу в это прекрасное морозное январское утро.
Четверг, 26 января
Всё, «Флэш», честное слово, отправлен. Никто не сможет сказать, что я не уделяю особого внимания коротким вещам. А теперь, после того как пять недель моя голова была наклонена в одну сторону, надо наклонить ее в другую, то есть в сторону «Паргитеров». Еще ни один критик не останавливал свое внимание на тяге разума к переменам. Говорят о многосторонности — но ведь необходимо менять дороги. Если бы у меня хватило ума залезть в мастерскую Шекспира, думаю, я обнаружила бы тот же самый закон — трагедия, комедия и так далее. Неясно вырисовывающиеся контуры «Паргитеров» я определяю как чисто поэтические. Однако «Паргитеры» великолепная и солидная вещь, которую я приберегаю на завтра. Интересно, так ли уж она хороша?
Четверг, 2 февраля
Не очень-то мне хочется уезжать в марте, когда у меня на руках «Паргитеры». Я собираюсь много, разносторонне и плодотворно работать над этой книгой. Сегодня закончила — лучше, чем обычно — первую главу. Оставляю междуглавья — вношу их в основной текст: и представляю хронологический указатель. Неплохая идея? Голсуорси умер два дня назад, я вдруг вспомнила, когда возвращалась вдоль Серпентина[156] от миссис В. (кто-то умирает — кто-то оживает) и чайки открывали свои турецкие сабли — множество чаек. Голсуорси умер; А. Беннетт говорил мне, что терпеть не может Голсуорси. И был вынужден восхвалять книги Джека перед миссис Г. А я могла сказать о Голсуорси все, что хотела. Теперь этот сильный человек лежит мертвый.
Суббота, 25 марта
У нас совершенно прогнившее общество, проговорила я только что голосом Эльвиры Паргитер, и я ничего у него не возьму, и так далее, и так далее. Теперь как Вирджиния Вулф я должна написать — ох, ну и скука — вице-канцлеру Манчестерского университета и отказаться от чести стать доктором филологии. А еще надо написать леди Симон, которой очень хотелось сделать меня доктором и которая приглашала нас погостить. Один Бог знает, как мне превратить язык Эльвиры в вежливый газетный штамп. Странное совпадение! реальная жизнь уготовила для меня в точности такую же ситуацию, о какой я писала. Мне трудно понять, кто я и где: Вирджиния или Эльвира: в «Паргитерах» или вне их. Два дня назад мы обедали с Сьюзан Лоренс. Там же была некая миссис Стокс из Манчестерского университета. «Как счастлив будет мой муж вручить вам в июле степень!» — обратилась она ко мне. И продолжала говорить о счастье Манчестера, который увидит меня награжденной, пока я не набралась мужества и не сказала: «Но я отказалась от нее». Все тотчас принялись это обсуждать — Невинсоны (Эвелин Шарп), Сьюзан Лоренс и остальные. Они говорили, что приняли бы степень от университета, но не приняли бы награду от государства. Из-за них я чувствовала себя глуповатой, самодовольной и, может быть, немного экстравагантной; но не очень всерьез. Ничто не заставит меня потворствовать всякой чепухе. Мне ведь это не доставило бы ни малейшего удовольствия. Я, правда, верю, что Несса и я — она была со мной и воспользовалась моими словами о глупости быть награжденной по признаку пола — не стремимся к «паблисити». Теперь что касается вежливых писем. Многоуважаемый вице-канцлер…[157]
Вторник, 28 марта
Вежливые отказы отосланы. Пока я не получила, да и вряд ли получу, ответы. Нет, слава Богу, у меня нет желания в июле отрываться от работы только ради того, чтобы мне надели на голову меховую шапочку. Стоит самая прекрасная весна, какая только может быть — мягкая, теплая, голубая, туманная.
Четверг, 6 апреля
Ах, как я устала! За это время совершенно измучилась с «Паргитерами». Довела до Эльвиры в постели — много месяцев я вынашивала в голове эту сцену, а теперь не могу ее написать. А ведь это поворотный момент в книге. Нужен хороший толчок, чтобы она повернулась на петлицах. Как всегда, полна сомнений. Пишу слишком быстро, книга получается слишком жидкой и слишком яркой на поверхности. Что ж, я измучена и не могу двигать ее дальше, ничего не поделаешь; придется похоронить ее на месяц — до возвращения из Италии; а тем временем я напишу о Голдсмите и так далее. Потом со свежими силами вновь возьмусь за нее и буду заниматься ею в июне, июле, августе, сентябре. За четыре месяца я напишу первый вариант — полагаю, 100 000 слов. 50 000 слов за пять месяцев — мой рекорд.
Четверг, 13 апреля
На сей раз я слишком заработалась. Стала как выжатый лимон. Но мы сегодня едем, и я буду греться на солнце, взяв с собой всего ничего книг. Писать не буду; не буду видеться с людьми. Легкий укус от Гиссинга в «Т.L.S.»[158], на который хорошо бы ответить. Но, увы, не могу найти нужных слов — на ум идет совсем не то — ничего не поделаешь; знакомое состояние после трех месяцев работы — эта книга для меня настоящая радость!
Вторник, 25 апреля
Вот и все кончилось — наши десять дней: почти каждый день я писала о Голдсмите — не очень-то видя смысл в моих Голдсмитах и прочих — и читала Голдсмита и прочих. Да: теперь мне предстоит выправлять гранки «Флаша» — в какой-то мере я все еще сомневаюсь в этой маленькой книжке; но у меня сейчас вообще сомневающееся настроение: взболтанное настроение из-за быстротечности времени, потому что в пятницу, пятого, мы едем в Сиену; у меня нет времени остановиться и подумать о своей истории, в основе которой постоянство. И, как всегда, мне хочется поискать что-то новое — чтобы совершенно избавиться от привычного и получить то освобождение, которое Италия с ее солнцем, ленью и безразличием всех ко всем может мне дать. Я поднимаюсь, как воздушный пузырек в бутылке…
Однако «Паргитеры». Думаю, это потрясающая затея. Надо быть храброй и любить риск. Я намереваюсь показать все современное общество — на меньшее я не согласна: факты и мечты. Соединить их. То есть «Волны» соединить с «Ночью и днем». Возможно ли? До сегодняшнего дня я написала 50 000 слов о «реальной» жизни; в следующих пятидесяти тысячах я должна их откомментировать — Бог знает как, — но не замедляя движения. Трудность в фигуре Эльвиры. Нельзя, чтобы она слишком выделилась. Ее нужно показать лишь в соотношении с другими. Это даст, полагаю, большое преимущество обеим реальностям — контраст. Сейчас я думаю, что события движутся слишком быстро, легко и независимо друг от друга. Читается поверхностно, но живо. Как мне придать написанному глубину, но избежать статичности? Однако мне нравится решать подобные задачки, и, как бы там ни было, в этой натуре есть ветер и есть жизнь. Но у нее должна быть цель — великая глубина и великое напряжение. В ней должны быть сатира, комедия, поэзия, повествование; а какая форма соединит все это вместе? Попробовать ввести драму, письма, стихи? Кажется, я начинаю хвататься за все. И это чтобы покончить с прессом моей нормальной дневной жизни. Пусть будут миллионы идей, но не будет проповеди — история, политика, феминизм, искусство, литература — короче говоря, все, что я знаю, чувствую, над чем смеюсь, что презираю, люблю, обожаю, ненавижу и так далее.
Пятница, 28 апреля
Просто запись. Вчера вечером мы вышли из автомобиля и стали спускаться к реке. Летний вечер. Каштаны в кринолинах с поднятыми вверх свечками; серо-зеленая вода и так далее. Неожиданно Л. бросился в сторону; там шагал на некрепких ногах, белея бородой, Шоу. Мы поговорили, стоя у ограды, минут пятнадцать. Он сложил руки на груди, выпрямился, даже откинулся назад; зубы с золотыми пломбами. Как раз шел от дантиста и «соблазнился» хорошей погодой. Очень дружелюбен. Весьма искусен в убеждении окружающих в своей любви. Фонтан идей. «Вы забываете, что аэроплан тот же автомобиль — он побеждает. — Мы перешли через высокую стену — увидели вдалеке маленькое смутное нечто. Конечно же, тропики — это настоящее. Люди там будто первозданные в отличие от нас, похожих на смазанные копии. Я видел, как китаец с ужасом глядел на нас — когда мы говорим о человеческих существах! Правда, круиз стоит тысячи: а посмотрите на нас, никому и в голову не придет, что у нас есть деньги на билет до Хэмптон-Корт[159]. Сколько старых дев экономили годами ради этого круиза. Ох, уж эта моя популярность! Ужасно. В каждом порту осаждают не меньше часа. Я сделал ошибку приняв…[160] приглашение. Сам не знаю, как оказался на возвышении, а вокруг целый университет. Они начали орать. Мы хотим Бернарда Шоу. Ну, я сказал им, что все молодые люди в двадцать один год должны быть революционерами. А после этого полицейские хватали их дюжинами. Хочу написать для «Геральд» статью о Диккенсе, который много лет назад говорил о глупости парламента. О, если бы я не писал, то не выдержал бы это путешествие. Я уже написал три или четыре книги. Мне нравится максимально нагружать публику. Книги надо продавать по фунту. Прелестная собачонка. Я вас не задерживаю? Вы не замерзли?» (Он коснулся моего плеча.) Двое мужчин остановились и стали пялиться на нас. Он зашагал прочь на неверных ногах. Я сказала, мы понравились Шоу. Л. думает, он никого не любит. Что будут говорить о Шоу через пятьдесят лет? Сейчас ему семьдесят шесть, как он сказал: слишком стар для тропиков.
Вчерашний вечер — чтобы немного отдохнуть от выправления глупой книжки «Флаш» — вот уж пустая трата времени — я опишу Бруно Вальтера. Это маленький толстый человечек; и мало приятный. И вовсе не «великий дирижер». Отчасти славянин, отчасти еврей. Почти совсем сумасшедший: говорит, что не может избавиться от «яда» Гитлера, как он это называет, внутри себя. «Вы не должны думать о евреях, — повторял он. — Вы должны думать об отвратительной нетерпимости. Вы должны думать о состоянии всего мира. Оно ужасно — ужасно. Если стало возможным такое убожество, такая посредственность! Наша Германия, которую я любил, с нашими традициями, с нашей культурой. Теперь мы опозорены». Потом он сказал нам, что говорить можно только шепотом. Повсюду шпионы. Ему приходилось целыми днями сидеть в своем номере в лейпцигском отеле и звонить по телефону. Все время маршируют солдаты. Они никогда не останавливаются. А по радио, между передачами, военная музыка. Ужасно, ужасно! Единственная надежда — монархия. Он никогда не вернется в Германию. Его оркестр просуществовал сто пятьдесят лет; ужасен дух того, что там происходит. Мы все должны объединиться. Мы должны отказаться от встреч с немцами. Мы должны заявить, что они нецивилизованные люди. Мы не должны ни торговать, ни играть с ними. Мы должны сделать так, чтобы они почувствовали себя изгоями — не надо сражаться с ними; надо их игнорировать. Потом он перешел на музыку. У него напор — гений? — который заставляет его проживать все, что он чувствует. Говорил о дирижировании; знает, по-видимому, всех исполнителей.
Жуан-ле-Пэн. Вторник, 9 мая
Итак, я решила, что напишу об этом лице — о лице женщины, которая что-то шила из очень тонкого блестящего зеленого шелка за столом в венском ресторане, куда мы пришли на ланч. Она была как судьба — непревзойденная мастерица всех искусств самосохранения: вьющиеся блестящие волосы, бесстрастные глаза; ничто не могло взволновать ее; она сидела и шила что-то из зеленой шелковой ткани, люди все время входили и выходили; но она не обращала на них внимания, ничего не зная и ничего не боясь; ничего не ожидая — великолепно экипированная француженка из среднего класса.
В Карпентрасе вчера вечером мы встретились со служаночкой, у которой были честные глаза, кое-как расчесанные волосы и почти черный передний зуб. Я почувствовала, что жизнь непременно раздавит ее. Возможно, ей лет восемнадцать; немного больше; плывет по течению, надежд никаких; бедная, не слабая, но управляемая — но еще не настолько управляемая, чтобы не испытывать жгучего желания, сиюминутного, путешествовать на машине. Ах, я не богата, сказала она мне — это было понятно по ее дешевым чулкам и туфлям. Ах, как я завидую вам, вы можете путешествовать. Вам нравится в Карпентрасе? Здесь всегда сильный ветер. Вы еще приедете? Колокол звонит. Не обращайте внимания. Вот приедете еще и посмотрите. Нет, я никогда такого не видела. Ну да, она любит все английское. («Она» — это другая девушка, у которой волосы напоминали вздыбившиеся кактусовые колючки.) Да, мне всегда нравился английский, сказала она. Честное личико, черные зубы, навсегда останется в Карпентрасе. Я предполагаю: она выйдет замуж? станет одной из толстух, которые сидят в дверях и вяжут? Нет: я предрекаю ей некую трагедию; потому что у нее хватает ума завидовать нам с нашим «ланчестером».
Пиза. Пятница, 12 мая
Да, Шелли выбрал лучше, чем Макс Бирбом. Он выбрал порт; залив; дом с балконом, с которого Мэри глядела в море. Утром причаливали, хлопая парусами, суденышки — маленький городок с петляющими улочками, высокими розовыми и желтыми, как везде на юге, домами, не очень изменившимися, как я полагаю: здесь очень шумно из-за разбивающихся о берег волн, город весь открыт морю; а отдельные дома стоят почти лицом к лицу с морем. Шелли, наверное, плавал тут, гулял, сидел на берегу, а Мэри и миссис Уильямс пили кофе на балконе. Смею заметить, что люди и одежды были примерно такими же. Как бы то ни было, это в своем роде очень хороший дом великого человека. Какими словами описать повсеместность моря? Ничего не могу придумать. Небо кажется высоким, если глядеть из спальни пизанского «Неттано», где полным-полно французских туристов. Мимо течет Арно, покрытая обычной кофейной пеной. Смотрели аркады; это настоящая Италия, с застарелым запахом пыли; люди толпятся на улицах; под — как это называется? — как называется улица с колоннами? — аркадой. Дом Шелли ждет на берегу, а Шелли не идет, и Мэри с миссис Уильямс смотрят с балкона, а потом из Пизы является Трилони, и тело Шелли сжигают на берегу — вот о чем я думаю. Краски тут — белый или голубоватый мрамор на фоне очень светлого высокого неба. Башня кренится. Церковный попрошайка в фантастической кожаной шапке. Священники прогуливаются. В этих монастырях — Кампо Санто — Л. и я бродили двадцать один год назад и встретили Палгрейвов, от которых я попыталась спрятаться за колонну. А теперь мы приехали на машине; а Палгрейвы — они умерли или очень старые? Как бы то ни было, мы покинули черную страну: страну лысых грифов и нечастых вилл с красными крышами. В эту Италию приезжают на поезде с Вайолет Диккинсон — а потом пересаживаются в автобус отеля.
Сиена. Суббота, 13 мая
Сегодня мы видели самый прекрасный пейзаж и печального человека. Пейзаж был как поэтическая строчка, которая живет сама по себе; гора, вся красно-зеленая; вытянутые линии, ни одного неиспользованного дюйма; старая, дикая, великолепно сказанная, раз и навсегда: и я поднялась наверх с какой-то группой и спросила, что это за деревня. Она называется — и женщина с голубыми глазами сказала: «Не желаете зайти ко мне в дом и попить?» Ей до смерти хотелось поговорить. Четыре или пять женщин собрались вокруг нас, и я произнесла речь в духе Цицерона о красоте тамошних мест. Но у меня нет денег, чтобы путешествовать, сказала она, ломая руки. Мы не пошли к ней в дом — коттедж на склоне горы; обменялись рукопожатием; у нее все руки были в пыли; она не хотела подавать их мне; но я все же взяла ее руку и пожалела, что не приняла ее приглашение и не пошла в ее дом, расположенный в самом красивом месте на свете. Потом, когда мы ели на берегу реки, где оказалось много муравьев, то увидели печального мужчину. У него было пять или шесть рыбешек, которых он выловил руками. Мы сказали, места очень красивые, а он ответил, нет, он предпочитает город. Он ездил во Флоренцию; нет, ему не нравится деревня. Ему хочется путешествовать, но у него нет денег; он работает в одной из деревень; нет, он не любит деревню, повторял он любезным тоном воспитанного человека: здесь нет театров, нет кино, ничего нет, кроме совершенной красоты. Я дала ему две сигареты; поначалу он отказался, а потом предложил нам своих шесть или семь рыбешек. Но нам негде приготовить их в Сиене, сказали мы. Да, согласился он, и на этом мы расстались.
Очень мило, когда говоришь, что делаешь записи, но писательство на самом деле трудное искусство. Все время надо заниматься отбором: а я слишком ленива, поэтому песок просыпается у меня между пальцами. Писательство ни в коей мере не простое искусство. Кажется нетрудным думать о том, что бы такое написать; но мысль исчезает, бегает туда-сюда. Мы в шумной Сиене — большом городе с каменными арками, шумном от все перекрывающих визгливых криков детей.
Воскресенье, 11 мая
Итак, я читаю — просматриваю — «Священный источник»[161], самую неподходящую книгу для такого шума — сидя возле открытого окна, глядя поверх голов, голов, голов — вся Сиена стала серо-розовой, гудят машины. Хорошо ли бежать по натянутому канату? Я не бегу — вот мой ответ. Я позволяю ему обрываться. Отмечу лишь, что считаю знаком мастерства, когда писатель берет и разбивает свою заготовку. Ни один из робких имитаторов Г.Д.[162] не находит в себе смелости, стоит ему раскрутить фразу, оборвать ее. А у него природный дар — он личность: он глубоко засовывает ложку в сваренную им похлебку — непонятную мешанину. Вот это — его жизнь — его язык — его цепкость, его хватка, его ритм — всегда дышали на меня свежестью, даже если я спрашивала, как может человек, находящийся вне оранжереи с орхидеями, сочинять такую орхидейную мечту. Ох уж эти эдвардианские[163] дамы с тусклыми волосами, эти одетые на заказ «мои дорогие мужчины»! Все же в сравнении с вульгарным грубым и стариком Криви — Л. укусила блоха — Г.Д. мускулист и тощ. Вне всяких сомнений, общество Регента — запах бренди и костей, накрашенные бархатные женщины Лоренса — общая распущенность, и буйство, и вульгарность в высшей степени. Конечно же, и Шелли, и Вордсворты, и Кольриджи жили по другую сторону. Но когда поток вырывается со страниц Криви, то для всего мира это что-то между Букингемским дворцом, Брайтоном и собственным курсивным стилем королевы — разнузданное и слабое; и как можно рассчитывать на лекарство для одного-единственного человека? Ничтожные лорды и леди перемигиваются и переедают; везде плюш и позолота; и принцесса с принцем — распад и ожирение захватывают восемнадцатый век и раздувают его до размеров зрелого дождевика. Очевидно, 1860 год — граница.
Понедельник, 15 мая
Теперь должно быть сплошное описание — я имею в виду, невысоких, с четкими очертаниями гор; белых коров и тополей, и кипарисов, и, словно вышедшей из-под резца скульптора, бесконечно музыкальной, обильной зеленой земли — вплоть до Аббазии[164] — туда мы отправились сегодня; и не могли отыскать ее, спрашивали одного за другим усталых вежливых крестьян, но ни один не бывал дальше четырех миль от своего дома. Наконец напали на каменщика, который знал дорогу. Но он не мог бросить работу, потому что на другой день ждал инспектора. И он был один, совсем один, целый день в полном одиночестве, даже словом перемолвиться не с кем. И старуха Мария в Аббазии тоже. Она что-то нечленораздельно бормотала, показывая нам на огромное каменное здание; что-то бормотала и бормотала об англичанах — какие они были красивые. Ты графиня? — спросила она меня. Но ей тоже не нравится Италия. Люди кажутся мне ограниченными и измученными; похожи на кузнечиков с поведением кротких бедняков; печальные, мудрые, терпимые, с юмором. Был еще мужчина с мулом, который заставил своего мула бегом сойти с дороги. Нас хорошо принимают, потому что мы можем разговаривать с ними; они собираются в кружок и обсуждают нас после нашего отъезда. Толпы жалких и добрых мальчишек и девчонок всегда рядом с нами, машут руками, трогают свои шапочки. И никто не смотрит кругом — кроме нас — на костяную белизну вечера; на краснеющие фермы; как легкие острова, плывущие в море тени, — это очень красиво — черные полосы кипарисов вокруг ферм, как меховая опушка; и тополя, и реки, и поющие соловьи, и неожиданный дождь апельсиновых цветов; и белые, словно алебастровые, коровы с поющими колокольчиками — огромные мешки из белой кожи, висящие у них под мордами — бесконечное безлюдье, одиночество, тишина: ни дома, ни деревни; одни виноградники и оливковые плантации — были, есть и будут. Бледно-голубые горы четко и трогательно вырисовываются на фоне неба — гора за горой.
Пьяченца. Пятница, 19 мая
Странно писать число. В этой потерявшей привычные ориентиры жизни трудно вспомнить, какой день на дворе, и все-таки… Три точки, чтобы определить сама не знаю что. Целый день мы ехали из Леричи через Апеннины, и сейчас холодно, неуютно и неудобно в просторной итальянской таверне, похожей на галерею, в которой нет даже кресел, так что Л. сидит на стуле, а я приютилась на кровати, чтобы использовать единственную лампу, находящуюся как раз между нами. Л. пишет указания для «Пресс». Я пытаюсь читать Гольдони.
В Леричи жарко, небо голубое, и комната у нас с балконом. Здесь много мисс и их матерей — одетые словно для холодного дня в Уимблдоне и давно упустившие все шансы устроить свою судьбу, мисс с нежной грустью и привычной печалью молча просиживают все трапезы — организованные по-английски. Здесь живет ушедший в отставку англоиндус, который приглашает, скажем, мисс Тутчет на прогулку, у него обветренное красное лицо, и он в восторге от вечернего пения в Аббатстве. Она идет в Башню; где комната «моего брата». Et cetera. Et cetera. Об Апеннинах мне сказать нечего — разве что наверху они похожи на зеленый зонтик изнутри; спица за спицей; и облака нацеплены на палку. Едем в Парму; жаркий, каменный, шумный город; в магазинах нет карт; едем дальше по отличной дороге до Пьяченцы, где оказываемся вечером в девять часов без шести минут. В этом неизбежная трудность нашего путешествия — цена, которую надо платить за движение и свободу, — пыль на ботинках и завтрашний отъезд — ланч на траве возле глубокой холодной реки. Через неделю все будет кончено — комфорт — дискомфорт; энергия, порыв, каких ни привычные дела, ни время, ни привычки не дают. Но мы вновь обретем их — и это будет больше, чем порыв путешественника.
Воскресенье, 21 мая
Писать, вместо того чтобы спать, — волнующая миссия — я сижу возле открытого окна во второсортной драгиньянской таверне — снаружи платаны, птичка поет на одной ноте, кто-то громко говорит — все как обычно. В воскресенье автомобильные гонки во Франции; ночью все отсыпаются. Хозяева отелей пресыщены и почти не отрываются от карт. Но в Грассе жизнь бьет через край — мы приехали поздно. Уезжаем рано. Я погружаюсь в Криви; Л. — в «Золотую ветвь»[165]. Мы жаждем добраться до постели. Это тоже плата за путешествие — сонные неудобные ночи в отелях — сидение на стульях под лампой. Однако все время работает искушение — завтра в Экс — домой. «Дом» становится магнитом, ибо я не могу остановиться и не думать о «Паргитерах»; не могу жить без этого возбудителя — но что может быть лучше? Я уже устала от отдыха и хочу работать — вот неблагодарность! — я хочу также горы в Фаббрии и горы в Сиене — но не другие горы — не эти черно-зеленые мрачные одинаковые южные горы. Сегодня в Вансе между прямоугольными надгробиями мы видели выложенного разноцветными камешками Феникса бедняжки Лоуренса[166].
Вторник, 23 мая
Только что я сказала себе, если бы возможно было написать, то мне подошла бы здешняя белая бумага, не слишком большая по размеру и не слишком маленькая. Но я не хочу писать, разве что выразить свое раздражение. Все из-за здешних условий. Я сижу на кровати Л.; он — в единственном кресле. Люди топают туда-сюда по тротуару. Эго Вена. Здесь жарко, как на сковороде, — и все жарче и жарче — мы едем по Франции; сегодня вторник; мы пересекаем границу в пятницу, и этот странный отрезок путешествия, удаляющий нас от нашего обиталища и наших привычек, подойдет к концу. Мы едем вперед, вперед — через Экс, через Авиньон, вперед, вперед, под сплетенными ветками деревьев, по пустынным песчаным дорогам, между серо-черными горами с замками, вокруг которых сплошные виноградники; а я думаю о «Паргитерах»; Л. за рулем; когда появляются тополя, мы выходим из машины и едим на берегу реки; потом едем дальше; пьем чай на берегу реки: получаем письма, узнаем, что умерла леди Синтия Мосли; фотографируем пейзаж; удивляемся смерти; чуть не засыпаем от жары и решаем спать неподалеку — «Отель де ла Пост»; читаем еще одно письмо и узнаем, что Книжное общество, возможно, возьмет «Флаша», после чего начинаем планировать, как потратим тысячу или две тысячи фунтов, если получим их. А что бы с этими деньгами сделали маленькие венские бюргеры, попивающие кофе? — спрашиваю я. Девушка-машинистка, юноша-клерк. По какой-то причине они, как мне показалось, заговорили об отелях в Лионе; но у них нет ни пенни за душой; все мужчины отправляются в туалет, видны их ноги; входят марокканские солдаты в больших плащах; дети играют в мяч, вокруг стоят люди; все становится похожим на картину, все скомпоновано, и ноги в особенности — какие-то странные углы; люди обедают в отеле; непривычная атмосфера, поскольку мы уезжаем рано утром, застревает у меня в памяти как картинка венской жизни, это важно. Теперь домой, там свобода, никаких проблем с багажом — ох, усядемся в кресла и будем читать, и не придется просить минеральную воду, чтобы почистить зубы!
Тависток-сквер, 52. Вторник, 30 мая
Ну вот, из всего, что только есть на земле, несомненно, самое ужасное возвращаться домой после отдыха. Никогда еще не было такой бесцельности и такой депрессии. Не могу ни читать, ни писать, ни думать. Я не преувеличиваю. Да, комфорт; но кофе хуже, чем я ожидала. И мои мозги не работают — если точно, то у меня нет сил взяться за ручку. Надо, чтобы эту машину — мою машину, я хочу сказать — поставили на рельсы и подтолкнули. Господи — как я толкала ее вчера, чтобы она вновь заработала над Голдсмитом. Статья наполовину написана. Лорд Солсбери говорил что-то вроде того, что обеденные речи напоминают неразогретые остатки вчерашнего ужина. Я вижу белое сало на страницах моей статьи. Сегодня немного теплее — тепловатое мясо: кусок остывшей баранины. Прохладно и скучно. Но все-таки я слышу, как колесики начинают поворачиваться. На Троицын день, то есть в понедельник, мы едем в Монкс-хаус — в униженный загородный Монкс-хаус. Не могу смотреть на «Паргитеров». Пустая раковина, где нет улитки. И я пустая — холодный кусок мозга. Ничего. Вот окунусь в «Паргитеров» с головой. А сейчас я заставлю свои мозги вернуться в Италию — как его? — Гольдони. Всего-то несколько слов.
Мне кажется, что в моем состоянии, в моем подавленном состоянии постоянно живет множество людей.
Среда, 31 мая
Мне кажется, я могу на четыре месяца погрузиться в «Паргитеров». Стало легче — физически легче! Я чувствую, что больше не могу не писать, что мои мозги не выдерживают пытки, словно они все время бьются о стену, за которой ничего нет, — я имею в виду «Флаша», «Голдсмита», поездку по Италии.
Меня позвали держать пари (дерби). В этом году, говорят, нет фаворита.
Итак, завтра я намерена бежать от этого. А если меня не ждет ничего, кроме чепухи? Книга должна быть рискованной, храброй, она должна сломать все загородки. Пусть будут драматические куски, стихи, письма, диалоги: она должна быть округлой, не плоской. Не одной лишь теорией. Пусть будут разговоры, споры. Как это сделать — вот вопрос. Я имею в виду интеллектуальный спор в художественной форме. Трудные и интересные задачи на ближайшие четыре месяца. Но сейчас я не представляю свои возможности. Я совершенно дезориентирована четырехнедельным отдыхом — нет, трехнедельным, — но завтра мы опять едем в Родмелл. Надо заполнить все щели книгами — но мне совсем не хочется погружаться в чтение — ладно, завтра отправлюсь к Мюррей насчет платья: а там за углом Этель; никаких писем; после Троицына дня полная неразбериха. Вчера вечером, когда я ехала по Ричмонд-стрит, то очень серьезно думала о синтезе моего существа; воедино его соединяет лишь писательство; в нем нет целостности, пока я не пишу; сейчас я забыла, что было таким серьезным в моих размышлениях. Рододендроны в Кью похожи на разноцветные стеклянные холмы. Ох, какое волнение, ох, какое беспокойство в моем настроении.
Очень хорошо: старые «Паргитеры» начинают разбегаться; и я говорю, пора за дело. Скажем так, писательство предполагает усилие; писательство — это отчаяние; и все же на днях во время нестерпимой жары в Родмелле я поняла, что перспектива — полагаю, это как раз и было нечто вроде моей серьезной мысли в Ричмонде — приобретает четкие очертания; да; пропорции правильные; хотя я на пределе страдания; переживаю, как сегодня утром, мрачное отчаяние, и, о господи, когда дело дойдет до переписывания, буду страдать нестерпимо (это слово означает лишь невозможность выразить мое состояние словами); когда надо будет собрать всё-всё-всё — бесчисленное всё — вместе.
Понедельник, 10 июля
Белла[167] приехала и ударилась головой об окошко в автомобиле. Порезала нос и чувствовала себя не в своей тарелке. К тому же я пребывала в «моем состоянии» — очень сильном и остром; в черной меланхолии отправилась гулять в Риджентс-парк, и мне пришлось, как в старину, призвать мои когорты на помощь, что они более или менее сделали. Сия запись подтверждает мои взлеты и падения, многие из которых проходят незарегистрированными, так как они послабее. До чего же все знакомо — шагаешь по дороге, а сердце сжимается от болезненной печали: желание умереть, как встарь, и все это, как мне кажется, из-за пары случайных слов.
Четверг, 20 июля
Я опять вся в «Паргитерах» — и это после целой недели почти нетронутых страниц. Теперь главное всё спрессовать: то есть сохранить ритм, но передать смысл. Мне кажется, то, что получается, все больше и больше тяготеет — во всяком случае, сцены с Э.М. — к драме. Думаю, следующий этап должен быть объективным, реалистическим, в манере Джейн Остин; история должна развиваться без остановки.
Суббота, 12 августа
Итак, естественно, после миссис Неф я очень устала — меня трясло и колотило. На два дня я отправилась в постель и проспала, кажется, семь часов, вновь посетив тихие просторы. Не понимаю — что означают эти неожиданные приступы полного истощения? Я приезжаю сюда писать и не могу даже закончить фразу; меня сбивает с ног; как встарь; неужели это работа подсознания? Я читала Фабера о Ньюмене; сравнивала его описание нервного срыва; когда отказывает какая-то часть механизма; не это ли происходит со мной? Наверное, не совсем. Потому что я ни от чего не уклоняюсь. Я хочу писать «Паргитеров». Нет. Полагаю, жизнь в двух мирах — роман, реальность — мой стиль. Нефы чуть не сломали меня, потому что увели слишком далеко от одного из миров; я хочу прогулок, спонтанной детской жизни с Л. и другой жизни, когда пишу во всю мочь: необходимость вести себя осторожно и уверенно с чужими людьми уводит меня от этого: отсюда резкий упадок сил.
Среда, 16 августа
Из-за полета сэра Алана Кобхэма, Анджелики, Джулиана и добывания лодки у меня опять головная боль и постель, я не видела Этель, но слышала ее голос, написала утром шесть страниц, не видела Вулфов, опять сижу у себя[168], перебираю «Паргитеров» и думаю; о Господи, дай мне силы придать этому какую-нибудь форму. Ну и сражение мне предстоит! Ничего. Я хочу написать о форме, потому что прочитала Тургенева. (Как же у меня дрожит рука после головных болей — не могу сладить ни со словами, ни с ручкой — исчезла привычка.)
Итак, форма — это ощущение того, что одно закономерно следует за другим. Отчасти это логика. Т. писал и переписывал. Отделяя необходимое от не необходимого. Достоевский же говорил, что важно всё. Но Д. нельзя читать дважды. Шекспира обязывала к продуманной форме сцена. (Т. утверждает, что нужно искать новую форму для старого содержания; но мне кажется, он пользуется этим словом в другом смысле.) Должно быть сохранено главное. Как его узнать? Как узнать, форма Д. лучше или хуже формы Т? Здесь нет ничего, данного заранее. Идея Т. состоит в том, что писатель указывает на главное, а читатель домысливает остальное. Д. снабжает читателя всей возможной помощью и всеми мыслимыми подсказками. Т. сокращает возможности читателя. Трудность критики в том, что это внешнее. Писатель же должен идти вглубь. Т. писал дневник для Базарова: писал, встав на его точку зрения. У нас есть всего лишь 250 коротких страниц. Наша критика — взгляд с высоты птичьего полета на верхушку айсберга. Остальное под водой. Почему бы не пойти в этом направлении? Статья может быть более ломаной и менее цельной, нежели обычно.
Четверг, 24 августа
Неделю назад, в пятницу, если точно, я вновь обрела мой разум и погрузилась в «Паргитеров», решив снять с них все мясо, прежде чем продолжать повествование и придумывать новые сцены. Я перечитываю всю первую часть, чтобы скомпоновать ее иначе. Теперь смерть в первой главе. Думаю сократить объем в два раза; однако сейчас все это немного пустое и отрывистое. Более того, здесь все, в общем-то, порыв и мелодия. Я только что убила миссис П. и не могу мчаться в Оксфорд. Суть в том, что маленькие сценки запутывают человека в точности, как в жизни; и нельзя мгновенно перестроиться на другое настроение. Мне кажется, что начало предельно реально. У меня есть хорошее оправдание для поэзии во второй части, если я сумею воспользоваться им. Довольно интересный эксперимент — если бы я могла видеть одно и то же с двух разных точек зрения. Все утро я провела за чтением «Воспоминаний» Арсена Гуссэ, оставленных вчера Клайвом. Книги — это бескрайнее море удовольствия! Я вошла и обнаружила заваленный книгами стол. Стала заглядывать в них и вдыхать их запах и не могла устоять, чтобы не утащить одну и не приняться за чтение. Полагаю, здесь я могла бы жить счастливо и читать, читать.
Суббота, 2 сентября
Неожиданно, вечером, мне пришло в голову название «Здесь и сейчас» для «Паргитеров». Кажется, оно лучше. По нему ясно, чего я хочу, и оно не напоминает Сагу о Герри[169], Сагу о Форсайтах и прочие саги. Только что дописала первую часть; то есть ужала ее; надо еще ужать день Элеоноры, а что потом? Остальное не требует особого сокращения. Думаю, осталось 80 000 слов, но, наверное, к ним прибавятся еще 40 000. Восемьдесят плюс сорок равно ста двадцати тысячам. Если так, то это будет самый крупный из моих малышей — полагаю, больше «Ночи и дня».
Вторник, 26 сентября
Почему бы в ближайшее время не написать фантазию на тему Крабба? — биографическую фантазию — эксперимент в жанре биографии.
Мне всерьез хотелось писать тут — диалог души с душою, — и это ускользнуло от меня — почему? Потому что я кормила золотых рыбок, любовалась новым прудом, играла в шары. Ничего уже не остается. Я забываю, как это было. Счастье. Вчера был замечательный день. И так далее. Сегодня я начала день с телефона; звонила в «Н.С.»[170]: поправки к «Двенадцатой ночи»: здесь вставить запятую, там снять точку с запятой и так далее. Потом пришла сюда, увидела карпа и пишу о Тургеневе.
Понедельник, 2 октября
Уже октябрь; завтра мы должны ехать на конференцию в Гастингс, а в среду к Вите, потом опять в Лондон. Открыла дневник, чтобы написать очередное предостережение себе перед выходом в свет книги. «Флаш» ожидается в четверг, и я думаю, что меня очень огорчат похвалы. Будут говорить, что книга «очаровательная», грациозная, женственная. Она станет популярной. Мне надо, чтобы это все миновало, по возможности не задев меня. Пора сконцентрироваться на «Паргитерах» — или на «Здесь и сейчас». Ни в коем случае нельзя допускать мысль, что я всего лишь дама-лепетунья; ведь это сущая неправда. Однако говорить будут именно так. И я возненавижу сам успех «Флаша». Нет, надо сказать себе, это просто клочок бумаги, водная завеса; и сочинять, неистово, без устали, потому что я еще никогда не ощущала в себе столько сил.
Воскресенье, 29 октября
Нет, я слишком устала, чтобы продолжать с Бобби и Эльвирой — они встретятся в соборе Святого Павла — сегодня утром. Жаль, не могу представить эту сцену цельной, спокойной и подсознательной. Последнее очень трудно из-за «Флаша», из-за бесконечных рецензий, которые не дают мне спать. Вчера в «Гранта» заявили, что я умерла. «Орландо», «Волны», «Флаш» говорят о смерти потенциально великой писательницы. Это лишь одна капля, я хочу сказать, одна гадость, наподобие тех, что так любят школьники, например подсунуть лягушку в постель; но ведь есть еще куча писем и просьб прислать фотографию — их так много, что, наверное, глупо, но я написала саркастическое письмо в «Н.С.» — теперь будет еще больше капель. Эта метафора доказывает, насколько важно подсознание, когда человек пишет. Но позвольте напомнить, что мода в литературе вещь неизбежная; что человек растет и меняется; что я, наконец, привержена философии анонимности. Мое письмо в «Н.С.» — грубое публичное утверждение одного из ее положений. До чего же ни на что не похожим было открытие, совершенное мною прошлой зимой! свобода; и теперь мне совсем не трудно отказываться от приглашений Сибил[171] и принимать жизнь решительно и твердо. Я не буду «знаменитой», «великой». Я хочу рисковать, меняться, копаться в своих мыслях и удивляться увиденному и не желаю быть проштемпелеванной и похожей на других. Суть в том, чтобы добыть себе свободу; определить себя, но не ограничить. И хотя это, как всегда, лишь попытка «на авось», заложено в ней много всего. Октябрь был плохим месяцем; но мог бы быть еще хуже, если бы не моя философия.
Четверг, 7 декабря
Проходила по Лестер-сквер — очень далеко от Китая — как раз теперь я читаю «Смерть знаменитого соавтора» в газетах. И думала о Хью Уолполе. Но это Стелла Бенсон. Наверное, не стоит писать по горячим следам, не дав себе времени подумать? Я плохо знакома с нею; но мне представляются прекрасные покорные глаза; слабый голос; кашель; ощущение придавленности. В Родмелле она сидела со мной на террасе. И вот так быстро закончилось то, что могло стать дружбой. Доверчивая, кроткая, очень искренняя — так я думаю о ней; пытаясь забраться поглубже, в один из трудных вечеров, оставив поверхностный слой, — конечно, нам удалось бы, если бы предоставилась такая возможность. Я рада, что остановила ее, когда она открыла дверцу и уже садилась в свою маленькую машину, и что попросила ее называть меня Вирджинией — писать мне. И она сказала; «Лучше ничего и быть не может». Словно погас свет — ее смерть в Китае; а я сижу тут и пишу о ней, так расплывчато и все же правдиво; больше ничего не будет. День стал траурным, когда в Кингсуэй пришли повозки (?) с газетами; «Смерть знаменитой писательницы» на первой странице. Прекрасный твердый ум, пережитые страдания, подчинение — возможно, ее смерть — укор мне, как смерть К.М.[172] Я продолжаю; а их уже нет. Почему? Почему не мое имя у всех на виду? Во мне поднимается протест; они ушли, не закончив свою работу, — и обе неожиданно. Стелле был всего сорок один год. «Я пришлю вам свою книгу», и так далее. Отвратительный остров, на котором она жила, общаясь с полковниками. Странное чувство, когда умирает такая писательница, как С. Б., любые слова кажутся недостойными; роман «Здесь и сейчас» не будет освещен ею; его жизнь стала короче. Мое излияние, — то, что послала в мир — менее пористое и блестящее, — как будто мысленная материя, паутина, удобренная (ее) мыслями других людей — теперь лишилось жизни.
Воскресенье, 17 декабря
Вчера закончила четвертую часть «Здесь и сейчас», поэтому сегодня у меня созерцательное утро. Чтобы освежить память о войне, читаю старые дневники.
1934
Вторник, 16 января
Все это время — три недели в Монкс — пролетело незаметно, потому что я была божественно счастлива и переполнена идеями — еще один поток «Паргитеров», или «Здесь и сейчас» (странно, в письме Голди напоминает, что «Волны» тоже здесь и сейчас, — я забыла). Итак, я не написала ни слова прощания с годом; ни слова о Кейнсе и Джоунсе; ни слова о прогулках в горах, хотя никогда прежде я не заходила так далеко; ни слова о чтении. Наслаждаюсь вечером и обычными безделицами.
Воскресенье, 18 февраля
Сегодня утром, в воскресенье, опять начала «Здесь и сейчас» с того места, на котором остановилась три недели назад из-за головной боли. Я отмечаю, что самое правильное — отдыхать от двух до трех недель. Тогда ничего не тускнеет, как после шести недель; я все еще держу роман в голове и знаю, что надо изменить. Я убрала — разговор во время нападения — тогда торопилась пройти это место; теперь мне нужно собраться, войти в нужное настроение и начать снова. Мне хочется создать вокруг себя волшебный мир и шесть недель прожить в нем интенсивно и спокойно. Трудность обычная — как пригнать друг к другу два мира. Наскоком тут ничего не сделаешь: надо комбинировать.
Вторник, 17 апреля
Вчера вечером я чувствовала себя измученной, потому что не смогла прибавить ни слова к моему «Сиккерту» и не смогла сделать набросок последней главы «Здесь и сейчас». Высокая цена за торопливый обед вне дома; потом «Макбет»; потом Додо Макнотен, потом сэр Фред Поллок — на сцене «Сэдлерс Уэллс»[173].
Идея касается Шекспира.
Пьеса требует выхода на поверхность — отсюда та настойчивая реальность, которой роману не требуется, но с которой он контактирует на поверхности, подходя к вершине. Так я работаю над теорией разных уровней и способами их соединения; ибо начинаю думать, что соединение необходимо. В особенности взаимоотношение с верхним слоем — неизбежно для драматурга: насколько это влияло на Шекспира? Есть идея. Можно выработать теорию художественной литературы, и так далее, основываясь на том, сколько уровней затрагивает писатель и как их соединяет, если соединяет.
Среда, 9 мая
Сегодня девятое мая, последний и замечательный день. Итак, мы побывали в Варвикшире — но я читала «Монолог» и отмечаю странное воздействие чужого стиля — лучшего; густая трава, густая листва, приземистые желтые каменные дома и великолепие немногих елизаветинских коттеджей. Все это совершенно естественно привело нас в Стратфорд-он-Эйвоне; и будь прокляты все краболовы — это великолепный, не застенчивый, не однообразный город, мирно сосуществующий с восемнадцатым веком и всеми остальными веками. Все цветы были в Шекспировском саду. «Сюда выходили окна его кабинета, когда он писал «Бурю»», — сказал незнакомец. Возможно, так оно и было. В конце концов, это большой дом, глядящий прямо на огромные окна и серые каменные стены школьной часовни, а потом стали бить часы, которые, вероятно, слышал Шекспир. Я не могу, не напрягая свой еще не отошедший от дороги разум, описать странное ощущение солнечной беспристрастности. Да, там все, казалось, говорило — это принадлежало Шекспиру, тут он сидел, тут гулял; но вам не найти его, по крайней мере, во плоти. Он и отсутствует — и присутствует; и то и другое сразу; освещая все вокруг; да; цветы; старый дом; сад; но поймать его невозможно. Мы отправились в церковь, и там был этот дурацкий помпезный бюст, но, на что я не рассчитывала, там была простая стертая плита, положенная неправильно, «Добрый Друг, воздержись во имя Иисуса» — вновь он показался мне воздухом и улыбающимся солнцем; в футе от меня лежали кости, которые распространяют свой свет на весь мир. Мы обошли церковь кругом, и все было просто и слегка стерто; река протекала сразу за каменной стеной, отсвечивая красным цветом из-за какого-то цветущего дерева, дерн там нетронутый, мягкий, зеленый, мокрый и плавают два невесть откуда взявшихся бесстрастных лебедя. Церковь, школа и дом вместительные и просторные, там хорошая слышимость, и сегодня солнечно, входят-выходят…[174] да, впечатляющее место; все еще живое, и косточки лежат там, которые создали; подумать только, он писал «Бурю» и смотрел в сад; какая ярость, какой шторм бушевал в его голове; вне всяких сомнений, стабильность этого места была ему на пользу. Уж точно, он безмятежно глядел на подвалы. Несколько надушенных американочек и довольно много попугаячьего лепета из граммофона там, где он родился; один пересказывает что-то другому. Но это неудивительно. Смотритель признал, что известна лишь одна подлинная подпись Шекспира; а все остальное, книги, мебель, картины и так далее, исчезло? Сейчас я думаю, что Шекспиру очень посчастливилось, ему не мешала слава, его гений покинул оболочку и все еще находится в Стратфорде. В театре, насколько я помню, играли «Как вам это понравится».
Тупицы-биографы не могут извлечь ни запаха, ни мелодии из Нового Места. Мне кажется, я смогла бы. Тот же смотритель сказал нам, что после смерти правнучки устроили распродажу, так почему бы некоторым вещам не потеряться, как он сказал, не попрятаться, а потом не выйти на свет Божий? Вот и королева Мария, супруга Карла I, побывала тут, в Новом Месте, с внучкой (?), что показывает, как все реально. То, о чем он рассказал нам, мне было неизвестно. И он сказал, Гаскелл, священник, жил в своем доме по другую сторону сада, который доходит почти до самой церкви, но его снесли, так как люди все время заходили и просили показать дом Шекспира. А здесь (между окном и стеной) была комната, в которой он умер. Теперешняя шелковица как будто побег от той, что росла под окном Шекспира. В саду, который открыт для всех, большие клумбы синих, желтых, белых цветов; там гуляют и отдыхают живые люди.
Пятница, 18 мая
Я сорвалась, заложив ирландские документы в старую книгу, почувствовала как будто, что дрожу. Иначе и быть не могло, сказала я себе, после отдыха; но это была — инфлюэнца. Пришлось забыть обо всех идеях — о «Паргитерах», о великолепном трудном финале книги: все вытеснила лихорадка; неделю назад я оказалась в постели, а на Троицын день мы отправились в Монкс. Самое удивительное, что я пишу это золотым «Вотерманом», и у меня есть идеи, как заменить им стальной «вулворт». День солнечный, роскошный. Птицы пиликают в гнездах, полагаю, и каркают на деревьях, а по утрам пораньше оглашают окрестности долгими песнями, которые я слушаю в постели. Мне слышно, как Л. с Перси ходят по саду. Покой и комфорт, благодаря отсутствию Нелли, которую заменила молчаливая и бескорыстная Мэйбел. Кстати, мы обходимся без прислуги; мы свободны, безмятежны, ах, какое блаженство! Итак, если у меня получится вытащить голову из трясины, то во вторник вернусь к трехмесячному погружению. Но еще день-два отдохну. Какой же я стала бесконечно скромной, и разочарованной, и неамбициозной — все из-за инфлюэнцы. Не могу поверить, что кто-то приедет навестить меня, не говоря уж о том, что я буду в состоянии нацарапать хотя бы дюжину слов. Но самоуверенность, размышления, благословенные иллюзии, благодаря которым мы живем, возвращаются; очень постепенно. Прозрачная ясность — первая стадия, и я не собираюсь прерывать ее писанием.
Вторник, 22 мая
Наконец-то сегодня, то есть во вторник, после того как я отчаянно старалась зажечь спичку — ох, я была переполнена непреклонностью и пустотой — загорелся огонек. Возможно, я выдохлась. Я о том, как дьявольски трудно начать седьмую часть после инфлюэнцы. Эльвира и Джордж, или Джон, разговаривают в ее комнате. Нас все еще разделяют многие мили, но мне показалось, что сегодня утром я нашла правильный тон. Эту запись я делаю из предостережения себе. Сейчас очень важно не торопиться; постоять немного; не гнать; полежать, чтобы тихий подсознательный мир заполнился людьми; нельзя, чтобы с губ у меня падала пена. Нет никакой спешки. У меня достаточно денег до конца года. Пусть книга выйдет в июне следующего года, время еще есть. Последние главы должны быть богатыми, итоговыми, все соединяющими, поэтому каждое утро я мысленно просматриваю всю книгу. Нет больше нужды мчаться вперед, поскольку повествовательная часть закончена. Остается сделать ее побогаче и постабильнее. Последняя глава должна быть эквивалентной первой книге по продолжительности, важности и емкости; и должна, если уж на то пошло, показать другую сторону, затопленную. Полагаю, я не буду ее перечитывать; подведу итог — чай, смерть, Оксфорд и так далее — по памяти. В целом книга зависит от того, как это все сцепится друг с другом, я должна много отдыхать, быть терпеливой, ухаживать за своей несколько скрипучей головой и вовремя баловать ее французами.
Понедельник, 11 июня
Эта обнадеживающая страница читается сейчас как слишком легковерная, поскольку все началось опять, и в пятницу меня снова затрясло, мне было больно пошевелиться, когда я разговаривала с Элизабет Боуэн; 101; постель; инфлюэнца; так целую неделю до воскресенья, если быть точной; а потом Родмелл; там я снова взялась за главу, и на меня неожиданно посыпались идеи, а потом была опера, соловей пел на падубе, Кристабель[175] и мистер Олаф Гамбро рассказывали о Королеве и Принце; очень жаркий концерт вчера, так что я не могу, нет, не могу писать сегодня. Терпение, как говаривал Карлейль (на итальянском). Но только представить — вся система настроена на конец, и всего лишь одно легкое движение, одна поздняя вечеринка, один слишком напряженный день — и нет порыва, нет мыслей. А как ясно все виделось; очень замысловатые сцены; сплошные контрасты; строительство; подождем до завтра.
Понедельник, 18 июня
Очень, очень жарко: день изменился, так что я выходила после чая. Засуха во всем мире. Слава богу, пошла работа над «Здесь и сейчас». Все же я пока очень осторожна; только что написала сцену Рэя и Мэгги; знак того, что я что-то могу, но мне еще надо подготовиться к французскому, так как Жани придет в пять.
Пятница, 27 июля
Ух — наконец-то покончив с этим совершенно ужасным днем, с Вортингом[176] и мистером Фиарсом, целый час представлявшим после обеда лейбористскую партию, я свободна и могу начать последнюю главу; благословенное Провидение не осушило колодец, идеи поднимаются во множестве, и если они останутся такими же разными, вольными и сильными, то у меня будут два месяца полного погружения в них. Странно, как творческая сила неожиданно вносит порядок во Вселенную. Я вижу день целиком в нужных пропорциях — даже после долгой вибрации мозга, какая у меня была утром, наверное, это физическая, нравственная, интеллектуальная необходимость, которая заводит мотор. Ужасно ветреный и жаркий день — неистовый ветер в саду; все июльские яблоки на земле. Я собираюсь позволить себе удовольствие и сотворить серию быстрых точных контрастов, по обыкновению разбивая свои заготовки, насколько возможно. Хочу экспериментировать. Сейчас, к сожалению, не могу писать в дневнике, не могу писать письма, не могу читать, потому что я вся в работе. Наверное, Боб Т. был прав в своем стихотворении, когда назвал меня удачливой, — я хочу сказать, у меня есть разум, который может выразить нечто, — нет, я хочу сказать, что я могу мобилизовать себя, — я научилась выкладываться полностью — я хочу сказать, что я до какой-то степени заставляю себя ломать форму и находить новую форму существования, то есть выражение того, что я чувствую или думаю. Итак, когда это работает, у меня есть ощущение максимума энергии — ничто не останавливается. Но это требует постоянного усилия, возбуждения и порыва. В «Здесь и сейчас» я разбиваю форму «Волн».
Четверг, 2 августа
Меня расстроили последние главы. Неужели все остальное так же визгливо и многословно? Они слишком длинные, и все время приливы и отливы изобретательности. За божественно счастливым днем следует несчастливый.
Понедельник, 7 августа
Довольно дождливый Банковский выходной. Чай с Кейнсом. Мэйнард без зубов, но очень изобилен. Например: Да, я был три недели в Америке. Невыносимый климат. В нем как будто собрали недостатки всех климатов. И это подтверждает мою теорию климата. В Америке никто не может создать ничего великого. Весь день потеешь, а потом тебе в лицо летит всякая мразь. Ночи такие же жаркие, как дни. Никто не спит. Из-за климата все целый день на бегу. Я привык с ходу диктовать статьи. И чувствовал себя отлично до самого отъезда. «Итак, о политике Германии». Они делают что-то странное со своими деньгами. Пока я не понимаю. Возможно, евреи вывозят свой капитал. Представьте, если 2000 евреев вывезут по 2000 фунтов каждый — в любом случае они не смогут оплатить ланкаширский счет. Немцы всегда покупали хлопок в Египте, но пряли его в Ланкашире; счет невелик, всего полмиллиона, но заплатить якобы нечем. Но они постоянно покупают медь. Зачем? Несомненно, для оружия. Это один из классических примеров международной торговли. 20 000 безработных. Конечно же, что-то за этим кроется. Какова причина финансового кризиса? Они делают нечто несуразное. Никакого государственного контроля за военными.
(А я все время думала, чем закончить «Здесь и сейчас». Мне нужен хор, общее утверждение, песня для четырех голосов. Что делать? Я уже почти добралась до конца в своей гонке; повествование становится все более и более драматичным. Как перейти от разговоров к поэзии, от частного к общему?)
Пятница, 17 августа
Итак, полагаю, благодаря неожиданным бессонным ночам, или, скорее, ранним утрам, мне кажется, я вижу финал «Здесь и сейчас» (или «Музыки», или «Зари», или как бы это ни называлось): заканчивается тем, что Эльвира выходит из дома и говорит: Зачем я завязала узелок на носовом платке? а вокруг катятся монеты…[177]
Будут сплошные разговоры — никакой игры. Я уже набросала, что каждый скажет; и закончится это ужином в нижней комнате. Думаю, с самой трудоемкой частью покончено. Похоже, получается 850 моих страниц, то есть 200 обычных, и 170 000 слов, из которых останется 130 000.
Вторник, 21 августа
Урок, выведенный из «Здесь и сейчас», заключается в том, что в пределах одной книги надо пользоваться всеми «формами». Поэтому следующими, не исключено, будут поэма, реальность, комедия, пьеса; повествование, психология — все в одном. И очень коротко. Надо подумать, пьеса о Парнеллах или биография миссис П.
Четверг, 30 августа
Если я не в состоянии даже писать дневник, потому что занята последними сценами, то как я могу читать Данте? Невозможно. Три дня напряженной работы, и теперь я вновь, кажется, погружаюсь в нее. Сегодня к чаю придет Робсон, а Вулфы — завтра; и… еще одна неудача с речью Эльвиры… «Знаешь, что у меня было в кулаке весь вечер? Монеты».
Как бы то ни было, мне хватает материала, чтобы продолжать главу; скажем, еще две-три недели. Вчера я нашла новую дорогу для прогулок, новую ферму между Ашемом и Тарринг-Невиллом. Очень красиво, совершенно безлюдно, позади поднимается гора. Возвращалась по берегу злой глубокой полноводной реки серого цвета. Выглянул дельфин и нырнул обратно. Пошел дождь. Уродство скрылось за ним. Пейзаж словно восемнадцатого века, к счастью, помог мне меньше думать об Уилмингтоне.
После чая настоящая буря с градом; как белый лед; ледяные кусочки; пронзают, бьют; бичуют землю. Такое уже было несколько раз; черные тучи, пока мы играли Брамса. За все лето ни одного письма. Думаю, в будущем году их будет много. Мне все равно; день, я имею в виду вчерашний день, был очень славным: писала; гуляла; читала, Дисон…. Сен-Симон, предисловие Генри Джеймса к «Портрету дамы» — очень умное…. но пара мыслей мне известна; потом «Дневник» Жида, полный удивительных воспоминаний, — многое я тоже могла бы сказать.
Воскресенье, 2 сентября
Не помню, чтобы я когда-нибудь так волновалась из-за книги, как теперь, когда пишу конец — «Зари». Неужели слишком напыщенно, сентиментально? Я писала, как — забыла слово вчера; у меня горели щеки; дрожали руки. Сочиняю сцену, когда Пегги слышит их разговор и взрывается. Меня это тоже взбудоражило. Наверное, даже слишком. Никак не могу найти естественный переход к речи Эльвиры.
Среда, 12 сентября
В воскресенье умер Роджер[178]. Завтра мы отправимся, следуя какому-то инстинкту, на похороны. Я как в тумане; будто окостенела. Женщины плачут, Л. говорит; но я не знаю, почему я плачу — в основном вместе с Нессой. И я совсем поглупела, чтобы что-нибудь писать. Голова отупевшая. Думаю, нищета жизни — это то, что сейчас пришло ко мне; и черная вуаль на всем. Очень жарко; дует ветер. Ни в чем нет смысла. Не думаю, что это преувеличение. Надеюсь, все вернется. В самом деле, у меня время от времени появляется огромное желание жить, видеть людей, сочинять, правда, сейчас мне трудно сделать над собой усилие. И я не могу написать Хелен[179]; нет, надо закрыть тетрадь и взяться за письмо.
Мопассан о писателях (думаю, он прав); «En lui aucun sentiment simple n’existe plus. Tout ce qu’il voit, ses joies, ses plaisirs, ses souffrances, ses désespoirs, deviennent instantanément des sujets d’observation. Il analyse malgré tout, malgré lui, sans fin, les coers, les visages, les gestes, les intonations»[180].
Вспоминаю, как я отвернулась, стоя у постели матери, когда она умерла и Стелла[181] потихоньку привела нас посмеяться над тем, как плачет няня. Она притворяется, сказала я, мне было тогда тринадцать, и я испугалась, что почти ничего не чувствую. Вот так.
Темперамент писателя.
Sur l'eau[182].
«Ne jamais souffrir, penser, aimer, sentir, comme tout le monde, bonnement, franchement, simplement, sans s’analyser soi-même après chaque joie et après chaque sanglot»[183].
Суббота, 15 сентября
Я рада, что мы пошли в четверг на службу. День был по-летнему жаркий. Все оказалось очень просто и достойно. Музыка. Никто не произнес ни слова. Мы сидели перед открытыми дверьми в сад. Цветы и прогуливающиеся люди; Роджеру это понравилось бы. Он лежал, укрытый старой красной парчой с двумя полосами разных и ярких цветов. Это очень сильный инстинкт быть рядом со своими друзьями, я думала о нем в перерывах. Достойный, честный, большой — «большая нежная душа» — что-то музыкальное и зрелое о нем — потом смешное и факт, что он жил разнообразно, щедро и с любопытством. Я думала об этом.
Вторник, 18 сентября
Мне нравится писать сегодня утром, потому что это снимает напряжение с губ. Холодный скучный день после такого сверкания. Сейчас у нас Грэхем и миссис В., а потом покой: и конец книги? Ах, если бы так! Но мне кажется, до этого еще десять миль — далеко — если честно, я очень устала.
Я подумала, будто смогу описать потрясающее чувство, испытанное мною на похоронах Р.; но, конечно же, я не могу. Я имела в виду универсальное чувство; как мы все боремся с нашими мозгами, любовями и всем прочим; и должны побеждать. А потом победитель, то есть внешняя сила, становится очевидной; безразличной, а мы — такими маленькими, нежными, хрупкими. И ко мне пришел страх смерти. Естественно, я тоже лягу тут перед дверьми и соскользну вниз; это испугало меня. Но почему? Я хочу сказать, что почувствовала, как на этом фоне не нужны ни вечная борьба, ни мозги, ни любовь друг к другу; если Роджер смог умереть.
А потом, на другой день, и сегодня, во вторник, неделей позже, началось совсем другое — экзальтированное ощущение, будто я над временем и над смертью, и оно явилось, потому что я вновь могу писать. И это не иллюзия, насколько я понимаю. Конечно же, у меня твердое убеждение, что Роджер был бы на моей стороне, но, что бы ни делала невидимая сила, мы сами по себе. Получила чудесное письмо от Хелен. Сегодня мы отправляемся в Вортинг…[184]
Воскресенье, 30 сентября
Последние слова безымянной книги были написаны десять минут назад, в общем-то спокойно. 900 страниц. Л. говорит, что это 200 000 слов. Боже мой, сколько предстоит переделок! И все же такое блаженство поставить последнюю точку в последней фразе, даже если многие из фраз будут вымараны. Как бы то ни было, остов есть. На него ушло немного меньше двух лет; на несколько месяцев меньше, так как вмешался «Флаш»; следовательно, эта книга была написана быстрее, чем все остальные. Изобразительная часть писалась особенно быстро. И должна сказать — или я всегда это говорю? — с большим воодушевлением; но не совсем прежнего свойства. Ибо я была менее самоуглублена, чем обычно. Никаких «красивостей»; диалог намного проще; но большое напряжение, потому что одновременно надо было держать в голове много мелких ответвлений, но чтобы ни одно из них не давило на остальные. В конце ни слез, ни возбуждения; но, надеюсь, мир и простор. Так или иначе, если я умру завтра, строчка уже есть. И я свободна; переписывать начну завтра. Впрочем, это не совсем свобода, ибо надо продолжать «творить». Здесь есть напряжение — это новое; но я подозреваю, что последние двадцать страниц немного провисли. Придется еще сводить концы с концами. Но у меня нет идеи, как все…[185]
Вторник, 2 октября
Все правильно, но моя голова никогда не даст мне торжествовать по-настоящему; всегда уложит меня в постель. Вчера утром появились знакомые искры, а потом острая, очень острая боль в глазах; так что мне пришлось сесть, а потом и пролежать до самого чая; не гуляла; не думала ни о победе, ни об освобождении. Л. купил мне маленькую походную чернильницу, чтобы поздравить меня. Жаль, не могу думать о названии. «Сыновья и дочери»? Кажется, уже было. Как много нужно еще сделать в последней главе, что я, надеюсь, d. v.[186], как говорят в некоторых кругах, надеюсь все же, что начну завтра, пока замазка еще мягкая.
Итак, лето закончилось. До девятого сентября, когда Несса вышла на террасу — я слышу ее крик: «Он умер!» — было настоящее счастливое лето. Ох уж эта радость — гулять! Никогда еще не ощущала ее так сильно. Каупер Повис, как ни странно, говорит о том же самом, словно в трансе, плывешь, летишь в воздухе; поток чувств и мыслей; медленно сменяемая, незнакомая череда гор, дорог, цветов; все это соединяется в великолепную тончайшую завесу совершенного мирного счастья. Правда, я часто живописала на завесе яркие картины и громко разговаривала. Господи, до чего же много страниц в «Сыновьях и дочерях» — возможно, «Дочери и сыновья» зададут совсем другой ритм, нежели «Сыновья и любовники»[187] или «Жены и дочери»[188] — я сочиняла, произнося это с волнением на вершине холма или на его склоне. Слишком, увы, много домов; шли слухи, будто «Кристи» и «Рингмер Билдинг Компани» покупают ферму Боттена, чтобы что-то строить на ее месте. В воскресенье, когда я шла в Льюис, меня расстроили машины и виллы. Но я вновь обнаружила тайную фермерскую тропинку: Пиддингхоу; это было поразительное разнообразие и очарование — река то свинцовая, то серебристая; корабль — Лондонская служба — плыл по ней; мост. Грибы и сад вечером; луна, как глаз умирающего дельфина; или как апельсин-королек в полнолуние; или начищенная, как стальной кинжал; или лучистая; иногда словно бегущая по небу; иногда висящая между ветвей. Теперь, в октябре, стал опускаться густой мокрый туман, который становится все гуще и непроницаемее. В воскресенье у нас были Банни и Джулиан[189].
Прочитанные или читаемые книги.
Шекспир: Троил, Перикл, Укрощение строптивой, Цимбелин
Мопассан, де Виньи, Сен-Симон, Жид: лишь кусками
Библиотечные книги: Повис, Уэллс, леди Брук, Проза, Добре, Элис Джеймс
Много рукописей — ничего стоящего.
Четверг, 4 октября
На пруду разыгралась буря, и он весь покрыт маленькими белыми колючками; они то появляются, то исчезают; пруд выставил колючки, словно маленький дикобраз; щетина; черные волны; пересекают пруд; черные содрогания; маленькие водяные колючки — белые; суматошный дождь и ели; колючки то поднимаются, то опускаются; с одной стороны вода вышла из берега; листья лилий дергаются; плывет красный цветок; один лист колышется; потом все стихает на мгновение; потом начинается опять; колючки как стеклянные; и все время прыгают, вверх-вниз; быстрая тень. Светит солнце; все зеленое и красное; сияет; пруд серовато-зеленый; красные ягоды на живой изгороди; коровы очень белые; розовое небо над Ашемом.
Четверг, 11 октября
Короткая запись. Сегодня в «Lit. Sup» объявили книгу «Люди как они есть» Уиндхэма Льюиса: главы об Элиоте, Фолкнере, Хемингуэе, Вирджинии Вулф… Теперь я знаю наверняка, я чувствую, что это нападение на меня; что я публично растерзана; от меня ничего не осталось ни в Кембридже, ни в Оксфорде, ни где бы то ни было еще, где молодежь читает Уиндхэма Льюиса. Инстинкт подсказывает не читать, что написано обо мне. И вот по этой причине — ладно, открываю Китса и обнаруживаю: «Похвала и ругань имеют лишь преходящее значение для человека, которого любовь к абстрактной красоте делает жестоким критиком своих трудов. Моя собственная домашняя критика доставляет мне такую боль, о какой даже не помышляют «Блэквуд» или «Квотерли»[190]… Но это всего лишь дань мгновению — я думаю, что, и умерев, останусь среди английских поэтов. Кстати, попытка раздавить меня, предпринятая Квотерли, лишь привлекла ко мне больше внимания».
Вот: думала ли я о том, останусь или не останусь среди английских романистов после смерти? Кажется, я не думала об этом. Почему же тогда мне не хочется читать У.Л.? Почему я так чувствительна? Полагаю, из-за тщеславия: мне не нравится мысль о том, что надо мной смеются: что А., Б., В. с удовольствием узнают о крушении В.В.: к тому же в будущем нападения станут сильнее; может быть, я не уверена в собственном даре; но и тогда я знаю больше, чем знает У. Л.; и в любом случае я собираюсь продолжать свою работу. Я сделаю вот что: тщательно подберу разные высказывания и через год, скажем, когда выйдет моя книга, прочитаю их. Я уже чувствую покой, который всегда снисходит на меня вместе с обидой; я прижалась спиной к стене; я пишу ради того, чтобы писать, и так далее; и, кстати, есть странное позорное удовольствие в обиде — в том, чтобы стать фигурой, мученицей и так далее.
Воскресенье, 14 октября
Беда в том, что я использовала на «Паргитеров» весь свой творческий потенциал до последней унции. Голова не болит (кроме того, что Элли называет типичной мигренью, — она пришла к Л., ему вчера было нехорошо). Я не могу вонзить шпоры себе в бока. На самом деле я планировала романтическую главу, но не получается. Сегодня утром стрела У.Л. пронзила мне сердце: он потрясающе остроумно выставил на посмешище Б. и Б.[191]; меня назвал соглядатайшей, а не наблюдательницей; принципиальной ханжой; но одной из четырех или пяти живущих ныне (как мне показалось) настоящих художников. Вот зачем я собираю порочный материал. (Ах, меня недооценивают! — говорит Эдит Ситвелл.) Ладно: этот комар прицелился и укусил; и, кажется (12.30), боль прошла. Да, как будто все. Вот только я не могу писать. Когда мой мозг оживет? Наверное, дней через десять. Но читать он может замечательно; вчера вечером взялась за «Времена года»… Итак, я хотела сказать, я рада, что мне не нужно, что я не в силах сейчас писать, ведь есть опасность ответить, когда на тебя нападают, — а это совершенно убийственная вещь. Я хочу сказать, убийственная для «Падгитеров», если принять во внимание его критику. И думается, мое открытие двухлетней давности поможет мне самым замечательным образом: рисковать, искать и не позволять себе негибкости; быть уступчивой по отношению к истине. Если в словах У. Л. есть правда, что ж, надо принять ее: не сомневаюсь, я ханжа и соглядатайша. Что ж, живите храбрее, но, ради Бога, не старайтесь меня склонить в ту или иную сторону. Все равно ничего не выйдет. К тому же есть странное удовольствие в обиде, и чувство, что тебя гонят во тьму, тоже приятно и полезно.
Вторник, 16 октября
Сегодня совсем вылечилась. Итак, болезнь под названием У. Л. длилась два дня. Помогли грубовато-добродушная любовь старушки Этель и вчерашнее волнение по поводу купленной блузки; а также глубокий послеобеденный сон.
Сегодня утром пишу.
Ужасно хочется спать. Это возраст? Не могу ничего поделать. И так мрачно на душе. Конец книги. Просматривала старые дневники — иначе зачем их хранить? — и нашла, что у меня было точно такое же состояние после написания романа «Волны» — после написания романа «На маяк». Помнится, в те дни я была куда ближе к самоубийству, серьезно, чем в любое другое время после 1913 года. И это, в конце концов, естественно. Три месяца я проскакала галопом — столь волнующим было для меня погружение в бумажный мир — ну же, режь все — после первого божественного восторга, естественно, остается ужасная пустота. Ничего нет от людей, от идей, от напряжения, от целой жизни, короче говоря, это не давало покоя моей голове, и не только голове; это занимало все мое свободное время; мысли о том, как я привычно и тихо сижу на рельсах, которые проходят по моей книге. Что ж, все равно ничего нельзя сделать еще недели две-три, а то и четыре, разве что баловать себя; стараться ничего не видеть и ни о чем не думать. На сей раз из-за Роджера все сложнее, чем обычно. Вчера мы с Нессой вместе пили чай. Увы, его смерть еще хуже, чем смерть Литтона. Интересно, почему? Глухая стена. Тишина; ужасное оскудение. Это все он!
Понедельник, 29 октября
Читаю «Антигону»[192]. Какая до сих пор мощь в когда-то написанных словах — греческий язык; и чувства совсем другие, нежели пробуждают остальные языки. Я собираюсь читать Плотина; Геродота; Гомера.
Четверг, 1 ноября
Мысли, которые пришли мне в голову, когда я вчера вечером обедала с Клайвом; разговаривала с Олдосом[193] и издателем Кеннетом Кларком.
О жизни Роджера: должно быть написано разными людьми, чтобы показать разные периоды жизни.
Юность — Марджери[194]
Кембридж — Уэдд?
Начало жизни в Лондоне… Клайв, Сиккерт
Блумсбери — Десмонд, В.В.
Поздний период — Джулиан Блант, Хиард и так далее.
Мы с Десмондом это соединим. О романах: другой пласт бытия: верхний, нижний. Знакомая мысль, отчасти использованная в «Паргитерах». Но я думаю о том, чтобы описать это еще подробнее, в частности, в моей критической книге: показать, как разум естественно следует такому порядку в процессе размышления; как это иллюстрируется литературой.
Пора мне писать биографию и автобиографию.
Пятница, 2 ноября
Удалили два зуба с помощью новых обезболивающих лекарств; раз я пишу дневник, то ничего страшного. И у меня другая ручка. Мозги слегка замороженные, как десны. Зубы становятся похожими на старые корни и ломаются. Один сломался, а я почти ничего не почувствовала. Мои замороженные мозги думают об Олдосе и Кларках; отчасти о биографии; о статьях обо мне — о которых я не знаю — думают, что сейчас великолепный холодный день.
Я поднялась наверх пополоскать кровоточащую десну — кокаин действует полчаса; потом все начинается сначала — открываю «Спектейтор» и вновь читаю У.Л. о себе. Ответ Спендеру. «Я не злобствую. Миссис В. некоторые называют Фелицией Хеманс». Полагаю, он показал коготок; но тотчас ввернул — «Не я это говорю — другие говорят». А на следующей странице — как же они высокомерны по отношению к Сиккерту; и вот… Однако Л. считает, что можно пренебречь моим отпором. Правильно; но я, тем не менее, возражаю минут десять; я возражаю против выхода на свет, когда погружаюсь в мою густонаселенную неизвестность. Я должна выплыть сама. Не думаю, чтобы эта атака продлилась больше двух дней. Полагаю, к понедельнику все закончится. Но как же это скучно. И как много неожиданных выстрелов в пустоту. Однако — минутку. В худшем случае, даже если я незначительная писательница, писать я обожаю; и думаю, пишу честно. Поэтому жизнь и дальше будет дарить мне радость, которую я приму или не приму, но по собственному усмотрению. И еще; как мне уравновесить мнение У. Л. с мнением Йейтса — не говоря уж о Голди и Моргане? Чувствовали бы они что-нибудь ко мне, будь я такой незначительной? В два часа ночи у меня появилось великолепное ощущение силы (езды в темноте). У меня есть Л., есть книги; есть наша общая жизнь. И наконец-то нет недостатка в деньгах. И… если бы я на время могла совершенно забыть о себе, о рецензиях, о своей славе, о своем положении в ряду писателей — которое обязательно придет теперь и продлится 8–9 лет, — тогда я была бы тем, чем главным образом являюсь; подвижной, радостной, любопытной, напористой. Странные, поразительные взлеты и падения; если сравнить с американцами в «Меркурии»… Нет, ради бога, никаких сравнений; пусть все похвалы и вся ругань уйдут на дно или всплывут на поверхность, но не мешают мне идти моим путем. И любить людей. И давайте летать, в жизни, вне зависимости от того, на какой вы стороне.
Полагаю, это очень разумно. Все кончено и забыто.
Сейчас самое главное (1) вопрос о биографии Р.[195] Приехала Хелен[196]. Говорит, и она и М.[197] хотят этого. Итак, я жду. Что я чувствую? Я должна быть свободна, тогда есть шанс написать биографию; великолепный трудный шанс — это лучше, чем искать объект, — но если я свободна.
Среда, 14 ноября
Сегодня четверг, 15 ноября, 10.30 утра; собираюсь взяться за перечитывание и переписывание «Паргитеров»; ужасное мгновение.
12.45. Ну вот, страшный шаг сделан, и я начала переписывать «Паргитеров». Боже, Боже! Десять страниц в день — 90 дней. Три месяца. Эта вещь должна стать меньше; каждая сцена — должна стать сценой; больше драматизма; контраста; в каждой доминирует что-то одно; некоторые будут обобщены. Так или иначе, это выпустит на волю поток и докажет, что лишь искусство способно придать ему пропорции: итак, чертовски неприятно, как я провижу — отжимать разбухшую массу — вновь понадобятся мозги, и забыты все мухи и блохи.
Кстати: я в отчаянии от того, как плохо написала книгу; не могу понять, неужели я это натворила — да еще с такой радостью; это вчера; сегодня она опять кажется мне хорошей. Кстати, может послужить другим Вирджиниям с другими книгами утешением, что так оно всегда бывает: вверх-вниз, вверх-вниз; истина известна только Богу.
Среда, 21 ноября
В воскресенье к чаю — Марджери Фрай. Долгий спор насчет книги о Роджере: не очень продуктивный. Она говорит, что хочет получить от меня исследование творчества, усиленное главами о других аспектах. Я говорю: хорошо, но такие книги нечитабельны. О, конечно же, я не хочу лишать вас свободы, говорит она. Должна же я что-нибудь рассказать о его жизни, говорю я. Семья… Знаешь, боюсь, мне придется попросить тебя быть осмотрительной, говорит она. В заключение — она должна написать в «Н.С.» и попросить его письма, чтобы я просмотрела их, после чего мы все обсудим — полагаю, это растянется на много месяцев. Я планирую работу над «Паргитерами» и одновременно чтение бумаг Роджера, чтобы к следующему октябрю начать писать, если это будет решено. И что?
Понедельник, 2 декабря
Не странно ли? Несколько дней я совсем не могу читать Данте после работы над «Паргитерами»: а в другие дни, наоборот, он очень помогает мне и возвышает меня. Вытаскивает из массы слов. Однако сегодня (я работала над сценой в Доме) я слишком радуюсь. Сегодня я считаю, что написала хорошую книгу. Опять я как в пекле. Но я остановлюсь, как только допишу сцену похорон; и успокою свои мозги. Кстати, напишу рождественскую пьесу: «Новообращенный», фарс — шутки ради. И сооружу статью для своей «Современной критики», и огляжусь. Дэвид Сесил о литературе: хорошая книга для читателей, но не для писателей — слишком элементарная; но есть точные замечания, снаружи. С такой критикой я, однако, покончила. И он часто ошибается: неправильно понимает, как я думаю, W.Н.; хочет вывести абсолютную теорию. Мы — блумсберийцы — мертвы; так говорит Джоад. Плевать мне на него. Литтон и я — исключения. Бедняжка Фрэнсис[198] в это дождливое утро лежит в отеле на Расселл-сквер. Я пошла посидеть с ним. Такой же, как всегда, лишь шишка на лбу. И все понимает. Может умереть во время следующей операции или медленно закостенеть в полном параличе. Может отказать разум. Он все знает, и это стояло между нами, пока мы обменивались шутками. Пару раз он был на грани. Но я сейчас ничего не могу чувствовать — после смерти Роджера. Не могу проходить через это еще раз. Так получается. Я поцеловала его. «В первый раз — такой целомудренный поцелуй», — сказал он. Я поцеловала его еще раз. Но я не должна плакать, подумала я, и ушла.
Среда, 18 декабря
Вчера разговаривала с Фрэнсисом. Он умирает: у него нет сомнений. Изменилось разве что выражение лица. Нет надежды. Служитель говорит, что он каждый час спрашивает, как долго это будет продолжаться, и ждет конца. Он был в точности таким, как всегда: никакого бреда, никакой непоследовательности. Хвала Афинам. Душа заслуживает бессмертия, как сказал Л. Мы вернулись, счастливые, что живы. Каково это — лежать в ожидании смерти? как ужасна и как непонятна сама смерть. Я пишу торопливо, потому что собираюсь на концерт Анджелики; прекрасный тихий день.
Воскресенье, 30 декабря
Так как я забыла свою тетрадь, то пишу на отдельных страничках. Год заканчивается: проклятый лай собак; я сижу в моем новом домике; и сейчас не более и не менее, как 3.10, и идет дождь; у коровы ишиас; и мы отправляем ее в Льюис, чтобы самим сесть там в поезд, идущий в Лондон; после этого мы пьем чай в Чарльстоне, играем пьесу и обедаем. Это было, должна сказать, самое мокрое Рождество, но я наверняка преувеличиваю, не зная официальных данных. Еще вчера мне удалась лишь иллюзорная прогулка по ферме; но, слава богу, после Рождества прекратился дождь и собаки мисс Эмери перестали лаять.
Глупо было приезжать сюда без дневника, зная, что каждое утро, когда я заканчиваю с «Паргитерами», у меня полна голова идей. Очень интересно их записывать. Текст я переделываю основательно. Моя идея — соединить сцены; сделать все напряженнее и короче; потом драма; потом повествование. И везде нужно держать ритм и делать правильные повороты. Как бы то ни было, книга получается очень разнообразной. Думаю, ее надо назвать «Обыкновенные люди». Я закончила, более или менее, с Мэгги и Сарой, с первой сценой в спальне: как радостно мне писалось! Но не осталось ни одной из первоначальных фраз. Ничего, мне кажется, у книги появилась душа. Написала примерно страниц шестьдесят, прежде чем поймала ее. Возвращаясь назад, вижу, как она прыгает, будто желтая канарейка на своей жердочке. Мне хотелось сделать М. и С. храбрыми персонажами и показать это с помощью диалога. Потом переход к визиту Мартина к Элеоноре: потом долгий день, заканчивающийся смертью Короля. Я выбросила страниц 80 или 90, в основном из-за путаницы в страницах.
Конец года: Фрэнсис умирает в частной лечебнице в Коллингхэм-плейс. Я вижу выражение его лица: словно он понял, что такое одинокая печаль. Смерть — мысль о том, как лежишь там одна, глядишь на это, когда тебе 45 или около того, и чувствуешь великое желание жить. «Итак, «Нью стейтсмен» прогрессирует на глазах, не правда ли?» — «А он умер» (о Бримли Джонсоне), с некоторым раздражением. Это всё не точно.
Все-таки мы тут, с коровой, которая хромает, и с собаками; как всегда, очень счастливы, полагаю; переполнена идеями, Л. заканчивает свое утреннее «Quack Quack»; обезьянка Зет ползет с кресла на кресло — ворча, на его голову.
А Роджер мертв. Надо ли мне писать о нем? Придется пошевелить тлеющие угли — я имею в виду желание разжечь настоящий огонь. Итак, надо готовиться к поездке в дождь. Собаки все еще лают.
1935
Вторник, 1 января
Пьеса[199], в общем-то, ерундовая; однако я не собираюсь делать над собой усилие и производить хорошее впечатление как драматург. А еще у меня была прекрасная прошлогодняя прогулка (вчера) вокруг долины, но по новой дороге, и я встретила мистера Фрита, мы поговорили о дороге; а потом я отправилась в Льюис, где взяла машину до Мартина, после чего вернулась домой и читала святого Павла и документы. Надо купить Ветхий Завет. Я читаю Деяния апостолов. Наконец-то закрываю темное пятно в своем образовании. Что произошло в Риме? Есть еще семь томов Ренана. Литтон называл его «медоточивым». Йейтс и Олдос недавно согласились, что главная цель их творчества — избежать «литературности». Олдос рассказал, каким незыблемым «литературный» идол был среди викторианцев. Йейтс заметил, что хотел бы пользоваться словами обычных людей. Эта перемена в нем произошла, пока он писал пьесы. А я возразила, покраснев, что все равно смысл его сочинений остается трудным для понимания. Что такое «литературность»? Довольно интересный вопрос. Можно было бы заняться им, если бы я задумывала критическую книгу. Но сейчас мне хочется написать о том, как быть презираемым. Мой мозг качает идею за идеей. И мне надо закончить «Обыкновенных людей»; потом Роджер и презираемые. О Роджере начну в октябре 1935 года. Получится ли? В октябре опубликую «О. л.»; и в 1936 году буду работать над двумя темами. Помоги мне. Боже! Работы много — помня, что мне будет 53–54–55. Идеи внушают радость! И рядом есть люди.
Пятница, 11 января;
Такое начало для нас всех неожиданность. Очень ветрено; сегодня; два дня назад прогулка в густом тумане до Пиддингхоу. Сейчас побеждают мужчины. Вчера — Несса, Анджелика и Ева. Мы много говорим о пьесе. Забавно. Придется где-то взять ослиную голову — как говорится, ослиная работа. Я выяснила, что сократила «Караван» (новое неожиданное заглавие) до 150 000 слов; закончу печатать в мае. Посмотрим. Полагаю, он ужат достаточно. Иногда мне кажется, что мой мозг расколется от всех идей, которые я вроде бы должна заложить в книгу. Открытием в ней, если у меня получилось, является соединение внешнего и внутреннего, чем я свободно пользуюсь. В прошлом мои глаза видели слишком много внешнего.
Суббота, 19 января
Пьеса была разыграна вчера вечером, и в результате сегодня утром у меня словно высушенные мозги и я могу использовать эту тетрадь только как подушку. Говорили, естественно, что был большой успех; и мне очень понравилась — что? — похвала Банни; Оливера[200], не столько Кристабели, и не понравилось стоять рядом с аплодирующими Дэвидом, Кори, Элизабет Боуэн; но в целом приятно разок устроить неподдельное веселье. Призрак Роджера постучал в дверь — его портрет работы Чарли Сенгера принесли посреди репетиции. Фрэнсису это понравилось бы, сказал Леонард. Вот они, наши призраки. Они аплодировали нам. Пора спать: ибо теперь, благослови. Господи, мою душу, как говорил Теннисон, я должна прополоскать и освежить мозги, чтобы они заработали всерьез. Есть мой Данте; и Ренан. И начинается ужасный зимний период; бледные неприличные дни, как стареющая женщина в одиннадцать часов утра. Однако сегодня Л. и я пойдем гулять; и для меня это как чудесный баланс в Банке! совершенное счастье.
У меня есть идея для «пьесы». Летняя ночь. Кто-то сидит на скамейке. Голоса говорят из цветов.
Среда, 23 января
Правильно, я должна была объяснить, почему пишу о Сикерте. Вечно такие мысли приходят ко мне с опозданием. Читаю «Королеву фей»[201] — с удовольствием. Я напишу о ней. Пригласила Анджелику пройтись по магазинам. «Ты не возражаешь, если я почитаю «Наследника Редклиффа»?[202] — спросила она за чаем, позабавив меня. Какое странное чувство испытываешь, покупая одежду! Покупаешь пальто ей, мне, слышишь беседы других женщин, как о призовых лошадках, о новых юбках. У меня дрожь во всем теле, потому что завтра ланч с Клайвом; и я буду в новом пальто. Я даже думать не могу о том, что имею в виду под словом «концепция»; идея, возникшая за чтением «Королевы фей». Как выразить естественный переход от состояния к состоянию? И ощущение естественной красоты? Лучше читать первоисточники. Что ж, ланч с Клайвом вытащит меня из этого. Теперь, когда с пьесой покончено, пора повидаться с людьми: посмотреть «Гамлета» и спланировать весеннее путешествие. Две недели отдыха от литературы. У меня мозги завязаны узлом. Как бы заставить Терезу спеть и таким образом сделать сцену лирической? Держись подальше от Т. (названной так предварительно после моих Сары и Эльвиры). О господи, влажные брюки — это выглаженные брюки, которые Джек однажды дал нам: не брюки, а сплошная сырость; на самом деле, сплошная сырость. Читаю «Контрапункт»[203]. Неважный роман. Сырой, неотделанный, протестующий. Наследник, как ни странно, миссис Х. Уорд; интерес к идеям; превращает людей в идеи. Мой американский корреспондент возвращает мои письма и говорит, что счастлив видеть меня такой, какая я есть.
Пятница, 1 февраля
И опять сегодня утром, в пятницу, я чувствую себя слишком усталой, чтобы браться за «Паргитеров». Почему? Полагаю, слишком много болтала. Но ведь мне хотелось «общества»; и я повидалась с Хелен, Мэри, Гиллеттом, Энн. Думаю, «Паргитеры» все же многообещающая книга. Только требует много сил и нервов. Вот и день прошел.
Среда, 20 февраля
Сара — вот настоящая трудность: не могу втащить ее в основной поток, а она очень важна. Проблема из проблем; переходный момент. И груз того, что я не назвала бы пропагандой. У меня ужас после романа Олдоса: надо от него избавиться. Но с идеями не так просто: они не соединяются со всем остальным и мешают творческому подсознательному процессу; полагаю, так оно и есть. Не знаю, сколько раз переписывала сцену в дешевом ресторане.
Вторник, 26 февраля
Великолепный день, небо чистое, мои окна совершенно, на удивление, голубые. Мистер Райли только что починил их. А я все писала и писала и переписывала сцену у Круглого пруда. Теперь хочу ее сократить, чтобы все фразы, составляя естественный диалог, звучали с осмысленным напором. Но мне нужны также абсолютная гармония и контраст — лодки сталкиваются и так далее. Отсюда непомерные трудности. Но, надеюсь, завтра с ними будет покончено, а обед с Китти за городом должны пойти быстрее. По крайней мере, воздушные сцены мне даются легче; и, наверное, правильно, если они будут проще. Но боже, сколько еще работы! До августа я не закончу. А тут еще у меня появилось желание написать антифашистский памфлет.
Среда, 27 февраля
Только что переписала все заново. И говорю себе, что на этот раз получилось удачно. Однако мне известно, что надо бы подкрутить пару гаек и несколько страниц переделать. Слишком тряско: слишком…[204] Очевидно, что один персонаж видит одно, другой — другое; а мне надо свести то и то вместе. Кто это говорил, что через подсознание мысль переходит в сознание, а потом снова возвращается в подсознание?
У меня большое желание прекратить чтение «Королевы фей», чтобы взяться за письма Цицерона и мемуары Шатобриана. Насколько я понимаю, это нормальное качание маятника. Заняться подробностями после обобщенной романтической поэзии.
Понедельник, 11 марта
Как бы мне хотелось, думала я, пока ехала в машине, написать хотя бы одну фразу! Приятно чувствовать, как она прогибается и обретает форму под пальцами! После 16 октября я не написала ни одной новой фразы, лишь переписывала и перепечатывала. Напечатанная фраза немножко другая; во всяком случае, она делается из того, что уже есть: она не выпрыгивает, свеженькая, из головы. Однако перепечатка продолжается и будет продолжаться, полагаю, до августа. Пока я еще только на первой военной сцене: при удачном стечении обстоятельств я перейду к Э. на Оксфорд-стрит, прежде чем мы уедем в мае, а июнь и июль посвящу грандиозному оркестровому финалу. Потом, в августе, снова начну писать.
Суббота, 16 марта
За короткий срок три жестоких удара: Уиндхэм Льюис; Мирский; и вот теперь Суиннертон. Блумсбери осмеян; я уничтожена вместе с ним. Я не читала У. Л.; и Суиннертон для меня, что малиновка перед носорогом — но только не поздно ночью. Я совсем не унываю, но стала фаталисткой; мне все равно и не все равно; у меня получился хороший роман; я устала сегодня утром; мне нравится, когда меня хвалят; у меня множество идей; Том (Элиот) и Стивен (Спендер) пришли к чаю, а Рэй (Стрэчи) и Уильям (Пломер) — к обеду; и я забыла рассказать об интересном разговоре с Нессой по поводу моих замечаний насчет ее детей; и я пропустила (не помню что). Сегодня я ничего не соображаю и едва могу читать Осберта о Брайтоне, не говоря уж о Данте.
В «Таймз энд Тайд» за последнюю неделю преподобный Джон Эрвин назвал Литтона «рабски мыслящим человеком… Пандаром»[205], или примерно так. Я подумала, что если я напишу о Роджере, то почему бы мне не включить туда несколько слов, саркастических слов о тех, кто не дает покоя Блумсбери? Да, все-таки да. Надо им ответить — другого способа нет.
Понедельник, 18 марта,
Единственное, что имеет смысл делать с этой книгой, — терпеть ее: защищать идею и ни на дюйм не снижать уровень, кто бы и что бы ни говорил. Странно, как все это уходит от меня, а потом возвращается с новой силой; насмешки Суиннертона и Мирского — из-за них я чувствую себя ненавидимой, униженной, осмеянной — что ж, ответ может быть лишь один: я стою за свои идеи. Как бы я хотела, чтобы мне никогда не приходилось читать о себе или думать о себе, по крайней мере, пока не сделано дело; глядеть липы, на свой объект и думать лишь о том, как выразить его. Ах, как трудно воплощать свои идеи и постоянно выставлять напоказ свой мозг, открытый и напряженный в пылу творчества, беззащитный перед пагубными влияниями извне. Если бы я не чувствовала так глубоко, мне было бы легче идти дальше.
Только что написала письмо о Блумсбери и не могу контролировать свой мозг настолько, чтобы продолжать «Паргитеров». Проснулась ночью и думала об этом. Не знаю, посылать письмо или не стоит. Нет, надо думать о чем-нибудь еще. Вчера — Джулиан и Хелен.
Л. посоветовал мне не посылать письмо, и через пару мгновений я поняла, что он прав. Лучше будет, сказал он, если мы сможем сказать, что не ответили. Однако мы предоставляем им комического гида по Блумсбери, Моргана, и он заколебался.
Четверг, 21 марта
Вновь слишком измучена, чтобы браться за густонаселенную главу. В самом деле, я на грани обычной головной боли — хотя бы потому, что вчера была ужасная суматоха.
Я решила оставить проклятую главу здесь и в Родмелле ничего не делать. Как я понимаю, читать я тоже не могу; мой мозг похож на тугой клубок струн. Самый неприятный вариант головной боли; надеюсь, она скоро пройдет. Нужна какая-нибудь перемена. Это не настоящая тяжелая головная боль. Зачем писать об этом? Потому что я не могу читать и пишу, словно напеваю песенку. Бессмысленная песенка! Уже весна.
Понедельник, 25 марта
Сегодня утром хоть и в ярости, но все же вновь переписала проклятую главу, в приступе отчаяния, и думаю, сделала правильно, разбив мысль перескакиваниями с одного на другое и многочисленными вводными словами. Убираю от 20 до 30 страниц.
Среда, 27 марта
Кажется, мои записи становятся регулярными. Все дело в том, что я не могу переходить от «Паргитеров» к Данте, не имея некоего мостика. А дневник охлаждает мой мозг. Я несколько расстроена сценой налета: но боюсь ее ужимать, боюсь испортить. Ничего. Вперед, а там видно будет.
Вчера мы отправились в Тауэр, впечатляющую, убийственную, кровавую, серую, заселенную воронами военно-казарменную тюрьму-темницу: тюрьму английского величия; исправительное заведение на задах истории; где мы стреляли, пытали и держали в неволе. Узники царапали свои имена, очень красиво, на стенах. И сверкали драгоценные камни короны, безвкусно; и там были представители разных слоев общества, например спинкс[206]и ювелиры с Риджент-стрит. Мы видели учения шотландской гвардии; и офицер тигриной походкой прохаживался то в одну, то в другую сторону — с восковым лицом, с головой, как колодка для париков, вымуштрованный изображать бесстрастие. Зато главный сержант орал и ругался. Сплошной хриплый ор; мужчины маршировали и останавливались, как — машины; потом офицер тоже что-то прорычал: рисуясь, отрывисто, не по-человечески. Унижающее и оглупляющее зрелище. Тем более в сочетании с серыми стенами и выложенной булыжником площадью, местом казни. Люди сидят на берегу реки между старыми пушками. Лестницы, и так далее, очень романтические: ощущение темницы.
Понедельник, 1 апреля
С такой скоростью я никогда не закончу Purgatorio[207]. Но какой смысл не в полную силу читать Элеонору и Китти? Эта сцена требует сокращения. Она слишком жидкая. И мне нужно закончить ее до отъезда. Мы решили уехать на три недели в Голландию и Францию; потом самолетом добраться до Рима и провести там неделю. Вчера были в Кью, и если необходимы огородные справки, то отмечаю, что вчера вовсю цвели вишни, груши и магнолии. Великолепный белый цветок с черной чашечкой; еще один с розовыми пятнышками упал чуть ли не на наших глазах. Еще и еще. Желтые кусты и бледно-желтые нарциссы в траве. Так бы и идти по Ричмонд — долгой дорогой мимо прудов. Я выверяю детали.
Вторник, 9 апреля
Вчера встретила Моргана в Лондонской библиотеке и испытала взрыв чувств.
— Вирджиния, дорогая, — сказал он.
Мне понравилась эта милая фамильярность.
— Ведете себя как паинька и берете книги о Блумсбери? — спросила я.
— Да. Послушайте. Моя книга есть? — спросил он мистера Мэннеринга.
— Мы только что зарегистрировали ее, — сказал мистер М.
— Знаете, Вирджиния, я тут в комитете, — сказал Морган. — Мы обсуждали, разрешать ли дамам…
Мне пришло в голову, что они собираются пригласить меня и я должна отказаться:
— Вы ведь разрешаете. Помните миссис Грин?
— Да, да. Миссис Грин. И сэр Лесли Стивен сказал, больше ни за что. Она была такой беспокойной. А я сказал, разве дамы не стали другими? Но они все уперлись. Нет, нет, нет, никаких дам. И слышать не хотят о дамах.
Смотрю, как у меня дрожит рука. Я была такой злой (и очень усталой), а мне пришлось стоять там и будто наяву наблюдать эту унизительную сцену. Я представляла, как, возможно, М. упомянул мое имя, а они сказали: нет-нет-нет; никаких дам. Но я заставила себя успокоиться и ничего не ответила, а сегодня утром, лежа в ванне, придумала заглавие для книги — «Как быть униженной», в которой нужно рассказать — моей приятельнице предложили… какой-то приз — ради нее должно было быть сделано великое исключение — которой, короче говоря, должны были воздать почести — забыла, какие… Она сказала: и они решили, что я немедленно прибегу к ним. Честное слово, они были удивлены моим весьма выдержанным и скромным отказом.
Вы не сказали им, что думаете о них после того, как они осмелились предположить, будто вы сунете нос в их помойку? — спросила я. Ну что вы, ответила она. Я напомню им о М. Паттисоне и скажу, что у симпатии тот же фасад из 700 кирпичей. Я скажу им, что нельзя заседать в комитете, если надо заодно разливать чай, — кстати, сэр Л.С. проводил вечера с вдовой Грин; да, подобные вспышки очень хороши для моей книги; потому что они очевидны; и я вижу, как вставляю их в прелестную ясную рассудительную ироничную прозу. Будь проклят Морган за то, что подумал, будто я приму… Милый старый Морган придет сегодня к чаю и будет сидеть рядом с Берри[208], у которого катаракта.
Завеса в святая святых — не помню, то ли университета, то ли собора, то ли академическая, то ли религиозная — в качестве исключения должна быть поднята, чтобы она получила возможность войти. А как насчет цивилизации? Две тысячи лет мы совершаем нечто, не платя по счетам. Еще не хватает брать с меня взятку. Помойка? Нет. Я сказала, весьма ценя честь, которой… Короче говоря, приходится лгать и класть примочки, какие только есть под рукой, на потревоженную кожу воспаленного тщеславия наших братьев. Правду могут говорить лишь те женщины, чьи отцы были мясниками, оставившими им в наследство свиные фабрики.
Пятница, 12 апреля
Эту напыщенную речь и за год не сделать вполне вразумительной. И все же в ней есть полезные факты и фразы. У меня неодолимое желание заняться книгой. Однако, похоже, опять приближается головная боль, и сегодня утром меня плохо держат ноги.
Суббота, 13 апреля
Позволю себе заметить, что гораздо разумнее не писать план или набросок «Как быть униженной», название может быть другое, пока я не закончу с «Паргитерами». Сегодня утром хваталась то за одно, то за другое, пытаясь кое-что сотворить, но сделала интересное открытие — нельзя одновременно распространять идеи и писать художественную прозу. И если художественной прозе опасно быть рядом с пропагандой, я должна держать руки чистыми.
Как бы то ни было, я почти засыпаю после зоопарка и Уилли. Но он все же подбросил несколько угольков в мой костер: ужас легализованной профессии; огромное богатство; связанные с ней условности; заседание Королевской комиссии; ее тайная старость и так далее; почему бы не посмотреть хотя бы на один день; а медицинская профессия и остеопаты — почему бы не посмеяться над ними? Нет, только не сейчас. Сейчас Альфьери, Нэш и другие знаменитости: как прекрасно я вчера читала в одиночестве. В зоопарке мы видели большую снулую рыбу и горилл; хлынул дождь, тучи; я с неподдельным уважением читала, как Энни С. Свои пишет о своей жизни. Почти всегда в основе автобиография: как правило, всколыхнувшая воображение влюбленность; ибо, не сомневаюсь, у нее нет иллюзий насчет своих книг, которых не сосчитать, но она не может остановиться, не может не рассказывать истории, и они ее очищение — свиньи, бычки — все что угодно. Однако она проницательная и талантливая старая дама.
Суббота, 20 апреля
Сцена сменилась на Родмелл, и я пишу за столом, приспособленным Л. (в подушках); идет дождь. Хорошая пятница была насквозь обманчивой — дождь и опять дождь. Я все же отправилась погулять на пруд и увидела бегущего по полю крота — он блестел — и был похож на растянутую морскую свинку. Пинка (спаниель) отправился обнюхать его, но тот успел нырнуть в норку. Сквозь дождь я слышала песню кукушки. Потом вернулась домой и читала, читала — Стивена Спендера: слишком быстро, чтобы обдумать прочитанное; стоит ли останавливаться; читать снова? У него есть легкость и довольно большой запас энергии; и какие-то общие идеи; но они теряются в обычном беспорядке студенческого стола; ему хочется всего, обо всем рассказать, на все вопросы ответить. А мне хочется исследовать кое-какие веши: почему я все делаю, стесняясь своих современников? Неужели это и есть женский угол зрения? Почему так много всего носится в воздухе? Но я знаю свои границы: я не владею логикой, как говорил Литтон. Неужели я инстинктивно не разрешаю своему мозгу анализировать, чтобы это не повлияло на его творческую способность? Полагаю, это не исключено. Ни один творчески настроенный писатель не может до конца понять своего современника. Приятие современного сочинения дело трудное, к тому же не может быть полным, если работаешь примерно в том же направлении. Однако мне нравится Стивен за его попытку схватиться с проблемами. Единственно, он должен окружить себя ими — использовать некую ценностную категорию как магнит, но и тогда это дело спорное: ведь можно не соответствовать его классификации. Однако я прочитала его, как уже сказала, залпом, не настраивая свои мозги на спор. Такой метод весьма плодотворен: потом можно вернуться и поанализировать.
Суббота, 27 апреля
Всякое желание заниматься искусством прозы оставило меня. Не могу представить, что будет; то есть, если точнее, не могу заставить свой мозг исторгнуть хотя бы одну фразу для книги; даже для статьи. Не писание даже, а архитектура не дается мне. Если я пишу один параграф, то должен быть другой и третий. Однако после месячного отдыха я буду прочна и эластична, как, скажем, вересковый корень: поднимутся в небо арки и своды, прочные, словно стальные, и легкие, словно облако — но все эти слова бьют мимо цели. Стивен Спендер требует от меня критического разбора; не могу написать. Не могу достоверно описать миссис Коллетт, в которую мы с Л. влюбились вчера. Женщина, похожая на гончую, со стальными голубыми глазами, в джерси с серебряными точками; совершенно раскованная, вся в острых углах, прямая, вдова сына лорд-мэра, который погиб на ее глазах. После этого у нее был нервный срыв, и ее спасло одно-единственное лекарство — поездка в Гонконг к Белле. По правде говоря, мы не ждали многого; а она высмеяла и юбилей, и лорд-мэра, и рассказала нам о жизни в Мэншн-хаус. Л-м тратит в год 20 000 фунтов из собственного кармана; 10 000 — на полицию; и за 1000 фунтов покупает горностаевую шубу, в которой принимает короля в Темпле. Идет дождь; король проносится мимо, шуба испорчена. Зато свекровь совершенно нормальная, разумная женщина, которая ходит с корзинкой покупать рыбу. Королева подарила ей в знак уважения две большие раковины с выгравированной на них историей Георгия и дракона. К счастью, они оставлены в Мэншн-хаус. Л-м носит тяжелое, из золотого шитья, платье. Это выставление напоказ уродства ужасно — но она была очень мила, и неожиданно я пригласила ее к нам — это, как ей известно, является комплиментом, которого не удостоилась от нас даже королевская семья.
Путешествие в Голландию, Германию, Италию и Францию
Зутфен. Понедельник, 6 мая
Мысли, поразившие меня
Чем сложнее видение, тем невозможнее для него стать сатирой; чем лучше понимаешь, тем сложнее суммировать и вывести уравнение. Например: Шекспир и Достоевский, они не были сатириками. Век понимания; век разрушения — и так далее.
Белчэмбер
Движение по-своему усложнило историю. Все равно поверхностная, неглубокая книга. Зато законченная. Завершенная. Единственная возможность — копнуть на дюйм глубже; потому что людям, подобным Сэйнти, не надо нырять глубоко; бежит поток; появляется целостность. Это значит, если автор принимает условности и позволяет своим персонажам руководить собой, не конфликтует с ними, он может произвести нечто симметричное; очень приятное, умное; но поверхностное. Это значит, мне все равно, что происходит; и все же мне нравится замысел. Еще отвращение к кошачьей-обезьяньей психологии, которой он искренне предан. Восприимчивый искренний ум, однако занимается рукоделием и вставляет точные замечания. Не сноб.
Четверг, 9 мая
Сижу на солнышке рядом с германской таможней. Только что мимо меня в Германию проехала машина со свастикой на заднем окне. Л. в таможне. Я клюю «Жезл Аарона»[209]. Пойти и посмотреть, что там происходит? Замечательное сухое ветреное утро. На нидерландской таможне мы пробыли десять секунд. Здесь мы ждем уже десять минут. Окна в решетках. Они выходят, и мрачный мужчина смеется при виде Митци (обезьянка). Однако Л. рассказал — пока он был внутри, вошел крестьянин в шляпе, и этот мужчина, заявив, будто его контора все равно что церковь, заставил его снять шляпу. Хайль Гитлер, сказал маленький худенький мальчик, открывая возле барьера портфель, возможно с яблоком. Мы становимся подобострастными — то есть довольными, — когда офицер улыбается Митци — в первый раз сгибается спина.
Смысл произведения искусства в том, что одно черпает силы в другом.
Бреннер. Понедельник, 13 мая
Странно видеть, как страны сменяют друг друга. Кровати теперь с перинами. Простыней нет. Строятся дома. Австриец, величавый. В Инсбруке зима стоит до июля. Никакой весны. Италия противостоит мне синей заставой. Чехословаки впереди идут на таможню.
Перуджа
Сегодня проехали Флоренцию. Видели бело-зеленый собор и желтую мелеющую Арно. Гроза. Ирисы горят на фоне туч. Теперь в Ареццо. Великолепный собор.
Тразименское озеро; стояли на лугу, заросшем ярко-красным клевером; озеро как яйцо ржанки; серые оливы, щегольские, утонченные; холодное зеленое море. Едем дальше, расстроенные, что не остановились в Перудже. Брафани, где мы были в 1908 году. Все то же самое. Такие же горячие обожженные солнцем женщины. Но кружева и все остальное выставлено на продажу. Было лучше в Тразимене. Вчера зашла купить булочки и обнаружила поразительное патриархальное зрелище, когда все — хозяева и слуги — собрались возле очага. Котел на огне. Наверное, ничего не изменилось с шестнадцатого века: люди хранят вино. Мужчины и женщины косят. Там, где мы были, пел соловей. Лягушата прыгали в воду.
Брафани: три человека наблюдали, как дверь открывалась и закрывалась. Слово парки, обсуждали приходивших — подводя итог, определяя им место. Женщина с твердо очерченным, орлиным лицом — красные губы — как птица — абсолютно довольная собой. Покачивающиеся французы, небогатая сестра. Теперь они сидят и обсуждают человеческую природу. Мы спасены нашим замечательным багажом.
Рим: чай. Чай в кафе. Дамы в ярких нарядах и белых шляпах. Музыка. Глядим на людей, как в кино. Абиссиния. Дети не дают покоя. Завсегдатаи в кафе. Мороженое. Старик в греческом кафе.
Воскресное кафе: Н. и А.[210] рисуют. Очень холодно. В Риме воскресенье тише, поэтому лучше воспринимаешь город. Импульсивные старые дамы с большими лицами. К. говорит о Монако. Талейран. Очень бедная черная костлявая женщина. Эффект неряшливости из-за тонких волос. Премьер-министр в письме предлагает рекомендовать меня в почетную свиту. Нет.
Вторник, 21 мая
Странности человеческого разума: проснулась рано и вновь стала думать о книге о профессиях, о которой ни разу не вспомнила за семь или восемь дней. Почему? Это связано с романом — что будет, если они выйдут одновременно? И это знак, что я должна писать. Однако сейчас я собираюсь за тряпками с Н. и А, но их нет.
Воскресенье, 26 мая
Пишу в шесть часов вечера в воскресенье — оркестр то играет, то затихает, кричат дети — в слишком роскошном отеле, где официанты приносят меню и я позорно мешаю французские слова с мучительно заученными итальянскими. Все же могу, лежа на кровати, ради удовольствия отбарабанить Gli Indifferenti[211]. Земля здесь прекрасна — например, когда мы впервые выезжали утром из Рима, — море и полоса невозделанной земли; и зонтичные сосны, после Чивитавеккьи: еще, конечно же, напряженная скука Генуи и Ривьеры, с их геранями и бугенвиллеями и ощущением, будто тебя затолкали между горой и морем и держат на ярком роскошном свету, но повернуться негде, так круто спускаются вниз горы с хищными шеями. Но первую ночь мы провели в Леричи, который, благодаря заливу, спокойному морю, зеленому паруснику, острову, мерцающим красно-желтым ночным огням, казался совершенством. Однако подобное совершенство больше не побуждает меня браться за перо. Это слишком просто. Сегодня в машине я думала о Роджере — Brignolles[212] — Coiges[213] — честное слово, оливы, красная земля, сочная трава и деревья. Но вот опять заиграл оркестр, и нам надо спуститься вниз, чтобы роскошно пообедать местной форелью. Уезжаем завтра, дома будем в пятницу. И хотя мне не терпится вновь накормить свои мозги, я отложу это на несколько дней. Почему? Почему? Не устаю спрашивать себя. Мне кажется, очень скоро я смогу привести в порядок финальные сцены: мне пришло в голову, как развить первый параграф. Однако не желаю слишком сильно мучиться «писательством». Надо пошире открыть западню. Представляю, пока мы едем, как меня не любят, как надо мной смеются; и горжусь своим намерением храбро защищаться. И писать!
Среда, 5 июня
Опять здесь (в Лондоне), и мрачное цепенящее чувство, заставившее меня думать о себе словно о мертвой, с тех пор, как мы приехали, постепенно слабеет. Все сначала, проклятая высохшая рука, опять в общем-то пустая глава. Каждый раз я говорю себе, это будет ужасно! и никогда не верю. Потом надвигается обычная депрессия. И я мечтаю о смерти. Но теперь мне понятно, что последние 200 страниц предъявляют свои права и требуют чего-то вроде пьесы; все кончено; я перестаю соображать; но после болезненной интерлюдии вдруг начинается — с телефоном — жизнь. Раздражение извне. (Я собиралась написать о драматической форме, которая не дает мне покоя.)
Понедельник, 10 июня. Духов день
Монкс-хаус. Много работаю. Думаю закончить эти сцены. Сегодня утром не могу писать (вторник). Как мне сказать, чтобы звучало естественно, я унаследовала Розу и Звезду!
Четверг, 13 июня
В некотором смысле это похоже на то, как я писала «Волны» — последние сцены. Перегружаю свои мозги, и приходится делать перерыв; иду наверх; натыкаюсь на растрепанную миссис Брюстер; возвращаюсь; нахожу несколько слов. Предельная конденсация; контрасты; соединение всех частей в одно целое. Значит ли это, что получается хорошо? Чувствую, что у меня есть высокая колонна, и мне ничего не остается, как тащить ее и потеть. Вот так. Текст становится более обнаженным и более напряженным. А потом такое облегчение, когда идут воздушные сцены — как та, где Элеонора! — только их тоже надо ужать. Очень устаю, стараясь все правильно разместить.
Вторник, 16 июля
Странное ощущение полного провала. Марджери не написала мне о моей речи[214]; если верить Джейни, Памела считает ее провалом. И ради этого я пожертвовала последними страницами романа! Сегодня утром не могу писать, не чувствую ритм. Бесконечные расстройства из-за необходимости приглашать разных людей к обеду и так далее действуют мне на нервы. В голове звон. Мне надо перепечатать речь или отказаться от публикации. Письмо от члена совета. Никогда больше, никогда!
Однако я думаю, что справлюсь с последними страницами, если вновь сумею войти в них. Правильно. Но как это сделать, если мне нужно повидаться с Сьюзи и Этель, посмотреть дом мисс Белшер, позвонить, сделать записи, заказать то, это? Ладно, успокойся и подумай; сегодня лишь 16-е: еще две недели до августа. Уверена, где-то внутри скрыта великолепная форма. Ведь не пустословие же это. Если необходимо, я все выкину. Но думаю, не выкину: надо продолжать и, может быть, по-быстрому написать короткий скетч, от руки — хороший план. Вернуться, взять центральную идею и взлететь в ней. Но сохранить контроль над собой и сдерживать руку. Возможно, немножко почитать Шекспира. Да, одну из последних пьес: так я и сделаю, наверное, чтобы расслабиться. Ох уж это возбуждение и бессчетные чашки, выпадающие у меня из рук.
Среда, 17 июля
Только что закончила первую черновую перепечатку и обнаружила, что в книге 740 страниц, то есть 148 000 слов; думаю, я могу ее сократить: вся последняя часть в рудиментарном виде, ее надо сформировать; у меня слишком устали мозги, чтобы всерьез приняться за нее сейчас. И все равно мне кажется, что ее можно сократить; а потом — ? Боже мой, понятно, почему после «Волн» я уцепилась за «Флаша». Нужно когда-то просто посидеть на берегу, бросая в воду камешки. А я хочу еще почитать на ясную голову. И морщины разгладились бы сами собой. Сьюзи Бьюкен, Этель, потом Джулиан — я разговаривала с 4.30 до часа ночи, получив лишь два часа перерыва на обед и молчание.
Мне кажется, последняя глава должна строиться вокруг монолога Н. и должна быть более выдержанной; мне кажется, я понимаю, как ввести интерлюдии — то есть промежуточные пространства молчания, поэзии, контраста.
Пятница, 19 июля
Ну вот. У меня начинаются предприступные головные боли. Не стоит переламывать себя и делать усилие, которое будет похоже на порывы ветра, сражающегося с нашими тяжелыми вязами в последние дни: да, будет похоже на ветер, который пытается справиться с густыми кронами. Ибо должно быть не только движение, должна быть высота, чтобы ветер мог что-то поднять наверх.
Пятница, 16 августа
Совсем не могу заниматься дневником, потому что полностью погружена в переписывание, — да, опять перепечатываю, по возможности 100 страниц в неделю, эту ужасную вечную книгу. Работаю не поднимая головы, до часа дня; а сейчас как раз час, следовательно, я должна оставить нетронутой кучу недосказанных вещей; очень много людей, очень много сцен, и красоту, и лис и неожиданные идеи.
Среда, 21 августа
Вчера приехали в Лондон. Я увидела в «Таймс» о себе — самая терпеливая и самая добросовестная из художников — и считаю, это правда, если учесть, как я работаю над каждым словом.
Моя голова похожа на пудинг, может быть — она тихо пульсирует и не может произвести ни одного слова к концу утра. А начинаю я работать довольно свежей. Вчера отослала Мэйбел первые двадцать страниц или около того.
Марджери Фрай придет в пятницу и принесет, как она говорит, кучу документов. Еще одна книга. Неужели у меня хватит храбрости начать еще одну книгу? Как подумаю о том, что ее надо писать и переписывать. Будут, конечно, радости и волнения. Опять очень жарко. Я собираюсь перекрасить комнату. Была вчера у плотников и выбирала обивку. Стоит ли об этом писать? Почему бы и нет?
Четверг, 5 сентября
Пришлось сегодня утром оставить «Годы» — так это будет называться. Совершенно без сил. Не могу выдавить из себя ни слова. Все же мне кажется, что-то в этом есть; подожду-ка день-два, пусть колодец наполнится. 740 страниц. Полагаю, с точки зрения психологии это самое странное из моих приключений. Половина моего мозга совсем высохла; но стоит лишь повернуть его — и вот вторая половина, готовая с радостью написать небольшую статью. О, если бы кто-нибудь знал что-нибудь о мозге. Ведь даже сегодня, когда я в отчаянии, почти в слезах смотрю на главу, не в состоянии ничего прибавить к ней, я чувствую, что стоит мне нащупать конец нитки — найти отправную точку — взглянуть на кого-нибудь…[215] может быть — нет, не знаю — голова наполнится мыслями, и усталости как не бывало. Но я просыпаюсь и мучаюсь.
Пятница, 6 сентября
Собираюсь несколько дней подержать свои мозги в зеленых листьях щавеля: 5 дней, если смогу выдержать; пока не уедут дети, племянницы Л. Если смогу — мне все-таки кажется, что сцена обретает форму. Почему не сделать более простой переход: Мэгги, скажем, глядит на Серпентин; и таким образом избежать неожиданности? Не странно ли, что именно эта сцена стала для меня камнем преткновения? Это будет самая прекрасная из моих книг, твердила я себе. И вот остановка. Знать бы, почему. Наверное, слишком близкий мне материал. Или написано не в том ключе? Не буду думать.
Суббота, 7 сентября
Благословенное тихое утреннее чтение Альфьери у открытого окна и без сигареты. Я верю, что могла бы вернуться к прежнему восторженному чтению, если бы бросила писать. Трудность в том, что писательство горячит мозги и они не в состоянии усвоить прочитанное; когда же горячка проходит, то наступает жуткая усталость и я способна лишь на обмен репликами. Однако за «Годы» я не берусь уже два дня и чувствую в себе силы взяться за тотчас навалившиеся на меня книги. Присланное вчера жизнеописание Джона Бэйли[216], однако, ввергает меня в сомнение. Чем? Да всем. Звучит, как писк мышонка под матрасом. Я лишь заглянула в него и почувствовала запах лит. обеда, «Lit. Sup.», лит. того, этого и еще кое-чего — вот лишь одно замечание: якобы Десмонд[217] дал Вирджинии Вулф почитать Каупера, и он ей понравился! Это мне-то, которая читала Каупера в пятнадцать лет; ч….ва чепуха.
Четверг, 12 сентября
Утра не спокойные и не благословенные, помесь ада с исступлением: никогда еще у меня не было такого полыхающего шара в голове, как теперь, когда я переписываю «Годы», вероятно потому, что книга получилась очень длинной; и напряжение ужасное. Однако я использую весь накопленный опыт и сохраняю голову здоровой. Прекращаю писать в 11.30 и читаю по-итальянски или Драйдена, балую себя таким образом. Вчера виделась с Этель[218] в доме мисс Хадсон. Итак, я сидела в настоящем доме английского джентльмена и не понимала, как можно это выдерживать; думала о том, что дом должен быть переносным, как раковина улитки. В будущем, возможно, люди будут играть своими домами, как маленькими веерами; и это еще не все. Не будет оседлой жизни в четырех стенах. А там были бесконечные чистые, отлично отремонтированные комнаты. Горничная в чепце. Кексы на подносах с изображением пагод. Сверкающая коричневая мебель и книги в отвратительном порядке — красная искусственная кожа. Множество симпатичных старых комнат, однако манор[219] явно приукрашен и не очень ловко усовершенствован. Бальная комната; библиотека — пустая. И мисс Хадсон, вся чистенькая, с пекинесом, законная экс-мэр Истборна с волнистыми седеющими волосами; все там такое чистое и солидное; и серебряные рамы, на которые я искоса взглянула; и сам дух порядка, респектабельности, банальности. «Я собираюсь навестить жену викария». Этель, багровая и тучная; не дающая себе покоя, несчастная старуха, обыкновенный неутомимый эготизм из-за глухоты и ее массы. Раз в полгода ей нужна сцена. Вот так. Конечно же, глухота, семьдесят шесть лет — назад в Чарльстон к Еве и Анджелике.
Пятница, 13 сентября
Вот уж совпадение для суеверных! Поехала навестить Маргарет и Лилиан в Доркинг: и, кажется, меня вновь потянуло к «Годам». Всегда самое трудное — начало главы или части, где надо поймать новое настроение, которое потом будет определять все. Ричмонд принимает моего Марриета и благодарит за свое бедное маленькое рыцарство.
Среда, 2 октября
Вчера мы были на собрании лейбористской партии в Брайтоне, и конечно же, хотя я отказалась ехать еще раз сегодня утром, так выбита из колеи, что не могу взяться за «Годы». Почему? Из-за погружения в атмосферу энергичной борьбы, от чего я очень далека; мне напоминают, что я далека. Нет, не совсем так. Было очень драматично. Бевин напал на Лэнсбери. Слезы выступили у меня на глазах, когда говорил Лэнсбери. И все же он позер. Я чувствовала, что подсознательно он играет побитого христианина. Полагаю, Бевин тоже играл. Поднимал широкие плечи и прятал в них голову, как черепаха. Сказал Л., чтобы он не торговал вразнос своей совестью. В чем же мой человеческий долг? Женщины-делегатки почти не подавали голос, и их присутствие ничего не меняло. В понедельник кто-то сказал: мы перестали мыть руки. Почти незаметный, слабый протест, зато искренний. Разве у маленькой тростниковой дудочки есть шанс против горы ростбифов и пива — результата женского труда? Все очень живо и интересно; но совпадения; слишком много риторики, взгляд партии; изменить структуру общества; да, но когда она изменится? Доверяю ли я Бевину, когда он говорит, что мир станет хорошим, стоит всем подучить равные права? Если бы он родился герцогом… Мои симпатии на стороне Солтера, который проповедовал непротивление. Он совершенно прав. Такими должны быть и наши взгляды. Но что делать с сегодняшним обществом? К счастью, необразованная и не имеющая голоса, я за него не отвечаю. Вокруг носятся какие-то слухи и отвлекают меня от того, что, собственно, является моей работой. Один день отдыха — это чудесно, два дня тоже, но не три. Я не поехала; и писать не могу. Однако придется заставить себя, когда закончу эту запись. Странно, до чего мой разум восприимчив к поверхностным впечатлениям: я всасываю их и они колобродят внутри меня. Насколько значителен отдельный ум и работа отдельного человека? Сегодня утром Луи[220] сказала мне, что ей нравилось работать у нас и ей жаль с нами расставаться. Это тоже работа своего рода. И все же я не могу отрицать мою любовь к выстраиванию фраз. И все же… Л. уехал, надо будет поговорить с ним об этом. Он считает, что политика должна быть отделена от искусства. Мы гуляли с ним в холод по пустоши и обсуждали этот вопрос. Дело еще в том, что моя голова быстро устает. Да, слишком устает, чтобы можно было писать.
Вторник, 15 октября
С тех пор как мы вернулись, я была словно в лихорадке, по утрам «Годы», между чаем и обедом — Роджер, прогулка, гости, так что теперь отдых. Сегодня вечером я лишь кое-что набросала о Роджере, потому что вчера образовалась дыра и сегодня утром я совсем не могла писать; а теперь надо подняться и через десять минут встретить мисс Грюбер (обсудить книгу о женщинах и фашизме — чем проще, тем понятнее, как говорит Лотти). Это были десять дней непрерывного полного совершенного блаженства. Я думала, как буду ненавидеть их. Ничего подобного. В Лондоне спокойно, сухо, удобно. Обед мне готовят. Дети не кричат. И ощущение, что я постепенно нагоняю, легко, уверенно (это закончилось сегодня), «Годы». Три дня я испытывала искренний восторг по поводу «Следующей войны». Говорила ли я, что результатом съезда в Брайтоне стала разрушенная дамба между мной и новой книгой, так что я не смогла отказать себе и быстро набросала главу; потом остановилась; но готова продолжать — думаю, форма такая, как нужно, — едва у меня будет время. И я планирую это на следующую весну, пока буду накапливать материалы для Роджера. Такое разделение, кстати, самое лучшее, и я не понимаю, как до сих пор не додумалась до него — новая книга или подготовительная работа для книги, которая в перерывах нагружает другую сторону мозга. Единственный способ остановить колесики и заставить их крутиться в другую сторону, я же тем временем отдыхаю и, надеюсь, совершенствуюсь. Увы, теперь Грюбер.
Среда, 16 октября
Пока писались «Годы», я открыла, что сотворить комедию можно, взяв лишь поверхностный слой — например, сцена на террасе. Вопрос в том, могу ли я коснуться других пластов, вводя музыку и живопись вместе с определенными персонажами? Именно это я хочу попробовать в сцене налета, чтобы все двигалось и влияло друг на друга: картина; музыка; и другое направление — действие — то есть персонаж говорит с персонажем — пока движение (то есть изменение чувства, пока идет налет) продолжается. В любом случае, в этой книге я открыла, что нельзя без контраста; один пласт не может развиваться напряженно сам по себе, хотя именно так было в «Волнах», не нанося ущерба другим пластам. Таким образом сама форма, надеюсь, навязывает себя, соотносясь с человеческими измерениями; тогда очевидна стена, созданная всем тем, что заложено в книге; она должна обнести их всех на вечеринке в последней главе, чтобы стало ясно, пока они были каждый сам по себе, стена встала во весь рост. Но до этого еще не дошло. Я делаю Кросби — сегодня утром у меня воздушная сцена. Движение от одного персонажа к другому, мне кажется, свидетельствует, что, как бы там ни было, для меня это правильный подход, я очень радуюсь и совсем не переутомляюсь, не то что во время «Волн».
Вторник, 22 октября
Я все еще в «Годах», благодаря моей проклятой любви поговорить. То есть если я разговариваю с Розой Маколей с 4 до 6.30 и с Элизабет Боуэн — с 8 до 12, то на другой день у меня не голова, а скучный, тяжелый, жаркий стог сена, и я становлюсь добычей любой блохи, любого муравья или комара. Итак, я закрыла книгу — Сол и Мартин в Гайд-парке — и печатаю мемуары Роджера. Это удивительно успокаивает и освежает. Жаль, не могу все время иметь их под рукой. Два дня отдыха от романной нервотрепки — вот мое предписание; но остальное выполнить очень трудно. Полагаю, пока я не закончу, мне надо отказаться от приглашений на вечера, где принято много говорить. Хорошо бы получилось к Рождеству! Например, если я сегодня вечером иду на коктейль к Эдит Ситвелл, то для того лишь, чтобы подсмотреть пикантные картинки; в пене слов уронить несколько остроумных фраз; успокоиться и освежиться перед работой. А после романа — тогда уж буду ходить повсюду и выставлять напоказ свои морщины. Кроме того, кто только не ходит к нам? На этой неделе каждый день разговоры. Все-таки счастливее всего я в своей комнате. Итак, потихоньку проработаю письма Бриджеса и, возможно, возьмусь за неразобранную кучу писем Хелен[221].
Воскресенье, 27 октября
День рождения Адриана; только что вспомнила. Мы пригласили его на обед. Нет, не буду торопиться с книгой. Пусть каждая сцена сформируется полностью и без натуги, прежде чем я пошлю ее на перепечатку, даже если придется ждать следующего года. Странно, почему время вносит такое беспокойство? Сегодня утром у меня с ним добрые отношения. Я сочиняю вечеринку Китти. И несмотря на то, что все время обуздываю свое нетерпение — никогда еще мне не приходилось так решительно сдерживать себя, — я радуюсь тому, что пишу, что получается полнее и почти без надрыва, и — как бы это сказать? — короче говоря, «Годы» дарят мне больше естественного удовольствия, чем все остальные романы. Однако на меня давят другие книги, которые ногами стучатся в дверь, и мне трудно сохранять медлительность в работе. Вчера мы прошли через Кен-Вуд до Хайгейта и посмотрели на два старых домика Фрая. В одном из них родился Роджер, и в нем он сошел во мрак. Думаю начать с этой сцены. Вот так книга сама задает свою форму. Это будет моя следующая война — та, которая вспыхивает, когда хочет, словно в нее впрягли акулу; и я проскакиваю сцену за сценой. Думаю, надо браться за нее, как только закончу с «Годами». Предположим, это случится в январе; потом рывок с «Войной» (как бы я ее ни назвала) в шесть недель; и Роджер следующим летом?
Понедельник, 18 ноября
Мне пришло в голову, что я достигла следующей ступени в писательском мастерстве. Я понимаю, что есть четыре измерения; и все они должны быть в человеческой жизни, что ведет к гораздо более сложному группированию и пропорциям. Я имею в виду: я; и не я; внешняя и внутренняя — нет, я слишком устала, чтобы объяснять, но я вижу это; и это будет в моей книге о Роджере. Очень заманчиво группировать материал таким образом. Новое соединение психологии и физиологии — примерно как в живописи. Таким будет следующий роман, но сначала я закончу «Годы».
Четверг, 21 ноября
Все правильно, но воздушно-небесные сцены слишком жидкие. Размышления после утренней сцены Китти и Эдварда в Ричмонде. Поначалу такое облегчение, а потом не то — забегает вперед. Надо успокоиться; вернуться; почистить детали; слишком много «важных моментов»; слишком отрывисто, слишком много разговоров «в разных местах». Я хочу сохранить индивидуальность и ощущение вещей, которое повторяется и повторяется, но все же меняется. Именно это очень трудно, трудно поддается соединению.
Среда, 27 ноября
Слишком много похожих дней — не могу писать. Господи, помоги мне, но кажется, я достигла ничейной земли, которую искала; могу переходить от внешнего к внутреннему и населять вечность. Странное, счастливое чувство свободы, какого у меня никогда еще не было после окончания книги. А эта к тому же чудовищно длинная. К чему я? Еще одна задержка сегодня утром: не знаю, как правильно начать последнюю главу. Не понимаю, что у меня не так. Но не надо спешить. Главное — разрешить мыслям свободный полет; и пусть они прольются дождем. Не надо быть слишком настойчивой. Конечно же, трудно ввести новый персонаж в середину повествования: Норт; и я немного раздражена: думала, что неделя будет спокойной, а тут Нелли К. и Нэн Хадсон просят разрешения прийти; надо им позвонить; у Нэн друг-турок. Но я им не поддамся. Нет.
Суббота, 28 декабря
Очень приятно выписывать число чистым ясным почерком, ибо я начинаю новую тетрадь, но не буду скрывать, что я почти умираю, похожа на пыльную тряпку уборщицы; то есть мой мозг похож; это из-за последней переделки последних страниц романа «Годы». Неужели последняя переделка? Почему танец последних дней состоит исключительно из нетвердых коротких поворотов? На самом деле, надо размять сведенные судорогой мышцы: прошла лишь половина первого мокрого серого утра, и мне нужно какое-нибудь спокойное занятие на ближайший час. Это напоминание — я должна предвидеть спад, который не станет неожиданным, когда все закончится. Полагаю, статья о Грее. Что изменится, если я расслаблюсь? Буду ли я еще когда-нибудь писать длинные книги — длинный роман, который необходимо весь держать в голове и который отнимает три года? Я не спрашиваю, стоит ли это делать? Случаются такие застойные утра, когда я не могу даже переписывать Роджера. Голди невыразимо угнетает меня. Всегда один на вершине горы, спрашивает себя, как жить, теоретизирует о жизни; и не живет. Роджер всегда в зеленых долинах, живой. Голди издает тонкий свист, выпуская через передние зубы горячее дыхание. Всегда живи в целом, жизнь — в одном: всегда Шелли и Гёте, а потом он теряет бутылку с горячей водой; и не замечает ни лица, ни кошки, ни собаки, или цветка, разве что в потоке целого. Это объясняет, почему его высокоинтеллектуальные книги нечитабельны. И все же он был очарователен, временами.
Воскресенье, 29 декабря
Только что написала последние слова романа «Годы» — кручусь, верчусь, хотя еще только воскресенье, а я назначила себе среду. И совсем не чувствую обычного возбуждения. Но ведь я говорила себе, что закончу его спокойно — это проза. Хорошо ли? Вот уж не знаю. Накрепко ли подогнаны все части? Поддерживает ли одна часть другую? Могу ли я польстить себе, сказав, что он сбит на славу и производит впечатление единого целого? Много еще нужно сделать. Надо немножко ужать его и заострить; сделать паузы более эффективными, повторения, и продолжать. В данной версии 797 страниц; скажем, 200 слов в каждой (это очень приблизительно); получается, грубо говоря, 157 000 — скажем, 140 000 слов. Увы, необходимо урезать, ужать, выделить главное. Это займет — не знаю сколько времени. А я должна потихоньку уводить свое подсознание от этой работы к следующей, или меня ждет тяжелая депрессия. Как странно — что все это выветрится из головы и появится что-то другое. В это же время в следующем году я буду сидеть тут, а вокруг меня будет множество газетных вырезок — нет, надеюсь, не в реальности, но в моих мыслях будет объемный хор множества голосов, рассуждающих об этой массе небрежной машинописи, и я буду говорить: это была попытка сотворить то-то и то-то; а теперь мне нужно заняться чем-то совершенно не похожим. И все старые или новые проблемы опять встанут передо мной. Как бы то ни было, главное, что я чувствую в отношении этой книги, — живая, плодородная, энергичная. Мне кажется, что я еще никогда не писала с такой радостью; чтобы весь мозг работал, но не так напряженно, как было с «Волнами».
Понедельник, 30 декабря
А сегодня ничего, совсем ничего. Не могу написать ни слова: слишком болит голова. Могу лишь оглядываться на «Годы» как на недоступный Скалистый Остров, который мне не дается, о котором я не могу даже думать. Вчера в Чарльстоне. Большой желтый стол и очень мало стульев. Я читаю Роджера, и он приходит ко мне. Какая-то странная посмертная дружба — в некотором смысле более близкая, чем наша дружба при его жизни. Веши, о которых я лишь подозревала, теперь мне открыты; а я не слышу его живого голоса.
У меня была мысль — хорошо бы они спали — одеваясь — как сделать мою военную книгу[222] — прикинуться, будто это все статьи, которые редакторы просили меня написать в последние несколько лет — обо всякой всячине — должны ли женщины курить; короткие юбки; война и так далее. Это даст мне право отклоняться от темы; и еще поставит в положение человека, которого просят. Оправдание метода; а тем временем продолжать. Можно написать предисловие, объяснить, задать верный тон. Думаю, так правильно. Ужасный дождь ночью — реки вышли из берегов; дождь начался, когда я отправилась спать; собаки лают; ветер бьется в стены. Сейчас я прокрадусь к себе и почитаю какую-нибудь книжку, не имеющую к этому ни малейшего отношения.
1936
Пятница, 3 января
Я начала год тремя совершенно гиблыми днями, головная боль, голова будто лопается, голова едва выдерживает напор мыслей; а дождь все льет; вода выходит из берегов; когда мы гуляли вчера вечером, мне даже боты не помогли; промокли ноги; итак, это Рождество, если иметь в виду наши места, совсем плохое, и, несмотря на недостатки городской жизни, я рада перебраться в Лондон, отчего, довольно виновато, попросила не задерживаться еще на неделю. Сегодня стоит желтовато-серый туман; так что я вижу лишь бугор, мокрый блеск и никакого Каберна. Тем не менее, я довольна, потому что, мне кажется, в голове у меня вновь установилось равновесие и я могу в понедельник опять взяться за «Годы», то есть за последнюю переделку. Неожиданно это стало важным, потому что в первый раз за несколько лет, как говорит Л., я заработала недостаточно, чтобы заплатить мою долю за дом, и мне надо отдать 70 фунтов из моих личных денег. Осталось 700 фунтов, и мне надо подумать о пополнении запасов. По-своему забавно, что опять приходится думать об экономии. Но если серьезно, то это мешает; даже хуже — это грубая помеха, — ибо мне придется зарабатывать деньги журналистикой. Следующую книгу я думала назвать «Ответы корреспондентам»… Но не могу же я вот так все бросить и взяться за нее. Нет. Я должна терпеливо и спокойно баюкать бунтующий нерв, чтобы он спал, пока «Годы» не лягут на стол — в окончательной редакции. В феврале? Или покой — словно обширный — как бы это сказать — костный нарост — мешок мышц — вырезан из моей головы? Лучше писать это, чем что-то другое. Странное изменение произошло в моей психологии. Я больше не могу писать для газет. Мне необходимо работать над собственной книгой. Дело в том, что я немедленно начинаю все упрощать, едва появляется мысль о газете.
Суббота, 4 января
Погода улучшилась, и мы решили остаться до среды. Но опять пошел дождь. Все же я приняла несколько положительных решений: читать ровно столько еженедельников, чтобы они по возможности не ввергали меня в размышления о собственной персоне, пока я не закончу «Годы»; заполнять свои мозги не имеющими непосредственного отношения к нему книгами и привычками; не думать об «Ответах корреспондентам»; быть как можно более фундаментальной и как можно менее поверхностной, быть материальной и как можно менее интуитивной. Теперь Роджер, потом отдых. Сказать по правде, в моей голове нет покоя; и одно неосторожное движение приведет к прогрессирующей депрессии, возбуждению и всему остальному из знакомого набора: из длинного перечня несчастий. Итак, я заказала филей, и мы едем кататься.
Воскресенье, 5 января
Еще одно бедственное утро. Я вообще-то подозревала, что мои предположения верны и дальнейшая работа лишь все испортит. Дальнейшая работа должна состоять в чистке и приглаживании. Это мне по силам, потому что я спокойна. Чувствую себя хорошо, работа сделана. Хочу взяться за что-то другое. К добру это или не к добру, не знаю. В моей голове сегодня покой, наверное, потому, что вечером я читала «Тамбур-мажор»[223] и ездила к озерам. Облака были цвета крыльев тропической птицы: всех оттенков красного; они отражались в озерах, еще там были стаи ржанок, черно-белых; они четко держали линию и были удивительно безупречной и утонченной окраски. Я отлично спала!
Вторник, 7 января
Вновь переписывала последние страницы и, мне кажется, лучше использовала пространство. Многие подробности и некоторые важные веши остались в неприкосновенности. Сцена со снегом, например, и некоторые второстепенные куски остались. И мне удалось сохранить заложенное там чувство, так что не нужно творчества, а нужно лишь немного мастерства.
Четверг, 16 января
Редко я испытывала такое полное разочарование, как вчера около 6.30, когда перечитывала последнюю часть романа «Годы». Пустая болтовня — сумеречная сплетня — так мне показалось; воплощение моей дряхлости; и невероятные длинноты. Я бросила рукопись на столе и с горящими щеками помчалась наверх к Л. Он сказал: «Так всегда бывает». Но я чувствовала: нет, так плохо еще никогда не было. Я делаю эту запись, чтобы сравнить свое состояние с тем, которое будет после написания следующей книги. А сегодня утром, когда я погрузилась в эту часть, она показалась мне, наоборот, полновесной, шумной, живой. Я заглянула в начало. Думаю, связь есть. Однако мне необходимо заставить себя регулярно посылать Мэйбел отдельные куски. Клянусь, 100 страниц отправятся сегодня вечером.
Вторник, 25 февраля
Это покажет, как мне тяжело достается. Сейчас первое мгновение — за пять минут до ланча, — когда я свободна для дневника. Работала все утро: как правило, работаю еще с 5 до 7. Кстати, были головные боли: избавлялась от них неподвижным лежанием, переплетом книг и чтением «Дэвида Копперфилда». Я поклялась, что рукопись будет готова, перепечатана и сверена до 10 марта. Потом ее прочитает Л. А мне еще перепечатывать всю ричмондскую сцену и сцену Эл.: много исправлений в проклятой сцене нападения; все это надо печатать: вот бы успеть к первому, то есть к воскресенью; а потом я должна буду вернуться к началу и прочитать все насквозь. Так что я совершенно не в состоянии писать в дневнике или заниматься Роджером. В целом, книга мне нравится — странно — хотя она с подъемами и падениями и без общей идеи.
Среда, 4 марта
Ну вот, я почти закончила переписывать сцену налета, полагаю, делаю это в тринадцатый раз. Завтра отправлю ее; и у меня, надеюсь, будет целый свободный день — если я осмелюсь на него — прежде чем читать дальше. Конец уже виден: то есть видно начало другой книги, которая безжалостно стучится в дверь. Ах, опять бы писать свободно каждое утро, заново плести небылицы — вот счастье — физическое облегчение, отдых, удовольствие после всех этих месяцев — примерно с октября — постоянного напряжения и переписывания одного и того же.
Среда, 11 марта
Вчера я послала Кларку[224] 132 страницы. Мы решили изменить обычный порядок; набрать книгу, прежде чем Л. прочитает её, и послать гранки в Америку.
Пятница, 13 марта
Продвигаюсь вперед гораздо успешнее. Поэтому краду десять минут до ланча. Никогда еще ни с одной книгой мне не приходилось так тяжело. Моя цель — ничего не менять в гранках. И я начинаю думать, что в книге что-то есть — пока нет провалов. Хватит о ней. Вчера гуляли по Кенсингтон-Гарденс и говорили о политике. Олдос отказывается подписать манифест, потому что он одобряет последние меры. Олдос пацифист. Я тоже. Должна ли я подписывать? Л. считает необходимым принять во внимание то, что Европа стоит на грани величайшей за последние 600 лет катастрофы, следовательно, надо забыть о частных расхождениях и поддержать Лигу[225]. Сегодня утром он на специальном заседании Л.[226] партии. Эта неделя суматошная и напряженная из-за политики. Гитлеровская армия на Рейне. Заседание проходит в Лондоне. Французы очень серьезны — маленькая группа разведчиков — послали на завтрашнее заседание своего человека; трогательная вера в английских интеллектуалов. Второе заседание завтра. По обыкновению надеюсь, что обойдется. Но странно, до чего близко подошли опять орудия к нашей частной жизни. Я могу ясно видеть их и слышу гул, хотя продолжаю, как обреченная мышь, грызть свои странички. А что еще делать? Остается лишь отвечать на непрерывные телефонные звонки и слушать рассказы Л. Все идет за борт. К счастью, мы отменили все приглашения и т. д. под предлогом романа «Годы». Эта весна очень напряженная, много работы; кажется, было два прекрасных дня; вылезли крокусы; потом опять стало черно и холодно. Как будто все по-прежнему: моя тяжелая работа; наша необщительность; кризис; заседания; темнота — никто не знает, что все это значит. Про себя… нет, я никого не видела и ничего не делала, кроме как гуляла и работала — гуляю около часа после ланча — и так далее.
Понедельник, 16 марта
Я не должна была так делать: но больше не могу мучиться из-за не дающихся мне страниц. Приду в три и что-нибудь сделаю, еще будет время после чая. Для себя: после «Путешествия» я ни разу, перечитывая рукопись, не мучилась так, как теперь. В субботу, например, решила, что «Годы» — полный провал; и все же книгу печатают. Потом, в отчаянии, хотела выбросить роман, но продолжала его печатать. Через час строчки начали путаться. Вчера я перечитала его снова и подумала, что, возможно, это моя лучшая книга.
Однако… Я дошла лишь до смерти Короля. Полагаю, переписывания изматывают меня: сначала засовываешь персонаж в самую гущу, а потом выкидываешь его. Любое начало кажется безжизненным — а ведь его еще надо перепечатать. Более или менее готовы 250 страниц, а их 700. Прогулка к реке и по Ричмондскому парку лучше всего разгоняет кровь.
Среда, 18 марта
Сейчас он кажется мне очень хорошим — это все еще о романе, — и я не могу ничего менять. В самом деле, думаю, сцена у Уиттерингов, пожалуй, лучшая из всех, когда-либо мной написанных. Пришли первые гранки: итак, меня ждет холодный душ. Сегодня утром не могу сконцентрировать внимание — должна написать «Письмо англичанину». Все же полагаю, что исправлять ничего не буду.
Вторник, 24 марта
Очень хороший уикенд. На деревьях распускаются почки; гиацинты; крокусы. Первый весенний уикенд. Мы дошли до Крысиной фермы — чтобы поискать фиалки. Есть, но еще не расцвели. Продолжаю переделывать — в унылом состоянии. Мысли о «Двух гинеях» — так я собираюсь это назвать. Наверное, я на грани безумия, ибо слишком глубоко вошла в эту книгу и сама не понимаю, что делаю. Вдруг обнаружила себя на Стрэнде[227], к тому же разговаривающей вслух.
Воскресенье, 29 марта
Сегодня воскресенье, я работаю над «Годами». Утром в двадцатый раз переделала сцену с Элеонорой на Оксфорд-стрит. Наконец-то сообразила, какой она должна быть, и говорю себе, что закончу ее к седьмому апреля. Не могу не думать, что получается неплохо. Но хватит о «Годах». На этой неделе один раз болела голова, и я лежала, не в силах пошевелиться.
Четверг, 9 апреля
Вот и наступил период депрессии после чересчур напряженной работы. Вчера последняя партия ушла к Кларку в Брайтон. Л. читает. Я настроена пессимистически, предвижу прохладное заключение; но надо ждать. В любом случае, дни стоят отвратительные, мучительные, бессильные; их было бы хорошо сжечь на костре. Ужас в том, что завтра, после одного ветреного дня передышки — ох, холодный северный ветер не затихает с момента, как мы приехали, но у меня нет ушей, глаз, носа; я только и делаю, что хожу туда-сюда, как правило, в отчаянии — после этого одного дня передышки, повторяю, я должна начать сначала и прочитать 600 страниц бесстрастных гранок. За что, ну за что? Больше никогда, больше никогда. Сначала полностью покончу с этим, а уж потом возьмусь за «Две гинеи» и одновременно стану заниматься Роджером. Если серьезно, то думаю, это мой последний «роман». Но тогда придется всерьез заняться критикой.
Четверг, 11 июня
Лишь сейчас, через два месяца, я в состоянии сделать эту краткую запись, чтобы сказать — позади осталась двухмесячная ужасная, хуже, почти катастрофическая болезнь — еще никогда я не была так близка к обрыву после 1913 года — и вот я опять победила. Мне надо переписать, то есть вставить или убрать отдельные слова, почистить «Годы» в гранках. А я не могу. Работаю от силы час. Но какое блаженство вновь стать хозяйкой своего рассудка! Вчера вернулись из Родмелла (Монкс-хаус). Теперь собираюсь жить как кошка, наступившая на яйца, пока не прочитаю все 600 страниц. Думаю, у меня получится — думаю, получится — мне лишь нужно побольше храбрости и бодрости, чтобы не сбиться с пути. Как я уже сказала, я в первый раз пишу по доброй воле после 9 апреля, когда слегла в постель; ездила в Корнуолл — об этом ни слова; потом вернулась; виделась с Элли; потом в Монкс-хаус; вчера домой на двухнедельное испытание. Кровь бросилась мне в голову. Сегодня утром писала 1880 год.
Воскресенье, 21 июня
После недели ужасных мучений — утренних пыток — я не преувеличиваю — боль в голове — ощущение абсолютного отчаяния и провала — в голове, как в носу после сенной лихорадки — опять прохладное тихое утро, облегчение, передышка, надежда. Только что написала о Робсоне; думаю, неплохо. Живу стесненно, подавленно; не могу делать записи о своей жизни. Все спланировано, никого чужого. На полчаса я спускаюсь; потом иду наверх, в отчаянии; ложусь; гуляю по Площади; возвращаюсь и делаю еще десять строчек. Вчера была в палате лордов. Вечное чувство, что надо подавлять себя, держать под контролем. Вижу людей, которые лежат на диване между чаем и обедом. Роза М., Элизабет Боуэн, Несса. Вчера вечером сидела на Площади. Смотрела на шумящие зеленые листья. Гром и молния. Фиолетовое небо. Н. и А. спорят 4/8 времени. Мимо крадутся кошки. Л. обедает с Томом и Беллой. Очень странное, на редкость замечательное лето. Новые эмоции: покорность; бескорыстная радость; литературное отчаяние. Я учусь моему искусству в самых неприятных условиях. Читаю письма Флобера, слышу свой крик: о искусство! Терпение: пусть оно утешает, увещевает. Я должна спокойно и уверенно формировать свою книгу. Она не выйдет до будущего года. И мне кажется, я использовала не все возможности. Стараюсь одной фразой дать четкий портрет персонажа; укоротить и ужать сцены; заключить все в определенную среду.
Вторник, 23 июня
Хороший день — плохой день — так и идет. Немногих писательство мучает, как меня. Флобера, наверное, мучило. И все же я поняла, как сделать книгу. Думаю, смогу закончить, если у меня хватит храбрости и терпения спокойно прочитать все сцены; соединить их; думаю, может получиться хорошо. А потом — ох, когда я закончу ее!
Сегодня не очень ясно, потому что я была у дантиста, а потом делала покупки. Мой мозг похож на весы: небольшой перевес, и чаша идет вниз. Вчера обе чаши висели ровно, а сегодня одна внизу.
Пятница, 30 октября
Я вовсе не собираюсь перечислять все, что произошло за минувшие месяцы. Не хочу по причинам, которые теперь не могу открыть, анализировать прошедшее необычное лето. Полезнее и здоровее для меня сочинять сцены; надо взять ручку и описать реальные события; кстати, это хорошая практика для моего неловкого и неуверенного пера. Могу ли я еще «писать»? Вот в чем вопрос. И теперь я постараюсь понять, мой дар умер или просто спит.
Вторник, 3 ноября
Чудеса еще случаются — Л. в самом деле понравились «Годы»! Он считает пока — до ветреной сцены, — что эта книга не хуже любой другой из моих книг. Я запишу реальные факты. В воскресенье начала читать гранки. Когда дочитала до конца первой части, впала в отчаяние; оцепенелое тяжелое отчаяние. Вчера заставила себя дочитать до Наших Времен. Когда дошла до этой вехи, то сказала: «К счастью, это так плохо, что не о чем говорить. Я должна отнести гранки, как дохлую кошку, Л. и сказать ему, чтобы он сжег их, не читая». Так я и сделала. У меня словно груз с плеч. Это правда. Я почувствовала вдруг, что свободна от жуткой тяжести. Стоял холодный, сухой, сумеречный день, и я отправилась через кладбище, где могила дочери Кромвеля, через Грейс-Инн по Холборн-стрит и вернулась домой. Я больше не была Вирджинией, гением, но была совершенно довольной — как это назвать — духом? телом? И очень усталой. Очень старой. Но в то же время довольной, что разделила эти 100 лет с Леонардом. Итак, мы были несколько скованы за ланчем; печальное одобрение; и я сказала Л., напишу Ричмонду и попрошу книги на рецензию. Гранки будут стоить, скорее всего, где-то между 200 и 300 фунтами, которые я заплачу из своего кармана. Поскольку у меня еще есть 700 фунтов, останется четыреста. Это не очень приятно. Но Л. сказал, что я, по его мнению, не права насчет книги. Потом приехали незнакомые люди: мистер Мамфорд с волосами цвета красного дерева, худой, с очень тяжелым баулом и тростью, которого я проводила курить в гостиную; мистер — очень большой и тучный, который сказал: «Прошу прощения», — и постучал в дверь. Лорд и леди Сесил позвонили и пригласили нас на ланч, на который также приглашен испанский посол. (Я берусь за «Три гинеи».) После чая мы отправились на книжную выставку «Санди таймс». Книг там было много! Я чуть не умерла — бесконечно устала! Подошла мисс Уайт, энергичная маленькая женщина с веселым деревянным лицом, и стала рассказывать о своей книге и откликах на нее. Потом Урсула Стрэчи покинула Даквортов и тоже подошла к нам: «Вы меня помните?» И я вспомнила залитую лунным светом реку. Потом Роджер Сенхаус тронул меня за плечо. Мы пошли домой, и Л. читал, читал и ничего не говорил: я совсем расстроилась; однако подумала, что можно написать «Годы» совсем иначе, — придумала план для другой книги — ее надо сделать от первого лица. Подойдет ли это для книги о Роджере? — и я опять впала в ужасное состояние, когда голова горит огнем и нестерпимо хочется спать, словно кровь не поступает в голову. Неожиданно Л. отложил гранки и сказал, что, по его мнению, это невероятно хорошо — так же хорошо, как все остальное. Теперь он читает дальше, а я, устав от писания, собираюсь читать итальянскую книгу.
Среда, 4 ноября
Л., который дочитал до конца 1914 года, все еще считает книгу хорошей; очень странно; очень интересно; очень грустно. Мы обсуждали мою грусть. Трудность в том, что я не могу ему поверить. Вполне возможно, что я преувеличиваю недостатки романа, тогда как он, обнаружив, что роман не так уж плох, преувеличивает его достоинства. Если его публиковать, то нужно немедленно садиться за правку; а я не могу. Каждое второе предложение кажется мне плохим. Но я ни о чем не спрашиваю, пока он не закончил чтение, а это будет сегодня вечером.
Четверг, 5 ноября
Чудо свершилось. Л. закончил читать в двенадцать ночи и не мог говорить. Он был в слезах. Он сказал, что это «великолепная книга» — ему она нравится больше, чем «Волны», — у него ни малейшего сомнения в том, что ее надо печатать. Я — свидетель не только его чувств, но и его погружения в книгу, я видела, как он читал и читал, поэтому не могу сомневаться в его мнении. А как насчет меня самой? В любом случае, момент был божественный. Я не совсем понимала, стою я на ногах или на голове, так поразительно было полное изменение в настроении, мучившем меня со вторника. Никогда прежде ничего подобного не испытывала.
Понедельник, 9 ноября
Я должна принять несколько решений насчет книги. Это очень трудно. Опять отчаяние. Мне она кажется плохой. Остается лишь положиться на вердикт Л. Я сбита с толку; попыталась ради успокоения взяться за статью; воспоминания; отрецензировать книгу для «Лиснер». Мысли начинают бежать вскачь. А я должна сфокусировать их на «Годах». Надо прочитать гранки — отослать их. Утром мне нельзя отвлекаться. Думаю, единственный выход — читать гранки, а потом позволять себе что-то другое между чаем и обедом. Но все утро не отвлекаться от романа — совсем не отвлекаться. Если глава трудная, концентрироваться на короткое время. Потом писать в дневнике. Но не влезать в другие работы до чая. Когда все закончится, можно будет спросить мнение Моргана.
Вторник, 10 ноября
В целом сегодня утром дело шло лучше, чем обычно. Правда, голова устает от работы и уже через час начинает болеть. Приходится баловать голову и нежно возвращать ее к работе. Да, думаю, это хорошее, но очень трудное чтение.
Интересно, кто-нибудь мучился так из-за своей книги, как я мучаюсь теперь? Когда «Годы» выйдут в свет, я и не взгляну на них. Это как долгие роды. Как только вспомню о прошедшем лете, о каждодневной головной боли; сразу заставляю себя идти в ночной рубашке в свою комнату и ложусь после каждой страницы; и все время уверенность в провале. Сейчас, к счастью, эта уверенность несколько померкла. Сейчас мне кажется, когда я избавлюсь от него, мне будут безразличны любые отзывы. И еще мне почему-то кажется, что меня уважают и любят. Однако это всего лишь туманная пляска иллюзий, то они есть, то их нет. Больше никогда не буду писать длинных книг. Все же, наверное, я напишу еще одну книгу прозы — в которой форму будут определять отдельные сцены. Но я устала сегодня утром: слишком большая гонка и большое напряжение вчера.
Понедельник, 30 ноября
Каково бы ни было мое мнение, нет нужды мучиться из-за романа. «Годы», кажется, подходят к концу. В любом случае это напряженная, реальная, требующая усилий книга. Только что закончила ее и чувствую себя несколько опустошенной. Конечно же, она отличается от других: в ней, мне думается, более «реальная» жизнь; больше крови и мяса. В любом случае, даже если в ней есть ужасные водянистые куски и у нее скучное начало, у меня нет оснований дрожать по ночам. Думаю, что могу чувствовать себя уверенно. Это я говорю искренне сама себе; чтобы поддержать себя в тягостном многонедельном ожидании. Мне, в общем-то, все равно, что скажут другие. На самом деле я поздравляю чудовищно измученную женщину, себя, у которой так часто болела голова; которая была совершенно убеждена в провале; ибо, несмотря ни на что, она довела книгу до конца и достойна поздравлений. Понятия не имею, как ей это удалось с ее-то головой, похожей на старую тряпку. Теперь отдых; и Гиббон.
Четверг, 31 декабря
Передо мной лежат гранки — верстка — их надо отправить сегодня, а у меня такое чувство, что я должна взять в руки что-то вроде жгучей крапивы. Даже писать об этом не хочется.
Последние несколько дней мной владеет блаженная легкость — с книгой покончено, — какой бы хорошей или плохой она ни была. Должна сказать, что впервые после февраля мой мозг, словно дерево, выпрямился, сбросив с себя тяжкий груз. Я погрузилась в Гиббона и читала, читала, кажется, впервые после февраля. Теперь о событиях, удовольствиях и вообще обо всем. Мне удалось сделать несколько интересных и, возможно, ценных записей, совершенно необходимых для работы. Всегда, что-то заканчивая, я не уверена, будто обязательно надо интенсивно, не отвлекаясь, писать очередную длинную книгу: я хочу сказать, если в будущем вновь возьмусь за такое — в чем сомневаюсь, — то заставлю себя переключаться на маленькие статьи. В любом случае, сейчас я не хочу думать о том, могу ли я писать? Пора предаться самонеуверенности и работе; сначала Гиббон; потом несколько маленьких статей для Америки; потом Роджер и «Три гинеи». Что из этих двух окажется вначале, как все получится, не знаю. Даже если «Годы» плохой роман, все равно я много думала и накопила кое-какие идеи. Не исключено, что я вновь на подъеме и мне надо быстро написать две-три маленькие книжки; а потом опять перерыв. По крайней мере, я чувствую себя достаточно мастеровитой, чтобы продолжать свое дело. Никакой пустоты. В доказательство этого пойду за своими заметками о Гиббоне и возьмусь за подробный план статьи.
1937
Четверг, 28 января
Погрузилась еще раз в счастливый и беспорядочный сон: то есть начала сегодня утром «Три гинеи» и не могу остановиться, не думать об этом. Планирую писать сейчас, без особых размышлений, и вчерне закончить, возможно, к Пасхе; однако я позволю себе, заставлю себя написать небольшую заметку или две, в перерывах.
Закончила 12 окт. 1937 г. (вчерне)
Потом надеюсь одолеть ужасное 15 марта; получила сегодня телеграмму, что «Годы» не добрались до Америки. Я должна укрепить себя против погружения в болото. И пока, насколько могу судить, мой метод более чем эффективен.
Четверг, 18 февраля
Уже три недели пишу «Три гинеи» и написала 38 страниц. Кажется, на данный момент исчерпалась и хочу несколько дней заниматься чем-нибудь еще. Чем? Не могу придумать.
Суббота, 20 февраля
Я отворачиваюсь от «Пресс», когда иду наверх, потому что там все экземпляры романа «Годы» для газет. Они будут разосланы на следующей неделе, и это мой последний относительно мирный уикенд. Что же я с ледяной расчетливостью предвижу? Думаю, мои друзья сделают вид, что не заметили книгу; будут неловко переводить разговор на другое. Думаю, могу предсказать вялые отклики дружественных рецензентов — почтительную прохладу; победные кличи краснокожих индейцев, то есть Григов, которые радостно и громко объявят, что это затянутое пустословие чопорного ханжеского буржуазного ума и никто больше не принимает миссис В. всерьез.
Думаю, я жду, что они скажут — теперь, мол, миссис В. написала длинную книгу ни о чем.
Однако их напор меня не волнует. Больше всего я буду нервничать из-за неловкости, с какой меня станут принимать в Тилтоне или Чарльстоне, как там станут подбирать не идущие на язык слова. А поскольку мы никуда не тронемся до июня, то я получу полное представление о том, какой удушливой может быть атмосфера. Они скажут, что это книга уставшего человека; последняя попытка… Ну что ж, теперь, когда это написано, я чувствую, что вполне могу существовать в тени. То есть погрузившись в работу. А работы у меня предостаточно. Вчера мы с Нессой обсуждали книгу с картинками, скажем, к праздникам; мы готовы сами выпустить 12 литографий к Рождеству. Тем временем позвонила Марджери Фрай и попросила меня повидаться с Джулианом Фраем для книги о Роджере. Это начинает давить на меня. Кстати, Л. хочет получить «Три гинеи», если возможно, к осени; а у меня мой Гиббон, мое радио, возможно, «Биография» ради денег. Я планирую быть вне литературного круга, пока не уляжется шум. Но ожидание, если подумать, самое худшее. Ровно через месяц я буду чувствовать себя свободной. Сейчас у меня волнение лишь из-за теперь и потом.
Воскресенье, 21 февраля
Я опять переключилась после пяти дней перерыва (писала «Лица и голоса») на «Три гинеи»: мне даже удалось прибавить скорость, так как поначалу я тащилась вперед отвратительно медленно, и теперь надеюсь развернуться вовсю. Удивительно, как это другие быстро одолевают переходы от одного к другому. День на редкость тихий — вчера никого не видела; я отправилась на Шотландский рынок, но не смогла отыскать, где продают ложки; купила желтые перчатки за три шиллинга и чулки за один шиллинг, после чего вернулась домой. Опять начала читать по-французски: «Мизантропа»[228] и воспоминания Колетт, которые мне дала Джейни прошлым летом, когда я была не в себе и не могла ни на чем сосредоточиться. Сегодня рецензенты (о, ч…ски дурацкая мысль) вонзают в меня зубы; но плевать мне, ведь у меня перина из гусиного пуха и все прочее. Правда-правда, стоит мне войти в ритм «Трех гиней», и, не сомневаюсь, я буду видеть лишь блеск белых перил и тяжело шагать в узилище.
Воскресенье, 28 февраля
Я настолько поглощена «Тремя гинеями», что едва урываю время для этой записи. (Вот опять положила ручку и задумалась о следующем параграфе — университеты) — как перекинуть мостик к профессиям и так далее. Плохая привычка.
Воскресенье, 7 марта
Как будет видно на последней странице, моя душевная температура подскочила вверх; не знаю почему, разве что я набрала хорошую скорость с «Тремя гинеями». Неделя была тяжелая, и теперь надо ждать удара. Уверена, мне сильно достанется; но в то же время я убеждена, что удар не будет фатальным; то есть книгу наверняка охают, но и слегка похвалят; суть же в том, что я знаю, в чем ее «беда», и эта «беда» не случайная.
Мы продали по предварительной подписке 5300 экземпляров.
Еще я знаю, что у меня теперь есть своя точка зрения как у автора и как у человека. Как писательница я готова к еще двум книгам — к «Трем гинеям» и к книге о Роджере (не считая статей); в них суть и защищенность моей сегодняшней жизни, и этого не выбросить. Если честно, то я доказала это еще зимой. Я не играю. Честно, моя померкшая слава, сказывающаяся в отсутствии энтузиазма незнакомых людей по отношению ко мне, на самом деле дает мне возможность спокойного созерцания. К тому же мне нравится быть в стороне. Я никогда не искала чужого общества. Короче говоря, я защищена и буду смело смотреть вперед — после непременных метаний и смятения в следующие десять дней — на медленные темные плодоносные весну, лето и осень. Надеюсь, все установлено раз и навсегда. И, пожалуйста, вспомни об этом в пятницу, когда придут рецензии.
Пятница, 12 марта
Вот уж облегчение! Л. принес мне в постель «Lit. Sup.», сказав: вполне сносно. Так и есть. «Тайм и Тайд» считает меня первоклассной романисткой и великой лирической поэтессой. Мне уже не хочется читать рецензии; чувствую себя как в тумане, значит, это не чепуха; книга произвела впечатление. Однако ни в коей мере не то впечатление, которого я добивалась. Тем не менее, дорогая, я пережила долгую агонию и теперь свободна, совсем свободна, кругом свободна; и могу идти дальше. Перестань победно кричать и радоваться. Пора в Монкс-хаус. Сегодня Джулиан. Пользуюсь последними пятью минутами перед ланчем, чтобы записать, что, хотя я счастлива и теперь уж точно избежала унижения и раздражения и отчаяния, грозивших мне последние несколько недель, и избегу их в ближайшем будущем, я опять нагрузила себя «Тремя гинеями», которые даются мне трудно и напряженно. Итак, я опять тащу телегу по ухабистой дороге. Отдыха, полагаю, не предвидится; и нет ощущения, что все закончилось. Всех нас ведет инстинкт, и мы не можем жить без мучений. Итак, «Годы» окончательно покидают мои мысли.
Воскресенье, 14 марта
Я в жутком волнении из-за двух колонок в «Обсервер», восхваляющих «Годы» так, что я не могу, как хотела, продолжать «Три гинеи». Почему именно теперь я бездельничаю и с удовольствием думаю о людях, читающих эту рецензию? Как только вспомню об ужасе, который я пережила в этой комнате всего лишь год назад… когда мне пришло в голову, что моя трехлетняя работа ничего не стоит, и потом, едва подумаю обо всех тех утрах, когда я спотыкалась, кромсала гранки, писала три строчки и отправлялась в спальню, ложилась в постель — это было худшее лето в моей жизни и в то же время самое яркое — не удивительно, что у меня дрожат руки. Но больше всего меня радует очевидность — если уж де Селинкур увидел — найденное в «Годах» не надо выкидывать или забывать, как я боялась. «Т. L. S.» считает, что я написала лебединую песнь среднего класса: серию отдельных впечатлений; но не отрицает, что это творческая и конструктивная книга. Я пока еще не читала; но там точно указано на несколько ключевых фраз. А это значит, что будут дискуссии; это значит, что «Три гинеи» надо ковать, пока горячо; лишь бы мой тщательно продуманный план выдержал натиск жизни и т. д., но я в него верю. Хотя эта вера тоже великое открытие для меня.
Пятница, 19 марта
Теперь одно из самых странных впечатлений — «они» едва ли не хором говорят, что «Годы» — шедевр. «Таймс» говорит так. Бани[229], etc.; Говард Спринг. Если бы кто-нибудь сказал мне, даже неделю назад, не говоря уж о шести месяцах, что я напишу такое, я бы подпрыгнула, как подстреленная олениха. Настолько невероятным, немыслимым это было!
Кое-что о шедевре и о том, что миссис В. может дать нам больше любого из ныне живущих романистов… удивительная плодовитость.
Хвалебный хор начал петь вчера: кстати, я гуляла в Ковент-Гарден и дошла до Святого Павла, К. Г.[230], в первый раз, послушала, как старая уборщица поет, протирая кресла; потом пошла к Бернетам, выбрала газету; купила «Ивнинг стандард» и обнаружила, что здесь меня славят так же, как я прочитала в метро. Спокойное удовлетворенное чувство, слава; к тому же я теперь так закалена, что не думаю, будто лесть могла бы меня расстроить. Пора снова браться за «Три гинеи».
Суббота, 27 марта
Нет, я не собираюсь прихорашивать Гиббона — доведу статью до тысячи слов. Надо слишком много резать, а у меня на это не настроены мозги. Другое дело писать: горит камин, холодное ясное пасхальное утро; неожиданные лучи солнца; рано поутру россыпь снега в горах; неожиданно налетают бури, чернильно-черные, словно постарался осьминог; грачи беспокойно долбят своими клювами вязы. Что до красоты, то, как я всегда говорю, гуляя по террасе до завтрака, ее тут слишком много для одной пары глаз. Ее тут достаточно, чтобы осчастливить все население, если бы оно обращало на нее внимание. Странное сочетание сада с церковью; крест на церкви чернеет на фоне Ашем-Хилл. Здесь случайно собрались вместе все элементы английскости. Мы приехали в четверг, собирались в Лондоне в спешке; на дороге было много машин: вчера наконец полная свобода от телефонов и рецензий, никто не звонил. Я начала читать «Лорда Ормонта и его Аминиту»[231] и обнаружила такую богатую, такую непростую, такую живую, такую мускулистую прозу после чахлой бледной литературы, к которой привыкла, что, ах, мне вновь захотелось сочинять художественную прозу. Мередит недооценен. Мне нравится его попытка избежать примитивного повествования. К тому же у него есть юмор и проницательность тоже — больше, чем принято считать теперь. Еще Гиббон. Дел у меня хватает, и я заканчиваю писать во избежание неприятного гула в голове.
Пятница, 2 апреля
До чего же мне интересно с самой собой! Вполне восстановила силы и оживилась сегодня после того, как была совершенно потрясена в пятницу пощечиной Эдвина Мюира в «Лиснер» и Скотта Джеймса в «Лайф энд Леттерс». Оба оскорбили и унизили меня: Э. М. заявил, что «Годы» разочаровали его как нечто мертворожденное. Примерно то же написал С. Джеймс. Все цвета померкли, тростник поник. Мертворожденное, обманувшее надежды — я разоблачена, рисовый пудинг получился именно таким, как я предполагала, — несъедобным. В книге нет жизни. Она гораздо хуже сочинений мисс Комптон-Бернетт с их горькой правдой и очевидной оригинальностью. Мне было больно, я проснулась в четыре часа, мучилась ужасно. Весь день, когда ехала к Джэнет и возвращалась домой, была мрачная, как туча. Но около семи часов туча начала рассеиваться; появился хороший отклик из четырех строчек в «Эмпайер ревью». Лучшая из моих книг; наверное, это помогло. Но не думаю, что только это. Удовольствие взорваться вполне реальное. Почему-то почувствовала себя сильнее; ироничнее; энергичнее; воинственнее; в большей степени, чем получая похвалы.
Суббота, 3 апреля
Передача на радио 29 апреля. Будет вот что: искусства слов не существует. Собираюсь пренебречь названием и говорить о словах: почему они не позволяют создать из себя искусства. Слова говорят правду; и в них не заложена польза. На самом деле есть два языка: художественный и фактический. Слова бесчувственны… — не приносят денег — требуют тайны. Почему? Из-за их объятий соревнование продолжается. Мертвое слово. Пуристы и не пуристы[232]. Они лишь впечатление, не утверждение. Я тоже почитаю слова. Слова могут убивать. Нам нетрудно придумывать новые слова. Сквиш сквэш; крик крэк. Однако мы не можем пользоваться ими на бумаге.
Воскресенье, 4 апреля
Еще одна странная идиосинкразия. Мэйнард считает «Годы» моей лучшей книгой: сказал, что одна сцена Э. и Кросби выше всего «Вишневого сада» Чехова — и это мнение, хотя оно из литературного центра и принадлежит очень умному человеку, волнует меня гораздо меньше, чем нападки Мюира, которые проникают внутрь медленно, но глубоко. Дело не в тщеславии; здесь другое чувство; и оно умрет, как только уйдет в прошлое этот номер «Лиснер». Л. уехал в Тилтон и там вволю наговорится с давними друзьями. Мэйнард сказал, что считает «Годы» очень трогательной книгой: более нежной, чем мои другие книги; «Годы» не озадачили его, как «Волны»; символизм не страдание; книга очень красивая, и в ней сказано ровно столько, сколько нужно было сказать; это моя самая человечная книга; и самая бесчеловечная? Ох, забыть бы все это и писать — вот завтра и засяду.
Пятница, 9 апреля
«Такое счастье достойно жалости, ибо оно слепо». Правильно, но мое счастье не слепо. Это достижение, как я думала между тремя и четырьмя часами утра моего пятидесятипятилетия. Я лежала без сна, но такая спокойная и всем довольная, словно вышла из бурлящего мира в бескрайнее синее тихое пространство, где существовала с открытыми глазами, не доступная никакому злу; вооруженная против всего, что может посягнуть на меня. Никогда прежде со мной не происходило ничего подобного; однако нечто похожее я чувствовала несколько раз после лета: когда депрессия достигала своего предела, в те ночи в Монкс-хаус, когда я выходила из нее, когда откидывала одеяло и лежала в постели, глядя на звезды. Конечно, днем от этого не оставалось и следа, но ведь было же. И было вчера, после того как пришел старый Хью[233] и ни слова не сказал о «Годах».
Монкс-хаус. Понедельник, 2 июня
Наконец-то пошли «Три гинеи» — после пяти дней тяжелой работы, переписывания, до какой-то степени переделывания; мои бедные старые мозги вновь загудели — в основном, как мне кажется, потому, что я вчера слишком долго гуляла, вот и результат — было очень жарко. Как бы то ни было, я должна использовать эту страничку как беговую дорожку — ибо мне нельзя нажимать на себя все три часа; я должна расслабиться и побегать тут около часа. Самое худшее — потеря времени. Что прикажете делать весь последний час утра? Опять Данте. Но у меня сердце прыгает от счастья при одной только мысли, что никогда больше мне не придется писать длинную книгу. Никогда. В будущем будут только короткие книги. Длинная книга все же не будет совсем забыта — ее эхо не стихает.
Понедельник 14 июня. Годы все еще во главе списка.
Сказала ли я — нет, в Лондоне дни были слишком занятыми и слишком жаркими и не располагали к дневниковым записям — что Х. Брейс написал, как они счастливы, что «Годы» — бестселлер в Америке? Это было подтверждено моим положением во главе списка в «Gerald Tribune». Продали 25 000 экземпляров, без напряжения — мой рекорд.
(Теперь я мечтаю о «Трех гинеях».) У нас появилась мысль, если получим достаточно денег, купить пожизненную ренту. Как хорошо было бы не зарабатывать денег писанием.
Сомневаюсь, что мне удастся когда-нибудь сочинить еще один роман. Естественно, если только нечто вдохновит меня, как было с «Годами». Будь я другим человеком, я сказала бы себе: пиши, пожалуйста, критику; биографию; придумай новую форму и для того, и для другого; напиши еще что-нибудь совершенно новое: короткое, поэтичное.
Понедельник 12 июля. «Годы» все еще во главе списка и был всю неделю.
Судьбу не проведешь. Когда я сочиняла «Три гинеи» — надеюсь дописать, но еще не для публикации, в августе — я намеревалась отложить рукопись и взяться за Роджера.
23 августа. «Годы» на 2–3-м местах… 9 изданий.
Но сейчас мне кажется, что лучше месяц, июнь, вплотную поработать над «Тремя гинеями»; а потом читать и перечитывать заметки о Роджере.
Вчера, 22 октября, роман был последним в списке.
Кстати, меня не на шутку оскорбили в «Скрутини», назвав, как говорит Л., обманщицей в «Волнах» и «Годах»; чрезвычайно умно и высоко меня похвалил Ф. Фолкнер в Америке — вот и все.
(Я имею в виду, что это все, о чем мне стоило написать в отношении рецензий: предполагаю, что умному молодому человеку должно доставлять удовольствие разделываться со мной, — оно и правильно; однако лично Салли Грейвс и Стивену Спендеру роман нравится; итак, если суммировать, то я не знаю, какое на самом деле занимаю место, однако больше не собираюсь об этом думать. Гиббон был отвергнут «Нью рипаблик», так что в Америку я больше ничего не пошлю. И вообще не буду писать статьи, разве что для «Lit. Sup.», для которого собираюсь поработать над Конгривом.)
Вторник, 22 июня
Стыдно, конечно, писать тут, не взявшись за Конгрива. Но мои мозги после беседы с мисс Сартон, с Мюррей, с Энн вечером уже не работают, так что я не могу читать «Любовь за любовь»[234]. И за «Три гинеи» не возьмусь до понедельника — пока не переведу дух. Потом профессорская глава; потом финал. Сейчас главная задача — отвести кровь от мозга в какую-нибудь другую часть тела — согласно предписанию Г. Николсона, которое совершенно справедливо. Мне бы хотелось написать фантастическую историю о вершине горы. Ну да! О лежании на снегу; о цветовых кольцах; о тишине; об одиночестве. Но я не могу. Однако в один из ближайших дней все же нырну ненадолго в этот мир. Ненадолго — это навсегда. Больше никакой долгой работы; если раскаляться, то ненадолго. Вот бы придумать другое приключение. Довольно странно, как я увидела это — вчера на Чэринг-Кросс-роуд — в книге: новая форма. Брайтон? Круглая комната на волноломе — люди делают покупки, теряют друг друга — эту историю Анджелика рассказала летом. Но как она пойдет одновременно с критикой? Я пытаюсь получить четырехмерный мозг… жизнь в соединении с литературными эмоциями. Дневная прогулка — приключение разума; что-то вроде этого. И бесполезно повторять мои прежние эксперименты: эксперименты должны быть новыми.
Среда, 23 июня
Трудно писать, прочитав «Любовь за любовь» — шедевр. Даже не представляла, как это хорошо. И не представляла, какую радость приносит чтение таких шедевров. Прекрасный и трудный английский язык! Да, всегда надо держать поблизости классику, чтобы не допускать промахов. Однако я не могу изливать тут свои чувства; они пригодятся завтра для статьи. И мне не по силам читать вирши бедняжки Розмари, что я собиралась делать сегодня вечером. Как мог L. S. в «D. N. В.»[235] отвергнуть любовь К.; боли в одной этой пьесе больше, чем во всем Теккерее; а грубость часто оборачивается честностью. Но довольно — когда я вчера отправилась за покупками, на охоту в Селфриджис, то начало немилосердно припекать, а я была в черном — этим летом удивительные перемены погоды — то и дело налетает буря и тебя то подмораживает, то поджаривает. Едва мне стукнуло 52, длинный шлейф беженцев — как караван в пустыне — потянулся по площади: испанцы бегут из Бильбао[236], который пал, насколько я понимаю. На глаза мне навернулись слезы, но никто не удивился. Дети устало тащились за взрослыми; женщины были в дешевых лондонских жакетах и серых платках; молодые люди; все несли дешевые чемоданы и яркие синие эмалированные чайники, очень большие, и канистры, полученные в подарок от какой-нибудь благотворительной организации, — еле волочащая ноги процессия, изгнанная автоматами из Испании, чтобы теперь брести по Тависток-сквер, потом по Гордон-сквер, а потом? — с их постукивающими чайниками. Жуткое зрелище. Они, думаю, знали, куда идут, кто-то вел их. Один мальчик все время что-то говорил; другие были словно обращены внутрь себя, как часто бывает с изгнанниками. Очевидно, в этом причина, почему мы не можем писать, как Конгрив.
Воскресенье, 11 июля
Пропуск: не в жизни, а в записях. Каждое утро меня уносил с собой поток «Трех гиней». Но вряд ли они поспеют к августу. Я еще только в середине моего магического пузыря. Будь у меня время, я бы хотела описать необычный взгляд на мир — на бедный разорванный мир — взгляд, которым я пристально смотрю на него, стоит лишь преграде сделаться тоньше, — когда я устаю или меня отрывают от работы. Потом я вспомнила Джулиана, который сейчас где-то под Мадридом; и так далее. Маргарет Дэвис пишет, что Джэнет[237] умирает, и спрашивает, не напишу ли я о ней в «Таймс» — довольно странная мысль: как будто имеет значение, кто напишет и кто не напишет. Однако вчера я весь день думала о Джэнет. Мне кажется, писательство, мое писательство — вид спиритизма, а я — медиум.
Понедельник, 19 июля
Только что из Монкс-хаус, но не могу и не буду ничего писать — устала и возбуждена. К тому же вывернулась наизнанку — как могла, — чтобы написать что-нибудь о Джэнет для «Таймс». Ничего хорошего из этого не получилось: слишком сухо и манерно. Она умерла. Сегодня утром три записки от Эмфи (сестра Джэнет). Она умерла в четверг, закрыла глаза и «стала очень красивой». Сегодня ее кремируют; она напечатала небольшую траурную службу, оставив пустым место, где должна стоять дата смерти. Никаких речей: адажио из Бетховена и текст об искренности и вере, который я бы включила, если бы знала. Но какое значение имеет мое писание? Есть что-то четкое и целостное в памяти о ней, совершенное. Милой ветреной старушке Эмфи придется теперь учиться одиночеству. Для нас-то она останется легкомысленной и, тем не менее, очень трогательной, особенно ее фраза в письме, которую мне никогда не забыть, как она посреди ночи вбежала в комнату Джэнет и они мило провели время. Она всегда вбегала. Джэнет была стойкой и самоуглубленной, веровавшей во что-то, не совсем совпадающее с ортодоксальной верой. Но она на редкость не любила разговаривать. Никакого пристрастия к словам. Ее письма, кроме последнего, начинались словами: «Дорогая Вирджиния». Случайные прохладные слова. А я очень любила ее, еще когда жила в доме на Гайд-Парк-гейт; и меня бросало то в жар, то в холод, когда я собиралась на Уиндмилл-Хилл: воображаемая, она сыграла большую роль в моей жизни, пока воображение не стало частью литературной, а не реальной жизни.
Пятница, 6 августа
Неужели еще один роман выплывет наружу? А если да, то какой? На сегодня у меня есть только ощущение, что он должен состоять из диалогов, поэзии и прозы, но четко разделенных между собой. Больше никаких длинных замкнутых на себе романов. Но у меня нет порыва; надо ждать; не буду возражать, если импульса не будет вовсе; хотя подозреваю, что в один из ближайших дней все начнется сначала. Не хочу писать художественную прозу. Хочу попробовать несколько новых критических работ. Одно, думаю, уже ясно — я никогда не буду писать, чтобы «угодить», стать посвященной; отныне и навсегда я сама себе хозяйка.
Вторник, 17 августа
Сказать особенно нечего. Единственная жизнь, которую мне дарит это лето, у меня в голове. Вся ушла в работу. Три часа пробегают, как 10 минут, — переписываю «Герцогиню и ювелира»[238] для Чэмбрана, Н.-Й. Должна была послать заявку. Думаю, она не понравится. Однако было знакомое волнение, едва я взялась за эту маленькую экстравагантную штучку, — как мне показалось, большее, чем когда я пишу критику.
К счастью — если это правильное слово — я получила три электрических разряда — телеграммы с просьбами писать. Чэмбран предложил 500 фунтов за рассказ в 9000 слов. И я тотчас принялась сочинять приключение — десятидневное приключение — мужчина гребет, надев на руки черные вязаные чулки. Пишу ли я когда-нибудь, хотя бы здесь, для себя? А если не для себя, то для кого? Интересный вопрос.
Лондон. Вторник, 12 октября
Итак, мы опять на Тависток-сквер; и я не написала ни слова после 27 сентября. Это говорит о том, что каждое утро мой мозг доведен до предела «Тремя гинеями». Сегодня первое утро, когда я пишу в дневнике, потому что в двенадцать, то есть десять минут назад, я написала то, что считаю последней страницей «Трех гиней». Ох, как я мчалась вперед все эти утра! «Три гинеи» не давали мне покоя, рвались наружу. Клянусь, это было похоже на проснувшийся вулкан. А теперь мой мозг тих и прохладен.
Он уже отшипел — помнится, в Дельфах я думала об этом. А потом принудила себя включить это в роман. Да, на первом месте художественная литература. «Годы». Как же я старалась удержаться все время от той чудовищной депрессии и отказывалась, если не считать нескольких безумных записей, изливать ее на бумаге, пока «Годы» — ужасное бремя — не ушли от меня. Итак, я заслужила этот галоп. И время и мысли я тоже заслужила. Но как мне понять, хорошо это или плохо? Нужны еще библиография и примечания. А пока неделя передышки.
Вторник, 19 октября
Это неожиданно пришло мне в голову вчера вечером, когда я читала «Охоту»[239] — историю, которую должна послать в Америку (X. Б.)[240], — я увидела форму нового романа. Сначала надо заявить тему; потом еще раз заявить тему; и так далее; повторяя одну и ту же историю; отбирая то одно, то другое, пока не будет заявлена главная тема.
Это можно использовать и в моей критической книге. Но пока я не знаю как, ибо мой мозг совсем измучен, но я стараюсь понять. А случилось вот что: когда я закончила «Охоту», то подумала, вот женщина вызвала такси и собирается встретиться, скажем, с Кристабель на Тависток-сквер, которая вновь рассказывает ту же историю; или я сама выкладываю идею, рассказывая историю; или я найду еще одного персонажа в «Охоте», о чьей жизни я рассказываю; однако все сцены должны быть под контролем и расходиться от центра. Думаю, такая идея могла бы подойти; но надо работать как бы короткими вспышками; это будет маленькая и концентрированная книга; в ней могут быть самые разные настроения. Возможно включить кое-что из критики. Надо придержать эту идею на год-два, пока я работаю над книгой о Роджере, etc.
1938
Воскресенье, 9 января
Ничего, я заставлю себя начать этот проклятый год. Во-первых, я «закончила» последнюю главу «Трех гиней» и, во-вторых, не знаю, такого никогда не было, в котором часу закончила писать.
Пятница, 4 февраля
У меня десять минут. Л. всерьез одобряет «Три гинеи». Считает, что книга представляет собой в высшей степени ясный анализ. В целом я довольна. Здесь не нужны чувства, ибо, как говорит Л., это не роман. Все же, мне кажется, книга могла бы иметь больше практической ценности. Но я здесь гораздо бесстрастнее, это правда; думаю, здесь больше техники и книга не подействует на меня так, как обычно действуют романы.
Понедельник, 11 апреля
Как бы то ни было, но первого апреля, насколько мне помнится, я начала писать книгу о Роджере и с помощью мемуаров добралась до Клифтона[241]. Здесь больше техники, чем чувств; но, полагаю, придется переписывать. Все же двадцать страниц есть, а ведь я долго не могла взяться. Удивительное утешение заниматься таким разумным сочинительством, снимая жуткое напряжение «Трех гиней». Надеялась, что Л. будет больше меня хвалить. Впрочем, ему пришлось буквально проглотить записи. Подозреваю, что завтра гранки станут для меня холодным душем. Но я хотела — очень хотела — написать эту книгу; и у меня спокойное творческое настроение, словно я сказала моей книге: или бери меня, или поди прочь; с меня хватит; я свободна для новых приключений — в 56 лет. Вчера вечером опять начала придумывать: летний вечер; некая целостность; вот моя идея. Везде и всюду Роджер; во вторник Монкс-хаус, а потом инфернальная связка гранок. Интересно, права ли я, что в этом есть какой-то смысл — в «Трех гинеях» — есть точка зрения; есть усердие, продуктивность; и временами «хорошо написано» (если иметь в виду технические проблемы — цитаты, аргументы), как в любом другом из моих более или менее бессвязных сочинений! Думаю, «Три гинеи» лучше, чем «Комната Джейкоба»: эта книга, когда я ее перечитала, показалась мне немного эгоцентричной, манерной и эскизной; но у нее есть свое преимущество — скорость. Подозреваю, мои записи вульгарны и несколько навязчивы.
Вторник, 26 апреля
Мы отпраздновали Пасху в Монкс-хаус; однако солнце не появилось ни разу; было холоднее, чем на Рождество; недовольное небо со свинцовыми тучами; пронизывающий ветер; зимняя одежда; гранки; острое отчаяние; взнузданное, однако, божественной философией; радость от открытия «Пчел» Мандевиля (очень полезная книга; именно такая мне была нужна). Потом К[242], звонит; чтобы предупредить нас: получили ли мы письмо от Пипси[243]? Оттолин умерла. Ей сказали, что Пипси может умереть, и она умерла от шока; он просит вас написать о ней (с мистером Уиксом и мистером Масселлом, осматривавшими чердак на предмет устройства там комнаты). Итак, пришлось писать; неприятный шарик у меня в голове, и она кружится. Но все же, несмотря ни на что, я прикидываю новую книгу и молюсь, чтобы она не стала очередным тяжким грузом. Пусть она будет беспорядочной и экспериментальной; что-нибудь мне удастся выжать из себя утром, чтобы облегчить себе «Роджера»; никаких четких планов; призываю всю космическую беспредельность; приказываю своему уставшему и робкому мозгу взяться за другое — есть все части — и это не ненадолго. Чтобы порадовать себя, записываю: почему бы не «Пойнтцет-Холл»[244]; центр; вся литература обсуждается не без легкого нелепого живого юмора; все, что приходит мне в голову; но «я» отвергнуто, и вместо него «мы». Кому в конце концов будет брошен вызов? «Мы»… состоит из множества разных вещей… мы — жизнь, искусство, заблудшие и бездомные — бессвязное противоречивое, но каким-то образом унифицированное целое — сегодняшнее состояние моего мозга? Англия; живописный старый дом — терраса, по которой прохаживаются няни — ходят люди — постоянные перемены и разнообразие от раскаленных страстей до обычного повествования, и факты — и заметки; и — нет, хватит! Мне надо читать «Роджера»; потом поминальная служба в память Отт, представление Т. С. Элиота по его нелепому требованию. 2.30 — у Мартина в Филдсе.
Похороны Оттолин. Ох, ох, все так вяло; все всхлипывают, что-то бормочут; суета с сумками; шарканье ног; большая коричневая масса респектабельных дам из Южного Кенсингтона. Потом псалмы; священник с медалями на стихаре; оранжевые и голубые окна; игрушечный флажок Великобритании, торчащий из стены. Какое все это имеет отношение к Оттолин и к нашим чувствам? Разве что адрес пришелся к месту; критическое исследование, написанное в основном Филипом и прочтенное, с чувством, мистером Спиайтом, актером: здравая и светская речь, которая хотя бы заставила задуматься об ушедшем человеке, правда, упоминание о ее прелестном голосе напомнило о странном гнусавом стоне; тем не менее, и это было хорошо для снижения пафоса. Секретарь Ф. приколол мне бутоньерку и предложил сесть поближе. Доступ к скамье был прегражден дамой в мехах, которая сказала: «Я не могу пошевелиться». Вероятно, так оно и было. Я остановилась довольно далеко; однако достаточно близко, чтобы видеть спину Филипа в толстом пальто; его красную баранью голову, которой он вертел во все стороны, оглядывая ряды; я пожала ему руку, симулируя, боюсь, больше чувства, чем испытывала на самом деле, когда он спросил, понравился ли мне адрес, а потом медленно двинулся к ступеням — мимо Джека и Мэри, Стерджа, Муров, Молли и т. д.; у Гертлера слезы стояли на глазах; слуги; вперед выбилась леди Оксфорд, которая была тверда, как тяжелый габардин; с прямой спиной; с немного рассеянным взглядом, несмотря на косметику, благодаря которой у нее блестели глаза. Она сказала, что дружески пеняла Отт на ее голос; но лишь из любви. И все-таки чудная женщина. Скажите, почему же тогда все друзья с ней перессорились? Пауза. Она была exigeante[245], осмелился наконец произнести Дункан[246]. Марго перестала расспрашивать; перешла к историям о Симондсе и Джоуите, когда я с насмешкой заговорила о ее некрологе. Мой, написанный об Отт для «Таймс», не вышел, о чем я не очень сожалею…
Вчера шла по Далвич и потеряла брошку, когда, довольная, думала о том, что гранки прочитаны (26 апреля) и сегодня должны быть отосланы; больше я ничего не смогу исправлять. Чувствую себя совершенно свободной. Почему? Исполнила свой долг и ничего не боюсь. Могу делать все, что мне заблагорассудится. Больше я не знаменитая; не на пьедестале; за мной не охотится свет; отныне и навсегда — я сама по себе. Так я чувствую: ощущение пространства, словно надеваешь комнатные туфли. Почему это так, почему я чувствую себя вольной до самой смерти и не притворяюсь, когда говорю — эта книга плохая и не может вызвать ничего, кроме легкой насмешки; до чего же непоследовательная и эгоцентричная эта В.В. — почему, почему я не могу анализировать: сегодня взволнована.
Трудность в том, что я совсем погрузилась в мой фантастический «Пойнцет-Холл» и не могу заниматься Роджером. Что же делать? Все-таки это мой первый свободный день; и обо мне, то есть о моих «Трех гинеях», было довольно неловко извещено на первой странице нового надутого «Т. L. S.». Ничего не поделаешь; но я должна держаться за свою «свободу» — та же таинственная рука достала меня около четырех лет назад.
Четверг, 5 мая
Льет как из ведра; всюду сырость; самая ужасная весна, какую я помню; ручки исчезли, даже новая коробка; глаза болят из-за Роджера, и мне немножко страшно, ведь впереди тяжелая работа. Надо как-то уменьшать и разрыхлять текст; я не могу (помню) делать из этого длинное тщательное подробное исследование; позднее он должен стать более общим и летящим.
А как поступить с письмами? Нельзя же уходить от реальных фактов, противореча моей теории. Проблема. Но я убеждена, что не могу, физически, следовать портрету Р.А. Мне нечего прибавить к этой заведомой лжи?
Четверг, 17 мая
Сегодня у меня приятное утро, так как леди Рондда написала, что получает большое удовольствие от моих «Трех гиней» и очень тронута ими. Тео Бозанкет, которой был послан экземпляр для рецензирования, читает ей вслух отдельные куски. Она уверена, что книга очень значительная, и называет себя благодарным профаном. Хорошее начало; значит, книга волнует людей; заставляет задуматься; ее обсуждают; и не растащат по мелочам. Итак, леди Р. уже в какой-то степени на моей стороне; правда, поскольку она в высшей степени патриотична и у нее очень развито гражданское чувство, то, возможно, ей захотелось поспорить. Неизвестно, сколько еще всколыхнется чернильниц — я, мрачная и застывшая в последние недели, безразличная; и рассеянная, если учесть то напряжение и то волнение, с какими (правда) я писала книгу. Неизвестно, вспыхнет ли пожар в Европе. Еще один выстрел в полицейского, и немцы, чехи, французы вновь начнут весь этот ужас. Четвертое августа[247] может наступить на следующей неделе. Сейчас затишье. Л. говорит, К. Мартин говорит, мы говорим (премьер-министр)[248], что на сей раз война неизбежна. Гитлер жует свои ощетинившиеся усики. Все трепещут, и моя книга может стать вроде мотылька, танцующего над костром, — еще мгновение, и он сгорит.
Пятница, 20 мая
Пора описать мои ожидания, страхи и так далее до публикации — как будто 2 июня — «Трех гиней»; я не делала этого, потому что живу в солидном мире Роджера и (вновь сегодня утром) в воздушном мире «Пойнтцет-Холла» и больше ни о чем не думаю. Не хочу думать. Больше всего я боюсь внешнего очарования и пустоты. Боюсь, что книга, которую я писала, изо всех сил стараясь отделаться от невыносимой тяжести, не возмутит даже поверхность. Вот чего я боюсь. А еще мне неловко играть роль в публичной жизни — боюсь рассказывать автобиографию на публике. Мои страхи перевешиваются (и это правда) отвоеванными миром и покоем, и я радуюсь этому. Нет больше ни прежнего отравления, ни прежнего возбуждения. Но и это не все. Избавившись от них, мой мозг компенсировался. Мне не нужно возвращаться и повторяться. Я — аутсайдер, любительница. Могу идти своим путем; по-своему экспериментировать с собственным воображением. Стая пусть воет, но ей никогда не догнать меня. И даже если стая — рецензенты, друзья, враги — не обращает на меня внимания, не глумится надо мной, я все равно свободна. Это реальный результат той духовной конверсии (здесь не место подбирать слова), случившейся осенью 1933 или 1934 года, — когда я бежала по Лондону, помнится, покупая великолепную посуду, в самом восторженном состоянии, возле «Блэкфрайарс»[249]; когда я дала мужчине, который играл на арфе, полкроны только за то, что он поговорил со мной о своей жизни в туннеле метро. Приметы перепутались: Л. менее взволнован, чем я рассчитывала; Несса отзывается в высшей степени неопределенно; мисс Хепворт и миссис Николлс говорят: «Женщины многим обязаны миссис Вулф». Я же обещала Пиппе книги. Теперь к письмам Р. В Монкс-хаус сейчас холодно и гуляет ветер.
Пятница, 27 мая
Странно работать меньше чем вполсилы после прошедших месяцев крайнего напряжения. В результате каждый день пишу тут по полчаса. Перепечатываю «Роджера»; потом напишу об Уолполе. Только что подписывала ярко-зелеными чернилами всякие письма. Однако не буду распространяться, как отвратительно делать то, что приходится делать. Благодарное письмо от Брюса Ричмонда, подводящее итог моему тридцатилетнему сотрудничеству с ним и с «Lit. Sup.». Мне всегда было приятно, когда Л. звал меня к телефону: «Тебя требует Главный Журнал!» И я бежала к телефону в Хогарт-хаус за едва ли не еженедельным указанием! Почти всему, что я умею, меня научил он: сокращать; оживлять; и еще я научилась читать с ручкой и блокнотом, всерьез. Теперь надо ждать неделю — когда это закончится и внимание ко мне сойдет на нет. Не попророчествовать ли? В целом, будет больше горечи, чем радости; насмешки запоминаются крепче, чем энтузиазм леди Рондды. А насмешек будет много — будут и злые письма. Кто-то промолчит. А потом — через три недели, считая со вчерашнего дня — мы уедем. К седьмому июля, когда мы вернемся, — или раньше, потому что нам быстро надоедают отели — все будет кончено иди почти все; а потом, думаю, года два я вообще не буду ничего публиковать, кроме американских статей. Но самое худшее — последняя неделя ожидания, правда, и она не так уж плоха — никак не сравнима с ужасом перед выходом романа «Годы» (тогда меня охватило мертвящее безразличие, до такой степени я была уверена в провале).
Вторник, 31 мая
Письмо от Пиппы. Ей нравится. Это последнее, что тяготило меня — и тяготило очень сильно, ибо я чувствовала, что если я написала все это, а ей не понравится, то мне придется довольно жестоко бороться с самой собой. Но она говорит, что это как раз то, о чем они мечтали; и яда больше нет. Теперь я могу спокойно отнестись к музыке, или ослиному вою, или гусиному крику рецензентов, и (честно) я даже ловлю себя на том, что время от времени забываю о близящемся конце недели. Никогда еще я не ждала рецензий в таком настроении. И мне все равно, что скажут мои кембриджские друзья. Мэйнард может насмехаться сколько хочет, мне нет до этого никакого дела.
Родмелл. Пятница, 3 июня
Сегодня выходят в свет «Три гинеи». В «Lit. Sup.» две колонки и передовица; в «Рефери» известная черная женщина-адвокат объявляет сексуальную войну или что-то в этом роде. Этот день своим кудахтаньем почти не отличается от остальных дней, так что я спокойно занималась «Пойнтцет-Холлом»; даже не прочитала Р. Линда и не проглядела статьи ни в «Реф.», ни в «Таймс». Честное слово, с меня словно тяжесть свалилась, и я совершенно спокойна. Не хочу читать рецензии и выслушивать чужие мнения.
Интересно, почему? Потому что мне больше нравится общаться, чем писать поэму? Наверняка что-то в этом роде. К счастью, между нами и грохотом 50 миль из войлока. Сегодня солнечный, теплый, сухой, по-настоящему июньский день, но позднее пойдет дождь. Ох, как мне понравилось, что «Lit. Sup.» заявил, будто я самый замечательный памфлетист в Англии. А еще — что эта книга, если отнестись к ней всерьез, является знаком эпохи. А еще «Лиснер» считает меня на редкость честной и по-пуритански отказывающей себе в полетах. Но это почти все.
Как бы то ни было, наступил конец шестилетнего барахтанья, борьбы, отчаяния, немножко радости: если взять «Годы» и «Три гинеи» и сложить их в одну книгу — оно так и есть. Теперь я вновь могу удалиться, чего мне очень хочется. Быть наедине с собой, в одиночестве, погруженной в себя.
Воскресенье, 5 июня
Это были самые легкие роды из всех. Не сравнить с «Годами»! Я проснулась, зная, что начнется тявканье, и тотчас забыла об этом. Вчера получила «Тайм и Тайд», и разные лондонские непонятности; сегодня — «Обсервер»: Селинкур. Ужасное обвинение. «Санди таймс», «Нью стейтсмен» и «Спектейтор» решили, вероятно, подождать до следующей недели. Температура держится на одной отметке. Я предсказываю большое количество писем во вторник вечером: некоторые будут анонимными и обидными. Но я добилась своего; меня принимают всерьез, не отвергают как очаровательную болтушку, вопреки моим страхам. Вчера «Таймс» поместила параграф, озаглавленный «Миссис Вулф обращается к женщинам», это серьезный вызов, на который должны ответить все думающие люди — или что-то в таком роде: предваряя «Lit. Sup.»: пожалуй, ничего подобного еще не было, и тут кроются серьезные намерения.
Болдок. Четверг, 16 июня
Остановились разжечь трубку на Икнилд-Уэй, маленькой улочке с желтыми виллами. Святой Иаков. За Кройландом[250] величественный разрушающийся собор. Очень жарко; равнина; старик удит рыбу. Огромные пространства, выставленные напоказ. Река поднялась выше дороги. Едем в Гейнсборо. Ланч в Питерборо; фабричные трубы. Ворота на железнодорожную станцию открыты; снова едем. Гейнсборо. Красный дворец в венецианском стиле поднимается среди бунгало в квадрате нескошенной травы. Высокие окна, покосившиеся стены. Лабиринт узких улочек. Странный забытый городок. Воскресенье в Хаустедсе[251]. Колючки; овцы. Стена и перед ней белоголовые мальчишки. Миля за милей бледно-лиловая лаванда. Одна едва заметная дорога красной нитью проходит по всему огромному пространству неухоженной пустоши. Сегодня сплошные тучи, хмуро и ветрено. Стена — как волна с острым гребнем, которая поднимается, прежде чем упасть и разбиться. Потом опять ровное пространство. Под гребнем болото. Ждем, когда прекратится дождь, потому что весь вчерашний день по стене гулял ветер и барабанил дождь. Теперь мы посреди пустоши в нескольких милях от Корбриджа[252] и опять ждем. Кругом тучи. Поют жаворонки. Ланч откладывается. Компания из девяноста человек собралась на ланч в гостинице в Пиерсбридже. Ощущение такое, что местные жители явились на постоялый двор восемнадцатого столетия отметить спортивную победу. Дом шотландского священника, сад: очень солидный частный дом принимает пансионеров. Горячая ветчина, фрукты, настоящие сливки; окна смотрят на уродливую гряду. Сегодня с утра болотистый Уош[253]. Потом Пеннинские горы[254]. Они закутаны в душный туман. Поют жаворонки. Л. ищет воду для (спаниеля) Салли (она должна быть перед стеной). Воскресенье. Сидим на обочине дороги под Римской стеной[255], пока Л. чистит свечи зажигания. Я читаю греческие стихи в переводе и размышляю. Когда человек читает, его мозг напоминает пропеллер самолета, невидимый, быстрый и неосознанный — такое состояние достигается весьма редко. Неплохое оксфордское вступление, чтобы вступить в контакт, современное: ученое, все-таки Оксфорд. Ведомые общим чувством, коровы идут на вершину холма[256]. Все следом за одной. Ветер раскачивает машину. Слишком ветрено, чтобы лезть наверх и смотреть на озеро. Причина, почему холмы до сих пор Римские, — пейзаж вечен… что видели они, то вижу и я. Ветер, июньский ветер, вода и снег. Овцы на торфяных участках как жемчужины. Никакой тени, никакого укрытия. Римляне следят за границей. Никто не идет.
Вторник. Мы в Мидлотиане. Остановились, чтобы заправить машину. Едем в сторону Стерлинга. Шотландский туман ложится на деревья. Нормальная шотландская погода. Высокие холмы. Уродливые пуританские дома. Водолечебница, построенная 90 лет назад. Женщина окликнула нас и сказала, что в субботу видела миссис Вулф, гуляющую в Мелрозе[257]. Я ей привиделась, потому что меня там не было. Галашилс — фабричный город. Ужас. Обрывки разговоров, услышанные в водолечебном Мелрозе. Шотландские дамы с тихими голосами сидят возле окна на закрепленных за ними местах рядом с камином. «Я удивилась, что вы гуляете с зонтиком». Та, что вяжет: «Не знаю, смогу ли я отстирать это и надеть снова. Я работаю в грязи». Тут встреваю я: мы остановились в Драйберге и хотели бы пойти на могилу Скотта. Она находится под упавшим паланкином разрушенной часовни. Крыши пока хватает, чтобы прикрывать ее. Вот тут он лежит — сэр Вальтер Скотт, баронет. На коробке с шоколадным бланманже эти слова выведены большими буквами. Дама Шарлотта, которая похоронена рядом с ним, покрыта таким же шоколадом, видно, такой у него был вкус. Ему бы это понравилось. Аббатство впечатляет, по полю течет река. Кругом старые шотландские развалины. Я сорвала ветку белой сирени на память, но потеряла ее. Места вроде бы много, но Скотт зажат со всех сторон. Рядом полковник, в ногах Локхарт, его зять. Рядом Хэйг[258], весь в темно-красных маках. Старые дамы обсуждают доктора Джона Брауна, чей брат имел практику в Мелрозе. Скоро у кого-то заболит голова, притупятся чувства. Кто-то съест слишком много кексов за чаем, а в семь обильный обед. «Я думаю, он очень мил — ее муж. Но она и сама личность. Очень приятный кр-у-уг. Где они живут? Уехали в Пертшир… У меня три петли лишних… Мисс Пис пошла в библиотеку со своим другом, хотела разжечь камин. Она не звонила в колокольчик? А вот и вы! (не поднимая глаз от вязания). Сейчас так много незанятых комнат. Два года назад исполнилось сто лет (Драйбергу?). Я тоже была. Служили службу — очень интересно. Все священники. Пятеро на возвышении. Возможно, там был и председатель городского собрания. В любом случае, было очень мило, и день выдался прекрасный, и народу пришло очень много. Птицы пели хором. День рождения Алана Хэйга. Служба была в Драйберге. Мне нравится Д. Я не бывала в Йедберге — там ужасно красиво». Нет, боюсь, мне не описать это. Старушки, которые сидят на диване, на самом деле не намного старше меня. Ну да, им лет по 65. «Эдинбург прелестен — мне он нравится. Мы должны уехать, прежде чем узнаем его. Надо уехать из того места, где родился. Тогда, если возвращаешься, все становится по-другому. Пусть на год — пусть на два. Я уеду (не отрываясь от работы) и посмотрю, что будет. В какую церковь вы ходите? В Шотландскую церковь — а не церковь святого Джайлса. Здесь был Трон. Мы ходим в церковь святого Джайлса. Был еще приход Святого Георгия — мой муж был старостой в приходе Святого Георгия, на Шарлотт-сквер. Вам нравится Во? В общем нравится, но я не слышу его, какая жалость. У него очень емкие проповеди — из них нечего выбросить. Хор прекрасный. Свободное место мне не достанется, судя по всему. Я чувствую, как недостойно бегу с толпой. Толпа не добралась до меня — надо сидеть тихо — я присутствую на службе — я слышу молитвы, музыку молодых людей. Неплохо смотрелось, когда они шли из Чертополоховой часовни[259]. Они прошли мимо. Я встала и последовала за ними. Есть места, которые никто никогда не занимает, и чаще всего это лучшие места. Мне нравится церковь Святого Джайлса, здесь по-старинному красиво. Старая дама, чье место я заняла, сказала, что церковь вся обновлена. Это сделал Чемберс, а когда открывали церковь, для его семьи не нашлось места. Плохая организация. Кто-то все же усадил их. Глупо. Всегда какие-то изменения в верхах церковной иерархии. Мне нравится епископат. Если епископат, то пусть будет епископат, если Шотландская церковь, то пусть будет Шотландская церковь. Брат доктора Во в Данди. Ему нравится Роузнит. Кто-то сказал, что священник в Роузните очень деликатен».
Ветер в ярости; деревья стоят голые; пресные лепешки да еще голубая фунтовая банкнота — вот и все отличия. Гленкоэ. Грозное место. Зеленые горы, плывущие острова. Движущийся поток автомобилей; жителей нет, одни туристы… Полосы снега на Бен-Невисе. Море. Маленькие суденышки; ощущение Греции и Корнуолла. Желтые флаги и большие наперстянки; никаких ферм, деревень, коттеджей; мертвая земля кишит насекомыми. Старик, который не смог подняться со стула. Еще две женщины, у одной ноги вываливаются из туфель. Все переодеваются к обеду и сидят в гостиной. Хорошая гостиница в Крианларихе. Озеро с висящими сталактитами, зеленые деревья посередине. Холмы. Они словно покрыты зеленым плюшем. Бэннингтон из Итон-Плейс. Она отыскала вечнозеленое растение для своего свекра, ботаника. Небо светлеет в 11. Плохую рецензию о «Трех гинеях» написал Д. М. Янг. Мне было больно десять минут; и все. Лох-Несс проглотило миссис Хамбро. Она носила жемчужные украшения.
Устав от переписывания, я разорвала все, что оставалось, — урок на следующее путешествие, не делать карандашных заметок и не переписывать их. Потом пожалела. Гостиничные эксперименты Босуэлла. Женщина, чья бабушка работала у Вордсвортов, помнит его стариком в пальто в красную полоску, все время бормочущим стихи. Иногда он гладил детей по головам, но никогда не заговаривал с ними. А вот Х. Кольридж все время пила с мужчинами в пабе.
Четверг, 7 июля
Ох, до чего же трудно вернуться к «Роджеру» после того, как меня швырнуло к «Трем гинеям» и «П.X.». Не могу сконцентрировать внимание на мелких подробностях в письмах. Сегодня утром заставила себя отправиться в Фэйлэнд 1888 года. Однако Джамбо (Марджери Стрэчи) вчера вечером вылила ушат холодной воды на идею биографии человека, у которого не было жизни. У Роджера, сказала она, не было жизни, о которой можно писать. Собственно, она права. А теперь я потею над подробностями. Все очень мелкое и накрепко увязано друг с другом — все задокументировано. Неужели писать в этом масштабе? Неужели таким он будет интересен людям? Думаю ничего не менять до моей встречи с ним в 1909 году, а потом попытаюсь написать что-нибудь более художественное. Но прочитать письма необходимо. Надо все время что-то чему-то противопоставлять. Моя точка зрения: его — одинакова с другими. А потом и его книги.
Суббота, 6 августа
Мне в общем-то нравится работать над «П.X.» Что-то есть; но это никому не понравится, если даже прочитают. Энн Уоткинс, кстати, говорит, что читатели «Атлантик» недостаточно знают Уолпола, чтобы понять мою статью. Отказала.
Среда, 17 августа
Нет, не буду продолжать «Роджера» — сейчас мне нужны кровь и пот из старых статей — занимаюсь ими до ланча. Украду 25 минут. На самом деле я погружена в «Роджера». Разве я не сказала, что хватит? Разве Л. не сказал, что нет никакой спешки? Но мне уже 56; подумать только, что Гиббон позволил себе еще 12 лет жизни и умер внезапно. Почему на сворке всегда напряжение, гонка, принуждение? Я хочу лишь одного — сезон спокойной погоды. Размышлений. Иногда у меня это получается около трех часов ночи — я всегда просыпаюсь в это время, открываю окно и смотрю на небо поверх яблонь. Ночью был страшный ветер. Все виды сценических эффектов — деревья клонились чуть не до земли, потом небо очищалось, потом все начиналось сначала, после захода солнца пейзаж стал таким фантастическим, что Л. заставил меня посмотреть в окно ванной комнаты — буйство красных туч; беспросветность; словно фиолетово-черная акварель, хрупкая, как лед; а потом полосы ярко-зеленого камня; синего камня и мерцание алого света. Нет; передать это невозможно; деревья в саду; отраженный свет; на краю обрыва раскаленные кочерги. Итак, за ужином мы говорили о нашем поколении и о возможности войны. Гитлер поставил под ружье миллион человек. Или это летние маневры, или?.. Гарольд[260], выступая по радио в своей манере гражданина мира, намекнул на вероятность войны. Это будет полная гибель не только европейской цивилизации, но и нашего последнего убежища. Квентин призван на военную службу, etc. Люди стараются не думать об этом — вот и все. Продолжают рассуждать о новой комнате, о новом кресле, о новых книгах. А что еще делать комару, попавшему на острие травинки? Я тоже буду писать «П.X.» и другие вещи.
Воскресенье, 28 августа
Ужасное лето, ручьи сухие. Еще ни одного гриба. Воскресенье в Монкс-хаус — день, отданный на откуп дьяволу: собаки, дети, колокола… все идут на вечернюю молитву. Мне негде приткнуться. Совсем разбита после трех трудных игр в шары. Шары — наша мания. Чтение отодвинуто в сторону. Накрепко связана с Роджером: довела его, со всей возможной твердостью, до Америки. Теперь нырну в художественную прозу, потом сочиню главу, которая предварит перемену. Читабельно ли это — и, господи помилуй, сколько еще будет чистки и ужимания. Динг-донг колокольчик… динг-донг — почему нам нравится жить в деревне? Ведь мы по своей воле отправились сюда! А они в любой момент могут навести на нас пушки и взорвать нас. Л. весь почернел. Гитлер лишь слегка придерживает своих псов. Один шаг — в Чехословакии[261] — как с австрийским эрцгерцогом в 1914 году — и опять будет 1914 год. Динг-донг, динг-донг. Все ушли гулять. Серый душный вечер.
Четверг, 1 сентября
Великолепный ясный сентябрьский день. Сибил грозится обедом — но, возможно, оставит нас в покое, если ей удастся затащить к себе министра. Политика определяет наше время. Злая атака К. Ливиса на «Три гинеи» в «Скрутини». Но Ливис вроде бы не внушил мне вселенского ужаса. Да я и не прочитала его до конца. Однако это знак того, каких неприятностей мне ждать. Но там все личное — беды самого Куини и нападки на мое высокомерие. Не знаю, почему мне стали безразличны похвалы и ругань. Но это правда. Сегодня утром легкое разочарование в биографии Роджера: слишком подробная и плоская. Тем не менее, я должна взяться за нее завтра и, боюсь, отложить в сторону «П.X.». Квентин заканчивает со столом. Мы решили оставить столешницу корнуоллского кремового цвета. Вчера я обнаружила новую дорогу к реке через Телскомбскую долину.
Итак, Куини была тотчас перечеркнута письмом от Джейн Уокер — тысяча благодарностей… «Три гинеи» должны быть прочитаны каждым англичанином и каждой англичанкой, etc.
Понедельник, 5 сентября
Странно в это прекрасное сентябрьское утро сидеть тут, читать о подробностях в отношениях Роджера и М.М. в Нью-Йорке, слушать топотание воробья на крыше, когда опять могло бы случиться 3 августа 1914 года[262]… Что принесет с собой эта война? Тьму, насилие; возможно, смерть. Ужас друзей; и Квентин: …Все это там, на континенте, в мозгу смехотворного человечка. Почему смехотворного? Потому что ничто не сходится: не соответствует реальности. Смерть, война и тьма — об этом ни капли не заботится ни один человек от мясника до премьер-министра. О свободе, о жизни тоже. Сон горничной, от которого мы очнулись, и памятник, воздвигнутый в честь погибших во время Первой мировой войны, напоминание нам о том, чем грозит война. Нет, у меня нет сил представить себе это в полной мере. Будь это реальностью, можно было бы что-нибудь сотворить. А так, пока это лишь бормотание, неясное, за пределами реальности. Мы можем сегодня вечером услышать его сумасшедший вопящий голос. Нюрнбергский сбор[263] уже начался: и продлится следующую неделю. Что будет с нами через десять дней? Предположим, мы проскочили, но ведь в любое мгновение может случиться непредвиденное, и тогда начнется кошмар. На сей раз все в напряженном ожидании. В этом разница. И так как мы все одинаково во тьме, то не можем разбиваться на кружки и группы; мы начинаем ощущать стадный инстинкт; все спрашивают: какие новости? Что вы думаете? Единственный ответ: поживем — увидим.
Тем временем старый мистер Томпсетт, 74 года ездивший на лошадях к речкам и по полям, умер в больнице. В среду Л. будет читать его завещание.
Суббота, 10 сентября
У меня нет ощущения реального кризиса — по крайней мере, как тогда с Роджером в 1910 году на Гордон-сквер, о чем я только что писала; а теперь, как ни трудно, я переключусь на другое, потому что осталось всего двадцать минут до ланча. На следующей неделе в это время у нас уже может быть война. Все газеты по очереди и одинаково — вероятно, текстом, надиктованным правительством, — мрачно, но сдержанно предупреждают Гитлера, что, если он нападет на нас, мы будем сражаться. Они якобы спокойны и невозмутимы. У них нет права на провокационные высказывания. Все продумано до мелочей. А на самом деле мы просто-напросто тянем время, по возможности не выказывая нервозности, до понедельника или вторника, когда заговорит оракул. Но нам хочется довести до его сведения, что мы думаем. Сомнительно только, чтобы наши слова достигали неслышащих длинных ушей. (Я думаю о Роджере, а не о Гитлере — я от всей души благословляю Роджера и жалею, что не могу сказать ему об этом, ибо он подарил мне себя для размышлений — что помогает мне существовать в этой сумбурной нереальности.) Суровые мужчины словно не могут отвести изумленного взгляда от построенного ребенком песочного замка, по необъяснимой причине превратившегося в настоящий огромный замок, для разрушения которого потребно много пороха и динамита. Ни один человек не в силах это осознать. Но и правду сказать нельзя. Значит, остается забыть. Тем временем в небе, вдоль и поперек над нашими холмами, рыскают самолеты. Все приготовления завершены. Истошно завоют сирены, едва появится первый намек на вражеское вторжение. Мы с Л. больше не говорим об этом. Гораздо приятнее играть в шары и рвать георгины. Они горят огнем в гостиной, красные на фоне вчерашней черной ночи. Теперь у нас есть балкон.
Вторник, 20 сентября
Так как я не в силах работать — немного болит голова, — то могу позволить себе сделать приблизительный набросок следующей главы[264]. (Я была поглощена «П.X.», отсюда головная боль. Интересно, что художественная литература требует гораздо большего напряжения, чем биография, — это удовольствие.)
А что если сделать перерыв после смерти Хелен (безумие)? Процитировать собственные слова Р.? Потом перерыв. А потом начать с первой встречи. Первое впечатление: гражданин мира, не академик и не богема. Потом его письма к матери. Потом вновь вернуться ко второй встрече. Картины; разговор об искусстве; я выглядываю из окна. Его настойчивость — глупость своего рода — желание заставить вас любить то же, что любит он. Пыл, поглощение, возбуждение интереса — нечто вроде вибрации, словно кружение сумеречной бабочки вокруг него. Или изобразить здесь какую-нибудь сцену — у Отт? Потом Константинополь. Прогулка на автомобиле; побольше подробностей; его глухота. Потом процитировать письма, полученные Р.
Первый показ в 1910 году.
Насмешка. Цитата из У. Бланта.
Впечатление, произведенное на Р. Еще один крупный план.
Письмо Макколлу. Его освобождение.
Радость. Нашел свой метод (но это было ненадолго. Его письма к В. показывают, что он был под ее влиянием).
Любовь. Как сказать, что он никогда не был влюблен?
Передать довоенную атмосферу. Отт. Дункан. Франция.
Письмо Бриджесу о красоте и чувственности. Его требовательность к себе. Логика.
Четверг, 22 сентября
По ошибке я написала несколько страниц из «Роджера» в дневнике; доказательство, если требуется доказательство, что я люблю поговорить и все мои книги — сплошная путаница. Да, в этот момент у меня пачки писем, отправленных В.Б. в 1916–1917 годах, — в них прославления Оксфордской земли — бесчисленные папки, в каждой письма, вырезки из газет и цитаты из книг. Тем временем приходят многочисленные полуофициальные письма, посвященные «Трем гинеям» (уже продано 7017…). После отъезда Беллов все равно не получается ни уединения, ни тишины, ни работы, как мы планировали. Полагаю, кому-то это нравится. Все же я вошла в старый, очень старый ритм регулярного чтения, сначала эта книга, потом другая; все утро «Роджер»; гуляю от двух до четырех; шары от пяти до шести тридцати; потом мадам де Севинье; обед в семь тридцать; читаю Роджера; слушаю музыку; занимаюсь «Кандидом» Эдди, читаю Зигфрида Сассуна; отправляюсь в постель в одиннадцать тридцать и так далее. Очень хороший ритм; но, кажется, мне удастся поддерживать его всего несколько дней. На следующей неделе ничего от этого не останется.
Четверг, 6 октября
Еще 10 минут. Сделала наскок на «П.X.», ибо могу писать его лишь один час. Как «Волны». Мне очень нравится; а в голове набирает силу «Роджер». Два дня назад случилась сильная буря. Без прогулок. Все яблоки на земле. Отключили электричество. Мы пользовались четырьмя подсвечниками с шестью свечами, которые купили в Вулворте. Обед готовится и дымит в столовой. Рабочие красят полы. Комнату должны закончить на этой неделе. От политиков только и слышишь; «Я говорил… Вы говорили. Я не говорил». Газет не читаю. Наконец-то впала в созерцательность. Мирная жизнь: почему бы не попытаться поверить в нее? Не могу собраться с духом насчет С. Реми. То хочу, то не хочу. Мечтаю о переменах; даже при свечах мне нравится читать Севинье. Мечтаю о Лондоне и свете; мечтаю о хорошем вине; мечтаю о полном одиночестве. Вчера говорила об этом с Л., когда мы шли в Пиддинхоу.
Пятница, 14 октября
Когда наступят длинные темные вечера, я собираюсь делать две вещи: писать экспромтом, как теперь, множество коротких стихотворений, чтобы включить их в «П.X.», если они придутся к месту; собрать, сложить вместе мои бесчисленные заметки для «Т.L.S.» и посмотреть, не получится ли из них материал для критической книги: цитаты? замечания? ведь это английская литература, как я читала и комментировала ее все прошедшие двадцать лет.
Вторник, 1 ноября
Макс[265] похож на Чеширского кота. Круглый. С большой головой. С голубыми глазами. Взгляд неуловимый. Похож на Брюса Ричмонда — сплошные округлости. Он говорит, что никогда не входил ни в какие объединения. Даже в юности. Это серьезная ошибка. В молодости надо думать. Есть только один правильный путь. И я думал. Это очень серьезно, и мне не понять. «Мир состоит из множества несходств. Я существовал вне группировок. Вот милый Роджер Фрай, который любил меня, был прирожденным лидером. Самый «озаренный». Таким он был. Мне даже не с кем его сравнить. Я слушал его лекции по эстетике искусства. И был разочарован. Он буквально не отрывался от записей — переворачивал страницу за страницей… Хэмпстед совсем не стал хуже. Несколько лет назад я останавливался в «Замке Джека Строу»[266]. У моей жены была инфлюэнца. Так вот барменша, искоса глядя на нее, сказала — у моей жены инфлюэнца была дважды — «Вы жадная, да?» Это выражение стало бессмертным. Все барменши таковы. По-моему, я раз десять был в пивных. Джордж Мур ничего сам не видел. Он понятия не имел, о чем думают мужчины и женщины. Все брал из книг. Ах, боюсь, вы напомните мне об «Ave atque Vale»[267]. Да, это прекрасно. Да, правда, тогда он не мог не видеть сам. Иначе это было бы вроде очаровательного озера, в котором нет рыбы». Керит[268]… Коулсон Кернахан? (Я рассказала, как К. К. остановил меня в Гастингсе. Вы Эдит Ситвелл? Нет, я миссис Вулф. А вы? Коулсон Кернахан.) Тут Макс стал что-то злобно бормотать. Неожиданно заявил, что они знакомы еще со времен «Желтой книги»[269]. Он написал «Бога и муравья». Продал двенадцать миллионов экземпляров. И еще воспоминания. Как я был гостем лорда Робертса… Великий человек поднялся с кресла. У него глаза — карие? голубые? черные? — нет, у него были настоящие глаза солдата. И он написал книгу «Знаменитости, которых я не встречал», Макс Бирбом.
Теперь о том, как он писал, милый Литтон Стрэчи сказал мне: сначала я пишу одно предложение, потом другое. Так я пишу. Одно за другим. Но мне кажется, что писать надо, словно бежишь по лугу. Это по-вашему. Когда вы идете в свою комнату после завтрака — что вы чувствуете? Я обычно смотрю на часы и говорю, о боже, пора писать статью… Нет, сначала я читаю газету. Мне никогда не хотелось писать. Обычно, возвращаясь вечером с какого-нибудь обеда, я хватался за кисть и рисовал карикатуру за карикатурой. Они как будто сами поднимались вот отсюда… он прижал руку к животу. Полагаю, это называется вдохновением. То, что вы сказали в вашем очаровательном эссе обо мне и о Чарльзе Лэме, совершенная правда. Он был безумцем; у него был дар; гений. А я слишком похож на Джека Хорнера[270]. Я вытаскиваю из себя самое лучшее. И оно слишком округлое, слишком совершенное… У меня около полутора тысяч читателей. О, я знаменит в основном благодаря вам и важным людям, подобным вам. Я часто перечитываю свои работы. У меня сложилась привычка читать их глазами людей, которых я уважаю. Довольно часто я читаю их так, как если бы их читала Вирджиния Вулф — отмечаю те места, которые должны вам нравиться. А вы так не делаете? О, попробуйте.
С Ишервудом мы с встретились на пороге. Он совсем неуправляемый, как мальчишка; с очень живыми глазами; кусачий; плутоватый. Этот молодой человек, сказал У. Моэм, «держит в своих руках будущее английской литературы». Очень восторженный. Несмотря на яркость Макса и свою особенность, которую он полностью осознает и с которой считается, это был поверхностный вечер; полагаю, потому, что я не могла выкурить принесенную с собой сигару. Это на более глубоком уровне. Из-за искусного хозяйничанья Сибил мы все время держались на поверхности. Истории, комплименты. Дом как бело-серебристо-зеленоватая раковина; панели; старинная мебель.
Среда, 16 ноября
Очень мало высоких мгновений. Я имею в виду мир и покой, благодаря которым взираешь на все как будто сверху вниз. Я сделала это умозаключение, поднимаясь по лестнице. Символично. Я «иду вверх по лестнице», когда пишу «Биографию». А будет ли у меня хоть одно мгновение наверху? Когда я закончу книгу о Роджере? Или когда буду в постели, между двумя и тремя часами ночи? В них нет регулярности. Но они часто являлись мне, когда я мучилась с «Годами».
Вчера ночью от плеврита умерла Виола Три: она была двумя годами младше меня.
Помню, какая у нее была кожа, словно абрикосовая, с редкими янтарными волосками. Глаза казались выпуклыми из-за краски внизу. Высокая богоподобная женщина и старая трудяга; она широко ступала своими длинными ногами, и ей многое удалось в конце концов. В последний раз я видела ее на приеме в «Горгулье», где она была, как всегда, излишне экспансивна. Мне не пришлось видеть ее другой, но она всегда мне нравилась. Мы встречались примерно раз в год, говорили о ее книгах. Она обедала у нас в тот вечер, когда была опубликована ее книга «Замки Испании». Я пошла пить чай в Вобурн-сквер, масло было завернуто в газету. В гостиной стояла двуспальная итальянская кровать. Виола жила инстинктами и была очаровательна, как хорошая актриса: богемна и сентиментальна. И еще, я думаю, она была безукоризненной непосредственной матерью и дочерью; не амбициозной; умела жить; полагаю, мучилась из-за денег; была экстравагантной и очень храброй; и мужественной — создательницей живописного окружения. Она была большой и сильной и должна была дожить до восьмидесяти лет; вне всяких сомнений, этот замок был разрушен последними часами; хотя кто знает. Ей было дано кое-что переводить в слова. На этой неделе свадьба ее дочери Вирджинии. Только подумать — Виола лежит мертвая. Как это неуместно, ненужно.
Вторник, 22 ноября
Я собиралась записать Впечатления о своем положении как писательницы. Мне не хочется читать Данте; у меня есть десять минут, свободных от переделки рассказа «Лапин и Лапина», написанного, кажется, в Ашеме то ли двадцать, то ли больше двадцати лет назад, когда я работала, вероятно, над «Ночью и днем».
Много воды утекло. Меня вознесли на вершину, скажем, лет десять назад, потом обезглавили У. Льюиса и мисс Стайн, теперь я как будто — если подумать — конечно же, устарела, ничто для молодых в сравнении с Морганом[271]; все же написаны «Волны»; но не похоже, что я напишу еще что-нибудь стоящее; перешла во второй ряд и наверняка буду совсем сброшена со счетов. Мне кажется, такова моя репутация на сегодняшний день. Основана она, главным образом, на критике Ч. Коннолли, произносимой между коктейлями: распушенный на ветру птичий хвост. Как я к этому отношусь? Гораздо спокойнее, чем ожидала. Но ведь я никогда этого не понимала. Я хочу сказать, что никогда не считала себя знаменитой, поэтому и не ощутила свержения. Правда, после «Волн» и «Флаша» меня взялся разоблачать, как мне показалось, «Скрутини». У.Л. пошел в атаку. Я знала об активной оппозиции. Но мне стали привычны похвалы молодых и недовольство стариков. Свинью подложили «Три гинеи», потому что на меня набросились и Д. М. Янгс, и пишущие для «Скрутини». Да и мои собственные друзья стали меня бойкотировать. Так что мое положение неясно. Несомненно, у Моргана положение гораздо выше. И у Тома[272] тоже. Ну и что? Отчасти это даже радует. В сущности, я настоящий аутсайдер. Делаю, что могу и чувствую себя сильной, когда стою, прижавшись к стене.
Странные чувства, однако, возникают, когда пишешь против течения; трудно оставаться безразличной к течению. Но я, конечно же, стараюсь. Это заметно, если в «П.X.» вообще что-нибудь заметно. В любом случае, есть еще мой критический ум, на который можно положиться.
Понедельник, 19 декабря
Это последнее утро — потому что завтра будет черт знает что, — когда я могу подвести итог прошедшего года. По сути, еще десять дней, даже больше, однако в этой вольной тетради позволено все — я хотела написать «вольности», но моя мелочная совестливость не разрешила; вопросы о моих взаимоотношениях с искусством прозы. В целом, искусство начинает поглощать меня — больше? — нет, думаю, оно поглощало меня едва ли не с младенчества, когда в Сент-Ивзе я царапала историю в духе Готорна на обитой зеленым плюшем софе в гостиной, пока взрослые сидели за обеденным столом. Последний обед в прошедшем году был в честь Тома.
В прошедшем году я работала над «Тремя гинеями» и первого апреля начала писать о Роджере, которого довела до 1919 года. Еще я написала об Уолполе; рассказ «Лапин и Лапина» и «Искусство биографии». Прием «Трех гиней» был интересным и неожиданным — я ведь не знала, чего ждать. Проданы 8000 экземпляров. Никто из моих друзей слова не произнес об этой книге. Мой широкий круг расширился — но я все еще блуждаю в потемках, не в силах оценить по достоинству свою книгу. Она?.. Нет, не хочу даже формулировать; потому что, как известно, никто еще этого не сделал. Гораздо меньше единодушия, чем по отношению к «Своей комнате». Приговор, вынесенный мне тогда, как будто самый толковый. Еще я написала 120 страниц «Пойнтцет-Холла». Думаю, получится страниц 220. Попурри. Я бросилась в него, желая отдохнуть от давивших на меня фактов из будущей книги о Фрае. И тут увидела все целиком — а в апреле ухватилась за это, как за брошенную мне нитку: писала, не имея ни малейшего понятия, о чем будет следующая страница. Потом пошло и пошло. Я писала ради удовольствия.
1939
Пятница, 6 января
Итак, доведя старым пером Роджера до Джозетт, беру новое перо и провожу последние пять минут великолепного январского утра, заполняя первую страницу тетради нового года. Последние пять минут перед ланчем — как торжественна эта важная тетрадь сейчас, когда я в таком состоянии! Ведь я еще не остыла от последней фразы. Но и ее я еще перепишу с дюжину раз. Итак, главная тема — работа; Роджер; все остальное — обычные родмеллские темы. Это значит, я дала слишком много воли морозу. Мы приехали 14–15 дней назад и обнаружили, что все трубы замерзли. Пять дней шел снег — было пронизывающе холодно; ветер. Целый час нам не давала прохода снежная буря. На колесах были цепи. Рождество мы праздновали в Чарльстоне и Тилтоне. А через два дня я проснулась и увидела повсюду зеленую траву. На длинных льдышках над кухонным окном, словно на носах, висели капли. Льдышки таяли. Трубы отмерзали. Стоит июньское утро с восточным ветром. И срок истек. Но книга, тем не менее, начата. Возможно, голова прояснится и завтра у меня будет минут десять.
Понедельник, 9 января
Мозги у меня стали, пока я работала над Роджером, как старая половая тряпка — Господи, глава с Джозетт — в ней слишком много подробностей, и они связаны между собой — надо увеличить ее, сначала в этой безответственной тетради, а у меня четыре дня до возвращения в воскресенье к прозе, и ни днем больше. Хотя я вообще-то вымучиваю из себя желание писать, даже прозу. Родмелл, особенно зимой — препятствие для работы мозга. Я пишу три полных часа; гуляю два часа; потом читаю с перерывом на приготовление обеда, музыку, новости до половины двенадцатого. Вот так я прочитала очень много писем, адресованных Роджеру и написанных самим Роджером; немного Севинье; Чосера — и несколько чепуховых книг.
Четверг, 19 января
Несомненно, для меня великое поощрение — то, что мое сочинение берет «Харперз». Узнала сегодня утром. Рассказ прелестный, я люблю его. Да и 600 долларов не помешают. Но больше всего, должна заметить, чтобы расширить мою теорию о работе без одобрения, успех согревает и оживляет. Не буду это отрицать. Вероятно, из-за него у меня сегодня утром полным ходом пошла работа над «П.X.». Полагаю, я выработала более точный метод суммировать отношения; к тому же стихи (метрические) сами собой выпрыгивают из прозаической лирики, которой я, как правильно говорил Роджер, злоупотребляю. Кстати, это было лучшее критическое замечание за долгое время: я поэтизирую свои скучные сцены, выпячиваю собственную индивидуальность; не позволяю идее отделяться от материи.
Вторник, 28 февраля
По правде говоря, нехорошо, что я пишу в дневнике, только когда мне необходимо выговориться. Поэтому здесь отражаются лишь моя хандра и уныние, и ничего больше. Отдыхаю от Роджера. Один день счастья с «П.X.». Слишком много посылок; отправляем книги; немеет затылок. Как всегда, стоит мне сдаться, и комары успокаиваются. Всегдашние комары. Не имеет смысла уточнять. Мне надо «говорить» перед политехниками; и приглашений становится все больше. К всеобщей неразберихе прибавились бесчисленные беженцы. Вот — я написала о них, хотя дала себе слово ни о чем таком не упоминать.
Суббота, 11 марта
Вчера, то есть десятого марта, в пятницу, я написала последнее слово в первом варианте книги о Роджере. И теперь начинаю — уже даже не начинаю, а просто переделываю и переделываю. Работа не из приятных, да еще бесконечные сомнения в себе как в биографе, вообще в возможности довести задуманное до конца; тем не менее, я это сделала и теперь могу позволить себе короткое мгновение блаженства. Фактов более или менее хватает. И у меня нет времени на бесчисленные кошмары. В книге должна быть искра жизни — неужели в ней лишь прах и пепел?
Вторник, 11 апреля
Читаю Диккенса, чтобы прийти в себя. Как он живет; не пишет; одновременно в чистоте и в грехе. Словно на твоих глазах возникает что-то, не имеющее разума. Все же аккуратность и даже иногда проникновение — например, в мисс Сквирс, мисс Прайс[273], фермера — потрясающие. Я не могу не читать критически, даже если бы захотела. Читаю Севинье, профессионально, для задуманного мной быстрого объединения книг. В будущем я собираюсь писать быстрые, насыщенные, короткие книги и никогда ничем не связывать себя. Это способ избежать успокоения и охлаждения старости. И спустить на воду все созданные мной теории. Все сильнее и сильнее сомнения в том, достаточно ли у меня знаний, чтобы написать хотя бы обычные строчки, пусть даже излишне эмоциональные и банальные. Умер Морис, последний из братьев Дэвисов; а Маргарет жива — живет очень осторожно; я часто думала; зачем продолжать, если все время отмеривать понемножку сил и направлять их на легкие задачки, зачем длить годы? Читаю Ларошфуко. Вот суть моей тоненькой коричневой тетради — она заставляет меня читать — с карандашом в руке — бежать по запаху; отбирать хорошие книги; а не из сочувствия — гладкие рукописи и юные скрипучие опыты, когда слова в большом количестве вылетают из разинутого клюва неоперившегося птенца. Мне нужен Чосер. Итак, когда у меня появится время — наверное, на следующей неделе будет побольше одиночества — я начну, если не будет войны, мой путь вверх и вверх на ту великолепную высоту, где так редко приходится жить: где разум работает быстро, словно во сне, как пропеллеры. Но я должна перепечатать последний кусок с Клифтоном; чтобы освободиться от долгов и завтра начать с Кембриджа. Неплохо, как мне кажется, есть напряжение и форма.
Четверг, 13 апреля
Два дня инфлюэнцы, не сильной, но, как всегда, неприятной для головы, поэтому сегодня утром я здесь только для того, чтобы просмотреть кое-какие письма Роджера. Закончила первые сорок страниц — детство и так далее — меньше чем за неделю; потом большей частью была автобиография; теперь политика. Сегодняшняя речь Чемберлена в парламенте. Полагаю, война не завтра, но все ближе.
Вчера прочитала 100 страниц Диккенса и поняла нечто неуловимое о драме и прозе; резкость, карикатурность многих сцен, навсегда формирующих персонаж, идут от сцены. Литература — то есть тень, намек, как у Генри Джеймса — почти не используется. Все ярко и выпукло. Довольно монотонно; но все же так богато, так творчески; да, но не высшего творчества, не намеками. Все выложено на стол. Нет ничего, что волнует в одиночестве. Вот почему все так стремительно и привлекательно. Нет ничего такого, из-за чего захотелось бы отложить книгу и подумать. Это все размышления под влиянием инфлюэнцы; и я настолько не в себе, что затаскиваю сэра хулигана в дом и выжимаю над огнем.
Суббота, 15 апреля
Я как будто неплохо поработала над «Роджером»: не думаю, что на каждую главу мне понадобится по две недели. И это довольно забавно — решительно расправляться с трудной работой, проделанной за год. Кажется, я вижу ее целиком: мой метод компиляции оказался совсем неплохим. Наверное, написанное мной слишком похоже на роман. Все равно. Нет писем; нет новостей; и я не настолько уверена в своей голове, чтобы позволить себе чтение. Л. просмотрел книгу. Мне хотелось бы отдохнуть — несколько дней во Франции — или проехаться по Котсволдсу[274]. Однако учитывая, как много у меня есть такого, что я люблю, — неприятна (я всегда так начинаю) — суровость, которую принесет с собой война; все станет бессмысленным; нельзя будет ничего спланировать; к тому же, у всех появляются одинаковые чувства; вся Англия одновременно думает об одном и том же — об ужасах войны. Никогда прежде не ощущала это так сильно. А потом наступает временное затишье — и вновь получаешь свою частную жизнь.
Надо заказать в Лондоне макароны.
Среда, 26 апреля
Сделала четверть — 100 страниц — «Роджера», которые будут у меня к завтрашнему дню. Всего 400 страниц, и если 100 потребовали трехнедельной работы (правда, меня отрывали) — на все понадобится девять недель. Да, мне нужно закончить к концу июля. Мы могли бы уехать. Скажем, в августе. Тогда перепечатать можно было бы в сентябре… Ну вот — в это время в будущем году книга увидит свет. Я же буду свободна в августе — вот уж тяжелая работа; еще я предполагаю небольшой интерес к книге, скажем, шести-семи человек. Меня будут ругать.
Четверг, 29 июня
Из-за трудностей с Роджером и РIР у меня голова идет кругом, и я позволила ей отдохнуть тут минут десять. Интересно, почему? А если придется читать еще раз? Наверное, если я продолжу заниматься собственными воспоминаниями, то буду отдыхать от Р. и из этого может выйти толк. Вчера был ужасный день; охота за туфлями в «Фортнамс»[275]. Распродажа нераспродаваемого. Еще атмосфера, британский высший класс; все непроницаемые и с красными ногтями; я выглядела смешной — меня словно отхлестали; я нервничаю, однако беру себя в руки, под дождем возвращаюсь через Парк. Прихожу домой и пытаюсь сосредоточиться на Паскале. Не получается. Все же это единственный способ прийти в себя, так что я хотя бы стараюсь успокоиться, если не в силах понять. Тонкости теологии мне не даются. Тем не менее, я понимаю Литтона — моего милого старого змея. До чего призрачна наша жизнь — он мертв, а я читаю его и стараюсь делать то, что мы оба хотели делать в этом мире, хотя иногда прошедшее кажется мне иллюзией — все было так быстро: жизнь была быстротечной и нечего предъявить, кроме маленьких книжечек. Вот почему я топаю ногой и останавливаю мгновение. После обеда пошла с Л. в клинику; ждала снаружи с Салли, которая все время рвала поводок; любовалась вечерним пейзажем; а при виде красновато-серых облаков на темно-лиловом с желтизной небе над Риджентс-Парк едва не запрыгала от удовольствия.
Понедельник, 7 августа
Сейчас я собираюсь поставить смелый опыт — все бросить и прекратить ужимание «Мечты и формы», чтобы посочинять минут десять вместо переделывания, как намечено по плану утренней работы.
О да, мне хотелось написать о нескольких вещах. Не совсем дневниковых. Впечатления. Модные уловки. Оба — Питер Лукас[276] и Жид — занимаются этим. Никто не может всерьез творить. (Полагаю, sans Роджер, я могла бы.) Такие размышления — своего рода междометия — всегда под рукой в подобные времена. Вот и я чувствую так же. А что я думаю? Я думаю о Цензорах. До чего же придуманные персонажи влияют на нас. Это очевидно в рукописи, которую я сейчас читаю.
Если я напишу так, такой-то сочтет меня сентиментальной. Если напишу по-другому… сочтет меня буржуазной. Мне кажется, что в наше время все книги окружены невидимыми цензорами. Отсюда неловкость, тревога. Стоило бы разобраться в них. Были ли цензоры у Вордсворта? Сомневаюсь. До завтрака читала «Руфь»[277]. Меня поразили ее покой, нечаянность, отсутствие всего, что отвлекает внимание, сосредоточенность и, как результат, «красота». Словно разуму должно иметь возможность обволакивать собой объект и, непотревоженному, производить на свет жемчужину.
Чем не идея для статьи?
Метафорически это значит, что все существующее вокруг разума стало теснить его. Плачущий в поле ребенок предвещает нищету; мой покой; подумать. Надо ли мне идти на деревенские соревнования? «Надо» вторгается в мои размышления.
Одеваясь, я подумала, что было бы интересно описать приход старости и постепенное приближение смерти. Как другие описывают любовь. Отметить каждый плохой симптом; но почему плохой? Вопреки всем остальным, почему бы не трактовать возраст как опыт и не отмечать все стадии постепенного движения навстречу смерти, ведь это потрясающее переживание и не бессознательное, по крайней мере, в отличие от рождения.
Пожалуй, пора вернуться к работе, хватит отдыхать.
Среда, 9 августа
Работа довела меня до умопомрачения и уныния. Как мне справиться с этой главой? Один Бог знает.
Четверг, 24 августа
Все-таки гораздо интереснее писать не о любовных увлечениях Р., а о его «кризисе». Итак, события в разгаре. Началась война?[278] В час собираюсь послушать новости. Они очень отличаются, эмоционально, от сентябрьских прошлой осени. Вчера в Лондоне было почти безразличие. В поезде никакой толпы — мы ехали поездом. Нет особого движения на улицах. Один из перевозчиков мебели призван на военную службу. Судьба, как сказал старший рабочий. Против судьбы не пойдешь. В 37-м[279] царит хаос. Встретила на кладбище Анну[280]. Она сказала, пока, во всяком случае, никакой войны не будет. Джон[281] сказал: «Я не знаю, что думать». Однако на генеральную репетицию похоже. Музеи закрыты. Прожектор на Родмелл-хилл. Чемберлен говорит, что опасность близка. Русский пакт — неприятное и непредвиденное событие. Мы теперь напоминаем отару овец. Никакого подъема. Покорное недоумение. Подозреваю, некоторые жаждут «преуспеть на войне». Заказываем в два раза больше еды и немного угля. Тетя Вайолет нашла прибежище в Чарльстоне. Ничего реального. Приступы отчаяния. Трудно работать. «Чемберс» предлагает за рассказ 200 фунтов. Туман над болотом. Самолеты. Стоит только нажать на кнопку, и мы вовлечены в войну. Данциг[282] еще не взят. Чиновники бодрые. Я добавляю одну соломинку к другой, не торопясь углубляться, парализованная своим писанием. Сейчас нам не за что воевать, говорит Анна. Коммунисты сбиты с толку. Железнодорожная забастовка прекращена. Голос лорда Галифакса, голос поместного дворянина на радио. Луи спрашивает — а одежда подорожает? За этим, конечно же, кроется пессимизм. Мальчиков разрывает на куски; матери, как Несса два года назад. И все же в любой момент возможно отклонение вправо. Общее чувство перекрывает личное, потом отступает. Дискомфорт и раздражение. И к этому еще неразбериха в доме 37.
Среда, 6 сентября
Первая сирена, возвестившая воздушную тревогу, была сегодня в восемь тридцать утра. Звук постепенно усиливался, пока я лежала в постели. Тогда я оделась и вышла вместе с Л. на террасу. Небо чистое. Все дома закрыты. Завтрак. Чисто. Налет на Саутварк[283]. Никаких новостей. Хепворты объявились в понедельник, словно после морского путешествия. Вымученные разговоры. Скука. Все как будто лишилось смысла. Едва ли стоит читать газеты. В.В.С[284]. сообщает новости на день раньше. Пустота. Беспомощность. Можно писать и писать. Но я собираюсь сосредоточиться на Роджере. Боже, это худшее из всего, что у меня было. Суть в том, что я буду испытывать лишь телесные чувства: холод и вялость. Бесконечные помехи. Мы повесили занавески. Привезли уголь и т. д. в коттедж, где живут восемь женщин и детей из Баттерси[285]. Будущие мамы все время ссорятся. Некоторые уехали вчера обратно. Мы взяли машину, чтобы иметь крышу, встретили Нессу, и нас повезли пить чай в Чарльстон. Да, этот мир стал пустым и бессмысленным. Неужели я трусиха? Физически — скорее всего, да. Завтрашняя поездка в Лондон заранее пугает меня. В крайней нужде мне хватает адреналина, чтобы сохранять спокойствие. Но мой мозг не работает. Взяла сегодня утром часы со столика и положила обратно. Ни к чему. Я мучаюсь. Вне всяких сомнений, это можно преодолеть. Однако мой разум как будто свернулся клубочком и не желает принимать решения. Чтобы его вылечить, надо почитать солидного автора типа Тони. Упражнение для мускулов. Хепворты увозят книги в Брайтон. Пойти погулять? Да. На нестроевых заводятся насекомые и мухи. Эта война развязана хладнокровно. Кто-то взял и решил, что пора привести в действие убивающую машину.
Итак, «Афиния»[286] утонула. Это кажется полной бессмыслицей — непонятная резня. Словно в одну руку взяли кувшин, а в другую — молоток. Зачем нужно было уничтожать? Никто не знает. Появилось новое, неведомое прежде, чувство. Обескровлена вся общественная жизнь. Никаких кино и театров. Никаких писем, кроме — побочными путями — из Америки. «Атлантик» отказался от «Обзоров». Друзья не пишут и не звонят. Итак, меня, пожалуй, ждут долгое морское путешествие, беседы с незнакомцами, множество маленьких неудобств и переговоров. Конечно же, никакого желания сочинять. Отличная летняя погода.
Я как инвалид, который только и может что смотреть в потолок и пить чай. Неожиданно с облегчением хватаюсь за ручку. Результат прогулки по жаре, спасения от духоты и приведения в порядок давления. В этой книге я аккумулирую свои заметки, в первую очередь свидетельствующие об учащении пульса. В сотый раз повторяю себе — любая идея реальнее любого количества военных несчастий. Человек создан для идей. Это единственный вклад, который он может сделать, — негромкий перестук идей во время фейерверка в честь свободы. Так я говорю себе. Подбадриваю воображение — иллюзия: появляется ощущение чего-то давящего снаружи, уплотняющего туман; нечто несуществующее.
У меня появилась идея, когда я гуляла по прогретой пустоши и обратила внимание на что-то облачно-желтое, сделать статью из пятнадцати дневников. Такую работу не назовешь трудной: не то что не дающаяся мне книга о Роджере. Найду ли я несколько часов для чтения? Должна найти. Сегодня ночью налет был не таким сильным, как на Саутварк, на Портсмут, на Скарборо; попытка достичь Восточного побережья обошлась без ущерба. Посмотрим, что будет.
Понедельник, 11 сентября
Только что прочитала три или четыре характеристики у Теофраста, с трудом делая перевод с греческого языка на английский, и теперь могу писать об этом. Пытаюсь вновь сосредоточиться на греческом. Довольно успешно. Как обычно, греки дерутся, бросают дротики, шныряют, где хотят! Никакой латинянин не написал бы, что невоспитанный человек по ночам вспоминает своих должников. Грек все подмечает. До Теофраста и Платона длинный путь. Однако попытаться стоит.
Четверг, 28 сентября
Нет, я не уверена в дате. Вита будет сегодня к ланчу. В 12 закончу с Роджером, потом почитаю что-нибудь жизненное. Не собираюсь давать волю своим мозгам. Короткие острые замечания. Как-то так получилось, что мой мозг не очень силен теперь, когда книга подходит к концу, хотя я сумела бы быстро набросать что-нибудь прозаическое или, например, статью. Почему бы не освободить его? Неужели его убила моя добросовестная работа над «Годами»? Итак, я берусь за Стивенсона — «Джекилл и Хайд»[287] — не очень-то я их люблю. Прекрасный солнечный сентябрь. Ветреный, но очень ясный. А я не могу писать.
Пятница, 6 октября
Ну вот, мне удалось, несмотря на помехи других государств, вновь переписать всего «Роджера». Нечего говорить, что книгу надо еще переделывать, ужимать, оживлять. Смогу ли? Все время что-то отвлекает. Сейчас пишу статью о Льюисе Кэрролле и читаю много разных книг — жизнь Флобера, лекции Р, кроме того, жизнеописания Эразма и Жака Бланша. Миссис Уэбб, которая часто говорит о нас, пригласила нас к ланчу. И у меня трясутся руки от такой перспективы. Немного успокоилась, приведя в порядок свою комнату. Не представляю, где взять сил, чтобы сделать следующий шаг. Том[288] в этот уикенд. Я собиралась описать беседу в вагоне третьего класса. Беседу деловых людей. Средоточие мужской жизни. Сплошная политика. Разговор неторопливый, обдуманный, о женщинах с презрением и безразличием. Например: мужчина держит «Ивнинг стандарт» и показывает на фотографию женщины. «Женщины? Пусть сидят дома и любуются своими кольцами», — говорит мужчина в синем саржевом костюме и с синяком под глазом. «Обуза» — еще один фрагмент. Сын каждый вечер посещает лекции. Странное чувство, когда заглядываешь в холодный мужской мир: непроницаемый для погодных изменений; страховые агенты — все преуспевающие; все за семью печатями; самонадеянные; замечательные; язвительные; неразговорчивые; они объективны и хорошо обеспечены. Но есть худые, чувствительные; есть школьники; есть мужчины, едва зарабатывающие на кусок хлеба. В раннем поезде говорят: «Не понимаю, откуда у людей берется время на войну. Наверно, это те парни, у которых нет работы». — «Лучше уж дурацкий рай, чем настоящий ад». — «Военный психоз. Мистер Гитлер и его приспешники — все бандиты. Как Аль Капоне». Нет ни одной трещинки, в которую показалось бы книжное искусство. Они решают кроссворды, когда прогорает страховая фирма.
Суббота, 7 октября
Странно, как в первые совершенно нереальные дни, когда разразилась война, на меня нахлынули идеи, мне захотелось работать, я почувствовала, что у меня застучало и закружилось в голове, более истощенной, чем когда бы то ни было. В результате журналистика. Должна сказать, это неплохо; потому что она заставляет быть немногословной и требует организованности. Уверенной рукой собираю разрозненные главы R, потому что понимаю — пора остановиться и написать статью. Идеи статей обуревают меня. Почему бы не сделать что-нибудь для «Таймс»? Легче сказать. Надо всеми силами держать форт Роджера — книга должна быть перепечатана и к Рождеству отдана Нессе.
Четверг, 9 ноября
Какое же счастье вновь завладеть чистой страницей. Однако, полагаю, скоро мои мучения с Роджером закончатся. Еще раз переделываю последние страницы: как будто они нравятся мне больше прежнего. Думаю, идея разбить последнюю главу на части была удачной. Если бы только я могла поставить точку.
В журналистике самое худшее то, что рассеивается внимание, будто дождик на море.
«Обзоры»[289] вышли на прошлой неделе и не исчезли в небытии, как я ожидала. «Lit. Sup.» напечатал кислую и брюзгливую передовицу; этот тон мне отлично известен — скрипучий и болезненный. Потом нечто вежливое и ошеломленное, подписанное Y. Y, в «Н.С.». И мой ответ — не знаю почему, но когда я пишу ответ, то вечно представляю себя пляшущей, как обезьяна в зоопарке; быстро все проговариваю на ходу, а потом переделываю и переписываю. Это заняло целый день. Полагаю, заняло впустую. Если хочешь по-своему, пеняй на себя. Только, ради всевышнего, не принимай театральную позу и ничего не изображай.
Четверг, 30 ноября
Совершенно измученная, уставшая, несчастная и злая, вот и изливаю тут мои чувства. Р. не получился — до чего же была тяжелая работа… и все об этом. У меня изнемогли мозги, но я не должна поддаться желанию все крушить и ломать — я должна наполнить мой разум светом и кислородом; гулять и кутать его в туман. Помогают резиновые сапоги. В них можно ходить по болоту. Нет, все-таки пора заняться воспоминаниями.
Суббота, 2 декабря
С усталостью и раздражением можно справиться, стоит лишь давать себе время от времени день отдыха. Я пошла в дом и легла. Вечером боль в голове утихла. Вновь стали приходить разные мысли. Надо запоминать. И всегда переворачивать подушку. Тогда мысли не переведутся. Стоит придержать их, пока не закончу с Р. Было неприятно вновь всплыть на поверхность и быть истерзанной памфлетом. Клянусь, в этом году больше никаких полемик. Идеи; о долге писателя. Нет, с этим погожу. Вчера вечером взялась читать Фрейда, чтобы расширить свои познания и придать мыслям больший масштаб, объективность; выйти наружу. Таким образом можно предотвратить возрастное усыхание. Все время браться за что-то новое. Менять ритм, etc. Использовать эти страницы, время от времени, для наблюдений. Вот только где их взять после тяжелой утренней работы
Суббота, 16 декабря
Освещение в этой комнате ужасающее, и мне требуется пять минут, чтобы отыскать ручку. Р. весь из лоскутов. А я должна сделать 50 страниц, лучше 100, до понедельника. Никак не получается сцена свадьбы. Пропорции неправильные. От перемен, цитирования становится еще хуже. Но, по правде говоря, я не так мучаюсь из-за этого, как если бы сочиняла роман. «Годы» преподали мне отличный урок переписывания, который я никогда не забуду. Я всегда повторяю себе: не забывай тот ужас. Вчера мне как будто стало повеселее. Получила два письма от поклонников «Трех гиней»; оба искренние; одно от солдата, который сейчас на передовой; другое от сбитой с толку женщины, принадлежащей к среднему классу.
Понедельник, 18 декабря
Еще раз, как это часто случается, я искала свою милую старенькую тетрадку в красной обложке, хотя не совсем понимала, какой инстинкт толкает меня. Не знаю, зачем делать эти заметки; разве что появляется необходимость снять спазм, да и позднее кое-что может меня заинтересовать. Что? У меня никогда не получалось дойти до дна; всегда я оказываюсь близко к поверхности. И пишу обычно, прежде чем идти к столу, — все время гляжу на часы. Правильно, осталось 10 минут — что тут напишешь? Ничего, требующего размышлений; что провоцирует мысли; ибо я часто размышляю. И размышляю как раз о той мысли, которую могу записать тут. О том, как быть любительницей. О моем вызове профессиональной благопристойности. Еще одна аллюзия на язвительный тип В. Вулф и ее вчерашнюю готовность убить рецензентов из «Lit. Sup.». Фрэнк Суиннертон хороший мальчик, а я плохая маленькая девочка. И это банальность в сравнении… с чем? О, «Граф Шпее»[290] собирается выйти сегодня из Монтевидео, чтобы оказаться в пасти смерти.
И журналисты, и богатые люди нанимают самолеты, не желая пропустить подобное зрелище. Мне кажется, война обретает новый угол зрения; и наша психология тоже. Нет времени разработать эту мысль. В любом случае, глаза всего мира (В.В.С.) устремлены на это развлечение, и несколько человек сегодня будут убиты или смертельно ранены. Мы позволим им служить нам, а сами в эту на редкость морозную ночь будем сидеть у теплого камина. Британский капитан получил королевский приказ, и «Горизонт»[291] исчез; Луи удалили зубы; вчера мы съели слишком много пирога с зайцем; я читала, что Фрейд написал о распределении по группам; я старалась приукрасить Роджера; это последняя страница; год подходит к концу; мы пригласили Пломера на Рождество; и, как всегда, время вышло. Читаю дневник Риккеттса — все о войне — о последней войне; и дневники Герберта тоже; и… да, «Шекспира» Дэди, и записи переполняют две мои тетради.
1940
Суббота, 6 января
Некролог: Гумберт Вулф. Однажды мы поделили с ним пакетик шоколадных конфет у Эйлин Пауэрс. Их прислал поклонник. Как раз что надо. Актерского вида говорун. Сказал мне, будто его часто спрашивают, не его ли я жена. Говорил, что счастливо женат, а его жена жила в Женеве. Я забываю. Помни, что надо думать. Зачем противоречить? Что тебя мучает? О, это было в тот вечер, когда Арнольд Беннетт напал на меня в «Ивнинг стандард». Орландо? Я должна была встретиться с ним на другой день у Сибил. В нем было что-то актерское, может быть, напряжение. Всегда самоуверенный, внешне. Внутренне же мучимый тем, что ему слишком легко пишется; он обожествлял сатиру; это мой трофей из его автобиографии — один из многих, как будто он был недоволен собой и все время рисовал и перерисовывал свой портрет. Полагаю, та же основа во многих современных автобиографиях людей среднего возраста. Итак, возбудитель неясных зимних ночных воспоминаний — тот, кто в последнее время посылает бледные кадры через мою усталую голову — лежит с закрытыми глазами цвета черной смородины на зеленовато-желтом лице со впалыми щеками. (Если бы я писала о нем, то убрала бы или «глазами», или «щеками». Правильно? Думаю, да. Зачем портить текст; всегда надо следить за своим письмом; это единственный способ поддерживать себя в форме; я хочу сказать, единственный способ избежать осадка — все время подбрасывать в огонь охапку слов. Фраза провисла. Ну и пусть. Эти страницы стоят самую малость, лишь бы моя казна была в безопасности.) Я буду читать Милля. Или «Крошку Доррит»[292]. Но обе книги выдохлись, как нарезанный и забытый сыр. Первый кусочек всегда самый вкусный.
Пятница, 26 января
Мгновения отчаяния — я имею в виду леденящую неопределенность — нарисованную муху в стеклянной шкатулке — уступили место, как часто бывает, восторгу. Не оттого ли, что я отделалась от двух мертвых голубей — мой рассказ, мой «Газовый свет в Эбботсфорде» (сегодня напечатан) — и вновь закрутились мысли. Однажды вечером, утонув в работе, задыхающаяся, зажатая в тиски, решительно настроенная против Роджера — нет выхода — суровое время — я стала читать Джулиана. И мои мысли легко полетели над дикими горами. Намек на будущее. Полет всегда предвещает мне освобождение. Еле-еле переворачиваешь подушку и находишь выход. Помогает какая-нибудь ерунда. «Лиснер» предложил написать о Мари Корелли. Записки путешественника, я бы сказала, если, не дай бог, еще раз потеряюсь. Мне кажется, что последнюю главу надо сократить вдвое, из 20 000 слов оставить 10 000. Предположим, я начала бы так;
«Превращение» — заглавие, которое Роджер Фрай сам дал своей предсмертной книге «эссе». И, по-видимому, вполне естественно, оглядываясь на последние десять лет его жизни, было бы назвать их так же. Это были годы, когда он не останавливался и не замедлял ход, а, наоборот, постоянно экспериментировал и набирался опыта.
Превращение имеет значение не только перемен, но и достижений.
Его репутация как критика уже стала незыблемой. «К концу жизни, — пишет Говард Ханнэй, — положение Роджера Фрая в английском мире искусств стало уникальным и сравнимо разве что с положением Рёскина в самый пик его карьеры.
Это его положение было результатом той свободы и жизненной силы, которые неотделимы от интеллектуальной жизни Фрая; благодаря которым он расширял и углублял свое мировоззрение. Не менее авантюристичным он был и в своей другой жизни. Но обе эти ипостаси давали в итоге нечто постоянное. Как говорит сэр К. Кларк: «Несмотря на то, что нам отлично известны основные направления его мысли, его разум был неустрашимо экспериментаторским и готовым на любое приключение, как бы далеко оно ни заводило его за пределы академической традиции».
Но и физическое напряжение тоже было очень велико. Его здоровью был нанесен ощутимый урон долгими годами на «Омеге»[293].
Нет, хватит. До чего же очевиден переход от писания для себя к писанию для публики. И до чего же выматывающ. Мой небольшой запас сплетен и наблюдений истошен. Что я хотела сказать? О, то, что лирическое зимнее настроение — сильное духовное напряжение — позади. Началась оттепель; дождь и ветер; болото отсырело, но кое-где видны белые заплаты; две очень маленькие овечки, шатаясь, брели на восточном ветру. Увезли мертвую овцу; и, не желая видеть этот ужас, я дрожала за сараем. Не очень-то приятный вечер я провела, выводя эти фразы. Несмотря ни на что, наслаждаюсь Бёрком и настраиваюсь на Французскую революцию.
Пятница, 2 февраля
Лишь огонь побуждает меня мечтать — я имею в виду из всего, о чем я пишу. Переезд из Лондона в деревню гораздо более существенное событие, чем обычный переезд из дома в дом. Это справедливо, и я еще не освоилась тут. Огромное пространство вдруг становится совершенно пустым; потом освещается. Лондон, холодный, тесный и мятый. Удивительно, как часто я думаю — и полагаю, с любовью — о Лондоне: о прогулках к Тауэру; это моя Англия; я хочу сказать, если бомба разрушит одну из тамошних маленьких улочек с медными карнизами, пахнущих рекой и с обязательной читающей старухой, я буду чувствовать — ну, что чувствуют патриоты.
Пятница, 9 февраля
Почему-то ожила надежда. Почему? Получила письмо от Джо Аккерли с похвалой моей Корелли? Отчасти. У нас обедает
Том? Нет. Думаю, дело в постоянно читаемой автобиографии Стивена[294]; хотя у меня она вызывает зависть молодостью, энергией и отличными прозаическими находками — правда, я могу отыскать дыры. Но странно — чтение Стивена и «Южной поездки»[295] создают что-то новое и подталкивают к чему-то после тех вечеров, когда я со скрежетом зубовным трудилась над Бёрком и Миллем. Неплохо читать своих современников, даже по-быстрому просматривать поверхностные романчики бедняжки У.X. Кроме того, я отделала до последней пуговицы на гамашах три ч….вы главы, чтобы отправить их в понедельник в Лондон; и теперь вонзила зубы в последние превращения: и хотя, конечно же, меня трясет по-черному, когда я перечитываю текст, тем более показываю его Нессе и Марджери, все же не могу не думать, что мне удалось поймать этого светящегося человека в старательно сшитый сачок. Кстати, каждую страницу — особенно последние — я переписывала по 10–15 раз. И не думаю, что убила его, наоборот, думаю, я дала ему жизнь. Из-за этого вечер словно сверкает. Но ветер визжит, как коса; ковер в столовой покрывается плесенью; Джон Бьюкен упал, ударился головой и теперь наверняка умирает. Монти Шиармен умер, и Кэмпбелл. Старый милый чудаковатый священник — приятель Л. — холостяк Баффи. Ветер усиливается; что-то трещит; слава богу, я не в Северном море и не лечу на остров Гельголанд[296]. Сейчас собираюсь читать Фрейда. Да, Стивен дал мне три непрерывных часа иллюзии — и если еще есть силы воспринимать мир, то он существует — откуда цитата? — есть мир снаружи? Нет. Из «Кориолана»?
Воскресенье, 11 февраля
Задержка с выписыванием чеков — из-за войны, кстати, вновь усох мой кошелек, как в старые времена, до 11 шиллингов — карманных денег в неделю — я пишу тут; на мне подлинное сияние завершенной книги. Значит ли это, что она получилась? Или лишь то, что я освободила от нее свой мозг? В любом случае, продрожав вчера целый день, сегодня я отправилась гулять и закончу эту неделю, полагаю, в доме 37. Скудно и честно. Итак, прогуливаясь сегодняшним теплым днем до Телекомба, я придумывала страницы и страницы моей лекции: она должна быть насыщенной и полезной. Мне в голову пришла мысль, что школа Падающая Башня[297] является школой самоанализа после девятнадцатого столетия с его сдержанностью. Цитирую Стивенсона. Это объясняет автобиографию Стивена; Льюиса Макниса, etc. Еще у меня появилась идея о работе мозга: поэзия, которая не является подсознательной, результат поверхностного раздражения, получаемого от чужеродного воздействия политики, которое остается чужеродным. Отсюда отсутствие полезной энергии. Является ли лучшей та поэзия, которая наиболее полезна, — создается ли она соединением многих разных идей и говорит больше, чем объяснимо? Это — направление, оно ведет к публичным библиотекам и изучению аристократической культуры обыкновенными читателями, также к смерти классовой литературы, к рождению литературы персонажей, к новым словам из новых источников; сравнение этого явления с елизаветинской литературой. Думаю, что-то есть в психоаналитической идее; писатель из круга Падающей Башни не мог описать общество, поэтому ограничился описанием себя в качестве его продукта или жертвы: необходимый шаг к освобождению следующего поколения от запретов. Нужна новая концепция писателя: они опровергли сказку о «гении» великого человека тем, что унизили себя. Они не исследовали, как Генри Джеймс, индивидуума; они не шли вглубь; они заостряли контуры. И так далее. Л. видел серую геральдическую птицу; я видела лишь мои мысли.
Воскресенье, 18 февраля
Этот дневник может быть поделен на лондонский дневник и деревенский. Я вижу границу. Только что из лондонской главы. Пронизывающе холодно. Из-за этого были короче прогулки, которые я наметила себе по людным улицам. Темнота — нет освещенных окон — привела меня в уныние. Стоя в Уайтхолле, я сказала своим лошадям: «Домой, Джон», — и поехала в серых вечерних сумерках, в безрадостном призрачном свете уходящего вечера — намного более безрадостном, чем вечерами за городом, — в Холборн, а там в яркую пещеру, которую я полюбила больше, поменяв стулья. Как там тихо — и Лондон стал тихим: могучий немой бык лежит с поднятой головой.
Понедельник, 19 февраля
Я сказала себе, почему бы не записать что-нибудь; иногда думаю — кто будет читать это все? Наверное, однажды я смогу выплавить крошечный слиток — для моих воспоминаний. Кстати, мне уже намекнули, что неплохо бы написать о Литтоне. «Три гинеи» — полный провал в США; ну, хватит.
Среда, 20 марта
Ну вот, еще один приступ (инфлюэнцы), всего два: один случился в прошлое воскресенье, и Анджелика уложила меня в постель; другой в пятницу, после ланча. Лежу в постели в комнате Л., и доктор Тут приказал лежать (я сижу и читаю гранки вместе с Л.) до завтра. Скучная история. Это называется возвратная форма с небольшим бронхитом. Ну вот. В воскресенье Л. прочитал мне суровую нотацию о первой части. Мы шли по лугу. Похоже было, будто он изо всех сил клюет меня в голову. Чем дольше он клевал, тем получалось глубже, так всегда бывает. Наконец он почти разозлился, что я выбрала, «как мне кажется, неправильный метод. Голый анализ, и никакой истории. Суровое давление. Скучно для непосвященного человека. И мертвые цитаты». Его тезис: нельзя так обращаться с жизнью; ее нужно видеть с писательской точки зрения, если только персонаж не провидец, а Р. не был провидцем. Забавный пример того, как Л. постарался явить себя максимально рациональным и бесстрастным; довольно впечатляюще; и так четко, так настойчиво, что я почувствовала себя убежденной; я имею в виду в провале, разве что у меня мелькнула любопытная догадка, тот ли предмет он выбрал и не старается ли убедить меня, исходя из глубоко запрятанной личной причины — своей нелюбви к R? отсутствия интереса к личности? Бог знает. Я мысленно отметила эти нити, скрученные в одну нить; пока мы гуляли и клюв долбил все глубже, глубже, меня не покидал не зависимый ни от чего интерес к характеру Л. Потом пришла Несса; разошлись во мнениях; письмо Марджери: «Очень живо и интересно»; потом Л. читал вторую часть; думал, что конец на крыльце дома на Бернард-стрит; потом Н.: «Я плачу, поэтому не могу поблагодарить тебя». Потом Н. и Д.[298] пили у нас чай; мне запретили что-либо менять; потом последнее письмо Марджери: «Это он… бесконечно восхищена». Здесь я останавливаюсь. Думаю, все-таки нужно переписать несколько мест, даже набросала их вчерне, но как уложиться во времени, чтобы книга вышла весной? Это я решу завтра. Все-таки огромное облегчение!
Четверг, 21 марта
Вот и канун Страстной пятницы. Не знаю, как это можно прочувствовать в саду наедине с цветами и птицами. Сейчас для меня начинается сумеречный час, неприятный час досадного компромисса. До ланча. В гостиной с чаем. Вам известно отвратительное, беспорядочное, словно голова забита порванной бумагой, состояние ума, когда хватаешься то за одно, то за другое. Еще Р. висит на мне. Выхожу как можно раньше и продолжаю читать воспоминания Херви. Таким образом медленно дохожу до вершины. Думаю сразу о нескольких статьях. Сидни Смит. Мадам де Сталь. Вергилий. Толстой или, может быть, Гоголь. Попрошу Л. найти жизнь Смита в библиотеке в Льюисе. Хорошая мысль. Позвоню Нессе, чтобы послать главу Хелен и назначить встречу. Читала Толстого за завтраком — Гольденвейзер, которого я переводила вместе с Котом[299] в 1923 году и почти совсем забыла. Всегда одно и то же — словно трогаешь оголенный электрический провод. Даже в неважном переводе — его ограниченный неглубокий ум — особенно для меня, несимпатичный, однако вдохновенный и вдохновляющий: гений в необработанном виде. Итак, более волнующий, более «потрясающий», более громоподобный в искусстве, в литературе, чем любой другой писатель. Я помню, что чувствовала, читая «Войну и мир», читая в постели в Твикенхеме[300]. Старик Сэведж[301] понял: «Отлично!» И Джин[302] попыталась проникнуться тем, что было для меня открытием. Прямолинейностью, реалистичностью. Однако он был против фотографического реализма. Салли хромает, и ее нужно вести к ветеринару. Солнце садится. Птичка поет, словно колет иголкой. Все крокусы и морской лук отцвели. На деревьях ни листьев, ни почек. Меня процитировали в передовице о русских в «Lit. Sup.», довольно забавно.
Пятница, 29 марта
Что я думаю о свободе и свежести? Я в том настроении, когда ночью открываешь окно и смотришь на звезды. К несчастью, сейчас 12.15 серого скучного дня, все время летают самолеты, в три похороны Боттена (фермера из Родмелла); мне не дают покоя Марджери, Джон, К.; но заражают едва заметные, словно муравьиные, укусы М. — муравьи бегут в мой мозг — изменения, платежи, чувства, даты — и все прочие подробности, которые автору не художественной литературы кажутся такими простыми («ну, возьми и добавь это к портрету Джоан», etc.) — для меня пытка. Собрать бы старые страницы — и переписать их под копирку. Господи, господи! Опять инфлюэнца. Ничего, я снова приду в себя и о чем буду думать? Скажем, о Темзе там, где Лондонский мост: куплю тетрадь, а потом пройдусь по Стрэнду и буду пожирать все лица, все витрины магазинов, даже «Пенгвин». Ибо в понедельник мы перебираемся в Лондон. Потом буду читать какого-нибудь елизаветинца — словно прыгая с ветки на ветку. Потом опять сюда… ода, мы провезем наши книги по побережью — будем пить чай в магазине и любоваться на древности; и еще будет очаровательный фермерский дом — или новая тропинка — и цветы; шары с Л.; медленное чтение для О.Ч.[303], без всякой гонки; потом наступит май, будут спаржа и бабочки. Наверное, я немного займусь садом; печатанием; поменяю мебель в спальне. Возраст или что-то другое делает здешнюю жизнь одинокой? Нет Лондона и гостей, которые видятся как долгий радостный сон… Я включаю сюда состояние покоя, состояние чувств — не состояние ума. По правде говоря, мы по-настоящему не видели весну в деревне с тех пор, как я была в Ашеме — 1914, — и теперешняя весна кажется мне благословением свыше, несмотря на депрессию. Вроде бы, у меня появились мечты о поэтическо-прозаической книге; может быть, буду время от времени печь кексы. Вот-вот — никаких стычек в будущем, никаких сожалений о прошлом. Наслаждайся понедельником и вторником и не бери на себя вину за эгоизм; клянусь Богом, я свое отработала, и письменно и устно, во имя человеческой расы. Я имею в виду молодых писателей, которые вполне могут стоять на своих ногах. Да, я заслужила весну — я никому ничего не должна. И письма я не должна писать (хотя меня ждут стихи в рукописях), и гостей не должна принимать по выходным дням. Пусть другие поработают, как я в эту весну. Я же, утонув в речном весеннем потоке, буду до ланча читать Уимпера.
Воскресенье, 31 марта
Мне бы хотелось рассказать себе нежную коротенькую неправдоподобную историю, чтобы я смогла взмахнуть крыльями, помятыми за хлопотливое по-муравьиному утро, — я не детализирую, потому что детали — смерть для меня. Слава Богу, в это время на следующей неделе я освобожусь — освобожусь от поправок М. и моих собственных на полях. Рассказ? О, о жизни птички, ее чип-чип — о ветке, что стучит в мое окно — о ее впечатлениях. Или о Боттене, сроднившемся с землей — о преходящей славе — о миллионе ярких цветов от печальных участников похорон. Все черно, как передвигающийся почтовый ящик, который был женщиной — или мужчиной в черной картонной коробке. Нет истории. Нет. Но я могу развернуть метафору — нет. Окна по-голубиному серые и похожи на острова в синем унынии — красная ржавчина на Л. и В.[304] и болото, зеленое и темное, как морское дно. В затылке все еще туго натянутая струна. Я ослаблю ее, играя в шары. Сохранять плюсы скетча — случайные находки, счастливые открытия — в большой работе наверняка мне не по силам. Это есть в устных рассказах Сидни Смита.
Суббота, 6 апреля
Я провела день в Лондонской библиотеке в поисках цитат. Купила шелк для вставок на платья. Мы не обедали с Хатчинсонами, где должны были встретиться с Томом и Десмондом.
До чего же я радовалась спокойному вечеру. Итак, вчера в 12.45 я отдала Л. два рукописных экземпляра книги («Роджер Фрай: Биография»), и мы уехали счастливые, как банковские служащие на каникулах. С глаз долой! Хорошо или плохо — но ее больше нет! Я как будто чувствовала крылья там, где лопатки; и тихо размышляла, пока не продырявилась шина; на дороге никого не было; и я была как смятый стебелек, когда мы добрались до места. Настоящий весенний день; беспредельный, солнечный, холодный, мягкий; на берегу множество желтых нарциссов; проиграла три игры, и единственное, чего хочу, так это спать.
Понедельник, 13 мая[305]
Я признаюсь в некотором удовлетворении, так как закончила главу и успокоилась, отослав сегодня гранки. Я признаюсь — потому что мы третий день участвуем в «величайшей битве в истории человечества». Все началось в восемь часов с объявления по радио, пока я дремала, о нападении на Голландию и Бельгию. Третий день битвы при Ватерлоо[306]. Сад словно укрыт снегом, цветут яблони. Кегельный шар утонул в пруду. Черчилль призывает мужчин стоять заодно. «Мне нечего дать, кроме слез, пота и крови»[307]. Огромное бесформенное нечто циркулирует всюду. Оно не имеет материальной сути, но все остальное становится неважным перед ним. Дункан видел воздушный бой над Чарльстоном — серебряный карандаш и клуб дыма. Перси видел раненых на посту. Итак, мое коротенькое мгновение покоя заканчивается разверстой пропастью. Хотя Л. говорит, что, если Гитлер выиграет, бензина в гараже хватит для самоубийства, мы продолжаем жить. Огромность и малость делают это возможным. Мои чувства (по поводу «Роджера») очень напряжены; и все же обстоятельства (война) как будто наложили на них обручи. Нет, я не могу осознать странное несоответствие интенсивности чувства и в то же время понимания, что оно не имеет никакого значения. Или в нем, как я иногда думаю, больше значения, чем когда бы то ни было?
Понедельник, 20 мая
Эта мысль должна была быть более внушительной. Она всплыла, полагаю, в одно из сентиментальных мгновений. Война похожа на неизлечимую болезнь. В течение дня больше ни о чем невозможно думать; потом за дело берутся чувства; на другой день человек словно освобождается от телесной оболочки и парит в воздухе. Потом вновь обстрел — и что? Ужас перед бомбами. Собираемся в Лондон под бомбы. Катастрофа — если они прорвут оборону. Их объект, как сказали сегодня утром, Ла-Манш. Вчера вечером Черчилль просил нас думать во время бомбежки, что мы хотя бы один раз отводим огонь от солдат. Десмонд и Мур[308] в данный момент читают — то есть беседуют в яблоневом саду. Прекрасное ветреное утро.
Суббота, 25 мая
Потом наступило то, что было худшей неделей войны. И пока остается такой. Во вторник вечером, после отдыха и до прихода Тома и У-ма П.[309], Би-би-си объявило о взятии Амьена и Арраса. Французский премьер-министр сказал правду, наша «оборона» разбита вдребезги. Они придут в понедельник. Скучно собирать подробности. Похоже, они пускают вперед танки и парашютистов; нельзя бомбить забитые беженцами дороги. Они рвутся дальше. Теперь Булонь. Возникает ощущение какой-то странной оккупации. Что делают великие армии, дабы двадцатимильная дыра не закрылась? Чувство такое, будто нас перехитрили. Они быстрые, бесстрашные, готовые на любую хитрость. Французы забывают взрывать мосты. Немцы кажутся юными, сильными, предприимчивыми. Мы отстаем. Так было все три лондонских дня.
В Родмелле сплошь слухи. Будут ли нас бомбить? Эвакуируют ли? От выстрелов орудий дребезжат окна. Тонут корабли-госпитали. Теперь наш черед.
Сегодняшний слух: монашенка в автобусе платит за проезд мужской рукой.
Вторник, 28 мая
Сегодня в восемь французский премьер-министр по радио обвинил бельгийского короля в предательстве. Бельгийцы капитулировали[310]. Наше правительство не капитулирует. Черчиль выступает по радио в четыре часа. Дождливый мрачный день.
Среда, 29 мая
Все-таки надежда оживает. Не знаю почему. Отчаянная схватка. Союзники держатся. Как тошно от фраз — и как легко сочинить речь Даффа Купера о доблести; и историю, в которой известен конец фразы. И все-таки ободряет. Поэзию, как говорит Том, писать легче, чем прозу. Я могла бы сочинять патриотические речи дюжинами. Л. был в Лондоне. Сильная гроза. Я гуляла на пустоши и думала, что орудия стреляют в портах Ла-Манша. Потом они повернули, и я поняла, что был налет на Лондон; включила радио; услышала что-то непонятное; потом начали стрелять; потом пошел дождь. Сегодня вновь взялась за «П.X.» и молотила, молотила, пока не осталось ни зернышка. Отослала моего Уолпола. После обеда принялась за Сидни Смита; планирую продолжать небольшие статьи; и еще «П.X.». Ах, забыла — теперь нельзя планировать длинную книгу. Х. Брейс прислал телеграмму, что берет «Роджера» — кого, что, я почти забыла о нем. Это успех; а ведь я ждала провала. Значит, все не так плохо. Аванс — 250. Полагаю, нам лучше подождать. Читаю массу ночных писем Кольриджа и Вордсворта — удивительно раскручиваются и укладываются в уютное гнездышко.
Четверг, 30 мая
Гуляя сегодня (день рождения Нессы) возле озера Кингфишер, видела первый санитарный поезд — груженый, не похоронный, тяжелый, словно опасающийся растрясти кости: нечто — забыла слово — печальное, и нежное, и тяжелое, и личное — осторожно везло наших раненых по зеленым полям, на которые, думаю, кто-то из них смотрел. Нет, я их не видела. Способность воображать удручает меня то ли виденным, то ли придуманным; несмотря на его явственность, дома я не смогла восстановить поезд в воображении — медлительность, умирание, печаль длинного тяжелого состава, везущего свой груз по полям. Очень тихо он скользнул в лесосеку в Льюисе. Неожиданно над головой появились самолеты, летящие косяком, как дикие гуси; произвели маневр, заняли новое положение и полетели на Каберн.
Пятница, 31 мая
Лоскуты, обрывки, кусочки, которые я писала для «П.X.», теперь забурлили. Я играю словами; и думаю, что своей относительной ловкостью обязана упражнениям в дневнике — здешним кусочкам; Луи видела служащего мистера Уэстмакотта. «Бельмо на глазу» — его слова о битве за Булонь. Перси, занимаясь прополкой, заявляет: «Победа в конце концов будет за мной. Если я не сомневался в нашей победе в другой битве…» Ночью был налет, о котором как будто предупредили заранее. Все прожекторы включены: световые пятна похожи на шарики росы. Мистер Ханна полночи «стоял в карауле». Похоже, слухи; слухи, которые транспортировали англичан в Бельгию, где они с принадлежностями для гольфа и сетями, якобы возвращаясь из Фландрии, были приняты за парашютистов; осуждены на смерть; освобождены; возвратились в Сифорд[311]. Слухи, отправили их «куда-то недалеко от Истборна», и там были крестьяне, вооруженные винтовками, вилами, etc. Это показывает, сколько у нас нереализованного воображения. Мы — люди образованные — держим его под контролем; я будто бы увидела кавалеристов, поивших лошадей возле Телекомба, но сумела разглядеть стадо коров. Опять придумываю. Даже не могу вспомнить, как я шла обратно, по грибной тропинке или через поле. Чудесно, что есть старая река; можно ее потрогать. Сколько это еще продлится? Я полностью осознала возможный конец; осталось только разработать детали; то, что дремало под тяжестью «Роджера», вновь ожило. Опять я чую след. «Макулатура»? Меня прервал резкий звонок. Пришел маленький мальчик в белом свитере, думаю, скаут; Мэйбел сказала, что они каждый день приходили в дом 37 и уносили трофеи. Отчаянная борьба. Те же разглагольствования. Идя через Саутиз[312], увидела миссис Кекелл, занимавшуюся прополкой в старой летней шляпке. И вдруг выходит горничная в муслиновом передничке и чепчике с голубой лентой. Что это? Желание удержать стандарты цивилизации?
Пятница, 7 июня
Только что вернулись (из Лондона); душный жаркий вечер. Великая битва, которая решает, жить нам или умереть, продолжается. Прошлой ночью тут был воздушный налет. Сегодня опять. До половины третьего утра.
Воскресенье, 9 июня
Буду продолжать — но смогу ли? Эта битва довольно быстро опустошила Лондон. День словно скрипит на зубах. Подходит к моему сегодняшнему настроению, как мне кажется: капитуляция означает, что все евреи будут брошены на произвол судьбы. Концентрационные лагеря. Наш гараж, например. Есть только это; помимо исправлений, вносимых в «Роджера», и шаров. Все пытаются найти что-то отвлекающее — например, вчера в Чарльстоне был Ли Эштон. Но сегодня на линии фронта прорыв. Ночью летали самолеты (Г.?); их преследовали прожекторы. Заклеила окна бумагой. Еще одно впечатление: не хочу ложиться в постель днем; это имеет отношение к гаражу. Мы боимся (это не преувеличение) новостей о том, что французское правительство покинуло Париж. Гул, перекрывающий крики кукушки и других птиц. Как будто печка за небом. На меня вдруг нашло удивительное прозрение, исчезло письменное «я». Нет аудитории. Нет отклика. Это частичная смерть. Нет, все не так серьезно, если я исправляю «Роджера» и отсылаю его, наконец-то, завтра: значит, могу закончить «П.X.». Однако факт есть факт — отсутствие отклика.
Понедельник, 10 июня
День прошел. Я хочу сказать, странный страх, который может быть ложным. Как бы то ни было, сегодня утром говорят, что фронт не прорван — разве что в нескольких местах. Наша армия оставила Норвегию и идет им на помощь. Как бы то ни было — день прошел — день, когда словно уголь скрипит на зубах. Л. завтракал при электрическом свете. Слава Богу, стало прохладно. Сегодня я отослала гранки, в последний раз прочитав моего «Роджера». Остается указатель. Я в скверном настроении; словно нахожусь в затруднении и полна самыми дурными предположениями, ибо запомнила холодность Леонарда, да еще Джон[313] молчит; наверняка один из моих провалов.
Суббота, 22 июня
Полагаю, это Ватерлоо. Стычки во Франции продолжаются; условия еще не объявили; тяжелый серый день, я проиграла в шары, была раздражена, обижена и поклялась больше никогда не играть, но читала свою книгу. Мои книги — Кольридж; Роза Маколей; письма Бессборо[314] — довольно глупая фантазия, инспирированная Гари-о: я бы хотела найти одну книгу и прилепиться к ней. Но не могу. Если уж это моя последняя дистанция, то почему бы не почитать Шекспира? Не могу. Мне кажется, что я должна закончить «П.X.», должна закончить что-нибудь в преддверии конца. Конец придает живость, даже веселость и беззаботность каждодневной беспорядочной жизни. Вот, думала я вчера, не исключено, что это моя последняя прогулка. На холме над Бэйдином я нашла несколько зеленых стеклянных трубочек. В пшенице огнем полыхали маки. А вечером я читала Шелли. Какими нежными, чистыми, музыкальными и неиспорченными кажутся он и Кольридж после чтения левых. До чего легко и твердо они ступают, а как они поют; ни одного лишнего слова, все на месте, глубокий смысл. Мне бы хотелось изобрести новый критический метод — что-нибудь более быстрое и легкое, более разговорное и все же насыщенное: более близкое к тексту и менее жесткое; более воздушное и похожее на полет, чем мои эссе из «Обыкновенного читателя». Старая проблема: как сохранить полет мыслей, но быть точной. В этом разница между скетчем и законченной работой. Пора готовить обед. Роль. Ночные налеты на восточное и южное побережья. 6, 3, 22 человека убивают каждую ночь.
Дует сильный ветер; Мэйбел, Луи собирают смородину и крыжовник. Визит в Чарльстон — еще один камешек в мой огород. В данный момент, работая лишь над «П.X.», я не очень твердо стою на земле. Потом война — ожидание, пока наточат ножи — разрушила внешнюю защитную стену. Никакого эха. Никакой среды. У меня совсем нет ощущения публики, так что я даже забываю, печатается «Роджер» или не печатается. Обычные вращения — прежние правила, — которые много лет доносили до меня эхо и укрепляли меня, теперь непонятны и неуловимы, как в пустыне. Я хочу сказать, нет «осени», нет зимы. Мы подходим к краю пропасти… а потом что? Не могу представить, что будет 27 июня 1941 года. Это отбирает что-то даже у чаепитий в Чарльстоне. Мы бросаем еще один день в поток воды, приводящий в движение мельничное колесо.
Среда, 24 июля
Мне нужно кое о чем написать: но в данный момент, накануне выхода в свет книги, я хочу написать о своих чувствах. Они какие должны быть, но не очень сильные — не сравнить с теми, что были перед выходом романа «Годы», — о нет, совсем не такие. Все же они болезненные. Хорошо бы это случилось на следующей неделе в среду. Будут Морган и Десмонд. Боюсь, Морган скажет — достаточно, чтобы показать, как ему не нравится книга, но он добрый. Д. непременно огорчит. «The Times Lit. Sup.» (после нападок на «Обзоры») найдет, над чем посмеяться. «Т. and Т.» будут полны энтузиазма. И — это все. Я повторяю, будут два направления, как всегда: чарующе — скучно; живо — мертво. Так почему я нервничаю? Я ведь всё знаю. Не всё. Миссис Лиман выразила восторг. Джон молчит. Те, кто фыркает в сторону Блумсбери, конечно же, поглумятся надо мной. Я и забыла. Но когда Л. расчесывает Салли, я не могу сосредоточиться. У меня нет отдельной комнаты. Одиннадцать дней калейдоскоп лиц. Вчера это закончилось на У. И. (W.I.): моя речь — я произнесла ее — о «Дредноуте»[315]. Простая, в общем, естественная и дружеская беседа. Много чая; бисквитов; и на председательском месте миссис Чейвасс в облегающем платье: из уважения ко мне чай был книжным. Мисс Гарднер приколола к платью «Три гинеи»; миссис Томпсетт — «Три недели»; кто-то еще — серебряную ложку. Нет, не могу писать о смерти Рэя[316], ведь я ничего не знаю, кроме того, что та тучная женщина с копной седых волос и искусанными губами, чудовище, которое я помню как типичную юную женственность; оно скончалось неожиданно. Было весьма представительно в белом пиджаке и брюках; как здание без окон — разочарование, храбрость, отсутствие — чего? — воображения?
Леди Оксфорд сказала, что добродетель — это тратить, а не сохранять. Она повисла у меня на шее вся в слезах. У миссис Кэмпбелл рак. Но почти тотчас очнулась и принялась тратить. Холодный цыпленок, сказала она, всегда ждал меня. В деревне едят масло. Она была очаровательно одета в нечто из блестящего щелка с темно-синим галстуком; темно-синяя русская шляпка с красной лентой. Шляпку ей подарила модистка: плоды теории трат.
Все стены, защищающие и отражающие, стали ужасающе тонкими в этой войне. Нет штандарта, ради которого пишут; нет отзывающейся на написанное публики; даже «традиция» почти не сохранилась. Отсюда сила и безрассудство — полагаю, это и хорошо и плохо. Однако ничего другого и быть не могло. Возможно, стены, если приложить много сил, наконец-то примут меня. Сегодня я все еще чувствую себя под вуалью. Завтра, когда выйдет книга, ее поднимут. Ого может быть болезненным; может быть стимулирующим. И тогда я, наверное, опять почувствую стену, которой мне не хватает, — или пустоту? или холод? Я пишу тут, а ведь мне надоели дневники, и Жид, и де Виньи. Мне хочется чего-то последовательного и здорового. В первые дни войны я могла читать только дневники.
Четверг, 25 июля
Сейчас я не очень нервничаю: в худшем случае, на уровне кожи; ибо в основном к книге отнеслись одобрительно; все-таки мне не хватает похвалы Моргана. Но с этим придется, полагаю, подождать до завтра. Первый отклик (Линд): «…глубокая поэтическая доброжелательность… создает из него привлекательный персонаж (несмотря на буйные речи). Есть маленькая драма… в то же время для интересующихся современным искусством здесь достаточно полезного материала…»
Странные отношения связывают нас с Роджером в настоящий момент — я возродила его после смерти. Нравится ли ему то, что получилось? Сейчас я словно чувствую его рядом; словно у нас была интимная близость; словно мы вместе дали жизнь его новому образу; рожденному нами ребенку. Но у него не было власти что-либо изменить. Несколько лет его будут воспринимать именно таким, и никаким больше.
Пятница, 26 июля
Полагаю, у меня прочное, скажем, второе место, судя по рецензии в «Lit. Sup.». От Моргана ничего. «Таймс» считает, что моя книга займет высокое место среди биографий; что у меня талант собирать все, относящееся к предмету исследования. «Таймс» (полагаю, искусствовед) анализирует детали, цвета, etc. В «Таймс» пишут умно, но не более того. Сейчас мне приятно и спокойно. Внизу Кольридж, наверху это, все почти так и есть (ненавижу это столкновение), я уверена в нечто постоянном и реальном в моем существовании. Кстати, я даже горжусь, что проделала такую большую работу. И я в общем-то довольна. Но читаю письма и словно опускаю руку в кувшин с пиявками; теперь придется писать много скучных писем. Тем не менее, летний вечер неправдоподобно прекрасен — да, прекрасен, я правильно выбрала слово — скоротечный, изменчивый, капризный. И я победила в двух играх. Нашли большого ежа в заросшем лилиями пруду; Л. попытался оживить его. Любопытное зрелище. Правительство платит два шиллинга шесть пенсов за каждого живого ежа. Я читаю Рут Бенедикт, и у меня появляются мысли — о культуре, — но они предполагают слишком многое. Шесть томов Авг. Хэр тоже побуждают — к маленьким статьям. Сегодня вечером я на редкость спокойна. В субботу, сколько мне помнится, рецензий не публикуют. Неприкосновенна — еще одно правильное слово. Джон еще не прочитал книгу. Когда двенадцать самолетов прошлой ночью пролетели над нами в сторону моря, чтобы вступить в бой, у меня появилось, как мне кажется, мое собственное, не общее, продиктованное Би-би-си, чувство. Я почти бездумно пожелала им удачи. Жаль, я не в состоянии сделать научные записи о человеческих реакциях. Вторжение может произойти сегодня ночью или не произойти совсем — это формула Жубера. И еще — что-то я еще хотела сказать — что? Надо приготовить обед.
Пятница, 2 августа
Все молчат о книге. Наверное, она уплыла в море и утонула. «Одна из наших книг не вернулась» — как формулирует это Би-би-си. Морган не написал рецензию; никто не написал. Нет писем. И хотя я подозреваю, что Морган отказался писать, найдя книгу неудобоваримой, все же продолжаю пребывать — честно — спокойной и готовой к полному и окончательному молчанию.
Воскресенье, 4 августа
Пока Юдит и Лесли[317] заканчивают игру, я пишу с облегчением — в рецензии Десмонда есть все, что я хотела сказать. Книга пришлась по вкусу друзьям и, скажем, младшему поколению. Да, да, таким мы его знаем: биография не только хорошо написана, но и очень важна. Этого достаточно. Я вознаграждена и спокойна — это не похоже не прежние триумфы, когда я писала романы. Просто я исполнила то, о чем меня просили, и дала моим друзьям то, что они хотели. А ведь я уже решила, что не дала им ничего, кроме материала для книги, которую не сумела написать. Теперь я могу радоваться и не мучить себя предположениями о том, что думают другие, ибо Десмонд отличный звонарь и всех поднимет на ноги — я имею в виду, что его строчки разбредутся потихоньку в ближнем кругу. Герберт Рид и Макколл сдерживались, как могли; выложили свои доводы; остался лишь Морган, да, может быть, У. Льюис пустит личную стрелу.
Вторник, 6 августа
Была очень счастлива, когда за завтраком (с Джоном) увидела голубой конверт от Клайва. Клайв почти — что? — благоговеен; нет, спокойно, серьезно, полностью, без насмешек одобряет. В своем роде не хуже лучших моих книг — лучшая биография за много лет — первая часть не уступает второй, и нет никаких провалов. Итак, теперь я убеждена в том, что чувствовала, даже когда с температурой 101 гуляла в марте с Леонардом и он долбил меня своим клювом, — убеждена в том, что чувствовала, — первая часть гораздо интереснее для широкой аудитории, хотя она не такая насыщенная и многоплановая, как вторая. Я уверена, это было необходимо — как надежный тротуар для всех, кто хочет стоять на нем.
Суббота, 10 августа
А потом Морган слегка охладил мой пыл; но прежде мой пыл охладило дурно пахнущее бормотание Лесли, накануне вечером и накануне днем и еще завтра. Итак, Морган и Вита слегка охладили мой пыл; а Боб слегка поднял настроение, и Этель тоже, и какой-то старик в «Спектейтор», который напал на Рида. Но, клянусь Богом, это все. Больше никаких рецензий, и если бы я могла побыть в одиночестве — никаких мужчин, перевозящих столбы и роющих землю для оборонительных сооружений, и никаких соседей, я бы, несомненно, смогла расправить крылья и устремиться — в «П.X.», в Кольриджа; но сначала я должна — чертов Джон — переписать «Письмо молодому поэту». Постоянное общество так же плохо, как одиночное заключение.
Пятница, 16 августа
Заказали третий тираж. Л. сказал, когда мы в среду были в доме 37: «Это сенсация». Шум скрадывается, чем дальше мы от Лондона. Почему ругань огорчает больше, чем радует похвала? Не знаю. Отсылаю к Уэйли; не отсылаю к Памеле — великое произведение искусства, etc. Постепенно все входит в свою колею. Успокаивается. Дело сделано. Я пишу «П.X.», и у меня есть свободный час. Много воздушных налетов. Один случился, когда я гуляла. Стог сена оказался рядом. Но я прошла мимо и ни разу не остановилась до самого дома. Небо чистое. Потом опять сирены. Потом Юдит и Лесли. Шары. Миссис Эббс, etc., одолжить стол. Небо чистое. Мне надо чем-то занять последний час или мне станет плохо, вот я и пишу. Но «П.X.» затянет меня — винт. Поэтому пойду к себе; почитаю Хэра и напишу Этель. Очень жарко, даже снаружи.
Они прошли очень низко. Мы лежали под деревом. Звук был такой, словно кто-то пилит в воздухе прямо над нашими головами. Мы лежали ничком, закрыв головы руками. Л. сказал, что не нужно стискивать зубы. Казалось, они пилят что-то на одном месте. От взрывов бомб звенели стекла в моем убежище. А если оно рухнет? — спросила я. Если рухнет, то и нам несдобровать. Я подумала, я подумала — ни о чем; пустота; в голове у меня была пустота. Наверное, я испугалась. Не перевести ли нам Мэйбел в гараж? Слишком рискованно сейчас ходить по саду, сказал Л. Потом опять прилетели из Ньюхейвена. Гул, стрекот, жужжание вокруг. Лошадь заржала на пустоши. Очень душно. Эго гром? — спросила я. Нет, пушки, сказал Л., бьют из Рингмера, из Чарльстона. Потом, понемногу, стало тише. Мэйбел в кухне, сказала, что дребезжали стекла. Воздушный налет продолжается; далекие самолеты; Лесли играет в шары. Я проигрываю. Шарлотта Бронте сказала: лишь мои книги причиняют мне боль. Сегодня я с ней согласна. Очень тягостно, скучно, сыро. Надо немедленно излечиться. Небо чистое. От 5 до 7. Прошлой ночью 144 бомбы.
Понедельник, 19 августа
Вчера, в воскресенье, восемнадцатого, опять рев. Прямо над нами. Я смотрела на самолеты, как гольян на ревущую акулу. Они сверкали над нами — три, как мне показалось. Оливково-зеленые. Потом поп, поп, поп — немцы? Опять поп, поп, поп — над Кингстоном. Сказали, что пять бомбардировщиков летели на бреющем полете в направлении Лондона. Мы были на волосок от гибели. 144 бомбы — и это не в последний раз. Сегодня налетов (пока) нет. Репетиция. Я не могу читать. Сожаление. Почему не говорят правду?
Пятница, 23 августа[318]
Книга провалилась. Продажи упали до 15 в день после налета на Лондон. Не в этом ли причина? Может быть, еще поднимутся?
Среда, 28 августа
Как бы мне хотелось целыми днями писать стихи — это подарок мне от бедняжки X., которая никогда их не читала, потому что возненавидела их еще в школе. Она гостила у нас, если точно, со вторника до воскресного вечера: и мне казалось, будто это я гощу у нее. Почему? Потому что (отчасти) у нее артистический темперамент, а она не принадлежит к миру искусства. Она темпераментна, но у ее темперамента нет выхода. Мне она кажется очаровательной; у нее есть индивидуальность; она искренна и, в общем, трогательна. В ней есть забавная бестолковость; нетренированный ум. И она из сомневающихся. Надо ли соглашаться на все? У. говорит «да» — я говорю «нет». По правде говоря, у нее нет чувства цвета — и она не чувствует музыку и живопись. Много сил и энергии, но все же что-то постоянно мешает прыжку. Могу представить, как она заливается слезами перед сном. Итак, не привезя ни еды, ни книг, она чувствовала себя не совсем в своей тарелке. Я позвала ее, чтобы облегчить ее состояние. Моя милая псина. Афганская гончая — с длинными крепкими лапами и длинным телом и космами нечесаных волос. Хорошо, что я хорошенькая, сказала она. Так оно и есть. Однако теперь я знаю, в результате недельного беспрерывного общения, шаров, чая, гостей, что такое привилегированная частная школа — полное отсутствие одиночества. Вне всякого сомнения, неплохое растирание жестким полотенцем для старого разума. А Юдит и Лесли хотят играть в шары. Вот почему в мое первое одинокое утро после Лондона и затяжного воздушного налета — с 9.30 до 4 утра — я была так легка, так свободна, так счастлива, что назвала «П.X.» стихами. Хорошо ли это? Думаю, нет, не очень. Должна сказать, ублажая В.В., если она хочет знать, что было в августе 1940 года, — воздушные налеты теперь как бы прелюдия. Вторжение, если оно состоится, то не позже чем через три недели. Люди доведены до предела. В воздухе треск; осы жужжат; сирена — Плачущий Вилли, пишут в газетах — пунктуальна, как звезды… Мы говорим, что мы здесь еще не испытали настоящих налетов. Два были на Лондон. Один застал меня в Лондонской библиотеке. Там я поняла, прочитав в «Скрутини», что миссис В., несмотря ни на что, лучше молодых. Это мне понравилось. Джон Бьюкен — «В.В. наш лучший критик со времен М. Арнольда, но мудрее и справедливее». Это мне тоже понравилось. Я должна написать Памеле. Продажи немного выросли.
P.S. к последней странице. Мы вышли на террасу; начали играть. Медленно и тяжело летел большой самолет. Л. что-то сказал Уэллсли. Тренировочный самолет, сказал Лесли. Неожиданно послышались поп, поп из-за церкви. Действующий, сказали мы. Самолет сделал круг над пустошью и полетел назад очень низко над землей и над нами. Потом словно град — поп, поп, поп… (как будто лопались шары). Самолет медленно и тяжело развернулся и полетел в сторону Льюиса. Мы не сводили с него глаз. Лесли разглядел черный немецкий крест. Все рабочие смотрели вверх. Это немец, нас осенило. Это враг. Он исчез в соснах за Льюисом и больше не появился. Потом мы услыхали жужжание. Поглядели вверх и увидели очень высоко два самолета. Они вроде должны были напасть на нас. Мы укрылись в моем домике. Но они развернулись, и Лесли разглядел английский знак. Мы наблюдали — они скользнули стороной, сделали петлю и гудели минут пять над упавшим самолетом, словно опознавая его и удостоверяясь в его падении. Потом они направились в сторону Лондона. У нас появилась версия, что самолет был подбит и искал, где сделать посадку. «Наверняка это был немец», — сказали мужчины; те мужчины, которые держат под рукой оружие. Это должна была быть мирная смерть, прискакавшая на террасу, где прохладным солнечным августовским вечером люди играли в шары.
Суббота, 31 августа
Мы уже в состоянии войны. На Англию совершено нападение. Впервые я по-настоящему осознала это вчера; ощущение давления, опасности, ужаса. Ощущение, что идет битва — жестокая битва. Продлится, возможно, недели четыре. Боюсь ли я? Временами. Самое худшее то, что наутро плохо работает голова. Конечно, это может быть началом вторжения. Ощущение давления. Бесконечные местные россказни. Нет — нет ничего хорошего в том, чтобы всеми силами предаваться чувствам, пробужденным войной, в которую вступила Англия. Должна сказать, если я буду писать художественную прозу и о Кольридже, а не инфернальную статью о бомбардировках для США, то уплыву в тихие воды.
Понедельник, 2 сентября
Как будто не было войны в последние два дня. Лишь одна воздушная тревога. Совершенно спокойные ночи. Затишье после налетов на Лондон.
Четверг, 5 сентября
Жарко, жарко, жарко. Регистрируем жару, регистрируем лето, если мы еще что-то регистрируем. В 2.30 гул самолетов; десятью минутами позже грохот воздушного налета; двадцатью минутами позже все тихо. Повторяю, жара и сомнение в том, что я поэтесса. «П.X.» — тяжелая работа. Голова — нет, не могу подобрать слово — скажем, слабеет. Идея. Все писатели несчастные. Поэтому картина мира в книгах слишком мрачная. Бессловесные счастливее; женщины в своих огородах; миссис Чейвасс. Нет правдивой картины мира; есть лишь картина, нарисованная тем или другим писателем. Счастливее ли музыканты, художники? Счастливее ли их мир?
Вторник, 10 сентября
Вернулись, пробыв полдня в Лондоне, — возможно, это был наш самый странный визит. Когда мы подъехали к Гауэр-стрит, там оказался барьер с указателем. Никаких признаков повреждений. Но когда мы приблизились к Даути-стрит — толпа. Мисс Перкинс в окне. Мекленбургская площадь огорожена. Никого не пускают. Нас тоже не пустили. В дом, что в тридцати ярдах от нашего, утром попала бомба. Он совсем разрушен. Другая бомба — на площади — не взорвалась. Мы обошли кругом. Постояли около дома Джейн Харрисон. Он еще тлел. Огромная куча кирпичей. Под ней все люди, которые были в этом доме. Клочья одежды на пустых, не обвалившихся стенах. Зеркало, подумала я, качается. Напоминает выбитый зуб — пустое место. Наш дом не пострадал. Даже окна целы — наверное, взрывная волна обошла их стороной. Мы увидели, как Бернал с перевязанной рукой прыгает наверху другой кучи. Кто жил там? Полагаю, обычные молодые мужчины и женщины, которых я видела из окна; обитатели квартир, разводившие цветы и посиживавшие на балконе. Теперь ни людей, ни дома. Механик на задах — с затуманенным взглядом, подергивающийся — сказал нам, что взрывной волной его выбросило из кровати; пришлось искать убежища в церкви. «Там было холодно и жестко, — сказал он, — и маленький мальчик лежал у меня на руках. Я повеселел, когда дали отбой. У меня все болело». Он сказал, что немцы три ночи подряд бомбили Кингс-Кросс. Они разрушили половину Аргилл-стрит и магазины на Грейз-Инн-роуд. Потом подошел мистер Притчард. Выслушал новости спокойно, как угорь. «Они в самом деле имели дерзость заявить, что это заставит нас заключить мир!..» — сказал он; он наблюдает за воздушными налетами с плоской крыши своего дома и спит как ни в чем не бывало. Итак, поговорив с мисс Перкинс и миссис Джексон — обе были спокойны — мисс П. спала на походной кровати в своем подвале, — мы отправились на Грейз-Инн. Оставили машину и увидели Холборн. Огромную дыру в начале Чэнсери-Лейн. Она еще дымилась. Какой-то большой магазин разрушен полностью; отель напротив похож на раковину. В винном магазине не осталось ни одного окна. Возле столиков стояли люди — полагаю, там обслуживали. Груды сине-зеленого стекла на мостовой на Чэнсери-Лейн. Мужчины выбирают застрявшие в рамах осколки. Падает стекло. Потом на Линкольн-Инн. К офису «Н.С.»: окна разбиты, но дом уцелел. Мы вошли внутрь. Пусто. Мокро. Стекло на ступеньках. Двери заперты. Возвращаемся к машине. Большая пробка. Кинотеатр позади музея мадам Тюссо разрушен; видна сцена; сохранились украшения зала. Все дома на Риджентс-парк с выбитыми окнами, но в остальном целые. Потом мили и мили обыкновенных улиц — вся Бейсуотер и Сассекс-сквер, как обычно — улицы пустые — лица напряженные, глаза затуманенные. На Чэнсери-Лейн я видела мужчину с тачкой музыкальных книг. Контора моей машинистки разрушена. Потом, на Уимблдоне, завыла сирена: люди побежали. Мы поехали по почти пустым улицам, стараясь продвигаться как можно быстрее. Лошади, рвущиеся из оглобель. Мчащиеся наперегонки машины. Потом отбой. Полагаю, людям сейчас невесело, скажем, на Хиткоут-стрит — впереди ночь; старые измученные женщины стоят в дверях домов; грязь, убогость. Несса сказала по телефону, что бомбы падают очень близко. Я считала себя трусихой, предлагая на предстоящие две ночи уходить из дома 37. И почувствовала облегчение, когда позвонила мисс П. и посоветовала нам не оставаться дома. Л. согласился.
Среда, 11 сентября
Только что говорил Черчиль. Четкая, взвешенная, ясная речь. Он сказал, что готовится вторжение. Оно случится в ближайшие две недели, если случится. Во французских портах множество кораблей и барж. Бомбежка Лондона, конечно же, подготовка к вторжению. Наш величественный Город — etc., это тронуло меня, потому что я тоже считаю Лондон величественным. Наша храбрость, etc. Ночью был еще один налет на Лондон. Бомба задела Дворец[319]. Позвонил Джон. Он был на Мекленбургской площади в ночь налета: хочет перевезти «Пресс» в другое место. Л. должен пойти туда в пятницу. Джон сказал, что в нашем доме выбиты стекла. Он где-то квартирует. С Мекленбургской площади всех эвакуировали. На наших глазах перед чаем сбили самолет; за ипподромом; бой; он дернулся в сторону; как будто нырнул; потом повалил густой черный дым. Перси сказал, что пилот выпрыгнул с парашютом. Мы ждем воздушных налетов около 8.30. Как бы то ни было, да или нет, но примерно в это время мы слышим страшный вой пилы, который сначала становится громче, а потом стихает; потом наступает тишина; потом все повторяется. «Опять они», — говорим мы, усаживаясь: я — за работу, Л. — набивать сигареты. Время от времени глухой грохот. Стекла звенят. Так мы узнаем об очередном налете на Лондон.
Четверг, 12 сентября
Поднялся ветер. Погода испортилась. Так было, наверное, во времена Армады[320]. Не слышен гул самолетов. Шумит один ветер. Ночью самолеты летали один за другим. Однако налет был отбит новым лондонским заграждением. Это радует. Если мы сможем продержаться эту неделю — следующую неделю — и следующую неделю — если погода не изменится — если ослабнет напор воздушных налетов на Лондон, — мы отправимся завтра повидаться с Джоном насчет «Пресс»; забить окна; забрать ценные вещи и письма — если нам позволят пройти на Площадь. Ну и клубничка пришла мне в голову, я припомнила свою идею для книги «Общей истории» — насобирать ее из литературы, включая биографическую; разложить по желанию, но хронологически.
Пятница, 13 сентября
В воздухе предчувствие вторжения. Дороги забиты военными вагонами-платформами, солдатами. Только что вернулись после тяжелого дня в Лондоне. Налет, которого мы не услышали, начался за Уимблдоном. Неожиданно все остановилось. Люди исчезли. Несколько машин все-таки продолжали движение. Мы решили зайти в туалет на холме, закрыт. Л. воспользовался прикрытием дерева. Полил его. Вдалеке били пушки. Заметили укрытие из розового кирпича. Это была единственная польза от нашего путешествия — беседа с мужчиной, женщиной и ребенком, которые там жили. Их бомбили в Клапеме. Дом у них ненадежный; поэтому они перебрались в Уимблдон. Предпочли этот незавершенный оборонительный объект переполненному дому для беженцев. У них есть походная лампа, кастрюля, и они в состоянии заварить чай. Ночной сторож не нуждался в их чае, у него есть собственный; кто-то позволил им принять ванну. В одном из уимблдонских домов осталась лишь смотрительница. Конечно же, она не могла поселить нас, но им, по своей доброте, позволяла посидеть внутри. Мы разговаривали. Симпатичная дама из среднего класса, направлявшаяся в Эпсом, сокрушалась, что не родила ребенка. Но мы не расстанемся с ней, сказали они — говорливый эмоциональный кельт и спокойная уравновешенная саксонка. Пока она в порядке, мы ничего не имеем против. Спят они на стружках. Бомбы падали на Палату общин. Он — маляр.
Он положил тонкую подстилку на ступеньку для меня. Заглянул офицер. «Готовимся к вторжению», — сказал мужчина, словно оно должно было произойти минут через десять.
Очень дружелюбный и гостеприимный. Им нравится, когда люди приходят к ним поговорить. Что они будут делать? Мужчина думал, будто Гитлера скоро одолеют. Дама в шляпке набекрень сказала: никогда. Мы уходили дважды; в первый раз начали бить пушки, и мы вернулись. В конце концов двинулись в путь, внимательно вглядываясь в убежища и поведение людей. Добрались до отеля «Расселл». Джона не было. Громкие разрывы снарядов. Мы спрятались. Потом отправились на Мекленбургскую площадь; встретили Джона, он сказал, что Площадь все еще закрыта; ланч в отеле; решили, что «Пресс» нужно немедленно перевести — использовать «Гарден сити пресс» — в 20 минут. Налет продолжался. Пошли на Мекленбургскую площадь.
Суббота, 14 сентября
Ощущение вторжения — грузовики с солдатами и орудиями — похожи на журавлей — стремятся в Ньюхейвен. Воздушный налет. Несколько очередей, похожих на автоматные, и всё.
Самолеты гудят и гудят. Перси и Л. говорят, что некоторые из них английские. Мэйбел выходит и смотрит вверх; спрашивает, пожарить или сварить рыбу.
Великое преимущество этой страницы в том, что она не дает мне успокоиться. Беспокойство: из-за проигрыша в шары и вторжения; из-за очередного воя сирены; из-за отсутствия книги, которую я должна читать; и т. д. Я читаю Севинье; за прошлую неделю мне удалось оправиться; немного устала от манерного чистюли Берни: даже через много веков его кислая наружность в щегольском убранстве как-то высокомерно — что? — не могу подобрать слова — этот его вид разоблачает характер; более того, напоминает мне кого-то, кого я не люблю. Логана? В нем есть церемонность Тома. Неживая искусственная жестокость и — ох, слово! слово!
Я предлагаю высокомерие.
Не слишком ли я чувствительна к человеку из книги? Думаю, мы, современные люди, не умеем любить. Мы корчимся от боли. Я не могу углубляться в это — вспомнила о старой Розе, которой хотела написать. Всегда думаешь, что скоро будет пристань. Ничего подобного. Сцена, служба, конец. Мне не нравится писать благодарственные письма по поводу «Роджера», как я уже много раз говорила. Думаю начать новую книгу чтением Айфора Иванса (Gd., Penguin).
Понедельник, 16 сентября[321]
Ну вот мы и одни на нашем корабле. День дождливый, ветреный. Мэйбел[322] ушла в 10 часов, тяжело ступая больными ногами и таща чемоданы. Спасибо вам за вашу доброту, сказала она мне и Л. И еще спросила, дам ли я ей рекомендацию. «Надеюсь, мы увидимся», — сказала я. «Ой, конечно», — сказала она. Она думала, что я говорю о смерти. Итак, 5 лет неприятно бессловесных, но пассивных и спокойных отношений закончились: тяжелая, не согретая солнцем груша упала с ветки. Теперь мы более свободны и одни. Никакой ответственности — за нее. Решение домового вопроса — не иметь жильцов. Однако я сглупила; внимала признаниям мистера Уильямсона, устрашенная его эгоцентризмом. Неужели все писатели считают себя великими? Он не может и шагу сделать без оглядки на свою славу. А я никогда не читала его бессмертных сочинений. Сегодня в Чарльстон, но сначала запастись продуктами, чтобы выдержать осаду в Льюисе. Вчера вечером видела огоньки в небе над нашей квартирой. Л. думал, это разрывались в воздухе снаряды из наших орудий. Всю ночь летали самолеты. Грохот взрывов. Я слушала церковные колокола и думала, признаюсь, что мы с Мэйбел тут как в тюрьме. Она думала о том же. Сказала, что если уж суждено умереть, то от судьбы не уйдешь. Предпочитает смерть в Холлоуэе за игрой в карты — естественно, — чем смерть тут.
Вторник, 17 сентября
Вторжения не случилось. Ветер сильный. Вчера в Публичной библиотеке взяла книгу критика X. Это отвратило меня от моей книги. Атмосфера в Лондонской библиотеке тягостная и настроила меня против литературной критики вообще: умная, безвоздушная, бесплотная изобретательность и старания доказать — что Т. С. Элиот, например, как критик хуже, чем X. Неужели вся литературная критика такая же безвоздушная? — книжная пыль. Лондонская библиотека, воздух. Или все дело в том, что X., второразрядный, холодный университетский специалист, дон[323], преподаватель, старается изобразить творчество, дон, утонувший в книгах, старается стать писателем? Неужели то же самое можно сказать об «Обыкновенном читателе»? Пяти минут хватило, чтобы, полистав книгу, я впала в уныние. Мужчина спросил: «Что бы вы хотели, миссис Вулф?» Я сказала — историю английской литературы. Но мне было так плохо, что я не сумела сосредоточиться. «Историй» оказалось слишком много. И я не могла вспомнить имя Стопфорда Брука.
Я продолжаю, выиграв два раза в шары. Наш остров — необитаемый. Нет писем с Мек[324]. Нет кофе. Газеты между 3 и 4. Не могу связаться с Мек. по телефону. Некоторые письма идут пять дней. Поезда ненадежны. Лучше всего садиться в поезд в Кройдоне. Анджелика ездит в Хилтон через Оксфорд. Вот так Л. и я оказались почти отрезанными от всех. Вчера вечером, возвращаясь, нашли в саду молодого солдата. «Могу я поговорить с мистером Вулфом?» Я решила, что речь будет идти об ордере на постой. Нет. Не одолжите ли нам пишущую машинку? Офицера куда-то перевели, и он увез свою машинку с собой. Мы отдали ему мою портативную машинку. Потом солдат спросил: «Прошу прощения, сэр, вы играете в шахматы?» Он страстный игрок. Итак, мы пригласили его к чаю в субботу. Он пришел с холма, где расположена прожекторная противовоздушная установка. Ему там скучно. Негде принять ванну. Искренний, добродушный юноша. Профессиональный солдат? Думаю, сын, скажем, агента по продаже недвижимости или владельца небольшого магазина. Не частная школа. Не низшие классы. Я разузнаю поточнее. «Прошу прощения, что вторгся в вашу жизнь», — сказал он. И еще сказал, что в субботу идет в кино в Льюисе.
Среда, 18 сентября
«Нам потребуется все наше мужество» — вот слова, которые я произнесла сегодня утром, когда услыхала, что на Мекленбургской площади выбиты все стекла, обрушились потолки и большая часть посуды перестала существовать. Упала бомба. Зачем нам понадобилось переезжать с Тависток? Что толку в таких мыслях? Мы уже хотели ехать в Лондон, когда дозвонились до мисс Перкинс, которая нам все рассказала. Издательство — то, что от него осталось — вот-вот переедет в Лечворт[325]. Мрачное утро. Как тут сосредоточиться на Мишле и Кольридже? Я уже сказала, что нам понадобится мужество. Ночью был один из самых страшных воздушных налетов на Лондон — ждем, что скажут по радио. Но я все равно продолжаю работать над «П.X.».
Четверг, 19 сентября
Сегодня мужество нужно мне меньше. Полагаю, несколько ослабло впечатление от голоса мисс П., рассказывавшей о разрушениях.
Среда, 25 сентября
Весь день — понедельник — в Лондоне; дома; темно; коврами закрыли окна; потолки частично обрушились; кучи серой штукатурки и битой посуды под кухонным столом; задние комнаты в порядке. Прекрасный сентябрьский день — мягкий — три дня хорошей погоды — приехал Джон. Мы в Летчворте. Фирма «Гарден Сити» организовала наш переезд в тот же день. «Роджер», как ни странно, продается. Бомба упала на Брунсвик-сквер. Я была в булочной. Успокаивала взволнованных измученных женщин.
Воскресенье, 29 сентября
Бомба упала так близко, что мне почудилось, будто Л. со стуком захлопнул окно. Я отругала его, потому что писала Хью и ручка выпала у меня из руки. Налет все еще продолжается. Так овчарка гонит лису из загона для овец. Она лает, кусается, и мародерша, не выдерживая, бросает кость, бомбу на Ньюхейвен, после чего улепетывает. Отбой. Шары. Деревенские жители стоят в дверях. Холодно. Все стало привычным. Я думала (помимо остального), что у нас ленивая жизнь. Завтрак в постели. Чтение в постели. Ванна. Меню обеда. Потом в Домик[326]. Сделав перестановку в комнате (развернув стол к солнцу; церковь справа; окно слева; новый прекрасный вид), настраиваюсь, закуриваю сигарету; пишу до 12; делаю перерыв; навещаю Л.; просматриваю газеты; возвращаюсь; печатаю до 1. Слушаю радио. Ланч. Болит десна, не могу кусать. Читаю газеты. Иду в Саутиз. Возвращаюсь в 3. Собираю и складываю яблоки. Чай. Пишу письма. Шары. Опять печатаю. Читаю Мишле или пишу тут. Готовлю обед. Музыка. Вышивание. 9.30 — читаю (или сплю) до 11.30. Постель. Сравниваю с прежней лондонской жизнью. Три раза в неделю обязательно кто-нибудь приходил. Один раз вечером обед с гостями. В субботу прогулка. В четверг покупки. Во вторник чай у Нессы. Один раз прогулка по Городу. Разговоры по телефону. Собрания Л. Надоедали К.М.[327] или Робсон. Обычная неделя; с пятницы до понедельника тут. Теперь же мы как будто на необитаемом острове, мне надо добавить немножко чтения. А зачем? Счастливая, совершенно свободная, ничем не ограниченная — жизнь, которая переходит от одной простой мелодии к другой. Правильно. Почему бы не насладиться ею после многих лет другой жизни? Все же я сравниваю свой день с днем мисс Перкинс.
Среда, 2 октября
Не лучше ли посмотреть на закат вместо того, чтобы писать тут? Красный проблеск на синем фоне; от него словно светится стог на пустоши; позади меня красные яблоки на деревьях. Л. рвет их. Витая струя дыма тянется за поездом под Каберном. В воздухе стоит торжественная тишина. До 8.30, тогда в небе слышится смертельный гул; самолеты летят на Лондон. Еще час до этого. Коровы щиплют траву. Листочки вяза похожи на капли дождя на фоне неба. На нашей груше много плодов; над ней возвышается треугольная церковная башня с флюгером. Зачем опять перечислять знакомые вещи, наверняка что-то забывая? Надо ли мне думать о смерти? Ночью чуть ли не под окном упала большая бомба. Так близко, что мы оба вскочили. Самолет, сбросив этот фрукт, полетел дальше. Мы побежали на террасу. В вышине сияли игрушечные звезды. Было тихо. Бомбы упали на Итфорд-Хилл. Их две возле реки, отмеченные белыми крестами и еще не взорвавшиеся. Я сказала Л.: мне пока еще не хочется умирать. Обстоятельства против меня. Их цели — железная дорога и электростанции. С каждым разом они все ближе. На Каберне словно мотылек с распростертыми крылышками — сбитый в воскресенье мессершмит. Сегодня утром я неплохо продвинулась с Кольриджем — Сарой. За две статьи мне заплатят 20 фунтов. Книги все еще продаются. Спирас[328] свободен, и Марго[329] пишет: «Я это сделала, — и добавляет: — Написала длинное письмо о тебе и о том, во что ты веришь». Во что я верю? Сейчас не могу вспомнить. Вот стараюсь представить, как умирать под бомбой. Представляю довольно живо — ощущения; кроме удушающего ничто потом. Я думаю — о, мне хотелось бы прожить еще 10 лет — не то — я не могу сразу описать это. Это — я имею в виду смерть; нет, треск и хруст, уничтожение моей тени у меня на глазах: процесс исчезновения света — болезненный? Да. Ужасно. Полагаю, что ужасно. Потом потеря сознания; усыхание; два-три вдоха в попытке вернуть сознание — и потом точка точка точка.
Воскресенье, 6 октября
Я хватаюсь за эту страницу, чтобы сказать Анрепам и Рут Бересфорд — что? Неужели так уж странно, если Л. и я идем на пустошь, чтобы сначала посмотреть на воронку, оставшуюся от бомбы, а потом послушать гудение немецких самолетов наверху; и я на два шага придвигаюсь к Л., благоразумно решая, что пусть уж один камень убьет сразу двух птиц. Вчера в конце концов бомбили Льюис.
Суббота, 12 октября
Мне бы хотелось сделать мой день полнее; чтение в основном должно быть перечитыванием. Если бы это не звучало так по-предательски, то день, подобный сегодняшнему, почти слишком — я не скажу счастливый — терпимый. Напев меняется, от одной симпатичной мелодии к другой. Все переиграно (сегодня) в этом театре. Холмы и поля; не могу не смотреть; октябрьские цветы; коричневая пашня; увядание и обновление пустоши. Сейчас поднимается туман. И одна «приятность» задругой; завтрак, работа, прогулка, чай, шары, чтение, сладкое, постель. Письмо от Розы о том, как она проводит свои дни. Из-за этого почти разбился мой день. Но лишь почти. Земля опять крутится. За ним — о да. Но я подумала, что должна жить интенсивнее. Отчасти Роза. Отчасти ужас от пассивной уступчивости. Я живу напряженно. В Лондоне, сейчас или два года назад, я бы бродила по улицам. Больше людей и шума, чем здесь. Итак, мне нужно возместить это — как? Полагаю, придумав книгу. Но всегда есть шанс холодной волны: нет, я больше не поверну свое увеличительное стекло в эту сторону. Обрывки воспоминаний охлаждают мой разум. Я заведена на три статьи (одну сегодня отправила); одну страничку написала о Тоби. Рыба забыта. Я должна придумать обед. Благословенная свобода и легкость — мы с Л. одни. На мне лежит ответственность. Еще одно удовольствие. Зато исчезли заботы об одежде, о Сибил, о положении в обществе. Мне хочется смотреть на эти годы как на что-то позитивное. Л. собирает яблоки. Салли лает. Я представляю вторжение в деревню. Странно это ограничение жизни деревенского масштаба. Дров мы купили на много зим вперед. Все наши друзья сидят у своих очагов. Неожиданный гость почти немыслим. Нет машин. Нет бензина. Поезда ходят без расписания. Мы на нашем прекрасном осеннем свободном острове. Но я буду читать Данте; и еще кое-что для моей книги-путешествия-по-английской-литературе. Мне было приятно увидеть всего исчерканного «Обыкновенного читателя» в Публичной библиотеке, в которую я хочу записаться.
Четверг, 17 октября
Удача от нас отвернулась. Джон сказал, что Тависток-сквер не существует[330]. Если так, то мне не надо больше просыпаться по ночам с мыслью о том, что от Вулфов отвернется удача. В первый раз они оказываются неосторожными и глупыми. Второе, срочное требование от «Харперс Базар» прислать им статью или рассказ. Итак, это дерево вовсе не засохло, как я думала, а, наоборот, плодоносит. И я потратила не знаю уж сколько мозговых клеток, зарабатывая тремя маленькими статьями 30 гиней. Однако, должна сказать, дело того стоило, ибо я, благодаря пчелиному прилежанию и трудолюбию, стою 120 фунтов в США. Великолепный день — адмирал празднует яблоневый день. Красное гнилое яблоко лежит на траве; на нем сидит бабочка; за нею нежно-голубые акварельные горы и поля. Все летит в легком воздухе, чтобы упасть на землю и отдохнуть. Смеркается. Скоро сирена, потом звук порванных струн… Но пока об этом можно забыть, и о ночной операции против измученного Лондона тоже. Мэйбел хочет уехать из города. Л. пилит дрова. Забавный крестик на церкви словно прислонился к горе. Мы едем завтра. Опускается туман, словно белое руно укрывает пустошь. Я должна выключить свет. Мне так много надо сказать. Не спеша заполняю свои мысли елизаветинцами: так сказать, позволяю им кормиться, как адмиралу — сирена, едва я задернула занавески. Теперь начинается неприятная часть дня. Кого сегодня убьют? Полагаю, не нас. Никто об этом не вспоминает — кроме разве что тех, кто воображает эту картину. Я часто и всерьез думаю, что наше бабье лето было заслуженным; после многих лондонских лет. Я хочу сказать, что мы прочувствовали его. Над каждым днем витала неясная тень риска. Сегодня я вновь взялась за «П.X.»; думаю, пора вернуться к старым привычкам — к тому, что я делаю в неудачные дни, — к чтению наугад. Мне пришла в голову мысль собрать записи. Ох, ведь мне пришлось соорудить железный занавес для своих мозгов. Опускаю его, когда окончательно устаю. Ни чтения, ни писания. Никаких претензий, никаких «должна». Я гуляю — вчера в дождь через холм Паддингоу — новая дорога.
Воскресенье, 20 октября
Самым — каким? — впечатляющим, нет, не то — зрелищем в Лондоне в пятницу оказалась очередь, в основном из детишек с чемоданами, возле входа в метро на Уоррен-стрит. Это было в 11.30. Мы подумали, что эвакуированные ждут автобус. Но и в 3 часа они сидели там, их даже стало больше, женщин, мужчин с чемоданами, с одеялами. Очередь в бомбоубежище на случай ночного налета — которого, конечно же, не миновать. Итак, они покинули метро в 6 (в четверг был жестокий налет) и вернулись в 11. Тависток-сквер. Со вздохом облегчения посмотрела на груду развалин. Итак, не стало трех домов. Наш дом разрушен до основания. Единственная реликвия — старое плетеное кресло (купленное еще на Фицрой-сквер) и дощечка с каллиграфической надписью: «Сдается». Кирпичи, доски. В соседнем доме сохранилась одна стеклянная дверь. Я вижу кусок стены моей студии; камни, за которыми я написала так много книг. Пустота там, где люди просиживали ночами, устраивали вечера. Отель цел. Теперь на Мек[331]. Снова мусор, стекло, черный пушистый пепел, пыль от штукатурки. Мисс Т. и мисс Э., в брюках, халатах и тюрбанах, занимаются уборкой. Я заметила, что у мисс Т. так же дрожат руки, как у мисс Перкинс. Конечно же, дружелюбие и гостеприимство на высшем уровне. Быстрая отрывистая беседа. Повторы. Очень жаль, что у нас не было ее карточки… избавить вас от шока… Это ужасно… Наверху она кое-как починила книжный шкаф. Книги разбросаны по всей столовой. В моей гостиной стекло на комоде миссис Хантер — и так далее. Лишь в гостиной более или менее целые окна. Ветер все равно гуляет. Я стала вытаскивать дневники. Что можно увезти в нашей маленькой машине? Дарвина и серебро, немного хрусталя и фарфора.
Ланч в гостиной не лез в горло. Пришел Джон. Я забыла «Путешествие на «Бигле»»[332]. За весь день ни одного налета. Около 2.30 поехали домой.
Возбуждение от потери имущества — правда, временами мне жаль мои книги и кресла, и ковры, и кровати. Много же мне пришлось поработать, чтобы купить их — вещь за вещью — и картины. Однако теперь я свободна от Мек., если это может служить утешением. Почти наверняка дом будет разрушен полностью — и наше эксцентричное владение солнечной квартирой над… Несмотря на переезд и расходы, несомненно, если мы сохраним наши вещи, то дешево отделаемся — я хочу сказать, не дай Бог, мы бы остались в доме 52 и лишились всего. Удивительно — облегчение от того, что что-то потеряно. Я бы хотела начать жизнь, на земле, почти без ничего — но свободная идти, куда хочу. Можем ли мы избавиться от Мек.?
Пятница, 1 ноября
Мрачный вечер, не в настроении: одна у камина — и, беседуя, обращаюсь к слишком толстому тому. Моя книга для «Таймс» — последняя автобиография Э. Ф. Бенсона, в которой он попытался избавиться от всех недоговоренностей. В ней для меня стала ясной рискованность красноречия. Я тоже могу щелкать фразами. Он написал: «Человек должен постоянно открывать в себе новые глубины». Что ж, меня это не смущает. Но отмечу, однако, рискованность красноречия. И прибавлю, имея в виду, насколько я чувствую в пальцах тяжесть каждого слова, даже в статье, надо ли мне чувствовать себя виноватой?
Воскресенье, 3 ноября
Вчера река вышла из берегов. Теперь вместо пустоши море с чайками. Л. и я ходили в сарай. Волны, белая пена, с ревом врываются в дыру возле дома. В прошлом месяце взорвалась бомба; старый Томпсетт сказал, что берег устоял всего месяц. По какой-то причине (берег размяк, как сказал Эверест, возле дома) река опять вышла из берегов. Сегодня ужасный дождь и ветер. Словно милая старушка природа решила поплясать на славу. Опять идем к сараю. Река стала глубже и полноводнее. Мост снесен. Дорога возле фермы непроходима. Итак, все мои прогулки по пустоши остались в прошлом — до каких пор? Еще в одном месте берег не выдержал. Река одолевает — водопад; море непостижимо. Теперь оно окружило стог Боттена — стог посреди воды — и начало заливать наше поле. Прекрасно было бы, если бы вышло солнце. В сегодняшнем тумане есть нечто средневековое. Я счастлива, так как не делаю деньги, а пишу «П.X.» — рывками; расписывая, рада сообщить, небольшое полотно. Ох, свобода —
Вторник, 5 ноября
Стог в воде невероятно прекрасен… Когда я гляжу наверх, то вижу всю залитую водой пустошь. На солнце она глубокого синего цвета; чайки клюют семена; снежные бураны; дно Атлантики; желтые острова; голые деревья; красные крыши домов. Наводнение может длиться вечно. Девственные места; никаких бунгало; начало начал. Теперь все свинцово-серое с красными листьями. Наше внутреннее море. Каберн стал скалой. Я думала: Университет заполняет раковины, как (H.A.L.F.) и Тревельян. Они — их продукт. И еще: Никогда я не была такой плодовитой. И еще: во мне сидит старый голод к книгам: детская страсть. Итак, я очень «счастлива», скажем так; и поглощена «П.X.». Дневниковая скоропись пригодилась. Новый стиль — смешанный.
Воскресенье, 17 ноября
Я наблюдаю как любопытную безделушку в духовной истории — мне хотелось бы иметь записки натуралиста — записки натуралиста, ведущего наблюдения за человеком, — за тем, как ритм книги, складываясь в голове, сворачивает человека в шар и таким образом мучает его. Ритм «П.X.» (последняя глава) стал таким настойчивым, что я слышала его и, возможно, использовала в каждой произнесенной фразе. Но когда я читала заметки, сделанные на память, это как будто прошло. Ритм заметок гораздо шире, свободнее. Стоило два дня пописать в этом ритме, и я совершенно освободилась. Итак, завтра возвращаюсь к «П.X.». Полагаю, так оно и будет.
Суббота, 23 ноября
Только что закончила «Маскарад» — или «Пойнтц-холл»[333] (начатый примерно в апреле 1938 года) — мои мысли тотчас взялись за первую главу следующей книги (безымянной). Название скоро появится. Рассказ о сегодняшнем утре должен быть посвящен приходу Луи, которая держит в руках стеклянный кувшин с нежирным молоком, и в нем плавает кусок масла. Я отправилась с нею в большой дом процедить молоко; потом взяла масло и пошла показывать его Леонарду. Это был момент грандиозного триумфа в нашем доме.
Я же торжествую еще из-за книги. Полагаю, она стала интересным воплощением нового метода. Полагаю, она гораздо насыщеннее прежних книг. Лучше процежена. Жирнее и наверняка свежее, чем несчастные «Годы». Когда я писала, то получала удовольствие чуть ли не от каждой страницы. Эта книга создавалась (должна заметить) лишь в перерывах, когда давление на меня было особенно сильным, во время тяжелой работы над «Роджером». Думаю, это надо сделать системой: если новая книга превращается в тягостную обязанность — надеюсь, такого будет немного — в любом случае должна быть вспомогательная книга — чтобы я могла противостоять сильному давлению. Я думаю о том, чтобы достигнуть своей вершины — настойчивое видение — как стартовой точки. Потом посмотрим, что будет. Если ничего, так тому и быть.
Воскресенье, 22 декабря
До чего же красивыми были мои старики — я говорю о папе и маме — до чего простыми, до чего чистыми, до чего прямыми. Я погрузилась в старые письма и отцовские воспоминания. Он любил ее: ох, каким же он был искренним, и разумным, и ясным — у него был утонченный изысканный ум, тренированный образованием, ясный. Их жизнь встает передо мной спокойной и веселой; никакой грязи; никаких омутов. И так человечно — с детьми, и легким притворством, и детскими песенками. Но если я буду читать с моих сегодняшних позиций, то упущу тогдашнее впечатление и должна буду остановиться. Никаких беспокойств, никаких сложностей, никаких самоанализов.
Воскресенье, 29 декабря
Есть моменты, когда парус провисает. Тогда, будучи великой любительницей искусства жить и решив высосать свой апельсин до конца, я, как оса, если вянет цветок, на котором я сижу, подобно вчерашнему — мчусь по холмам к скалам. С краю колючая проволока. Я живо прочистила мозги, идя по Ньюхейвен-роуд. Обносившиеся старые девы покупают бакалейные товары на пустынной улице с виллами; в дождь. Ньюхейвен ранен. Утомленное тело и спящий разум. Желание делать записи в дневнике исчезло. Что такое правильное противоядие? Я должна учуять его. Думаю о мадам де Севинье. Писать — вот ежедневное удовольствие. Я отвергаю суровую старость — я чувствую это. Я раздражена. Я резка.
Чем далее живем — тем безотчетней, И жизнь одну мы подменяем сотней, И ждем, как ты. Но без надежды ждем.[334]Я открыла книгу Мэтью Арнольда и переписала эти строчки. Но пока делала это, поняла, почему теперь я многое не люблю, а кое-что люблю, почему многое вызывает у меня идиосинкразию — всё из-за усиливающейся независимости от иерархии, от патриархата. Когда Десмонд хвалит «Ист-Коукер»[335], вызывая у меня ревность, я хожу по пустоши и повторяю: я есть я и должна вести свою борозду, а не повторять чужую. Это единственное оправдание моей работы, моей жизни. Сейчас все наслаждаются едой; я мысленно творю разные кушанья.
1941
Среда, 1 января
В воскресенье вечером, когда я читала о Великом пожаре[336] в очень подробной и достоверной книге, горел Лондон. Восемь из соборов моего города разрушены, еще ратуша. Это случилось в прошлом году. В первый день нового года ветер гудит, как циркулярная пила. Эта тетрадь была спасена из дома 37; я принесла ее из магазина вместе со связкой елизаветинцев для моей книги, которая сейчас называется «Переворачивая страницу». Психолог понял бы, что я написала это, когда в комнате были еще один человек и собака. Если по секрету, то мне кажется, что теперь я буду, наверное, менее словоохотливой — никакого смысла заполнять слишком много страниц. Нет издателя. Нет публики.
Четверг, 9 января
Пустота. Мороз. Опять мороз. Сверкание белого. Сверкание голубого. Вязы красные. Я не собиралась еще раз описывать здешние места в снегу; но опять наступила зима. И я даже сейчас не могу не обернуться, смотрю на Ашем, красный, пурпурный, голубовато-серый, с мелодраматическим крестом на его фоне. Что это за фраза, которую я постоянно вспоминаю — или забываю. В последний миг обернись с любовью на то, что тебя окружает. Вчера миссис X. похоронили вниз лицом. Несчастный случай; Очень тяжелая женщина, как сказала Луи, получив неожиданный праздник на кладбище. Сегодня она хоронит тетю, у мужа которой было видение в Сифорде. На прошлой неделе рано утром в их дом попала бомба, и мы слышали, как она взорвалась. Л. читает нотацию и приводит в порядок комнату. Интересно ли это в будущем: не скажут ли — хватит, разве это так уж хорошо? В моем возрасте все хорошо. Я хочу сказать, пока еще терпимо. По другую сторону холма не будет ясного голубоватого красного снега. Переписываю «П.X.».
Среда, 15 января
Скупость может положить конец этой книге. И еще стыд за мою говорливость, которая находит на меня, когда я вижу 20 книг, поставленных в ряд, в моей комнате. Кого я стыжусь? Ведь я сама же их читаю. Джойс умер; Джойс был на две недели младше меня. Помню, как мисс Уивер, в шерстяных перчатках, принесла машинопись «Улисса» и положила на наш журнальный столик в «Хогарт-хаус». Полагаю, к нам ее послал Роджер. Неужели нам надо было посвятить нашу жизнь публикации романа? Неприличные страницы показались мне нелепыми; книга была похожа на старую деву, застегнутую на все пуговицы. А от страниц исходило неприличие. Я спрятала машинопись в ящик инкрустированного шкафа. Однажды пришла Кэтрин Мэнсфилд, и я вынула ее. Кэтрин начала с любопытством читать, потом неожиданно сказала: в этом что-то есть, эта сцена, полагаю, останется в истории литературы. Он все время был где-то рядом, но я никогда не видела его. Потом, помнится. Том в доме Оттолин на Гарсингтон сказал — его слова были позднее опубликованы — как можно писать что-то еще, сотворив подобное чудо в последней главе? В первый раз, сколько мы были с ним знакомы, я видела его таким восхищенным, восторженным. Я купила дешевое издание и летом прочитала его тут, насколько помню, содрогаясь от восторга из-за сделанных им открытий между долгими периодами глубокой скуки. Это было в доисторические времена. А теперь джентльмены отполировали свои мнения, и книги, полагаю, занимают свое место в длинной процессии.
В понедельник мы были в Лондоне. Я отправилась на Лондонский мост. Смотрела на реку; туман; клубы дыма, возможно, где горели дома. В субботу случился еще один пожар. Потом я увидела стену-скалу, чудом державшуюся вертикально, у которой не была угла; целый угол был снесен; Банк; Монумент[337] цел; пыталась подняться в автобус; у меня ничего не вышло; подошел второй автобус, и я поняла, что мне лучше идти пешком. С транспортом плохо; улицы пострадали от взрывов. Итак, подземкой до Темпла[338]; а там между руинами я добралась до моих старых площадей: разрушены, опустошены, старые красные кирпичи и белая пыль, похоже на строительную площадку. Серая грязь и выбитые стекла. Зеваки; совершенство уничтожено и разграблено.
Воскресенье, 26 января
Борюсь с депрессией, отверженностью (в «Харпер» не взяли мой рассказ и Эллен Терри), мою кухню; посылаю статью (неубедительную) в «Н.С.» и на два дня откладываю «П.X.» ради воспоминаний. Волна отчаяния, клянусь, не захлестнет меня. Одиночество прекрасно. Жизнь в Родмелле как очень слабое пиво. Дом сырой. Неопрятный. Но выхода нет. Дни становятся длиннее. Мне нужен рывок, как бывало прежде. «Твоя настоящая жизнь подобна моей придуманной», — как-то сказал мне Десмонд. Но нужно помнить, что мысли не терпят насилия. Я начинаю ненавидеть самокопание: сон и дремоту; размышления; стряпню; езду на велосипеде; о, еще довольно-таки неподатливые книги — viz.[339]: Герберт Фишер. Это мое задание.
В войне затишье. Уже шесть ночей нет воздушных налетов. Однако Гарвин говорит, что близится великое сражение — примерно через три недели — и все: мужчины, женщины, дети, собаки, кошки, даже долгоносик — должны запастись оружием и верой — и так далее. Очень холодно — перед рассветом. Несколько подснежников в саду. Правильно, думала я: мы живем без будущего. Это странно, но мы уперлись в закрытую дверь. Теперь письмо — новым пером — Энид Джоунс.
Пятница, 7 февраля
Почему на меня напала депрессия? Не помню. Мы смотрели Чарли Чаплина. Подобно коровнице, нашли его скучным. Я писала с некоторым подъемом. С миссис Трейл должно быть покончено до нашего отъезда в Кембридж. Скоро неделя паводка.
Воскресенье, 16 февраля
После недельного паводка жуткая серая вода. Больше всего мне понравился обед с Дэди. Светло и доверительно. Мне понравилась мягкая серая ночь в Ньюнхеме. Пернел встретила нас в своих церемониальных апартаментах, где все отполировано и рассчитано на зрителя. На ней было нечто мягкое, красное с черным. Мы сидели возле ярко горевшего камина. Забавная порхающая беседа. В будущем году она уезжает. Потом Лечворт — рабыни, прикованные к своим машинкам, искаженные застывшие лица и печатные машинки — требуются все более и более умные машины, складывающие, прессующие, клеящие и выпускающие образцовые книги. Они могут наклеить тряпку и имитировать кожу. Наш «Пресс» вновь на витрине. В стране смотреть не на что. Долгие поездки на поездах. Скудная еда. Нет масла, нет джема. Старые пары ставят на стол мармелад и виноградные косточки. Разговаривая возле камина, едва ли не шепчутся. Элизабет Боуэн приехала через два часа после нашего возвращения и вчера уехала; завтра приедет Вита; потом Энид; потом, возможно, я вновь отправлюсь в одну из моих «высших» жизней. Пока еще нет.
Среда, 26 февраля
Моя «высшая» жизнь почти целиком посвящена елизаветинской драме. Закончила «Пойнтц-Холл», или «Маскарад»; драма — наконец-то — сегодня угрюм «В антракте».
Воскресенье, 8 марта
Только что вернулись после речи Л. в Брайтоне. Похож на иностранный город: первый весенний день. Женщины сидят на скамейках. Прелестная шляпка в кафе — до чего же мода веселит взгляд! Там же, в кафе, морщинистые старухи, нарумяненные, разодетые, похожие на ожившие трупы. Официантка в хлопчатобумажной шотландке. Нет: я не замышляла никаких интроспекций. Вспомнила фразу Генри Джеймса: постоянно наблюдаю. Наблюдаю, как проходят годы. Наблюдаю жадность. Наблюдаю собственную депрессию. Это полезно. Надеюсь. Настаиваю на проживании этого времени самым полезным образом. Сойду в небытие с развевающимися знаменами. Похоже, я на грани интроспекции; но пока еще не впала в нее. Допустим, я покупаю билет в музей; езжу туда каждый день на велосипеде и читаю книги по истории. Допустим, я выбираю по одному персонажу в каждой эпохе и пишу о нем и обо всем, что вокруг него. Замечательное занятие. А теперь я с удовольствием замечаю, что уже семь и мне пора готовить обед. Пикша и колбасный фарш. Думаю, это правильно — иметь фарш и пикшу, если увековечиваешь их на бумаге.
Письма адресованные Литтону Стрэчи (1906–1930)
Как бы ни бранили Стрэчи, они всегда остаются для меня источником неисчерпаемой радости — такие они искрящиеся, ясные и находчивые. Надо ли говорить, что я запасаю качества, которые больше всего меня восхищают, для людей, Стрэчами не являющихся? Мы с Литтоном так давно не виделись, что основные впечатления о нем я беру из его работ, правда, статья о леди Эстер Стэнхоуп у него не из лучших.
Дневник. 17 апреля 1919 года
В субботу к ланчу пришли Литтон и Уэббы, и когда я рассказывала о моих триумфах, мне как будто почудилась легкая тень на лице Литтона, которая исчезла не прежде, чем разговор перешел на другую тему. Что ж, к его триумфам я относилась примерно так же. Мне не доставляло удовольствия, когда он разглагольствовал об экземпляре «Знаменитых викторианцев», поставленном на полку и надписанном «М» или «Г» то ли мистером, то ли миссис Асквит. Мысль, очевидно, ему понравилась.
Дневник. 10 июня 1919 года
Я проснулась ночью с ощущением, будто нахожусь в пустом зале: Литтон умер, вокруг — фабрики. Смысл жизни — когда я не работаю — сразу мельчает и теряется. Литтон умер, и нет ничего конкретного, чем можно было бы отметить его жизнь. А они пишут о нем дурацкие статьи.
Дневник. 8 февраля 1932 года
Прихожу домой и пытаюсь сосредоточиться на Паскале. Не получается. Все же это единственный способ прийти в себя, так что я хотя бы стараюсь успокоиться, если не в силах понять. Тонкости теологии мне не даются. Тем не менее, я понимаю Литтона — моего милого старого змея. До чего призрачна наша жизнь — он мертв, а я читаю его и стараюсь делать то, что мы оба хотели делать в этом мире; хотя иногда прошедшее кажется мне иллюзией — все было так быстро: жизнь оказалась быстротечной и нечего предъявить, кроме маленьких книжечек. Вот почему я топаю ногой и останавливаю мгновение.
Дневник. 29 июня 1939 года
1. Лондон
22 ноября 1906 года
Дорогой мистер Стрэчи!
Мы были бы рады видеть вас у себя, если у вас найдется время навестить нас. Устроит ли вас следующее воскресенье в шесть часов? Ванессе гораздо лучше, и она не прочь поболтать с вами.
Искренне ваша, Вирджиния Стивен[340].
2. Сент-Ивз 22 апреля 1908 года
Дорогой Литтон!
Другой бумаги, кроме этой, которую тут называют коммерческой, в Корнуолле нет. Если бы вы знали, в каких обстоятельствах я пишу это письмо, вы бы наверняка назвали меня моралисткой. У меня есть гостиная, которая на самом деле столовая, а в ней стоит буфет с графинчиком и серебряной коробкой с бисквитами. Я пишу за обеденным столом, отвернув с уголка скатерть и отодвинув серебряные горшочки с цветами. Так мог бы начинаться роман мистера Голсуорси. У моей хозяйки, хотя ей пятьдесят лет, девять детей, а было одиннадцать; и самый младший вполне может кричать целый день. Если знать, что их гостиная рядом с моей и отделена лишь тонкой стенкой с раздвижными дверьми, — как вы назовете эту фразу? — то понятно, что мне трудно написать что-нибудь о Дилейне как о «человеке». Смит[341] прислал мне длинное письмо с указаниями. Ему надо, чтобы я сделала упор на личных качествах, на «его непоколебимой верности как нижестоящим, так и вышестоящим — одним словом, на высоких качествах его ума и сердца, которые…» — и так далее, и так далее. «Нет, дорогая мисс Стивен, дело не в сравнении, потому что истинный интерес «Cornhill» в отношениях Дилейна и миссис Аберкомби». «Я очень надеюсь, дорогая мисс Стивен, что вы вложите ум и сердце в вашу работу и приобретете известность как рецензент». Вам когда-нибудь приходилось получать подобные комплименты?
Итак, большую часть времени я провожу наедине с Богом на пустоши. Около часа (может быть, минут десять) я просидела сегодня на скале, думая о том, как бы я описала цвет Атлантического океана. На зеленой воде трепетали алые лучи, но если назвать это румянцем, то возникнет ненужная ассоциация с красной кожей. Боюсь, вас красоты природы не интересуют. С тех пор, как я здесь, мне удалось повидать много такого, о чем стоило бы рассказать, — «желтый утесник и море» — деревья на фоне моря — но я непременно наделаю ошибок, и мне придется переписывать письмо… По-моему, я прочитала тут много хороших книг. На вашего Паскаля служанка поглядывает подозрительно. Вчера я принесла ветку с белыми цветами и спросила у нее, что это. Она сказала, боярышник, но мне всегда казалось, что у боярышника цветы розовые.
Будет весьма милосердно с вашей стороны, если вы ответите мне. Я стала очень болтливой, поскольку ни с кем не разговаривала с тех пор, как мы виделись с вами, разве что обсуждала звериные лапы.
Всегда ваша, В. С.
3. Сент-Ивз
28 апреля 1908 года
Дорогой Литтон!
Ваше письмо стало великим утешением для меня, а то я уж начала сомневаться в своей человеческой сущности — представляла себя чайкой и по ночам мечтала о глубоких синих просторах, в которых много угрей. В тот же день, как ни странно, явился Адриан[342], словно мрачный персонаж из скандинавской саги — так мне показалось — промерзший капитан с заиндевелой бородой, который путешествует уже много веков. Он познал и снег, и солнце, и дождь, и, когда ближе к вечеру оказывался вблизи одинокой фермы, благочестивые женщины жались за дверью и не открывали ее, боясь за свою честь. Иногда, такие уж они были скромницы, ему приходилось отшагивать еще четыре мили после дневных трудов. Тем не менее, время он проводил прекрасно, видел много интересного и припас немало историй. Потом явились Несса[343] с Клайвом, младенцем и няней, и мы провели семейный вечер, так что я не писала и не читала. Моя статья о Дилейне оборвана на середине страницы вопросом: «Что же он был за человек?» Чтобы ответить на этот вопрос, вам необходимо приехать — в субботу, но до этого у вас будет время написать и отметить все мои неправильные «b» и неправильные «v». Малыш — настоящий чертенок, пробуждающий в своих родителях — и тетках — все самые худшие и мало объяснимые страсти. Стоит нам разговориться о браках, дружбах или литературе, как Несса вскакивает, якобы она услышала крик, и нам надо определить, кричал Джулиан или другой двухлетний малыш, у которого нарыв и совсем не похожий голос.
Вчера вечером Адриан уехал, чтобы выпить чаю с С.Т.[344], пообедать с С.Т. и обсудить оперу с С.Т. Я послала ему большой горшок масла и теперь ожидаю письмо на Цицероновой латыни. «Ценишь ли ты мой укус [?] в винительном падеже или считаешь его слишком в традиции Тацита?» Вы вызываете во мне ярость вашими интеллектуальными штучками на солсберийской равнине. Мое почтительное отношение к умным молодым людям приводит меня в состояние интеллектуального паралича. Мне в самом деле непонятно, о чем вы все болтаете. А вы — нет, я не собираюсь начинать все сначала. Однажды я видела Руперта Брука, облокотившегося на перила галереи в Ньюхэме, где были мисс Ривс и фабианцы.[345]
Сегодня мы собираемся посетить место с названием «Голова Гурнарда» — а сейчас я смотрю наверх, и, кажется, начался дождь! Итак, будем сидеть у камина, я буду говорить ужасные вещи, Клайв и Несса будут обходиться со мной как с испорченной обезьянкой, малыш будет орать. А в Хэмпстеде снег. Как ваша простуда? У меня болела шея от гулянья по скалам, но уже не болит.
Всегда Ваша, В. С.
4. Южный Уэльс 30 августа 1908 года
Дорогой Литтон!
Фрэнк Сиджвик не написал мне, так что, вероятно, он нашел другого автора. Приятно было бы заняться этой книгой, но не представляю, как бы я успела в обусловленные сроки[346]. Я буду бродить по итальянским кабачкам без чернильниц, без бумаги и, возможно, без единого французского романа.
Кстати, я прекрасно провела субботу и воскресенье, полностью отдавшись размышлениям и дивной природе. И теперь почти не представляю, как мне выйти из этого состояния и сумею ли я вновь заговорить. Живу я очень неудобно, но наняла еще одну комнату в другом доме, куда ухожу жевать Мура и восклицать над Расином; «Боже мой! Вот это человек!» У меня никаких приключений — если, конечно, не считать глубокомысленной переписки с Саксоном[347], что-то вроде голландской школы в живописи. Он присылает мне опись мебели в своей спальне, а я отвечаю — защищаясь — самыми рискованными метафорами. Расселы [Бертран] пригласили меня к себе на неделю, желая познакомить с мистером и миссис Джилберт Марри, с Джейн Харрисон и [Ф.М.] Конфордом и мисс Шипшэнкс. Общество показалось мне немного староватым, и мне не хватило мужества согласиться. Клайв, в самом деле, очень высокого мнения о ваших стихах, и я наконец-то забрала их у Нессы. Теперь они лежат на столе передо мной, и я читаю их, когда чувствую в себе ясность. Мне известно, что комплименты для вас ничего не значат; ничего не значит ни мой зеленый румянец, ни другие формы поклонения. Если вы считаете меня чересчур здравомыслящей особой, то у меня тоже есть яркая картинка с вас — восточный монарх в узорчатом халате.
По-моему, Нессе и Клайву весьма наскучило в Шотландии — и неудивительно. Шотландцы поразительный народ. Я провела сегодняшнее утро, работая над шотландками, включая вашу родственницу, миссис Грант из Лаггана[348], и нашла много интересного.
Ох, какое блаженство ничего больше не писать, а лежать себе в винограднике, и пусть виноградинки падают прямо в рот. Однако мне пора собираться, завтра еду в Лондон.
Всегда ваша, В. С.
5. Лондон
4 октября 1908 года
Дорогой Литтон!
До чего же приятно получить от вас письмо из Парижа. Мы вернулись два или три дня назад — Адриан только что — опять концерты, рецензии и Сакстон до трех часов утра — все началось снова. Тем не менее, у нас было чудесное путешествие, которое закончилось неделей в Париже в скромном богемном окружении. Мы пили кофе в огромных количествах, сидели при электрическом свете и разговаривали об искусстве. Жаль, нам не было на десять лет меньше или на двадцать лет больше, тогда бы мы пили бренди и культивировали свои чувства. Все-таки иногда я думала и о других вещах — о романах и приключениях. Почему вы не заканчиваете свой роман? Пора бы уже. Сюжет не имеет значения, в отличие от страсти, стиля и безнравственности — чего еще надо? Занимались ли вы это время английской литературой? Надо купить «Spectator». У меня такое чувство, будто я могла бы прочитать все, что только есть в библиотеках — увы, это невозможно. Вокруг моего кресла лежит куча книг, а мне лень протянуть руку. Адриан только что рассказал мне свой сон — будто бы он 40 лет путешествовал с пустынником с берега Мертвого моря. Это был Саксон.
Всегда ваша, В. С.
6. Лондон
20 ноября [1908 года]
Дорогой Литтон!
Лизард[349] уже почти как сон. Я и в вас-то с трудом верю. «Daily Telegraph» сообщает о буйном цветении на побережье «незабудок, примул и яблонь». Так что я представляю вас не иначе как венецианским принцем в небесно-голубых рейтузах, лежащим на спине в саду и болтающим щегольской ногой в воздухе, пока я… Это не совсем туман, что-то похуже, мушиное марево, сквозь которое видны несчастные люди, еда, газовые фонари. Получила много писем, в основном счета, но есть несколько приглашений: от леди Поллок, Тревельянов и Протеро. Непременно приму их все. Вчера вечером у нас был Дункан Грант[350], который думает, что вы в Пензансе; сегодня мы обедаем в клубе «Пятница» по два шиллинга за обед. Звучит несколько демонически; в перерывах я пытаюсь читать «Ромео и Джульетту»! Я боюсь, как бы не урезали моего Сен-Симона, с которым я была очень скупой на слова, так что когда я доберусь до ваших мест, у меня искры будут сыпаться из глаз. Но до этого еще далеко, а пока я жажду огня в камине, спокойного кресла и нескольких часов одиночества. Вы на вашем острове наслаждаетесь всем этим. О чем думали? Написали ли еще стихи? Я сократила свой роман, но он отвратительно скучен. Когда вы вернетесь?
Кстати, если Эстер подойдет к вам с парой ножниц, вы уцепитесь за них? Почему-то я приехала с двумя ножницами, а вернулась без них. Адриан собирался оставить карту, но положил ее в чемодан, так что если она вам нужна, он вышлет ее вам. Его сестра заболела в Лизарде и провалялась в доме друзей сорок восемь часов, однако обошлось без операции (пока). Ее еще немножко прихватило в Афинах.
Ваша В. С.
7. Лондон
4 января 1909 года
Дорогой Литтон!
До меня дошли неясные слухи о вашем бегстве в Рай. Вы не находите Русалку довольно мрачной — как линейный корабль во времена Нельсона? Помнится, я однажды подкралась к ней, а какая-то старуха меня прогнала. Мне очень жаль, что вы заболели. Это случилось на Рождество? Мы сидели у огня и смотрели на белый сверкающий снег. Адриан теперь в Уилтшире, верно, топчет там грязь, а я не знаю, что делала, — смотрела [Эдит Бланк], полагаю. До половины второго ночи она засыпала меня самыми скучными и унылыми откровениями. Представьте, 17 [Бланков] в трущобах [Бирмингем], и [Эдит] (так она говорит) самая прекрасная из всех. Потом она стала рассказывать о брошенных женщинах и отвергнутой любви, о холоде, нищете, старости в параличе. А вершина всего этого якобы необходимость в реформировании закона о разводе. Как раз это больше всего угнетает меня в ней — она останавливается как вкопанная перед всякой гадостью. У нее, как у француженки, никогда нет выхода. «В двадцать лет, — говорит она, — я должна выйти замуж за викария». Или она так наивна?
Вы собираетесь повидаться с Фишерами[351] в четверг? Наверняка будете говорить с Гербертом о Вольтере, а я расскажу, как видела его восковую фигуру в музее мадам Тюссо. Не могу не думать о том, что он немного мошенник (я имею в виду Г. Ф.). Не бывает таких образованных и добрых людей. И его жена — блестящая женщина.
Я читала в Афинах письма к незнакомым людям, когда все думали, будто я кипячу козье молоко, и мне помнится, они тогда подействовали на меня успокаивающе. В них было столько цинизма. Скучная пожилая пара, полностью зацикленная на себе. Ненавижу таких.
Просидела до полуночи у огня. Собака спит в постели, а я только что дочитала об Аяксе. Древние потрясают меня — они или на редкость мудры, или на редкость элементарны, а когда приходится читать по слогам, то и не поймешь. Однако тут есть по крайней мере один кусок необыкновенной красоты, хотя мне кажется, его можно прочитать двадцатью разными способами. Вчера видела [X.] со злыми козлиными глазами — там же были Саксон, Несса и Клайв. Клайв показался мне печальным, однако, уверена, на это не стоит обращать внимание. Фрешфилды пригласили нас погостить; к чаю вместе со мной придет Сидни Ли — вот и все новости. Меня попросили написать мои «впечатления» об Уолтере Хедлэме[352], в первую очередь о его жизни. Но это же будет ложь.
А теперь пора в постель почитать немножко моего неповторимого Каупера.
Ваша В. С.
Отрывок из письма Литтона Стрэчи от 9 марта 1909 года, адресованного его брату Джеймсу:
…Прежде я по разным причинам молчал об этом, 19 февраля[353] я сделал предложение Вирджинии, и оно было принято. Можешь вообразить это неловкое мгновение, особенно когда я понял, сразу же, как это отвратительно мне. У нее потрясающая интуиция, и, к счастью, выяснилось, что она не влюблена в меня. В результате мне удалось с честью отступить…
8. Лондон
4 июня 1909 года
Дорогой Литтон!
Слыхала, что накануне мы разминулись в Кембридже. На редкость красивое место. Мы встретили примечательного молодого человека в охотничьем верхе, черных брюках и с головой Фавна — кто бы это мог быть? Уверена, вы знаете.
Мы в вихре лондонского сезона. Развлекаем Джека Поллока. Леди Оттолин [Моррелл]. Я проникаю в самые таинственные места. Мне сказали о еврейке, которая истратила пятьдесят гиней на шляпку и хочет познакомиться со мной; надеюсь, не для того, чтобы обменяться о ней мнениями. Мы видели ее в опере и любовались ее рукой, когда она облокотилась о край ложи. Потом, наверху, мы встретили Чарли Сенгера, Саксона и великого мистера Лёба, у которого лучшая в Европе коллекция оперных фотографий и автографов. […]
Я зачиталась Мишле. Неужели это и вправду плохая книга? Пожалуй, будь я мужчиной, написала бы историю Реставрации.
Неделю назад мы приехали погостить у Фрешфилдов. Природа и искусство сделали все возможное; было великолепно; но они сами похожи на восковые фигуры, прохаживающиеся на солнышке, и лишь Гаси[354] другая — у нее дух римской императрицы. Доложу вам, с ней нелегко. Мы сидели в маленькой беседке и разговаривали о бессмертии души и викторианском[355] скандале. Мне еще не приходилось видеть, чтобы кто-то так реагировал, как она и бедняжка Дуглас. Он совсем одеревенел и теперь практически недосягаем.
Мне просто захотелось поболтать, так что я могу обойтись без ответного письма, если вам утомительно писать, ведь это и вправду утомительно.
Один Бог знает, какой у меня будет адрес.
Всегда ваша, В. С.
9. Лондон
Среда (4 октября 1909 года)
Дорогой Литтон!
Мне сказали, что вы приезжали, когда меня не было. Я как раз писала, желая пригласить вас к обеду, но Несса сказала, что вы исчезли в каком-то прибрежном кабачке, утащив с собой мистера Нортона, которого я не смею назвать по-другому и который должен был завтра снять с нас заботу об Оттолин. А что теперь будет, один Бог знает. Она затоскует и скоро станет похожа на больного желтого крокодила. Короче говоря, вы должны написать, что вы думаете. Лето было какое-то странное — совершенно непонятное — со всеми этими американскими примадоннами, которым нужно давать советы в их спальнях, которые спрашивают — потихоньку — о Саксоне, и о молодых людях у Кука, и о настоящих английских девственницах, к которым я не имею права причислять себя. По крайней мере, мы повидали то, что люди называют жизнью.
Теперь мы опять спокойно обретаем в культуре, где есть Сейгеры, король Лир и воспоминания — увы, они тускнеют! — о беседах с Уолтером Лэмом. Мне (как всегда) жаль, что земля не может отворить утробу и выпустить из себя какое-нибудь незнакомое существо. К сожалению, люди быстро выдыхаются, и, верно, придется мне искать сил у природы.
Как вы? Надеюсь, вам было неплохо в вашем далеке — случались ли приключения?
Завтра возвращаются Несса и Клайв.
Всегда ваша, В. С.
10. Лондон
[6 ноября 1911 года]
Дорогой папочка!
Приходите на танцы[356] завтра вечером — сначала пообедаем тут в половине восьмого? На сей раз у нас амфитеатр, но после антракта мы сможем пересесть в партер.
Жизнь полна — так полна, что в голове у меня ни одного свободного местечка до самого кончика носа, писать не могу. Только что от Конфордов — от Седьмой симфонии, от сцены с — от интервью в W.С., и пока чищу зубы, художник поет за моим окном.
Кстати, кто моя мама, леди С.?
Ваша любящая дочь, В. С.
Если не можете зайти, позвоните. Хорошо закутывайтесь — особенно левую ногу. Принесите ваш шарф, синие очки и таблетки.
11. Лондон
[16 февраля 1912 года]
Дорогой Литтон!
Мне придется провести две недели в постели. Будьте ангелом и пришлите мне мемуары мисс Берри. Думаю, это как раз то, что мне сейчас нужно. Я приложу все усилия, чтобы не заляпать их чем-нибудь.
Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете.
Все ваши рукописи и письма у Вулфа[357]. Письма потрясающие! Меня покоряет их космогония!
Ваша В. С.
12. Лондон
21 мая [1912 года]
Дорогой Литтон!
До чего же трудно писать вам! А все Кембридж — ужасное место; и… такие ненастоящие, и их любовь ненастоящая; все же надеюсь, у вас все по-прежнему — лежите себе на солнце — и жизнь не такая уж плохая, как я воображаю. Но когда я думаю об этом, меня мутит — вот так — зеленым, что превращается в чернила, которые покрывают бумагу. Как поживает ваша трагедия-комедия? Вам известно о его [Артура] благополучной постановке, вам известно о пятом июне и об угощении? Мы пойдем на берег реки, будем танцевать и веселиться; это самое простое; а потом в сумерках, в университетском саду, после того как Джей Харрисон сделает официальное объявление, будет вся трагедия от начала до конца и спрятанные за вязами хористы будут петь песни [Артура] на музыку [Артура]. Сбежать нельзя. А потом будут холодный осетр и лимонад при свете луны.
Лондон не богат новостями. Дора жива, и Чарли тоже, и они не одеваются в черное из-за смерти отца. […] Несса переболела корью, а теперь они путешествуют по Италии, полагаю, не самым комфортабельным образом, и Клайв берет в постель градусник. Что до Томаса Гарди, то он великий человек; у него не очень хороший стиль, но разве в этом дело? Если бы он давал нам что-нибудь еще, кроме своих ребер, бедер, желудка и кишок! Впрочем, это больше злословие, чем что-либо еще; и я понятия не имею, какие фантазии распускаются на мой счет на Бедфорд-сквер; я болтаю, как пьяный мотылек. Десмонд[358], который теперь пыльный, как очень старая бутылка бренди, является к ланчу — чаю — обеду; и мы говорим о жизни Донна. Так как большая часть истории Англии каким-то образом проникла внутрь, то книга вызовет раздражение. Он как будто собирается стать столь же плодовитым, как мисс Бротон. «Полтора тома — в год», — говорит он. Как вы думаете, что значит — половина тома? Хом был тут один раз, замучил Форстера и очень знаменитого писателя Божера[359]. Спросите о нем Десмонда, когда встретитесь с ним. Его тема — Совесть.
Однако самое интересное, как я часто говорю вам, наблюдать не за великими людьми, а за простыми, чуть-чуть осененными, эксцентричными. Увы! Вас они не интересуют, а иначе я бы рассказала вам историю Мэри Кумбс и немецкого студента.
Еще один слушок дошел до меня, но рассказываю его только вам — увидев, что студенты носят белые гетры[360], она [3.] бросилась в постель и принесла в жертву свои яичники.
Ваша В. С.
13. Лондон
Ха! Ха!
Вирджиния Стивен
Леонард Вулф
6 июня 1912 года
[Объявление о помолвке.]
[Открытка с изображением Алфокстон-хаус]
14. [Хэтфорд, Сомерсет
16 августа 1912 года]
Мы посреди божественной страны, вокруг сплошные литераторы, сливки на завтрак, ланч и обед, однако холодно, как на Рождество, и все время льет дождь.
Леонард учит испанский язык, а я читаю «Наследника Редклиффа»[361]. В воскресенье мы едем во Францию — адрес пришлю.
Привет Генри.
В.В.
Кто жил в Алфокстоне?
15. Лондон
16 ноября [1912 года]
По правде говоря, если вы будете писать и дальше, то опровергнете ставшее банальным высказывание Джона Бэйли[362], мол, «искусство писания писем умирает…» Что касается моего отношения к письмам, то меня смущает то, что все они были написаны в 18-м столетии, которое я не люблю. Однако я не понимаю, почему бы нам не писать письма 16 ноября — как бы то ни было, почему бы вам не писать их? Естественно, для жены и женщины дело обстоит совсем по-другому. Как там скаковые лошадки?[363] Они снились мне всю ночь, и отчасти поэтому я и взялась за письмо, хотя должна была читать и писать рецензии. Разве не ужасно опять вернуться к этому? И все-таки в этом что-то есть. У меня такое чувство, будто я срываю головки маков, — сейчас мне рецензии кажутся шуткой, а когда-то я воспринимала их со всей серьезностью. Вчера приходил бедняжка Десмонд со своей сумкой для бумаг, в которой была недописанная статья об издании Джорджем Тревельяном стихотворений Мередита. Он вытащил ее, и мы прошлись по ней с карандашом. «Пожалуйста, что-нибудь вместо «наслаждаться рыцарским романом»». «Мне не нравится «наслаждаться рыцарским романом»». «Восторгаясь великолепием». «Нет, это не то, но продолжайте». И мы продолжали, подыскивая определения юности, поэзии и тому, что подразумевается под оптимизмом. Это было ужасно. Несчастный за две гинеи за колонку пытался доискаться до корней, потел, вздыхал и все время повторял: «Конечно же, будь у меня время, я бы придумал что-нибудь получше». И у него ничего не получалось. И он был мрачен. Ему предстояло ехать в Биарриц, чтобы помочь Палею с книгой по политической экономии. В частности, они спорят о том, как называть Дизраэли — лордом Биконсфилдом, покойным мистером Дизраэли или просто-напросто Дизраэли, что, собственно, предлагает Десмонд, если так укладывается во фразе. У нас великое событие — Арнольд взял роман[364] Леонарда и очень хвалил его. Конечно, он ставит условие, чтобы Леонард убрал кое-какие пассажи — но мы еще не знаем какие. Это чудесно, когда совсем чужой человек верит в твою работу. Не думаю, что я согласна насчет 19-го века[365]. Тогдашние головы были погорячее, чем в 18-м веке. И вам не смутить моих дочерних чувств. Разница, наверное, в том, что я придаю большее значение его божественному «qua man»[366] даже в книгах, чем вы. Для меня это важно. Но мое отношение к литературе кристально чистое.
Несколько человек видели Оттолин[367] — но не я — как будто по дороге на юг, с золотыми подвесками в ушах, с волочащимся по земле подолом, с мириадами лисьих хвостов. Так ее описывал Леонард, не склонный к преувеличениям.
Мы сидим возле камина в полном молчании, разве что иногда фургон пройдет по Феттер-лейн. Леонард погружен в книгу о разводах, о которой он должен написать для назойливого Хэйнса.
В Лондоне очень хорошо — немного шумно, но мы, слава Богу, завтра уезжаем в Ашем[368], где с миссис Фэннелл посудачим о нравственности пастуха, который в шестьдесят лет заимел ребенка и тем самым дал повод для разговоров.
Ваша В.В.
Не кажется ли вам, что это письмо выдает во мне лентяйку? Как жалко, что Марджори[369] не хочет быть издательницей. Мы все уговаривали ее.
16. Ричмонд
[? 1915 год]
Вот книга[370], которая, надеюсь, поможет рождению многих других книг о викторианцах. Мне редко приходилось получать такое удовольствие, какое я получила вчера вечером, читая о Меннинге. Я и в самом деле не могла остановиться и лишь усилием воли заставила себя закрыть книгу, чтобы дочитать несколько последних страничек эссе после обеда. Это великолепно… Мне кажется, это лучшее из всего, что вы написали. Начать с того чуда, что такие люди жили в одно время, — а вы сделали их божественно привлекательными, живыми, волнующими. Приказываю вам продолжить серию: вы не представляете, какое я получаю удовольствие, читая вас.
Ваша В.В.
17. Ашем
22 октября [1915 года]
Дорогой Литтон!
Думаю, нам пора возобновить переписку. С тех пор как мы виделись в последний раз, у вас наверняка накопился миллион приключений. К тому же я не уверена, что вы все еще существуете во плоти, — мои друзья — ах, они [U. V.] говорят, что я стала бесплотной. Боже мой! Этот человек наводит на меня жуткую тоску. Не знаю почему, но никто из моих знакомых не казался мне никогда настолько второсортным, как этот несчастный. […] Я опять здорова и вешу 12 стоунов[371]! — на три больше, чем когда бы то ни было. В результате мне трудно подниматься в гору, но для здоровья это, очевидно, хорошо. Я совершенно счастлива и надеюсь скоро обходиться без сиделки (она сейчас вытирает пыль в комнате и расставляет книги). Мы приедем 5-го; поскольку лето уже закончилось.
После нашей последней встречи я прочитала не меньше 600 книг. Пожалуйста, просветите меня насчет достоинств Генри Джеймса. Я спорила о нем с Леонардом; тут есть о его сочинениях, я их читала и нахожу в них лишь розовую водичку, манерность и гладкость, он такой же бледный, как [Е. F.]. Неужели в этом есть смысл? Признаюсь, я не брала на себя труд выискивать смысл, который от меня ускользает. Начала читать «Униженных и оскорбленных», которые полностью захватили меня. Вы читали этот роман? Однако вам не придет в голову (ох, до чего же эта женщина надоела мне со своими замечаниями. «Как вы думаете, миссис Вулф, Дарданеллы во Франции?), что я провожу долгое часы со своими любимцами, как Оттолин, судя по ее словам, делает в деревне. Вы видели ее? Вообще видели кого-нибудь? Что вы пишете? Пожалуйста, дайте нам почитать вашу последнюю эдинбургскую статью. Леонард пишет множество разных книг — одну утром, другую вечером. Свою жизнь, так он сказал вчера, он должен был посвятить истории дипломатии, но так как Уэббы вцепились в него мертвой хваткой, боюсь, у него ничего не выйдет.
Сиделка считает, что мне пора заканчивать письмо. Я сказала ей, что пишу родственнику, старому холостяку, который страдает подагрой и ждет не дождется всяких семейных новостей. «Бедняжка!» — отозвалась она. «Это артрит», — сообщила я. Все равно надо заканчивать.
Ваша В.В.
18. Лондон
28 февраля [1916 года]
Милый Литтон!
До чего же приятно получить от вас весточку! И все же мне не очень важно, пишете вы или нет, потому что я абсолютно уверена, в конце концов вы объявитесь живым и невредимым. Да и, собственно, вы никогда по-настоящему не исчезаете. Мисс Берри высылаю немедленно, а также один или два тома мадам де Жанлис, потому что всегда считала их вашими.
Ваша похвала гораздо приятнее всех остальных — ведь я всегда, насколько вам известно, с почтением относилась к вашему пониманию подобных вещей, и мне даже с трудом верится, что вам действительно нравится книга. Вы придали мне смелости, и теперь я перечитаю ее, чего не делала после ее выхода из печати. Интересно, как она мне понравится. Думаю, вы совершенно справедливо пишете об отсутствии концепции. Полагаю, концепция у меня была, только мне не удалось сделать ее ощутимой. Мне хотелось передать ощущение безграничного буйства жизни, насколько возможно, разнообразной и неуправляемой, которая останавливается на мгновение, когда кто-то умирает, и мчится дальше, — а в целом это должно было быть неким узором, подчиняющимся определенным правилам. Трудность заключалась в том, чтобы все связать воедино, еще надо было дать достаточно подробностей, чтобы персонаж стал интересным, — как раз это, как говорит Форстер, у меня не получилось. На самом деле должно было быть три тома. Как вы думаете, возможно ли добиться этого в романе? Или все так рассеяно, что не может быть понято? Я рассчитываю со временем научиться контролировать себя. Пока еще я слишком увязаю в подробностях… Давайте встретимся и посудачим… Как насчет следующего воскресенья? Может быть, придете к обеду — или к чаю — переночуете у нас? Я пригласила Пернел[372], но Дункан сказал, что ее нет в Лондоне, и так как она не ответила на приглашение, то, вероятно, не придет. Позвоните нам, и если вас не устраивает воскресенье, назначьте другой день… У нас почти всегда есть свободная комната.
Как вы? Влюблены? Пишете? Полагаю, вы великолепно расцветете вместе с весенними цветами. Хорошо бы вы напечатали все свои работы разом… Мне только что показали приглашение как «страстной натуре» подписаться на частное неприличное издание под названием «Радуга»[373], чтобы напечатали эту и другие книги…
Ваша В.В.
19. Ричмонд
25 июля [1916 года]
Мы прошли пешком от Ашема до Уиссета[374], и по дороге было столько травы и гусей, что теперь я еле волочу ноги. Приезжайте в Ашем от 15-го до 21-го. Думаю, будет Мур. И, пожалуйста, привезите диалоги, вообще все, что вы написали в последнее время. Почитаете нам после обеда. У моих трудов результат незначительный, и я уже отчаиваюсь закончить книгу таким способом. Я пишу одну фразу — бьют часы — появляется Леонард со стаканом молока. Тем не менее, смею заметить, это неважно. В Уиссете амбиции спят… Как выдумаете, они открыли тайну жизни? Мне они представляются на удивление гармоничными. То место, о котором вы говорили, называется «Сельская харчевня», Холфорд. Имя хозяина я не помню, да она вам и не нужна.
Кэтрин Мэнсфилд преследует меня уже три года — или я должна с ней встретиться, или я должна прочитать ее рассказы, но все как-то не случается. Однажды Сидни Ватерлоу привел Миддлтона Марри вместо нее — молодого человека с лицом дурачка — это ее муж? Устройте нам встречу… В сентябре мы едем в Корнуолл, и если я увижу кого-нибудь, соответствующего вашему описанию, на скале или в море, то поздороваюсь.
Дункан очень злится на вас — как ее звать? — вы знаете, кого? я имею в виду… Он сказал, у нее рыжие волосы, она была отвратительна и не отпускала его от себя сорок восемь часов. Интересно, получили ли вы свой дом обратно?
Леонард шлет вам привет… Он читает верстку французского перевода своей книги, сделанного слово в слово.
Ваша В.В.
20. Ашем-хаус
14 августа [1917 года]
Естественно, мы очень огорчены[375], но если вы закончите Гордона, а потом почитаете его нам после обеда, мы вас простим. После завтрака у нас всех работа, иногда на поле забредают овцы, это все. Есть поезд в 2.13 Гилдфорд — Брайтон, он приходит в Брайтон в 4.14. Получше приезжайте поездом, который прибывает в Льюис в 4.46. Или отправляйтесь в Лондон и садитесь в поезд, в 3.20 отходящий от вокзала Виктории. Потом берите такси или летите по воздуху, если не хотите прогуляться пешком.
Я разослала 20 брошюр старушки миссис Хобхаус[376].
Ваша В.В.
21. Ричмонд
15 марта [1918 года]
Нельзя ли сделать так, чтобы вы приехали в Ашем в четверг 28-го, остались до понедельника, а потом поехали в Чарльстон[377]? Нам пришлось пригласить к себе [М.], которой отказала Ванесса, но она уже почти помолвлена с Тидмаршем, и если Каррингтон сделает небольшое усилие, все обойдется.
Кстати, у меня были небольшие сомнения насчет рецензии на вашу книгу. Во-первых, если я отрецензирую вашу книгу, то почему бы мне не рецензировать книги Клайва, Десмонда, Молли и Фридгонда, а я этого не выдержу. Во-вторых, на днях меня осадил Брюс Ричмонд, который решил, и неправильно, что я пытаюсь забрать себе на рецензию книгу друга. Он сказал мне, что так не годится… Поэтому у меня нет желания просить у него вашу книгу. Однако эти соображения не идут в расчет, если вы всерьез считаете, что моя рецензия пойдет вашей книге на пользу. Я-то считаю, что рецензия не имеет значения, когда речь идет о делании денег. Тем не менее, мне кажется, вы хотите обстоятельную и благоприятную рецензию. Моя, конечно же, будет в высшей степени благоприятной. Не исключено, что они сами пришлют мне книгу.
Надеюсь, поездка прошла благополучно. У нас было жуткое воскресенье — непрерывная болтовня, скорее непрерывный мрак, ужасающие пятна на лице [Y’s], непроходимая глупость на лице Джеральда Дакворта; единственным человеком с проблесками страсти был бедняжка Ник, думаю, игравший роль. Кэтрин Мэнсфилд была опасно больна, и ей все еще нехорошо, так что Марри совсем потерял голову и из-за этого, и из-за непосильной работы, бедняга.
Ваша В.В.
22. Ричмонд
23 апреля [1918 года]
Я написала Ричмонду, чтобы он оставил за мной вашу книгу. Он ответил, что очень хотел бы дать ее мне, но взял себе за правило не приглашать в рецензенты друзей авторов рецензируемых книг — не то чтобы он боялся моей предвзятости, но что подумают люди. Они-то уж точно скажут, что я предвзята, поэтому хоть ему и самому такое положение дел не нравится, но он вынужден стоять на своем. Мне очень жаль. Не сомневаюсь, что вы получите достаточно похвал для хорошей продажи книги, если они как-то влияют на продажу. Как будто мне удалось внушить Ричмонду, что вы написали превосходную книгу. Однако мне многое хотелось бы высказать, и я уже полюбила свой будущий шедевр не меньше вашего. Леонард предлагает написать небольшую статью для «Войны и мира»[378]. Однако туда никак нельзя писать чистую литературу, да и аудитория у них такая, что это не поможет вам продать и полтора экземпляра. Как вы думаете, имеет смысл согласиться? В любом случае свой экземпляр вы получите. Мне не терпится взглянуть на него.
Мы все еще в тумане, который спустился на нас 21 день назад. Иногда как будто идет снег — когда мы едим, то включаем электрический свет, но поговаривают, будто его отключат. Я была на днях у Гилдфордов, у них еще хуже, так что не говорите мне о прелестях деревенской жизни.
Нас попросили напечатать новый роман[379] Джойса, ему отказали все издатели в Лондоне и почти все за его пределами. Во-первых, там есть пес, который п…т, во-вторых, там есть человек, который все время куда-то идет, и все это предельно монотонно, более того, я не верю, что его метод, который он довел до совершенства, несет в себе нечто большее, чем внедрение размышлений в описание, которое прерывается в неожиданных местах. Не думаю, что мы будем это печатать.
Кстати, вы получили мой экземпляр другой книги?
Ваша В.В.
23. Ашем-хаус
24 мая 1918 года
Мне очень нравится ваше название «Патриотизм и история» для рецензии на книгу Марриотта. Когда я напишу, то пошлю ее вам.
Я не вносил изменений в вашу статью о Мирных Западнях, поскольку речь Балфора оказалась неинтересной, а тема требует внимательного отношения[380].
Мы прожили тут неделю, имея почти идеальную погоду и почти идеальное уединение. Лишь Роджер приехал вчера вечером и уехал сегодня утром. Почему так получилось, что мы все оказались больными? Роджер лежит на спине до и после еды, и даже при этом его мучают постоянные колики, раздувшаяся челюсть, нездоровые зубы, инфекция в голове, отказывающие мозги и меланхолия аматория. У Саксона голова все время падает на грудь из-за ревматоидного артрита. И даже вы страдаете зеленой рвотой. Я не гожусь для военной службы, и у Вирджинии тоже далеко не все в порядке. Не понимаю, почему мы так рано заболели.
В. просит меня поблагодарить вас за книгу[381]. Мне кажется впечатляющим, когда можно прочитать о них всех, заключенных в один черный переплет. Вчера вечером я начал читать об Арнольде и не мог остановиться, пока дамское общество распевало гимны в столовой.
[Леонард]
Солнце совершенно высушило чернила, иначе я написала бы сама. А потом Л., будучи человеком практичным, пошел и упаковал все мои вещи, оставив лишь вашу книжку, которую я собиралась читать тут. Итак, я не могу написать очаровательное письмо, как намеревалась. Кроме того, сказать по правде, слухи о вашем успехе отравляют мой покой даже тут. Напишите мне обо всем — сколько книг вы продали, сколько гиней получили, сколько было графинь, сколько было восхвалений и остались ли вы тем же, кем были, в глубине души. […]
[В.В.]
24. Ричмонд
12 октября [1918 года]
Милый Литтон!
Я очень расстроилась, когда до меня дошли печальные слухи о вашей болезни. У Голди[382] тоже был опоясывающий лишай, но он нашел замечательного врача, кажется, знахаря, который быстро поставил его на ноги. Он нажимает пальцами на какие-то нервы, и вы как будто сами видите, как выходит яд. Имеет смысл разузнать поточнее?
Однако будьте уверены, сам Бог посылает фурункулы, волдыри, сыпь, зеленую и синюю рвоту тем, у кого книги выходят четырьмя тиражами за шесть месяцев. Опоясывающий лишай, уверяю вас, всего лишь первый знак; и не жалуйтесь, если вас посетит чесотка, потом цинга, у вас распухнут ноги, вас раздует водянка и вы покроетесь коростой — я хочу сказать, что от меня вам не видать сочувствия. Я писала вам о том, что Вайолет Диккинсон схватилась с миссис Г. Уорд, которая публично излила свою ярость по поводу клеветы на ее деда[383] и тем доставила живейшую радость леди Горнер, которая думает, будто вы нашли кое-что, чего она не знает, и каждый вечер молится за вас как за благодетеля. Я собираюсь потихоньку разузнать об отношении Кромера к Гордону.
Мы опять в Ричмонде, и у нас тут даже есть кое-какое общество — кое-какое для вас, а для меня-то это верх расточительности. На фоне приближающегося мира, русских танцоров, галантных Ситвеллов, поэтической Эдит, совершенно заброшенной и несчастной Оттолин, покрытого с головы до ног краской Дункана, забывшей обо всем на свете ради детей Нессы, Саксона с его ревматизмом, мертвого Робби Россе, которого нашли без пиджака, Роджера, который хотел его убить, не выходящей из запоя вдовы [М.] — и так далее — всего того, что обыкновенно случается в Лондоне в октябре, — это приятная перемена. Начать с того, что мы отправились послушать речь лорда Грея, и я имела удовольствие сидеть сразу за леди Асквит и Елизаветы. На таком расстоянии я чувствовала себя совершенно защищенной от их обаяния, и когда пришли и сели рядом с ними Маккенна и лорд Харкорт, я подумала, что будет слишком много впечатлений, если еще придется пить из одной с ними чашки, — подозреваю, это входит в их домашние привычки. Тем не менее, на меня огромное впечатление произвел лорд Грей. Вот это настоящий англичанин! Настоящий джентльмен! Обвинять его в бесчестии все равно что обвинять пару коричневых штиблет, которые он все время мне напоминал. В его речи не было ничего примечательного, но, с другой стороны, не было и не могло быть никаких разглагольствований, что я отношу к преимуществам. Потом был вечер у Ситвеллов, на котором было предложено прочитать вслух приговор об отлучении Оттолин (которая превзошла самое себя, но и в пороке она великолепна!), после чего мы, естественно, многочисленной толпой удалились в чью-то спальню, оставив Оттолин одну, и она, как испанская Армада, в полном параде владела всей гостиной. Наверное, там еще что-то было, но я ушла. До чего же неблаговидна старость! Я хладнокровно покинула ее, чтобы старый порочный Роджер, на которого, в отличие от его добреющего с возрастом окружения, как я сказала ему в такси, напала старческая лихорадка, мог пощипать ее перышки… Все хорошо вовремя… Вы тоже чувствуете, как терпимость проникает в вашу кровь? Литература дело другое… однако уже нет для нее времени. Я читаю греков, но очень сомневаюсь в том, что понимаю их; еще я прочитала всего Мильтона, никак не осветив при этом собственную душу, но мне в общем-то понравилось. А вам не кажется странным, что он совершенно игнорирует человеческое сердце? Неужели это результат написания шедевра в пятьдесят лет? А как ваш шедевр? Когда вы объявитесь в Лондоне? Пожалуйста, передайте Каррингтон, что мы ждем ее гравюры. Леонард передает привет.
Ваша В.В.
25. Ричмонд
[26 мая 1919 года]
Я забыла спросить у вас насчет встречи с Уэббами. Суббота 7 июня праздник, канун Троицына дня. Насколько мне известно, Уэббов это устроит. Дайте мне знать, что вы надумаете, и тогда я напишу им.
Завтра мы перебираемся в Ашем. Оттолин в конце концов удалось зацапать Пикассо. Но мы будем далеко от всего этого… Марри хочет, чтобы я написала о Белшаззаре — о его поэзии — для «Атенеума». Ради бога, сделайте это вместо меня. Я попытаюсь сыграть на нашем знакомстве и личной заинтересованности. Аддисон понемногу продвигается — если любишь такие вещи. Я хочу сказать, что он гораздо лучше Роберта Линда или [I. J.]… Ну и прием! Могу сказать, что ваша незаконная родственница была там лучом света, оазисом в пустыне. «Да, я даю эти приемы, потому что на них не надо тратить много денег», — сказала миссис [К.] и продолжала в том же духе, сидя на диване, не сделав ни одной передышки в течение трех четвертей часа: последнюю четверть узурпировал старая развалина Кобден-Сэндерсон[384], который носит на шее красную ленточку и одевается в синюю рабочую блузу, что, однако, не влияет на его вдохновение. Более того, сам [К.] оказался куда как омерзительнее, чем это можно выразить словами, к тому же еще и злобным. Что до поведения и внешности остальных, с прискорбием сообщаю, что они более или менее соответствовали — но не совсем, слава богу! Пожалуйста, скажите мне, что мы другие — по крайней мере, некоторые из нас.
Как вам [D.Е.]? Сегодня утром получила от Оттолин исписанные листы, в которых она называет себя «величавой» и оплакивает былые страсти; так что полагаю, она не поддалась давлению… Какой смысл задавать вопросы?.. Если звонит телефон и леди Кьюнард, нет, княгиня Артур Коннаутская[385], предлагает удовольствие… о нет! На сей раз миссис Сакстон хочет встретиться с мистером Уолтером Лэмом, так что подождите минутку. Клайв уверяет меня, что у него каждый день ланч.
— Где?
— Ах, с прелестными людьми!
Если он не в силах вспомнить…
Ваша В.В.
26. Льюис
14 [сентября 1919 года]
Милый Литтон!
Жаль, мы не смогли повидаться, но мы были в запарке, пока вы жили в Чарльстоне[386]. Сейчас не лучше, учитывая домашние ужасы. Похоже, кухню надо перестраивать. А что делать с отсыревающим полом? Но тут есть и свои прелести, хотя незначительные и неромантические в сравнении с Ашемом. Мне нравится, как солнце заглядывает в одно из окон на рассвете и как деревенская молодежь играет вечерами в крикет за садовой стеной, вам тоже понравится.
Что поделываете? Украшаете старушку Викторию[387]? Легенды о ваших высоких полетах расходятся далеко и даже за горизонт. Мне в самом деле интересно. Мэйнард, пожалуй, такой же, как всегда, разве еще более мягкий и поразительно добрый! Полагаю, опасность заключается в том, чтобы не стать слишком добрым. Мне кажется, вы как раз идете в этом направлении — посмотрите на Оттолин. Тут дело темное. Ладно, в нашем уголке Сассекса доброта не растет. Вчера я провела целый день в Чарльстоне и покинула его, чувствуя, будто меня отчистили, отскребли, отскоблили, у меня все болело, зато я как будто заново народилась. У меня никаких новостей. Несколько дней назад пришло письмо от Ника Бейдженала. У них как будто все в порядке. Надеюсь получить письмо от Саксона. Постоянно заниматься интеллектом и моралью — занятие довольно-таки разрушительное. Леонард теперь, скажем так, гордится своим садом. Мы не можем устоять, чтобы, выйдя из дома, не взглянуть на горошек, а потом на картошку, которую еще надо взвесить. Полагаю, вы не имеете ни малейшего представления, сколько она весит. Мы также стали большими благотворителями, когда нужны ветки на похороны, то за ними приходят к нам. Понятно, что мне трудно взяться всерьез за книгу, которая теперь лежит у меня на столе и представляет собой полное собрание сочинений Джордж Элиот. Впрочем, вы ведь не читали ее романы. А жаль, потому что тогда вы могли бы помочь мне разгадать ее загадку. В любом случае, почему бы вам не написать мне письмо, ради которого я все это пишу? За завтраком читаю Уилфрида Бланта (дневники); мне не нравится аристократическая писанина, а вам? Мне не нравится Дух, не нравится Джордж Уиндхэм; Бог знает, что мне нравится, разве что я очень люблю погулять, потом попить чаю, потом посидеть и подумать о приятных вещах, которые могут со мной произойти. Мне бы хотелось, чтобы меня в октябре пригласили на уикенд в Тидмарш. Но вы, верно, уедете в Испанию.
Ваша В.В.
27. Ричмонд
28 октября [1919 года]
Ах, как приятно получать от вас похвалы[388]! Я говорю себе, что вы всегда слишком великодушны по отношению ко мне и надо соответствующим образом относиться к вашим похвалам, но не могу себя заставить. Наслаждаюсь каждым словом. Мне кажется, никакая другая похвала не сравнится с вашей. Я бы хотела расспросить вас о мириадах вещей; например, о мужских персонажах. Убедительны ли они? Была ли достаточно подготовлена перемена в чувствах Родни? Сначала мне показалось, что он влюблен в Кассандру, а потом я решила, что это слишком. Я помню, что вы говорили о физической близости, даже хотела кое-что вставить, но как-то не получилось — а жаль. Ничего; у меня есть идея романа, в котором персонажи только этим и будут заниматься — а они четверо близнецов! Однако, так как меня измучил ревматизм, это пока подождет, а я всего лишь хотела сказать, как я была счастлива получить ваше письмо… Меня больше всего интересовал диалог, поэтому я очень рада, что вы это заметили; я хочу подчеркнуть, что это было главное… Но есть еще много другого! И я не могу не думать об этом, если уж пишу романы, а вот это-то как раз еще вопрос.
Скажите Каррингтон, что я с удовольствием занимаюсь розами и напишу ей об этом. Все не так просто, как кажется. Разве не сказано в книге, что Элизабет Дэтчет годом раньше получила за них первую премию? Так и было, поэтому… Нет, сейчас не могу писать об этом.
Мы будем очень рады приехать 8-го — и зачем звать еще кого-то? Не надо, пожалуйста. Нас вполне устроит свидание с двумя аборигенами.
Ваша
Вирджиния.
Только что вышла в свет забавная книжка — письма мисс Иден[389], собранные Вайолет Диккинсон.
28. Ричмонд
26 ноября 1919 года
Американский издатель хочет напечатать «Ночь и день» и «Путешествие» — естественно, я не могу отказать себе в удовольствии и сообщить, что у меня предложения от двух издателей, — еще меня просили написать для американской газеты (не спрашивайте, для какой), для лондонского «Mercury», меня пригласили мисс Элизабет Асквит, леди Расселл и мисс Констанс Майлс… У меня не хватит времени написать обо всем.
Будьте ангелом, напишите, если вы нашли опечатки, неточности, вульгаризмы. Мне надо отослать книги в понедельник, и я имею право внести столько исправлений, сколько захочу, — из-за копирайта. Когда я заглянула в текст, то поняла, что мне надо переписать все с самого начала и до конца — а у меня всего два дня!
Не написала Коллинзам о том, как мне было хорошо в Тидмарше, но мнё было очень хорошо.
Ваша В.В.
Если соберетесь прислать исправления, то, пожалуйста, не позже субботы.
29. Ричмонд
[30 ноября 1919 года]
Большое спасибо за исправления; я все внесла; несомненно, могут быть еще сотни, но дело сделано.
Адрес Филипа[390]:
Greenmore Hill Farm
Woodcot
Oxon.
Леонард вчера был у него и нашел, что он ужасно мрачен и подавлен, скорее всего из-за здоровья. Никто ему не готовит, он ничего не ест, половина дома обвалилась.
Ах, мне никогда не достичь ваших высот. Элизабет Асквит будет началом и концом; но я обо всем напишу вам. Джеральд Дакворт полностью контролирует мои встречи, так что я не жду ничего. Вы читали, как на меня напал Массингем в «Nation»? Интересно, за что? Однако, кажется, это мне на пользу, а ведь когда жена епископа Экзетерского говорит, будто она чувствует во мне христианку, у меня изрядно портится настроение. [Е.] поставили на место.
Я во 2-м томе Этель Смит. Думаю, она очень выделяется на общем фоне хотя бы своей честностью. Жаль, она не умеет писать; потому что не думаю, чтобы кто-нибудь стал это читать во второй раз. Но меня она все равно завораживает. Два дня назад я встретила ее в концерте — шагает себе по проходу в юбке и жакете, бранится, что-то говорит громким голосом. Вблизи видно, что она вся в морщинах и сходит на нет, и под глазами у нее мешки, но она настоящий тип девяностых годов. Конечно же, книга вся из того времени. Вы были знакомы с Сью Лашингтон? Тот же тип. И страсть Этель к W. С. (это в каждой главе) высочайшего достоинства.
Нам пришлось купить еще два дома; обе наши служанки ушли; «International Review» заканчивает свое существование.
Ваша В.В.
30. Льюис
21 февраля [1920 года]
Как вы поняли, мы уже здесь. Нашему субботнему визиту, а это, уверяю вас, лучшее, что только может предложить нам сегодняшняя жизнь, препятствуют два аукциона, которые мы должны посетить, чтобы купить два армейских барака, после чего нам надо будет их перевезти и переделать, насколько возможно, в кухню, причем до субботы… Эти бараки имеют отношение к полковнику Янгу, который имеет отношение к миссис Грант, которая имеет отношение к Дункану, чья новая студия зависит от них, так что вы понимаете, насколько все трудно и вряд ли закончится удачей. К тому же Леонард полностью переделывает сад.
А нельзя ли устроить так, чтобы Тидмарш переехал в Родмелл? Пожалуйста, передайте наше искреннее приглашение мистеру Партриджу; возьмите Каррингтон за руку… разгладьте свою бороду. Кроватей хватит; кухарка у нас теперь замечательная… и говорят, что провести 40-й день рождения в чужом доме к добру: если хотите произвести на свет сыновей и сохранить в целости свои волосы. Мой дядя… Я расскажу вам его историю, если вы приедете. Если же не приедете, то мы все равно найдем возможность повидаться, правда? Леонард предлагает вам пожить у нас и поработать здесь над Вик.[391]: ему очень хочется повидать мистера Партриджа.
Ваша В.В.
31. Ричмонд
25 января [1921 года]
Ах… Я могла только мечтать об этом, но не смела даже надеяться[392]. Я просто счастлива. Разве что мое непомерное тщеславие нашептывает мне, что, возможно, там не совсем Вирджиния Вулф. Может быть, это отчасти какая-нибудь Вирджиния Вормс или Вирджиния Вудлаус, а я хочу всю славу себе. Это даже лучше, чем слава, и, кстати, попадает как раз на мой день рождения.
Мы ждем не дождемся субботы, а получим ли мы Вик.?
Милый Литтон, Ваша В.В.
32. Сент-Ивз
Март? [1921 года]
Открытка[393], которую я посылаю, не передаст вам, какие здесь места, они неописуемы — намного лучше Лизарда, или Конца Света, или Сент-Ивза, лучше всего, что есть на свете. (Я передвинула кресло, чтобы уйти с палящего солнца.) Из дома сразу попадаешь на скалу. В заливе купаются 2 тюленя. Два ужа крутятся у моих ног. Утесник, раковины. Скалы, Клушицы, Вороны, Сливки, уединение, величие и все прочее. Ка действительно на холме примерно в миле от нас со странной компанией маленьких серых человечков, которые только и делают, что чистят трубы и дымоходы, и, соответственно, почти не разговаривают. Но есть [W. X.] для вас — не для меня. Я не видела его. Мы берем книжки и лежим на солнце; иногда я говорю: ну почему вас нет с нами? — но даже тогда блаженное состояние не отпускает нас. Мне больше нравится Напор, Решимость, и я просмотрела множество фотографий серо-голубых гор — не Корнуолла, а Италии, какой она была до войны. Вчера по предварительному уговору встречалась с неким господином, чтобы поговорить о литературе — «в ней вся моя жизнь, миссис Вулф». Что вам сказать? Он живет с полуживой бессловесной женой в доме, в котором собрана вся «Всеобщая библиотека». «Я не читаю современную литературу. Жизнь слишком коротка, поэтому стоит тратить время только на самое лучшее. Гарди научил меня слушаться своего сердца. Я получил большое удовольствие от нашей беседы, миссис Вулф. Вы убедили меня в том, что я был прав». Это чахлое животное служило клерком на почте, потом свихнулось на книгах, а теперь что-то вроде завалявшегося арахиса в Греевом Инн-Роуд. Однако — ну почему человеческие существа такие жалкие? Одному Богу это ведомо. Или я с возрастом становлюсь злой? Я удержалась и не попросила его писать мне, но оставила его со слезами на глазах — почти. Не могу не думать о том, что мы безнадежно запутались. Был еще один теософ, мистер [Watt] в доме, который я когда-то снимала; он живет на орехах от Селфриджей и кое-каких овощах, у него бывают видения, он носит ботинки с подметками, похожими на куски говядины, и оранжевый галстук; потом из норы выползла его жена, в синем, с оранжевыми волосами, с таинственными украшениями в виде драконов, ну, вы представляете, которые глотают собственные хвосты в знак вечности, на шее. Они сказали, что дом протекает в дождливые дни, и я порадовалась, что не обосновалась там. Но можете вы объяснить мне, что собой представляет род человеческий? Я имею в виду эти странные осколки его, которые ужасно похожи на нас и в то же время на шимпанзе, они такие возвышенные и образованные, у их есть полочки с классиками, чистая посуда, милые клетчатые занавески и чистота; я не понимаю, почему все не так. Мы попытались представить вас там, отрезающим им головы при помощи чего-то очень необычного.
Итак, я прочитаю «Королеву Викторию» и попытаюсь ее осмыслить. Насколько я понимаю, ее печатает «New Republic», и это, уверена, драгоценность и прозаический шедевр. У меня нет сомнений, хотя зависть не дает мне покоя, — а я-то думала, что после недели, проведенной тут, во мне не осталось ни одного порока. Я думала, что прочитаю тут всего Шекспира, и не прочитала; однако не могу не повторить, что жажду вгрызться в вашу книгу… Она и в самом деле потрясающая? Почему вы не тут? Бросаю последний взгляд на окрестности: они повергают меня в слезы.
Передайте привет вашей матушке.
Ваша В.В.
33. Ричмонд
17 апреля [1921 года]
Итак, мне кажется, я должна написать вам в вашем стиле или в стиле Виктории. Прочитав книгу, я не могу не откликнуться. В самом деле, она потрясающая, в целом, должна сказать, лучше, чем предыдущая. Редко мне приходилось получать больше удовольствия. Думаю, самое большое чудо — то, как вы целеустремленно раскручиваете историю, не допуская ни одной провисающей фразы, и тем временем рисуете великолепные небольшие портреты, один за другим, каждый располагая именно в том месте, где нужно, не прерывая свой рассказ, не застревая ни на минуту, наоборот, разъясняя подробности по мере продолжения незамысловатого повествования. Результат не просто сатирический. Вам все удалось, и при этом вы не потеряли ни унции плоти и крови. Главное — великие моменты трогают до слез. Да и сама королева получилась удивительной, мощной, чопорной, трогательной, хотя и не очень симпатичной. Поразительная женщина! Единственное замечание (и то я в нем не уверена) — время от времени замечаешь, что тебя развлекают. Слишком роскошное чтение — я хочу сказать, читателю нужно немножко больше напряжения, чем вы ему позволяете. Я бы не пожертвовала ничем (мальчик Джонс великолепен, а там ведь миллионы других), но то тут, то там, скорее всего, где пространство ограничено, шутки показались мне немного поверхностными… Не знаю. Надо прочитать еще раз. В первый раз скачешь галопом. Если честно, я хваталась за книгу, откладывала ее, опять хваталась, и так все время, пока не дочитала до конца. Одно уж точно я считаю изумительным и оригинальным — это описание владений. Оно значительно, полновесно, и если взять его целиком, то оно, как я подумала, открывает бесконечные пространства новых форм. Мы должны поговорить об этом, когда вы приедете к нам.
Ваша В.В.
Ох, я должна признаться, как наслаждалась вашим бейтсовским[394] описанием того, как королева посетила Всемирную выставку[395]. «Сэр Джордж Грей был в слезах, все остальные взволнованы и довольны».
34. Льюис
29 августа 1921 года
С вашей стороны чертовски нехорошо не писать чаще — если учесть ваше владение языком.
Когда вы приедете? Это главное. Мы бы не хотели, чтобы вы столкнулись у нас с [К. L.]. Да: это правда; мы пригласили его.
Никого не видела; ничего не делала. На меня напали все беды сразу, но, слава богу, скоро отстали. Я пришла в себя, набрала шесть фунтов; и мы отправились взглянуть на деревенский дом. Тед Хантер собирается построить коттедж в саду; насколько я знаю, он — партнер Хэйнса. Я слышу через стену, как миссис [Е] спрашивает [Е], не смешать ли ему коктейль. Но хуже всего то, что здесь становится все красивее и красивее. Мы обложили клумбы кирпичами. В саду у нас беседка. Скажите Ральфу, что здесь растут все известные цветы. На завтрак нам подают свой горошек. Я записалась в библиотеку в Льюисе, и она меня вполне устраивает. И даже тут преобладает Литтон Стрэчи. Я хочу честно заработать свои деньги; имейте в виду, когда я напишу о старой миссис Гилберт, это само по себе уляжется в две полуколонки, тире, восклицательный знак, точка. Узнаете свой стиль?
Я не была в Чарльстоне; но Л. был там. Мэри, Спротт, Дункан, Клайв, Мэйнард (очень разговорчивый), Несса, отказывающаяся, как все женщины из семьи Стивенов, лежать и пить молоко или отправляться спать раньше двух часов ночи; Клайв пишет статью о ком-то безвестном, чего нельзя сделать, не проконсультировавшись с Вирджинией. Вирджиния несколько раздражается; говорит, что она не безвестна; Дункан хочет приехать — сломался велосипед; лошадь мистера Боттена падает замертво из-за сужения кишок — но это уже родмеллские новости, и думать я могу только о них… «The Literary Supplement», кстати, сообщает, что Прюетт настоящий поэт, возможно, даже великий.
Приезжайте же, но дайте знать заранее, и мы не пустим [L.] и [Е].
Ваша В.В.
Я читаю роман Моргана: ««Je suis vaincue»[396], — и она разрыдалась у него на груди. Оба были почти без сил, измученные переполнявшими их страстями, и едва не падали замертво на холодные серые камни, и там… в сумерках они прислонились к надежной стене Дома Бога, Бога Любви и Жизни».
35. Ричмонд
[1 февраля 1922 года]
Доктор сказал, что мне необходимо письмо от великого мастера биографии. Оно быстро поставит меня на ноги. Так что немедленно откладывайте все в сторону — все еще Вольтера? — и пишите длинное-предлинное письмо.
У нас никаких новостей, кроме тех, что приносит Ральф, — очень смешных и радостных, должна заметить. Это относится и к Мэйнарду. Еще одна новость — то, что вы жулик, — так же радует. Я давно это подозревала.
Не можете ли вы дать мне на время верстку вашей новой книги?
И тогда мне будет что почитать. Несмотря на все ваши грехи — что это значит, если мне нравится вас читать?
В.В.
36. 8-е? 9-е? [11]февраля [1922 года]
Ричмонд
Ваши письма — единственное светлое пятно, так что, пожалуйста, пишите. Моя летаргия примерно как у аллигатора в зоопарке. У аллигатора тоже нет ясного представления о Расине. А. Б. У[397] в «Tinies» чуть не уморил меня, заявив, будто «Дон Жуан» Мольера скучное пустословие. Такого нарочно не придумаешь, так что надо запомнить. Потом еще эта ослиха, Элис Мейнелл, сказала, что Джейн Остин устарела, Патмор — тоже, что Мильтон, а Тристрама Шенди надо читать в издании профессора Морли, из которого удалена каждая десятая страница. Жаль, от Мейнелл ничего не останется, а то я бы ее сама порезала. Аллигаторы не терпят современных авторов — и я люблю Пикока. Вы не представляете, как он хорош — «Замок Кротчет» — наверняка ничего не останется, кроме совершенства письма. А вы читаете мисс Синклер! И я, наверное, прочитаю. Получше Литтона Стрэчи.
Знаете, если вы приедете, то мне будет о чем мечтать. […] Так как вдалеке маячит Роджер, то заранее назначьте день.
Пишу я плохо не только из-за больного сердца: меня перевели на авторучку. А вы сами попробуйте-ка заставить её работать.
(Q.) абсолютно подходит для моего пруда. Я живу среди арума кукушечного, спаривания в прохладной воде, пены, спермы, семени. Она все равно не сможет шокировать меня в той же степени, как [D.].
Ваша
В.
37. Родмелл
24 августа 1922 года
Да, с 8-го до 11-го (почему не подольше?) нас абсолютно устроит — будем считать, что мы договорились.
Вот уж не думала, что Сидни Уотерлоу может считаться новостью. Он был тут; он нашел Бога — всего лишь мистера Салливана: он купался; место было мелкое; говорит, Кэтрин Мэнсфилд совсем оправилась и сейчас у Бреттов. […]
Итак, мы ели мороженое в Брайтоне, не ежьтесь, нам не было холодно — сегодня рано пили чай, потом гуляли по полям […] Рекордный урожай гороха; был зеленый горошек на обед; а после обеда мы разожгли нашу Черепаху-печь, которая, уверяю вас, сжигает книги целиком — они вполне заменяют уголь, даже намного лучше горят. Вы знали об этом?
Ваша В.В.
Привет К[аррингтон], которой я сейчас напишу чернилами, оставшимися после того, как я закончила статью для «Criterion», которую (я слишком часто употребляю «которая») «С.» отвергнет. Увы, увы, собираются тучи.
38. Ричмонд
9 [10?] октября 1922 года
Мне куда как легче дышится после того, как я получила ваше письмо, хотя думаю, ваши похвалы[398] преувеличенные, — не верю, что вам до такой степени понравилась книга, лишенная многих достоинств; однако мне доставляет большое удовольствие мечтать, будто так оно и есть. Естественно, вы безошибочно ткнули пальцем куда надо — в мою романтичность. Где я подхватила ее? Уж точно не от отца, скорее от моих бабушек. Однако частично она идет от попытки порвать со стопроцентной репрезентативностью. Вот и улетаешь в небеса. В следующий раз буду крепче держаться за факты. Мне хочется узнать ваше мнение о миллионе вещей… Вздохнула-то я с облегчением оттого, что вы не отругали меня, потому что никакая другая похвала не доставляет мне столько радости, сколько ваша.
Ланч в четверг.
Ваша любящая
Вирджиния.
39. Лондон
21 марта 1924 года
Милый Литтон!
Я очень расстроилась, узнав, что вы никак не избавитесь от разных болячек, — как раз когда я улучила момент, чтобы почитать «Книги и персонажи»[399]. Почему меня всегда тянет к вашим работам, когда электрики в холле, газовики в подвале, а телефон звонит мрачным голосом Тома[400]? Очень странно, но в мгновения кризиса я всегда обращаюсь к вам, поэтому прошу вас — снабдите меня побыстрее еще одной книгой. Я открыла на странице 173 и сказала себе: ой, я знаю это наизусть. Так будет скоро со всеми страницами: и это не преувеличение; и, смею вас уверить, даже не лесть; это ваша особенность как автора. Другая — производить на свет [X.’s]. Однако смешение неаппетитно для меня, тем более с похвалами Клайва и Десмонда, которые выпили слишком много шампанского, чтобы я поверила им. Но ведь и Байрон кажется мне безвкусным и мелодраматичным. И Клер, и Трилони, и так далее, и так далее — я представляю их себе, как в пещере, на какой-нибудь придворной выставке в Эрл-Корт — в гроте, украшенном кривыми зеркалами и устричными раковинами. Даже не пытайтесь расшифровать эту метафору. Я оглушена и разбита переездом и только из любви к вам заставляю себя соединять слова. Скажите одно слово, и я сойду вниз и буду мило беседовать о — скажем, вы слышали, как я на днях наскочила на [Z.] на обеде, устроенном «Nation»? Это он наскочил на меня. У него круглые и маслянистые глаза. Он сказал, что писать надо, подчиняясь инстинктам. А я сказала, что писать надо, подчиняясь разуму. Он сказал, что Блумсбери был клубком утонченных чувств. Я сказала, приходите и поглядите на меня там. Он сказал, нет. Я сказала, очень хорошо. Он сказал, вы мне нравитесь. Я сказала, тогда приходите и поглядите на меня. Он сказал, нет. Тогда я вскочила и бросилась вон, повторяя, конечно, десять тысяч раз «нет». Он барахтался в говне, и от него отвратительно воняло.
Живем мы в основном на первом этаже… Порядка никакого — бюсты моей мамы стоят на свернутых коврах, в комнатных горшках инструменты для переплета — о, никогда никому не разрешайте паковать ваши книги при переезде — у меня не осталось ни одной целой книжки. Чтобы утешить меня, Несса и Дункан расписали одну комнату, куда вы должны как-нибудь прийти, будете сидеть там и разговаривать и разговаривать, и разговаривать, не думая о такси и постепенно освобождаясь от накопившихся за десять лет — во мне и в вас тоже — недоговоренностей. Вы будете сидеть на Площади. И пусть Дэди[401] играет перед нами в теннис. Это будет летом, когда деревья станут зелеными и утонченные дамы… — впрочем, они не в вашем вкусе.
Потом напишу что-нибудь более связное.
Попросите Каррингтон сообщить мне о вашем здоровье.
Ваша В.В.
40. Лондон
[2 мая 1924 года]
Вы могли бы принять нас в пятницу и оставить до субботы, а потом отвезти на машине или отвезти Леонарда в воскресенье в Саттон, где ему надо произнести речь?
Он боится, что не сможет отговориться от речи — и не сможет приехать.
Да нет, все это неудобно.
Мне снились ваши буки.
Ухожу, чтобы встретиться с Уолтером Лэмом в Королевской академии.
Ваша В.В.
Леонард сказал, что сможет поехать со мной, а вечером в субботу он уедет.
41. Родмем
8 сентября [1925 года]
Милый Литтон!
Вы еще помните одну из дочерей Лесли Стивена — кажется, младшую? Ее звали Вирджинией, и она вышла замуж за парня по фамилии Вулф, который служил то ли в Индии, то ли на Цейлоне. Знаете, они пишут. Правда, она написала книжку, эссе и прочее; и еще она хочет знать, не поможете ли вы ей выправить опечатки, — это если вы помните ее — она была высокой тогда, довольно плохо одевалась и делала пробор посередине.
Такая форма обращения пробуждает в вас сочувствие? Нет? Все равно скажите, какую опечатку вы углядели в «Обыкновенном читателе»[402], о которой сказали Леонарду на Гордон-сквер? Мы надеемся на второе издание, поэтому я собираю самые очевидные и бросающиеся в глаза ляпы, которыми, как мне сказали, кишит книга.
Не очень рассчитываю повидаться с вами этим летом. Однако нас это не обижает; мы не будем думать лучше о ваших вкусах, узнав, что вы у Мэйнардов[403], однако, повторяю, мы все равно вас любим — кровати тут чертовски неудобные. […]
Десять дней я провела, сбитая с ног беспутством и головной болью. Когда мне было хуже всего, Леонард заставил меня съесть совершенно холодную утку, и меня в первый и единственный раз в жизни рвало! Вот уж отвратительно и тяжко! А мне сказали, что с вами такое случается каждый понедельник. Что ж, за это вам многое можно простить.
Найдите мне дом, куда никто не сможет прийти.
Мне нравится разговаривать с вами, но только с вами одним из всех людей на свете.
Ваша старая, распутная домашняя карга.
В.
42. Лондон
26 января [1926 года]
Милый Литтон!
Прочитайте вложенное письмо, но не ругайте меня. Я сказала Олдингтону, что он может написать вам напрямую. Я не хочу, чтобы вы вернули его мне, — лучше напишите мне. Я слыхала, вы завораживаете кроликов на приемах. Еще говорят, будто вы затеяли подписку, чтобы подарить Эдмунду Госсу золотые запонки на его столетний день рождения […]
У меня ветрянка, коклюш, инфлюэнца и коровья оспа. Я веду жизнь девяностолетней вдовы, чьи сыновья сгинули в индийском мятеже или на Крымской войне, я уж и забыла где. Эта почтенная дама находит истинное утешение в сочинениях Шекспира — Литтона Стрэчи. И миссис Смит из Челтенхема пишет, что любит Л.С. за то, что он посвятил В.В. свою «К. В.»[404]. Итак, мы таинственным образом соединены. […]
Попросите Каррингтон навестить меня.
Ваша В.В.
43. [?марта 1927 года]
Будьте ангелом, напишите название отеля в Риме. Мы с благодарностью примем любую другую полезную информацию.
Боюсь, я была вчера несколько резка — не очень доброжелательна — из-за известных вам обстоятельств. Я думаю, любовь — это такой кошмар, что любому посоветовала бы бежать от нее подальше. Однако это трудно. Надеюсь устроить знакомство с молодым человеком, как только мы возвратимся.
У нас брюшной тиф — температура до 102 — стоило ли? Не знаю. Итак, до свидания…
В.В.
44. 3 сентября 1927 года
Родмелл
Милый Литтон!
До меня дошел слух — через Нессу и Рэймонда, — что вы нездоровы. Надеюсь, это неправда; но если правда, то, пожалуйста, встряхнитесь и немедленно поправляйтесь. Если у вас бессонница, то попробуйте эль (Audit); он очень эффективен, от него не бывает дурных последствий, и любой из ваших университетских приятелей, которых у вас наверняка миллион, принесет его вам. Еще я рекомендую вам «Тайны Удольфо»[405], благодаря им впадаешь в мечтательный транс, который очень освежает: иногда в помощь и миссис Радклифф. У нее грандиозные пейзажи. Вечерами я люблю слушать тихую музыку, и я в самом деле думаю, что Джейн Остин писала бы гораздо хуже, если бы не следовала примеру Радклифф. Это вы можете приписать, вместе с другими известными моими грехами, моей несчастливой романтичности — ничего не поделаешь. Более того, я ничего не хочу делать. Я приблизилась к той черте в своей жизни, когда ничего не хочу исправлять.
Как раз об этом я говорила вчера Шеппарду в Тилтоне, когда мы собирали кости Мэйнардовой куропатки […] Потом мы замечательно развлеклись в новой «Галерее» вместе с местной публикой. Полуголый Шеппард, плотно обернутый в красный шелк, весь до головы в разноцветных подвязках, в совершенстве изображал мисс Т; Мэйнард был пьян и неприличен так, что у меня нет слов, когда задирал левую ногу и пел песню о женщинах. Лидия изображала королеву Викторию, танцующую перед бюстом Альберта. Что подумали о нас местные жители? Жаль, вас не было, — кстати, вспомнила, что мы много говорили о вас за обедом, некоторые были за вас, а я, естественно, против; кто-то сказал, что у вас положительное влияние, а Шеппард и я стояли на том, что ваше влияние исключительно порочное. Я сказала, если вы капнете солью на улитку, она превратится в пену. Литтон — соль; Шеппард — пена. Он сказал это, как бы суммируя, уверенно и без горечи, всю свою неудавшуюся жизнь. Круглолицый невинный Тэйлор тоже был там и, кажется, воспринял все очень серьезно.
Все остальные новости связаны с машиной. Мы почти целый день разъезжаем по Сассексу; засыпаем после обеда; посещаем руины; размышляем рядом с засыпанными рвами, которых тут великое множество; удивляем полковников — здесь такое в новинку. Не понимаю, как мы до сих пор обходились без автомобиля? Большая часть викторианских ужасов объясняется тем, что люди ходили пешком или ездили на крепких потных лошадях.
Вы знаете историю Л.Э.Л.? — поэтессы, которая покончила с собой, как говорят одни, и, как говорят другие, была убита? Ваша хемпстедская подруга синий чулок — Энфилд — написала о ней книгу, которую мы собираемся опубликовать. Было бы замечательно, если бы милые преподаватели в очках и их ученицы не мнили себя Литтонами Стрэчи и не пытались это доказывать! Однако я уже не в первый, не во второй и не в третий раз сокрушаюсь об этом. Ради бога, напечатайте поскорее вашу Бетси[406] и утрите им всем нос. На французском дела обстоят получше: я читала Моруа, написавшего о Дизраэли.
В Ашеме начали цементные работы. Железная дорога пойдет за полем, и у нас будет один мел. Как вам это нравится? Что будет с нами? Неужели придется мигрировать на юг Франции? или в Рим? или куда?
[G.] был тут в конце прошлой недели, весь отполированный и угодливый; должна сказать, было бы высокомерием говорить о его носе, о его одежде, о его современном облике, который кажется мне чудом, словно он побывал на официальном ланче, которого еще не было. Все же — все же он очень умен, как говорил старый Змей, — в прежние времена, когда он навсегда заклеймил многих из нас, — это единственное, что имеет значение. Роджер тоже был тут со своей новой идеей насчет внешней политики лорда Солсбери, которой довел Леонарда едва ли не до ярости. Он обсудил с нами метеорологию и отправился в Виши […]
На следующей неделе приедет Морган[407], потом Дэди как-нибудь; и все же я надеюсь повидать вас, если вы в Чарльстоне.
Мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели, как я еду в автомобиле по Истборнской дороге со скоростью 50 миль в час.
Леонард передает привет.
Ваша В.В.
45. Рождество [1928 год]
Лондон
Милый Литтон, для меня было большой радостью получить ваше письмо. Я так боялась, что наговорила одних лишь банальностей. Ведь не получается сказать ничего существенного — все было каким-то нереальным.
Но она была реальной — и это странно, если учесть, как мало я ее видела; и я все время думаю о ней. Иногда мы встречались с ней на Фитцрой-роуд, и она говорила о вас.
Люблю и благословляю вас, Вирджиния.
46. Лондон
10 декабря [1931 года]
«Очнувшись от грез о тебе», я пишу. Только что проснулась и вспомнила, что видела во сне, будто я в театре, в задних рядах партера, и вдруг вы, сидя впереди, повернулись и посмотрели на меня, после чего мы оба зашлись от смеха. Понятия не имею, какую пьесу мы пришли смотреть, не помню, из-за чего мы смеялись, но мы оба были очень молоды (да нет, потому что у вас была борода), но в том возрасте, когда уже писали друг другу письма. Почему такие сны более яркие, чем живая жизнь?.. Как бы то ни было, когда на меня такое находит, я не могу не писать бородатому змею, особенно если учесть, что Клайв сказал мне, будто вы собираетесь на несколько месяцев в Малайю и у нас нет шансов увидеться, пока на Гордон-сквер не зацветут тюльпаны и Уэйли, одевшись в белое, не будет играть с Аликсом в теннис.
Я лежу, ленивая, довольная, и читаю книгу за книгой. А вы что поделываете? Надеюсь, читаете Шекспира и время от времени делаете аккуратные пометки в очень красивой тетради. Кстати, я на днях прочитала «Как вам это понравится» и чуть было не послала вам телеграмму, чтобы спросить, в чем там дело с Жаком. Что это? У него очень странный последний монолог.
Вот и все мои новости, поскольку я никого не вижу, ни Оттолин, ни Чарли Чаплина — никого, кроме Клайва, который забегает навестить меня между ланчем, заканчивающимся в пять, и обедом, начинающимся в половине девятого и продолжающимся, пока воробьи не взлетают стаями с набережной. Господи — до чего же мне хотелось бы жить, как он!
Что ж, это всего лишь мечтательное письмо, не требующее ответа, если только вы не захотите мне сказать, над чем мы смеялись. Но когда возвратитесь в Лондон — вместе с тюльпанами и белым костюмом Уэйли, — пожалуйста, приходите повидать вашу старую и преданную подругу
Вирджинию[408].
Указатель имен
А
Аддисон Джозеф (1672–1719) — английский писатель, автор нравоописательных эссе и популярных, в частности в России в XIX в., романов.
Аккерли Джозеф Рэндольф (Джо, 1899–1967) — английский писатель.
Аль Капоне (1899–1947) — знаменитый американский гангстер.
Альфьери Витторио (1749–1803) — итальянский драматург, создатель классицистической трагедии и автор автобиографии «Жизнь Витторио Альфьери…» (1806).
Анреп Хелен (Хелен Энн Мэйтлэнд) — жена известного мозаиста Б. В. Анрепа (1885–1969), которая в 1926 г. ушла от него к Роджеру Фраю.
Арнольд Мэтью (1822–1888) — английский поэт и критик.
Асквит Марго (леди Оксфорд и Асквит, 1864–1945) — возможно, речь идет о второй жене Герберта Генри Асквита (1852–1928), государственного деятеля и премьер-министра (1908–1916). Леди Асквит была писательницей и автором «Автобиографии» (1922).
Астор Нэнси, леди (1879–1954) — супруга Уолдорфа Астора, владельца газет «Тайм» и «Обсервер». В 1919 г. стала первой женщиной-депутатом, избранной в Палату общин. Лидер английских феминисток.
Б
Баттс Мэри (?–1937) — английская писательница.
Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788–1824) — английский поэт, романтик; пэр Англии; с 1809 г. — член Палаты лордов.
Бакстон Чарльз (1875–1942) — член парламента от Либеральной партии, автор книг о Гомруле, эссе и статей.
Баркер Харли Грэнвиль (1877–?) — актриса и драматург.
Барнетт Сэмюэл Август (1844–1913) — религиозный деятель, сторонник доктрины христианского социализма, чье жизнеописание в двух томах было выпушено в свет его вдовой.
Бевт Эрнест (1881–1951) — один из правых лидеров Лейбористской партии Великобритании, член (1925–1940) и председатель (1937) Генерального совета Британского конгресса тред-юнионов, министр труда и национальной повинности (1940–1945) и министр иностранных дел (1945–1951).
Бейджнел — вероятно, не получивший известность английский писатель.
Беки — издатели. Бек Лайл и Адамс (ум. в 1931 г.) — английская писательница.
Белл Анджелико (родилась в 1918 г.) — музыкант, племянница В. Вулф, вторая жена писателя Дэвида Гарнетта.
Белл Ванесса (Несса, 1879–1961) — старшая сестра В. Вулф, художница, считается лидером английского постимпрессионизма.
Белл Джулиан (1908–1937) — племянник В. Вулф, поэт, боец Интернациональной бригады, погиб в Испании.
Белл Квентин (1910–1996) — племянник В. Вулф.
Белл Клайв (1881–1964) — художественный и литературный критик, муж Ванессы.
Беньян Джон (1628–1688) — английский религиозный писатель.
Белшер, мисс — знакомая В. Вулф.
Бенедикт Рут (1887–1948) — американский антрополог.
Беннетт Арнольд (1867–1931) — английский романист, оппонент В. Вулф как натуралист-бытописатель.
Бенсон Стелла (1892–1933) — английская писательница.
Бенсон Э. Ф. (1867–1940) — английский писатель. Автор многих романов и рассказов, а также «Мемуаров».
Бентли Ричард (1662–1742) — английский писатель, философ.
Берлиоз Гектор Луи (1803–1869) — французский композитор. Новатор в области музыкальной формы, гармонии, инструментовки, создатель новой школы дирижирования и автор «Мемуаров».
Берни Фанни (1752–1840) — английская писательница, автор ряда романов, дневников и писем.
Берни Франческо (ок. 1497–1535) — итальянский поэт-сатирик, творец пародийного жанра — «бернеско».
Берни Чарлз (1726–1814) — английский музыковед, музыкант, отец Фанни Берни.
Берри Мэри (1763–1852) и Агнес (1764–1852) — сестры, меценатки, держательницы литературного салона.
Бетховен Людвиг ван (1770–1827) — немецкий композитор, пианист и дирижер.
Бёрк Эдмунд (1729–1797) — английский философ, публицист и лидер вигов и автор памфлетов против Великой французской революции.
Биньон Лоуренс (1869–1943) — английский поэт традиционного направления и историк искусств.
Бирбом Макс (1872–1956) — английский карикатурист и эссеист, последователь Уолтера Патера.
Биррелл Фрэнсис — «блумсбериец».
Бланден Эдмунд Чарлз (1896–1974) — английский поэт.
Блант Уилфрид С. (1840–1922) — английский поэт.
Бланш Жак-Эмиль (1861–1942) — французский художник и писатель. Был очень популярен в Лондоне.
Бозанкет Теодора (Тео) — секретарь Генри Джеймса, автор книги «Генри Джеймс за работой» (1924).
Боксоллы — по-видимому, слуги в доме Л. и В. Вулф.
Босвелл Джеймс (1740–1795) — английский писатель, автор биографии лорда Честерфилда (1791).
Боттен — родмеллский фермер.
Боуэн Элизабет (1899–1973) — англо-ирландская писательница.
Брамс Иоганнес (1833–1897) — немецкий композитор, пианист и дирижер. Романтик.
Браун, миссис — современная Вирджинии Вулф писательница реалистического направления.
Браун, сэр Томас (1605–1682) — английский писатель, «литератор и мистик», по словам Борхеса.
Браунинг Роберт (1812–1889) — английский поэт, который ввел в английскую поэзию жанр исповедального монолога.
Браунинг Элизабет (1806–1861) — английская поэтесса, в частности автор романа в стихах «Аврора Ли» (1857) о женской эмансипации. Жена Роберта Браунинга.
Брейс Харкорт — американский издатель.
Брейслфорд Генри Ноэль (1873–1958) — известный журналист, автор многих статей и книг, в частности, «Лига наций» (1917).
Бренан Джеральд (1894–1987) — английский писатель, друг В. Вулф.
Бретт Дороти — художница.
Бриджес Роберт (1844–1930) — английский поэт, поэт — лауреат, в котором В. Вулф видела наследника великой традиции елизаветинцев. Много экспериментировал с метрикой стиха.
Бронте Анна (1820–1849) — одна из трех сестер, автор романа «Эгнес Грей».
Бронте Шарлотта (1816–1855) — английская писательница, одна из трех сестер, автор романа «Джейн Эйр» и многих других.
Бронте Эмилия (1818–1848) — английская писательница, одна из трех сестер, автор романа «Грозовой перевал».
Бротон Рода (1840–1920) — английская романистка.
Брук Руперт (1887–1915) — английский поэт, погибший во время Первой мировой войны.
Брук Стопфорд (1832–1916) — критик, автор книги «Английская литература». 670–1832» (1876).
Брюстер — возможно, прислуга в доме В. и Л. Вулф.
Бьюкен Джон (1875–1940) — английский государственный деятель и писатель, автор романа «Тридцать ступеней» (1915).
Бьюкен Сьюзен — вероятно, жена Джона Бьюкена.
Бэринг Морис (1894–1946) — английский дипломат, военный корреспондент, писатель, поэт, переводчик русской литературы.
Бэрроу Исаак (1630–1677) — проповедник, предшественник Ньютона на математическом поприще в Кембридже.
В
Валлене, доктор — врач В. Вулф.
Вальтер Бруно (Шлезингер, 1876–1962) — немецкий дирижер, великий интерпретатор произведений Бетховена, Моцарта, Малера. В 1933 г. эмигрировал, с 1939 г. жил в США.
Ван Дорен — издатель английской газеты «Таймс».
Ватерлоу Сидней Филип Перигал (1878–1974) — английский писатель, автор книги «Шелли».
Вейсс — домохозяйка Тови.
Вергилий Марон Публий (70–19 гг. до н. э.) — римский поэт.
Вермер Ян Делфтский (1632–1675) — голландский живописец, автор небольших интимных картин из жизни горожан и пейзажей, отличающихся богатством и тонкостью колорита, как бы живой вибрацией воздуха и света.
Виктория, королева (1819–1901) — королева Великобритании с 1837 г., последняя представительница Ганноверской династии.
Виньи Альфред Виктор де (1797–1863) — французский писатель-романтик. Психологический анализ личности.
Во — священник в Эдинбурге.
Во Ивлин (1903–1966) — английский писатель.
Вольтер Франсуа Мари Аруэ (1694–1778) — философ-просветитель, поэт, прозаик, публицист..
Вордсворт Уильям (1770–1850) — английский поэт эпохи романтизма.
Вулнер — издатель.
Вулф Гумберт — брат Леонарда Вулфа.
Вулф Леонард (Л.) — публицист, социолог, издатель («Хогарт-пресс») и муж В. Вулф.
Г
Галифакс Эдуард Фредерик Вуд (1881–1959) — один из лидеров Консервативной партии Великобритании. В 1938–1940 гг. — министр иностранных дел, пытавшийся всеми способами оттянуть начало войны — как пишут советские историки, «умиротворить фашистских агрессоров».
Гарди (Харди) Томас (1840–1928) — английский писатель, поэт.
Гарди, миссис — вторая жена Томаса Гарди.
Гарднер Изабелла Стюарт (1840–1924) — богатая американка, коллекционер.
Гарнетт Дэвид (Банни, 1892–1981) — английский романист и критик, муж Анджелики, племянницы В. Вулф.
Гаскелл — священник в Стратфорде-он-Эйвоне, вероятно, щекспировского времени.
Гаскелл Элизабет (1810–1865) — английская писательница.
Гейдж — вероятно, издатель.
Георг IV (1762–1830) — принц-регент (1811–1820), английский король с 1820 г.
Георгий — святой.
Герберт — возможно, Джордж Герберт (1593–1633) — английский поэт (Herbert, дневник).
Геркомер Губерт (1849–1914) — основатель Школы искусств в Буши (Гертфордшир).
Геродот (между 490 и 480 — ок. 425 гг. до н. э.) — древнегреческий историк, прозванный «отцом истории».
Геррик Роберт (1591–1674) — английский поэт.
Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832) — немецкий поэт, писатель, основоположник немецкой литературы нового времени.
Гертлер Марк (1891–1939) — английский художник, близкий к группе «Блумсбери», автор картины «Карусель» (1916), по мнению критиков, самой важной картины времени первой мировой войны.
Гиббон Эдуард (1737–1794) — английский историк, автор знаменитого труда «История упадка и разрушения Римской империи» (1776–1788).
Гиссинг Джордж (1857–1903) — английский писатель натуралистической школы.
Гладстон Уильям Юарт (1809–1898) — премьер-министр Великобритании (1868–1874, 1880–1885,1886,1892–1894, лидер Либеральной партии с 1868 г.).
Гобсон Джон Аткинсон (1858–1940) — английский экономист. Главный труд «Империализм» (1902), в частности, об империалистической политике захватов земель и стран.
Гоголь Н. В. (1809–1852) — русский писатель.
Голдсмит Оливер (1728–1774) — английский писатель-сентименталист.
Голсуорси Джон (1867–1933) — английский писатель, автор «Саги о Форсайтах».
Гольденвейзер А. Б. (1875–1961) — российский пианист и композитор, профессор Московской консерватории с 1906 г.
Гольдони Карло (1707–1793) — итальянский драматург, создатель национальной комедии.
Гомер — легендарный древнегреческий эпический поэт, которому со времен античной традиции приписывают создание двух поэм — «Илиада» и «Одиссея».
Госс Эдмуд (1845–1928) — английский писатель, литературный критик.
Грант Дункан (1885–1978) — художник представитель постмодернизма, «блумсбериец», кузен Литтона Стрэчи и фактический муж В. Белл с 1916 г.
Грей, миссис — соседка в Дромелле.
Грей Генри Джордж, граф (1802–1894) — английский государственный деятель, военный министр и министр колоний (1846–1852).
Грей Томас (1716–1771) — английский поэт — сентименталист.
Грейвс Филип — известный журналист, активно участвовавший в разоблачении «Протоколов Сионских мудрецов». Салли — его жена.
Грюбер, мисс — деятельница феминистского движения.
Гуссэ Арсен (1815–1896) — французский писатель романтической школы.
Д
Дакворт Джеральд — издатель, старший единоутробный брат В. Вулф.
Дакворт Стелла — старшая единоутробная сестра В. Вулф.
Данте Алигьери (1265–1321) — итальянский поэт, создатель итальянского языка, автор цикла сонетов «Новая жизнь» (1292), посвященных Беатриче, поэмы «Божественная комедия» (1307–1321).
Де Куинси Томас (1785–1859) — английский писатель, предшественник декадентов.
Дела Мэр Уолтер (1873–1956) — английский поэт, прозаик.
Дефо Даниель (ок. 1660–1731) — английский писатель. В его творчестве В. Вулф, вероятно, в первую очередь интересовали так называемые авантюрно-приключенческие романы о жизни людей, не имеющих или потерявших место в обществе.
Джайлс — святой.
Джебб Р. К. (1841–1905) — выдающийся ученый-эллинист. В частности, переводчик Софокла на английский язык.
Джеймс Скотт — критик.
Джеймс Генри (1843–1916) — американский писатель, один из первых писателей психологического направления в англоязычной прозе.
Джефферис Ричард (1848–1887) — автор многотомной «Дикой жизни в Южной стране» и автобиографии «История моего сердца».
Джеймс Элис (1848–1892) — американская писательница.
Джинс — вероятно, Джеймс Хопвуд Джинс (1877–1946), английский физик и астрофизик, в числе прочего автор космогонической гипотезы (гипотеза Джинса).
col1_0 (1891–1953) — английский философ, критик.
Джойс Джеймс (1882–1941) — английский писатель ирландского происхождения, автор романа «Улисс», который Вулфы отказались печатать в своем издательстве.
Джонсон Бен (1573–1637) — английский драматург.
Джонсон, доктор — по-видимому, Джонсон Сэмюэл (1709–1784) — английский писатель и лексикограф, автор морально-дидактических эссе и литературно-критической книги «Жизнеописания наиболее выдающихся английских поэтов» (1779–1781).
Джоуит Бенджамин (1817–1893) — почти легендарный теолог, который во времена В. Вулф был больше известен как переводчик Платона и Фукидида.
Джоунс Генри Артур (1851–1921) — английский драматург-новатор своего времени.
Джюсбери Джеральдин (1812–1880) — английская романистка.
Дизраэли Бенджамин, граф Брикансфилд (1804–1881) — британский государственный деятель, премьер-министр.
Диккенс Чарлз 0812–1870) — английский писатель, автор многих романов, из которых В. Вулф упоминает «Дэвида Копперфилда».
Диккинсон Вайолет — многолетняя подруга В. Вулф.
Диккинсон Г. Л. (Голди) — критик (Кембридж).
Добре Бонами (1891–1874) — английский литературовед и издатель.
Долли — см.: Уэллсли Дороти.
Донегалл, лорд — ирландский юноша.
Донн Джон 0572–1631) — английский поэт эпохи Возрождения, поэзия которого эволюционировала от жизнеутверждающе-земной до религиозно-мистической.
Доран — американский издатель.
Достоевский Ф. М. (1821–1881) — русский писатель, оказавший огромное влияние на мировую литературу, в частности английскую.
Драйден Джон (1631–1700) — английский писатель, один из основоположников английского классицизма.
Дринкуотер Джон (1882–1937) — английский поэт и драматург.
Дуглас Альфред Брюс (1870–1945) — поэт, друг О. Уайльда. Олайв — жена А. Б. Дугласа.
Дуглас Норман (1868–1952) — автор романа «Одиночество» (Alone).
Дэвис Маргарет Ллевелин (1861–1944) — общественная деятельница, суфражистка, пацифистка.
Дэвис Морис Ллевелин — брат М. Лл. Дэвис.
Еврипид (ок. 480–406 гг. до н. э.) — древнегреческий поэт-драматург, младший из трех великих древнегреческих трагиков (Эсхил, Софокл).
Ж
Жанлис, графиня де (1746–1830) — французская писательница, автор сентиментальных романов.
Жид Андре (1869–1951) — французский писатель.
Жирардон Франсуа (1628–1715) — французский скульптор. Автор монументально-декоративных композиций (группа «Аполлон и нимфы в замке Версаля», 1672).
Жубер Петрус Янус (1834–1900) — главнокомандующий армией бурской республики Трансвааль и вице-президент Трансвааля.
И
Ибсен Генрик (1828–1906) — норвежский драматург.
Иден, Эмили (1797–1869) — путешественница, художница, писательница, исследовательница Индии.
Ишервуд Кристофер (1904–1986) — английский писатель, автор романа «Прощай, Берлин», положенного в основу фильма «Кабаре». В 1939 г. эмигрировал в США.
Й
Йейтс Уильям Батлер (1865–1939) — ирландский поэт и драматург, лидер движения «Ирландское культурное возрождение».
Йонг Шарлотта (1823–1901) — английская писательница, автор романа «Наследник Редклиффа» (1853).
К
Карлейль Томас (1795–1881) — английский публицист, историк, философ, автор концепции «культа героев», которые являются единственными творцами истории.
Каррингтон Дора (миссис Партридж, 1893–1932) — художница. Близкая приятельница Литтона Стрэчи.
Карсвелл Доналд — журналист, муж Кэтрин Карсвелл.
Карсвелл Кэтрин (1879–1946) — журналистка, писательница. Прославилась книгой «Жизнь Роберта Бернса» (1930). Автор книги о Д. Г. Лоренсе «Дикое путешествие» (1932).
Каупер Уильям (1731–1800) — английский поэт, сентименталист.
Кейз Джэнет — многолетняя подруга В. Вулф, обучавшая ее греческому языку.
Кейз Эмфи — сестра Джэнет Кейз.
Кейнс Джон Мэйнард, лорд (1883–1946) — экономист, «блумсбериец».
Кейнс Лидия (леди Кейнс) — жена Джона Мэйнарда, лорда Кейнса.
Кекелл, миссис — соседка В. Вулф в Родмелле.
Кернахан Коулон — писатель (США).
Китс Джон (1795–1821) — английский поэт эпохи романтизма.
Кларки Олдос и Кеннет — издатели.
Кобден-Сандерсон Томас Джеймс (1840–1922) — известный книжный график, основатель фирмы.
Кобхэм Алан, сэр (1894–1973) — английский авиатор.
Колетт (Сидони Габриэль Колетт, 1873–1954) — французская писательница, автор психологической и философской прозы, которую называли «королевой французской словесности». Автор мемуаров «Вечерняя звезда» (1949).
Кольридж С. Т. (Колридж, 1772–1834) — английский поэт-романтик и литературный критик. Представитель «Озерной школы».
Кольридж Сара (1802–1852) — дочь С. Т. Кольриджа, поэтесса, переводчица. Начатая ею автобиография была закончена ее дочерью и напечатана в 1874 г.
Комптон-Бернетт Айви (1884–1969) — английская романистка.
Конгрив Уильям (1670–1729) — английский драматург, представитель «комедии реставрации», пьесы которого отличают яркие характеры, остроумные диалоги, искусная интрига.
Коннолли Ч. В. (1903–1974) — английский писатель и издатель.
Конрад Джозеф (Юзеф Теодор Конрад Коженёвский, 1857–1924) — английский писатель.
Корелли Мари (наст, имя: Мэри Маккэй,1855–1924) — одна из самых популярных английских писательниц.
Котфлянский С. С. (1880–1955) — эмигрант из России, много работавший с Л. Вулфом, В. Вулф, Кэтрин Мэнсфилд над переводами из русской литературы.
Коул Уильям Хорас де Вер (1881–1936) — один из величайших шутников XX века, учившийся вместе с братом В. Вулф в Кембридже и входивший в компанию В. Вулф.
Крабб Джордж (Крэбб, 1754–1832) — английский поэт, автор дидактико-описательных поэм на сюжеты из сельской жизни.
Криви Томас (1768–1838) — английский политик, автор мемуаров.
Кромвель Оливер (1599–1658) — деятель Английской буржуазной революции, лорд-протектор.
Кроули Герберт Дэвид (1869–1930) — американский писатель и издатель.
Кроумен Эвелин Барине (1841–1917) — первый граф Кроумер, египтолог.
Кроуфорд Френсис Марион (1854–1909) — американский писатель.
Кэмпбелл — свяшенник, приятель Л. Вулфа.
Кэрролл Льюис (Чарлз Латуидж Доджсон, 1832–1898) — английский математик, логик и сказочник, автор книг «Алиса в стране чудес» (1865) и «Алиса в Зазеркалье» (1871).
Кэтер Вилла Сиберт (Кэсер, 1876–1947) — американская писательница.
Л
Лаббок Перси (1879–1965) — английский критик и биограф.
Лабрюйер Жан де (1645–1696) — французский писатель, мастер афористической публицистики, автор книги «Характеры, или Нравы нашего века».
Ларднер Рингголд Уилмер (1885–1933) — американский писатель сатирического направления.
Ларошфуко Франсуа де (1613–1680) — французский философ, автор книги «Максимы».
Ласцеллс, лорд — возможно, Г. Г. Ч. Ласцеллс (1882–1947), член дипломатического корпуса, участник Первой мировой войны, муж принцессы Марии, дочери Георга V.
Лафайет Мари Мадлен (1634–1693) — французская писательница, автор романа «Принцесса Клевская» (1678) и книги «Мемуары французского двора за 1688–1689 гг.» (издана в 1731 г.).
Лейтон Фредерик (1830–1896) — английский художник и скульптор.
Леконт де Лиль Шарль (1818–1894) — французский поэт, глава группы «Парнас».
Лёб Жак (1859–1924) — американский биолог немецкого происхождения.
Ли Вернон (Вайолет Паже, 1856–1935) — английская писательница, автор многочисленных мистических рассказов.
Ливис Куини Дороти — жена и соратница Ф. Р. Ливиса (1895–1978), английского литературного критика.
Лиман (Лехман) Джон Фредерик (1907–1987) — английский поэт, издатель.
Линд Роберт (1892–1970) — американский социолог, исследователь социальной жизни в среднестатистическом городе.
Лиф Уолтер — автор словаря, переводчик.
Логан — критик, современник В. Вулф.
Локхарт Джон Гибсон (1794–1854) — зять В. Скотта и автор книги «Жизнь Скотта».
Лоуренс Дэвид Герберт (1885–1930) — английский писатель, посещавший собрания «блумсберийцев».
Лоуренс, полковник — по-видимому, Лоуренс Томас Эдуард (1888–1935) — английский разведчик.
Льюис Уиндхэм (1882–1957) — английский писатель, критик и художник. Основоположник «вортисизма».
Лэм Генри — художник, «блумсбериец».
Лэм, сэр Уолтер Рэнджли Мэйтланд (1882–1961) — ученый, филолог, автор «Дневников» и «Писем».
Лэм Чарлз (1775–1834) — английский писатель, автор «Очерков Элии» (1823–1833).
Лэнсбери Джордж (1859–1940) — английский политик, лидер лейбористов в 1931–1935 гг., основатель «Daily Gerald».
Лэндон Летиция Элизабет (Л.Э.Л., 1802–1838) — английская поэтесса, прозаик. Имела смелость коснуться темы плотской любви в своих произведениях.
М
Маккарти Десмонд — театральный критик, «блумсбериец». Его жена то ли в 1910-м, то ли в 1911 г. придумала название «блумсберийцы», но не для широкого употребления.
Маккей, мисс — редактор.
Макколл Д. С. (1859–1948) — английский художник и историк искусств, хранитель галереи Тейт в Лондоне (1906–1911).
Макнис (Фредерик) Льюис (1907–1963) — английский писатель, поэт. В 1930-х гг. входил в группу «Оксфордские поэты».
Маколей Розо (1881–1958) — английская писательница.
Маколей Т. Б. (1800–1859) — английский историк, публицист и политический деятель, автор истории Англии 1685–1702 гг., апологет «Славной революции».
Максуини Теренс (1879–1920) — ирландский националист. Умер в тюрьме в результате голодной забастовки.
Мамфорд Льюис (1895–1990) — автор работ об архитектуре.
Мандевиль Бернард (1670–1733) — английский писатель, автор сатирической «Басни о пчелах» (1714).
Маннинг Генри Эдуард (1808–1892) — английский кардинал, один их выдающихся церковных деятелей Англии, перешедших в католичество (Ньюмен, Райзман).
Марвелл Эндрю (1621–1678) — английский поэт.
Марло Кристофер (1564–1593) — английский драматург. Предполагаемый соавтор Шекспира в ранних пьесах.
Марри (Мюррей) Джилберт (1866–?) — австрийский политик, глава Лиги Наций.
Марри Джон Миддлтон (1889–1957) — английский писатель, критик, издатель, муж Кэтрин Мэнсфилд, подготовивший к печати ее не опубликованные при жизни рассказы, а также дневники и письма.
Марриет Фредерик (1792–1848) — английский писатель, известен «морскими» романами, связанными с эпохой Наполеоновских войн.
Мартин Кингсли (1897–1969) — критик, редактор в «Нейшн», «Манчестер гардиан», «Нью стейтсмен», который при нем стал ведущим политическим еженедельником.
Мередит Джордж (1828–1909) — английский писатель, поэт.
Мериме Проспер (1803–1870) — французский писатель.
Милль Джеймс (1773–1836) — английский историк, философ и экономист, последователь Д. Юма.
Милль Джон Стюарт (1806–1873) — английский философ и экономист, сын Джеймса Милля. Основатель английского позитивизма, автор «Системы логики» (1843).
Мильтон Джон (1608–1674) — английский поэт и политический деятель в период Английской буржуазной революции.
Мирский Д. П. (1890–1939) — русский литературный критик. В 1922–1932 гг. жил в Англии, читал в Лондонском университете курс русской истории, писал книги о русской литературе. В 1930 г. вступил в Коммунистическую партию Великобритании. После возвращения в Россию был репрессирован (1937). Посмертно реабилитирован.
Мишле Жюль (1798–1874) — французский историк романтического направления, автор «Истории Франции» (до 1789 г.) и «Истории Французской революции».
Мойра, граф — итальянский приятель Р. Ч. Тревельяна.
Монтень Мишель де (1533–1592) — французский философ-гуманист.
Мопассан Гиде (1850–1893) — французский писатель, в некотором роде предшественник В. Вулф, ибо в своих произведениях передать сознательные и даже бессознательные (и болезненные) движения души персонажей.
Моравиа Альберто (1907–1990) — итальянский писатель. Первый роман «Равнодушные» (1929) принес ему известность.
Моррелл Оттолин Вайолет Энн, леди (Оттолин, или Отт, 1873–1938) — английская патронесса многих деятелей искусств. Ее прозаические произведения вышли в свет в 1963 г. («Оттолин»), а мемуары («Оттолин в Гарсингтоне»: Мемуары. 1915–1918) — в 1974 г.
Моррелл Филип Эдвард — член парламента, муж леди Моррелл.
Моррис Уильям (1834–1896) — английский поэт, прозаик, художник, теоретик искусства.
Моруа Андре (Эмиль Эрзог, 1885–1967) — французский писатель, автор романов, новелл, романизированных биографий, в частности биографии Джорджа Г. Байрона.
Мосли Синтия, леди (умерла в 1933 г.) — первая жена Освальда Мосли (1896–1980), основателя Британского союза фашистов.
Моэм Уильям Сомерсет (1874–1965) — английский писатель.
Мур Джордж Эдуард (1873–1958) — английский философ, разрабатывал метод логического анализа. В этике стоял на позиции интуитивизма.
Мур Томас (1779–1852) — ирландский поэт, друг Байрона.
Мур Джордж (1852–1933) — ирландский писатель.
Мэнсфилд Кэтрин (1888–1923) — английская писательница новозеландского происхождения. Отношения В. Вулф и К. Мэнсфилд были непростыми, но не враждебными, как может показаться с первого взгляда. Современницы, они неизбежно стали соперницами в литературе. Однажды В. Вулф даже написала в дневнике: «Я ревновала к ее прозе. Это единственная проза, к которой я ревновала».
Мюир (1887–1959) — английский поэт, критик.
Мюррей — приятельница В. Вулф.
Н
Нельсон Горацио (1758–1805) — английский флотоводец, одержавший ряд побед, в том числе в Трафальгарском сражении (1805), в котором был смертельно ранен.
Николлс Родда Холмс (1854–1930) — известная англо-американская художница, акварелистка.
Николсон Гарольд Джордж (1886–1968) — критик, прозаик, редактор, дипломат и член парламента, муж Виктории Сэквиль-Вест.
Нортон Г. Т. Дж. — математик, «блумсбериец».
Ньюмен Джон Генри (1801–1890) — английский теолог, публицист, поэт. В 1845 г. перешел из англиканства в католичество. Защищал принцип «открытой теологии», свободной от схоластических рамок.
Ньюнс — возможно, Джордж Ньюнс (1851–1910), английский издатель, член парламента, баронет.
Нэш — по-видимому, Томас Нэш (1567 — ок. 1601), английский писатель, автор первого в английской литературе плутовского романа («Злосчастный путешественник», 1594).
О
Олдингтон Ричард (1892–1962) — английский поэт, прозаик, критик.
Оливье, лорд — возможно, Сидней Оливье (1859–1943), английский писатель и колониальный деятель, член лейбористского правительства (1907–1913), основатель Фабианского общества.
Осборн Дороти (1627–1695) — жена английского дипломата и эссеиста сэра Уильяма Темпла.
Остин (Остен) Джейн (1775–1817) — английская писательница, приверженная психологическому анализу.
Отвей Томас (1652–1685) — английский драматург, автор до сих пор ставящихся в театрах трагедий «Сирота» и «Спасенная Венеция».
П
Партридж Ральф — муж Доры Каррингтон (миссис Партридж).
Паскаль Блез (1623–1662) — французский религиозный философ, писатель, математик и физик. В «Мыслях» (опубл. в 1669 г.) Паскаль пишет о трагичности и хрупкости человека, находящегося между двумя безднами — бесконечностью и ничтожеством (человек — «мыслящий тростник»).
Пастоны — семейство из Норфолка, несколько поколений авторов писем (1422–1509), о которых писала В. Вулф в эссе «Пастоны и Чосер».
Патер Уолтер (1839–1894) — английский писатель, критик, близкий прерафаэлитам, ориентировавший, однако, свои эстетические принципы на культуру Возрождения. Автор книги «Очерки по истории Ренессанса», 1872).
Паттисон Марк (1813–1884) — автор «Мемуаров», в которых отображены обитатели Оксфорда.
Паунд Эзра Лумис (1885–1972) — американский поэт, один из лидеров имажизма.
Пауэр Эйлин (1899—?) — известный ученый, историк, автор многих книг по Средневековью.
Пикок Т. Л. (1785–1866) — английский романист и поэт, близкий друг П. Б. Шелли, отец первой жены Д. Мередита.
Платон (428/427–348/347 гг. до н. э.) — древнегреческий философ. Учение Платона — первая классическая форма объективного идеализма.
Пломер Уильям (1903–1973) — английский и южноафриканский писатель.
Плотин (204/205–269/270) — греческий философ, неоплатоник, считавший, что путь человеческой души — восхождение от чувственного мира к триумфальному слиянию с Единым, или Благим.
Повис Джон Каупер (Поуис, 1872–1964) — английский поэт, романист, эссеист.
Поллок Фредерик (1845–1937) — английский юрист, автор книг по праву и воспоминаний.
Поуп Александр (Поп, 1688–1744) — английский поэт эпохи Просвещения.
Пристли Джон Бойтон (1894–1984) — английский прозаик, эссеист, литературовед.
Пруст Марсель (1871–1922) — французский писатель, автор цикла романов «В поисках утраченного времени» (т. 1–16, 1913–1927), в котором показывает внутреннюю жизнь человека как «поток сознания».
Путтенхэм Джордж (1530–1600) — автор книги «Искусство английской поэзии».
Р
Равера Жак (1885–1925) — французский художник, близский к блумберийцам.
Радклифф Анна (1764–1823) — английская писательница, автор готических романов.
Райли, мистер — плотник.
Райт Джозеф (1885–1930) — филолог, издатель, автор «Словаря диалектов». В библиотеке В. Вулф была также книга его любовной переписки с женой.
Райт Лиззи — жена Джозефа Райта.
Расин Жан (1639–1699) — французский драматург, представитель классицизма.
Рассел Бертран Артур Уильям (1872–1970) — английский философ-неореалист, математик, общественный деятель.
Ренан Жозеф Эрнест (1823–1892) — французский писатель, автор «Истории происхождения христианства» (1863–1883), в которой пытался осмыслить евангельские легенды, устраняя из них все сверхъестественное.
Рендел Элли — врач В. Вулф.
Рёскин Джон (1819–1900) — английский писатель, теоретик искусства.
Рид Герберт (1893–1968) — английский эстетик, искусствовед, художественный критик, поэт. Рассматривал искусство как непосредственное и бессознательное выражение духовной сущности автора.
Риккеттс — возможно, Х. Т. Риккетс, американский ученый.
Ритчи Филип — сын лорда Ритчи.
Ритчи, мисс — путещественница.
Ритчи Энн, леди (1837–1919) — дочь Теккерея, писательница, автор мемуаров. Сестра первой жены Лесли Стивена.
Ричардсон Дороти (1873–1957) — английская писательница, представительница литературы «потока сознания».
Ричардсон Сэмюэл (1689–1761) — английский писатель, создатель европейского семейно-бытового романа, автор романов «Памела, или Вознагражденная добродетель» (1740), «Кларисса» (1747–1748), «История сэра Чарльза Грандисона» (1754).
Ричмонд, сэр Брюс — английский журналист, редактор «Times Literary Supplement».
Рондда, леди — корреспондентка В. Вулф.
Россетти Кристина (1830–1894) — английская поэтесса, сестра Данте Габриэля Россетти, основателя «Братства прерафаэлитов» (1848).
Роуан А. Х. — один из руководителей восстания, поднятого в Ирландии обществом «Объединенные ирландцы».
С
Саддабай, мисс — певица.
Сапфо (Сафо, 7–6 вв. до н. э.) — древнегреческая поэтесса.
Сартон Мэй (1912–1995) — американская поэтесса и прозаик бельгийского происхождения.
Сассун Зигфрид (1886–1967) — английский поэт, принадлежал к так называемой группе окопных поэтов.
Сауторн, леди (Белла) — сестра Леонарда Вулфа.
Свифт Джонатан (1667–1745) — английский писатель, политический деятель.
Свои Энни С. — писательница.
Севинье Мари де Рабютен-Шанталь (1626–1696) — маркиза, французская писательница, мастер эпистолярного жанра.
Селинкур де — имеется в виду один из братьев де Селинкур, двое из которых были писателями: Селинкур Хью (1878–1951) и Селинкур Бэзил (1876—?).
Сенгер Чарлз — художник.
Сен-Симон Луи де Рувруа (1675–1755) — автор «Мемуаров».
Сенхаус Роджер — вероятно, издатель, редактор из окружения Л. Стрэчи и Д. Карринггон.
Сервантес Сааведра Мигель де (1547–1616) — испанский писатель.
Сесил Дэвид, лорд (1902–1986) — английский литературный критик.
Сидни-Тернер Саксон — «блумсбериец».
Сиккерт Уолтер (1860–1942) — английский живописец и график, автор знаменитого портрета Обри Бердслея.
Симондс Джон Эддингтон (1840–1893) — английский поэт, историк литературы, эссеист.
Синг Джон Миллингтон (1871–1909) — ирландский драматург.
Ситвелл Эдит (1887–1964) — английская поэтесса, поклонница модернизма, в старости ставшая фанатичной католичкой. Осберт (1892—?) и Сэгеверел (1890—?) — братья Эдит и также поэты, также модернисты.
Сквайр Джек — вероятно. Сквайр Д. К. (1884–?), английский поэт — экспериментатор и издатель.
Скотт Вальтер (1771–1832) — английский поэт, писатель, создатель жанра исторического романа.
Смит Логан Пирсолл (1865–1946) — американский писатель, в 1913 году принявший британское гражданство.
Смит Сидни — возможно, Сидни Смит (1771–1845), английский журналист, юморист; возможно, С. Смит (1915–1975), шотландский поэт.
Смит Этель (1858–1944) — английский композитор. Писательница. Суфражистка.
Солсбери, лорд — вероятно Солсбери Роберт Артур Толбот (1830–1903) — министр иностранных дел Великобритании (1878–1880), премьер-министр (1885–1886, 1886–1892, 1895–1902). Приверженец политики «блестящей изоляции».
Солтер Джеймс Артур (1881–?) — английский экономист и государственный деятель.
Софокл (ок. 496–406 гг. до н. э.) — древнегреческий поэт-драматург.
Спендер Стивен (1909–1995) — английский поэт и литературный критик.
Спенсер Эдмунд (ок. 1552–1599) — английский поэт, автор поэм «Королева фей», «Пастушеский календарь», цикла сонетов, посвященного будущей жене.
Спиайт Роберт Уильям (1904–1976) — английский актер и литератор. Играл шекспировские роли в театре «Олд Вик». Автор ряда биографий.
Спринг Говард (1889–1965) — английский романист.
Стайн Гертруда (1874–1946) — американская писательница, автор экспериментально-формалистической прозы.
Сталь Анна Луиза Жермена де (1766–1817) — французская писательница.
Стендаль (Анри Мари Бейль, 1783–1842) — французский писатель.
Стерн Лоренс (1713–1768) — английский писатель, зачинатель литературы сентиментализма.
Стивен Адриан — младший брат В. Вулф.
Стивен Анна — племянница В. Вулф.
Стивен Лесли (1832–1904) — английский писатель, биограф, критик, один из самых влиятельных деятелей культуры своего времени, отец В. Вулф.
Стивен Джулиан Тоби (Тоби, 1881–1906) — старший брат В. Вулф.
Стивенсон Роберт Льюис (1850–1894) — английский поэт и писатель, в частности, автор повести о докторе Джекилле и мистере Хайде.
Стокс Мэри (1891–1975) — суфражистка, жена профессора философии Джона Стокса.
Стрэчи Джайлс Литтон (1880–1932) — английский писатель, театральный критик, «блумсбериец».
Стрэчи Оливер — брат Литтона Стрэчи.
Стрэчи Рэй — брат Литтона Стрэчи.
Стрэчи, леди (Урсула) — вероятно, мать Джайлса Литтона Стрэчи.
Стэнхоуп, леди Эстер (1776–1839) — английская аристократка, путешественница, внесшая большой вклад в знания о Ближнем Востоке.
Суинберн А. Ч. (1837–1909) — английский поэт, был близок к прерафаэлитам.
Суиннертон Фрэнк — критик.
Сэвадж, сэр Джордж — врач В. Вулф.
Сэквилл-Вест Виктория (Вита, в замужестве леди Гарольд Николсон, 1892–1962) — близкая подруга В. Вулф (с 1922 п), поэтесса, писательница, автор книги «Кноул и Сэквил».
Сэквилл-Вест Эдуард, лорд (Эдди, Дотти) — вероятно, в разных местах имеются в виду разные люди, то есть дядя и двоюродный брат В. Вулф.
Сэндс Этель — художница. Родилась в Америке, но большую часть жизни прожила в Англии и во Франции.
Т
Талейран Шарль Морис (1754–1838) — французский политик, выдающийся дипломат.
Тацит Публий Корнелий (56?–117? н. э.) — древнеримский историк-моралист.
Теккерей Уильям Мейкпис (1811–1863) — английский писатель. Отец первой жены Лесли Стивена и леди Ритчи.
Теннисон Альфред (1809–1892) — английский поэт.
Теофраст (Феофраст, наст, имя: Тиртам; 372–287 гг. до н. э.) — древнегреческий естествоиспытатель и философ. Создал свою классификацию растений.
Терри Эмен Алис (1847–1928) — великая английская актриса, прославившаяся ролями из пьес У. Шекспира.
Толстой Л. Н. (1828–1910) — русский писатель. Его роман «Война и мир» чрезвычайно высоко ценили в кругу В. Вулф.
Томас Джин — владелица частной лечебницы в Твикенхеме.
Томсон Джеймс (1700–1748) — английский поэт шотландского происхождения, автор поэмы «Времена года».
Тони Ричард (1880–1940) — христианский социалист, экономист, автор многих книг.
Торо Тенри Дейвид (1817–1862) — американский писатель, философ, представитель трансцендентализма.
Тревельян Р. К. (Боб, 1872–1951) — английский поэт и драматург.
Трейл, миссис (1741–1821) — приятельница доктора С. Джонсона, автор стихотворений и автобиографии, в 1788 г. опубликовала свою переписку с доктором Джонсоном.
Три Виола (1884–1938) — актриса, известная шекспировскими ролями. Писательница. Жена критика Алина Парсона.
Тургенев И. С. (1818–1883) — русский писатель.
У
Уайт Мод Валери (1855–1937) — английский композитор и писательница, автор двух автобиографических книг.
Уида (наст, имя: Мария Луиза де ла Раме, 1839–1908) — английская писательница.
Уилкокс Э. У. (1855–1919) — английская поэтесса.
Уильямс, миссис — приятельница семейства Шелли, муж которой утонул вместе с Шелли.
Уильямсон, мистер — возможно, Генри Уильямсон (1895–1977), английский романист.
Уимпер Эдвард (1840–1911) — английский альпинист и художник, автор воспоминаний.
Уокли А. Б. (1855–1926) — критик, эссеист.
Уолпол Хорас (1719–1797) — английский писатель, известный готическим романом «Замок Отранто» (1765).
Уолпол Хью (1884–1941) — английский романист.
Уорд, миссис Хамфри (1851–1920) — английская писательница, роман которой «Роберт Элсмер» (1888) исследует утрату ортодоксальных верований.
Уоткинс Энн — редактор «Атлантик» (Нью-Йорк).
Уссе Арсен (1815–1896) — французский писатель.
Уэбб Беатрис (1858–1943) — английский экономист, историк рабочего движения, идеолог фабианского движения, супруга С. Уэбба.
Уэбб Сидни (1859–1947) — английский экономист, историк рабочего движения, один из организаторов «Фабианского общества», государственный деятель.
Уэбб Уильям (XVI в.) — автор «Рассуждения об английской поэзии» (1586).
Уэллс Герберт Джордж (1866–1946) — английский писатель, классик научно-фантастической литературы.
Уэллсли Дороти (Долли) — герцогиня Веллингтонская.
Уэст Ребекка (1892–1983) — английская писательница.
Уэстмакотт, мистер — сосед В. Вулф во время Второй мировой войны.
Ф
Фабер Фредерик (1814–1863) — поэт, религиозный деятель, последователь Д. Г. Ньюмана.
Фицджеральд Эдвард (1809–1883) — английский ученый и поэт, автор «Писем».
Фишер Герберт Альберт Лоренс (1865–1940) — английский историк, автор, в частности, «Истории Европы» (1930).
Флобер Гюстав (1821–1880) — французский писатель.
Фолкнер Уильям (1897–1962) — американский писатель, близкий В. Вулф по исканиям в области формы. Нобелевский лауреат 1949 г.
Форстер Эдуард Морган (Морган, 1879–1970) — английский писатель, критик, «блумсбериец».
Фрай Джулиан — сын Роджера Фрая.
Фрай Марджери (1874–1958) — сестра Роджера Фрая, посвятила себя реформе пенитенциарной системы, были противницей смертной казни.
Фрай (1866–1934) — художник, искусствовед, «блумсбериец».
Фрейд Зигмунд (1856–1939) — австрийский врач-психиатр и психолог, основатель психоанализа.
Фришфилд Дуглас (1845–1934) — английский географ, альпинист, президент Королевского географического общества.
Фрэзер Джеймс Джордж (1854–1941) — английский этнолог, автор книги «Золотая ветвь» (1923).
Хаксли (1894–1963) — английский писатель.
Ханна, мистер — вероятно, сосед В. Вулф в Родмелле.
Ханнэй Говард — критик.
Хант Ли (1784–1859) — английский поэт-романтик, эссеист.
Хантер, миссис — сестра Этель Смит.
Харви Габриэль (1545–1630) — английский ученый, критик.
Харрисон Джейн (1850–1928) — английский ученый, специалист по античности. Позднее занималась русским языком и русской литературой.
Хезелтайн Олайв — критик, рецензент.
Хейнеманн Уильям — английский издатель.
Хеманс Фелиция (1793–1835) — английская поэтесса.
Хемингуэй Эрнест Миллер (1899–1961) — американский писатель.
Хендерсон Хьюберт (сэр Хьюберт) — издатель.
Хендерсон Фейт — жена Хьюберта Хендерсона.
Хепворты — возможно Барбара Хепворт (1903—?), скульптор.
Херви — по-видимому, Херви Джон (1696–1743), английский политик, лорд-хранитель печати в 1740–1742 гг., автор мемуаров («Memoirs of the Reign of George II»).
Хилтон Джеймс (1900–1954) — английский писатель и сценарист.
Хоксфорд, преподобный — ректор в Родмелле в 1927 г.
Хоксфорд Боуэн — жена преподобного Хоксфорда.
Холтби Уинифрид (1898–1935) — английская писательница, феминистка, автор книги «Вирджиния Вулф» (1932).
Хьюм Дэвид (1711–1770) — английский философ. Помимо других трудов, автор «Нравоучительных и политических эссе» («Essays Moral and Political», 1741–1742).
Хэзлитт Уильям (1778–1830) — английский поэт и критик эпохи Романтизма.
Хэклит Ричард (1552?—1616) — английский писатель, автор труда «Мореплавание, путешествия и открытия англичан» (1589), относящегося к литературе путешествий.
Хэр Авг. (1834–1903) — английский писатель, в частности, автор книги о Лондоне («Walks in London», 1878), а также «Автобиографии» (1896–1900).
Ц
Циммерн Генрих (1862–1931) — немецкий ассириолог.
Цицерон Марк Туллий (106–43 гг. до н. э.) — римский политический деятель, оратор и писатель.
Ч
Чаплин, лорд — возможно, Генри Чаплин (1841–1923), английский политический и государственный деятель, консерватор.
Чаплин Чарли (Чаплин Чарлз Спенсер, 1889–1977) — американский актер, режиссер.
Чемберлен Невилл (1869–1940) — премьер-министр Великобритании в 1937–1940 гг., консерватор.
Черчилль У.Л.С. (1874–1965) — премьер-министр Великобритании в 1940–1945 и 1951–1955 гг.
Честерфилд Филип Дормер Стенхоп, лорд (1694–1773) — английский писатель и государственный деятель. Его биография была написана Джеймсом Босвеллом. В. Вулф пишет о его знаменитых «Письмах к сыну».
Чехов А. П. (1860–1904) — русский писатель.
Чосер Джеффри (1340?—1400) — английский поэт.
Чэмбран — американский издатель.
Ш
Шатобриан Франсуа Рене де (1768–1848) — французский писатель, политический деятель, автор книги мемуаров «Замогильные записки» (опубл. 1848–1850).
Шекспир Уильям (1564–1616) — английский поэт, драматург, непререкаемый авторитет для В. Вулф.
Шелли Мэри (1797–1851) — английская писательница, прославившаяся романом «Франкенштейн». Жена П. Б. Шелли.
Шелли Перси Биши (1792–1822) — английский поэт, романтик.
Шеппард Д. Т. — «блумсбериец».
Шеридан Ричард Бринсли 0751–1816) — английский драматург, автор комедий нравов («Школа злословия»).
Шипшэнкс Мэри (1872–1958) — английская феминистка и пацифистка.
Шоу Джордж Бернард (1856–1950) — английский драматург ирландского происхождения.
Э
Эвелин Джон (1620–1706) — английский эссеист и автор знаменитых многотомных «Дневников».
Элиот Джордж (Мэри Энн Эванс, 1819–1880) — английская писательница, сильной стороной творчества которой был психологический анализ.
Элиот Томас Стернз (Том, 1888–1965) — англо-американский поэт, лауреат Нобелевской премии (1948).
Эллис Генри Хейвлок (1859–1939) — автор многотомного труда о психологии секса («Studies in the Psychology of Sex», 1897–1928), издатель произведений драматургов эпохи Возрождения, а также автор книги «Моя жизнь» (1940).
Эмери, мисс — соседка В. Вулф в Родмелле.
Эмерсон Ралф Уолдо (1803–1882) — американский философ и писатель, глава трансценденталистов.
Эннсли Мод — писательница, автор романа «Ночи и дни».
Эразм Роттердамский Дезидерий (1469–1536) — филолог, писатель. Гуманист эпохи Возрождения.
Эрвин Сент Джон Гриер (1883–1971) — английский драматург, прозаик, критик.
Эсхил (ок. 525–456 гг. до н. э.) — древнегреческий поэт-драматург, «отец трагедии».
Я
Янг Джордж Малкольм (1910–1959) — английский писатель.
Ашем-хаус (Сассекс) — дом, снимаемый В. и Л. Вулф, в котором они проводили конец недели и праздники до 1919 г.
Гордон-сквер, № 46—дом, в котором жили Беллы.
Монкс-хаус (Родмелл) — дом, купленный В. и Л. Вулф в 1919 г. недалеко от Льюиса.
Тилтон—дом возле Льюиса, в котором жили Мэйнард и Лидия Кейнс, расположенный в восьми милях от Монкс-хауса.
Хогарт-хаус (Ричмонд) — дом, в котором В. Вулф жила с 1915 по март 1924 г, и тогда же был нанят дом на Тависток-сквер, в котором Вулфы жили до августа 1939 г., а с этого времени до 1940 г. — в доме на Мекленбургской площади.
Чарльстон — дом возле Льюиса, в котором жила Ванесса Белл, расположенный в восьми милях от Монкс-хауса.
Примечания
1
Печатается по оригиналу. Какие бы ни были несоответствия в датировке записей, В. Вулф и Л. Вулф (составитель) не сочли нужным дать объяснения на этот счет. (Здесь и далее примечания переводчика).
(обратно)2
Леди Ритчи, дочь Теккерея и сестра первой жены Лесли Стивена, отца В. Вулф. (В примечаниях использованы сноски Леонарда Вулфа.)
(обратно)3
Rev. Canon S. A. Barnett; His Life, Work and Friends. By his wife. Mrs. Barnett, C.B.E. (Murray).
(обратно)4
Леонард Вулф.
(обратно)5
Роман В. Вулф.
(обратно)6
Роман В. Вулф.
(обратно)7
Джеральд Дакворт.
(обратно)8
Ванесса Белл.
(обратно)9
Клайв Белл.
(обратно)10
Эдвард Морган Форстер.
(обратно)11
«Атенеум» — английский литературный и художественно-критический журнал, издававшийся в Лондоне с 1828 по 1921 гг. (Прим. переводчика).
(обратно)12
Кэтрин Мэнсфильд.
(обратно)13
Марри Д. Мидлтон.
(обратно)14
Роджер Фрай.
(обратно)15
«Королевский сад» и «Отметина на стене» — рассказы В. Вулф.
(обратно)16
Джеймс Стрэчи.
(обратно)17
Джон Мэйнард Кейнс.
(обратно)18
Сокр. от «Times Literary Supplement» — «Таймс литерери сапплмент» — литературный еженедельник, приложение к ежедневной газете «Таймс».
(обратно)19
Книга Л. Стрэчи, изданная в 1918 г.
(обратно)20
Речь идет о Версальском мирном договоре, подписанном 28 июня 1919 г (Прим. переводчика).
(обратно)21
В государстве моголов Лахор был одним из самых богатых городов и позднее символом богатства для европейцев. Город в Пакистане с 1947 г. (Прим. переводчика).
(обратно)22
Имеется в виду театр водевиля, (Прим. переводчика).
(обратно)23
Имеется в виду Трафальгарское сражение 1805 г, в котором погиб адмирал Г. Нельсон (Прим. переводника).
(обратно)24
Сидней Уотерлоу.
(обратно)25
«Королевский сад».
(обратно)26
Вероятно, 7 шиллингов 6 пенсов.
(обратно)27
Брюс Ричмонд, редактор «Таймс литерери сапплмент».
(обратно)28
Генри Джеймс.
(обратно)29
Десмонд Маккарти.
(обратно)30
Роман Джозефа Конрада.
(обратно)31
Сервантес.
(обратно)32
Персонажи романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».
(обратно)33
Персонаж романа «Радости и горести знаменитой Молль Флендерс» (1722) Д. Дефо.
(обратно)34
Ральф Партридж.
(обратно)35
Миссис Партридж.
(обратно)36
Дороти Бретт.
(обратно)37
Рассказ В. Вулф.
(обратно)38
Псевдоним Десмонда Маккарти.
(обратно)39
«Симпкин, Маршалл и компания» — издательство и магазин.
(обратно)40
Ресторан на Ричмонд-стрит в Лондоне.
(обратно)41
В ней прятали рождественские подарки. Речь, вероятно, идет о романе «Комната Джейкоба» или «Миссис Дэллоуэй».
(обратно)42
Персонаж романа «Миссис Дэллоуэй» В. Вулф.
(обратно)43
Поэма Джона Китса.
(обратно)44
Вероятно, знаменитая французская теннисистка Сюзанна Ланглан (1889–1938) (Прим. переводчика).
(обратно)45
Театр в Южной части Лондона.
(обратно)46
Роман Генри Джеймса.
(обратно)47
Брюс Ричмонд.
(обратно)48
Тоби Стивен, брат В. Вулф.
(обратно)49
Лорд Рибблслейл Хорнер — отец леди Асквит.
(обратно)50
Лорд Астор.
(обратно)51
Роман Мари Корелли.
(обратно)52
Роман Мари Лафайет.
(обратно)53
Возможно, имеется в виду Элеонора Анна Ормерод — энтомолог (Прим. переводчика).
(обратно)54
Томас Стернз Элиот.
(обратно)55
Сэр Сидней Ватерлоу.
(обратно)56
Речь идет о «Комнате Джейкоба».
(обратно)57
Т. С. Элиот.
(обратно)58
«История Пенденниса, его удач и злоключений, его друзей и его злейшего врага» — роман У. М. Теккерея.
(обратно)59
Брейс Харкорт.
(обратно)60
«Westminster Gazette» — газета «Вестминстер».
(обратно)61
Дэвид Гарнетт.
(обратно)62
Сенсуализм — философское направление, признающее ощущения, восприятия единственным источником познания (Прим. переводчика).
(обратно)63
Логан Пирсолл Смит
(обратно)64
Филип Моррелл.
(обратно)65
Леди Оттолин Моррелл. Далее следует описание уикенда в Гарсингтоне, где жили она и Филипп Моррелл (Прим. переводчика).
(обратно)66
Энтони Асквит (Прим. переводчика).
(обратно)67
День ежегодных скачек в Эпсоме (близ Лондона).
(обратно)68
Место летнего отдыха в детские годы В .Вулф (Прим. переводчика).
(обратно)69
В дальнейшем заглавие было изменено на «Миссис Дэллоуэй» (Прим. переводчика).
(обратно)70
Миссис Арнольд Форстер (Прим. переводчика).
(обратно)71
Джулиан Белл, сын Ванессы.
(обратно)72
Джон Беньян «Путь паломника» (1678).
(обратно)73
Роман Сэмюэла Ричардсона.
(обратно)74
Трагедия Еврипида.
(обратно)75
Семптимус и Питер Уолш — персонажи романа «Миссис Дэллоуэй».
(обратно)76
Поэма Д. Томсона.
(обратно)77
Г. У. Райлэндс.
(обратно)78
Дом неподалеку от Фирла, который снимает Д. М. Кейпс.
(обратно)79
Битва при Серингапатаме — битва (5.2.1792) в холе Третьей Англо-Майсурской войны (1790–1792).
(обратно)80
Перевод Е. Суриц.
(обратно)81
Тупик (фр.).
(обратно)82
Дункан Грант.
(обратно)83
Вероятно, имеется в виду вдова Жака Равера.
(обратно)84
Имеется в виду книга «Обыкновенный читатель».
(обратно)85
Район в западной части Лондона (Прим. переводчика).
(обратно)86
Особый выходной день, когда банки закрыты и в Англии объявляется нерабочий день. Впервые введен в 1871 г. (Прим. переводчика).
(обратно)87
Известная книгоиздательская и книгопродающая фирма.
(обратно)88
Роман Л. Стерна.
(обратно)89
Р. Ч. Тревельян.
(обратно)90
Квентин Белл.
(обратно)91
Семейное издательство Вулфов (Прим. переводчика).
(обратно)92
Роман Э. М. Форстера (Прим. переводчика).
(обратно)93
Леди Кроумер.
(обратно)94
Парк в центральном Лондоне.
(обратно)95
Собака В. Вулф.
(обратно)96
Миссис Сент-Джон Хатчинсон. Ее портрет кисти Ванессы Белл находится в галерее «Тейт».
(обратно)97
Роман Джорджа Мура, ирландского писателя.
(обратно)98
Роман Гарди.
(обратно)99
Мистер Сент-Джон Хатчинсон.
(обратно)100
Путешествие по графству Дорсет (Прим. переводчика).
(обратно)101
Роман Томаса Гарли.
(обратно)102
(«Вдали от безумной толпы»).
(обратно)103
Зигфрид Сассун.
(обратно)104
Роман Томаса Гарди «Мэр Кестербриджа, жизнь и смерть человека с характером».
(обратно)105
Сборник рассказов Томаса Гарди.
(обратно)106
«С» — роман Мориса Бэринга.
(обратно)107
Перелётные птицы, туристы, любители пеших турпоходов (Прим. переводчика).
(обратно)108
Вероятно, речь идет о Томасе Гарди.
(обратно)109
«Дамы из Лланголлена» (1847) — сочинение Джона Хиклина (Прим. переводчика).
(обратно)110
Лесбиянство.
(обратно)111
Возможно, роман Фрэнка Фрэнкфорта Мура (1855–1931).
(обратно)112
Роман «На маяк».
(обратно)113
Дороти Уэллсли.
(обратно)114
Спаниель.
(обратно)115
Вручение литературной премии в честь шотландского поэта Уильяма Драликонда из Готорндена (1585–1649), учрежденной в 1919 г. (Прим. переводчика).
(обратно)116
Сын лорда Ритчи.
(обратно)117
Мисс Хоксфорд.
(обратно)118
Возможно, один из владельцев компании «Харрис Пресс Компани».
(обратно)119
Красавицы (фр.).
(обратно)120
Кладбище на Брансвик-сквер. Поблизости жили Джейн Харрисон и Хоуп Миррлиз (Прим. переводчика).
(обратно)121
Монкс-хаус, Родмелл.
(обратно)122
Роман «Волны» (Прим. переводчика).
(обратно)123
Гиртон — колледж, входит в Кембриджский университет, был открыт специально для женской аудитории в XIX в. (Прим. переводчика).
(обратно)124
Вероятно, владельца «Кьюнард Круизиз» (Прим. переводчика).
(обратно)125
Ньюхем-колледж был основан в 1871 г. как часть Кембриджского университета для академического образования женщин (Прим. переводчика).
(обратно)126
«Своя комната» (Прим. переводчика).
(обратно)127
Незаконченное предложение (Прим. переводчика).
(обратно)128
Замок XV в. в семидесяти км к югу от Лондона (Прим. переводчика).
(обратно)129
Хьюберт Хендерсон.
(обратно)130
Издательство «Хогарт-пресс».
(обратно)131
Э. Сэквилл-Вест.
(обратно)132
Лорд Макмиллан.
(обратно)133
Все стихи взяты из Песни второй. Перевод В. Левика.
(обратно)134
Незаконченное предложение (Прим. переводчика).
(обратно)135
«На сорванную, почти увядшую лилию…» (англ.).
(обратно)136
Этель Сэндс.
(обратно)137
Дэвид Сесил.
(обратно)138
Вероятно, речь о дворце, в котором прошло детство Елизаветы I.
(обратно)139
Королева Виктория.
(обратно)140
«Три гинеи».
(обратно)141
Этель Смит.
(обратно)142
Сестра Этель Смит.
(обратно)143
Вероятно, «Письмо юному поэту» (Прим. переводчика).
(обратно)144
В дальнейшем «Три гинеи» (Прим. переводчика).
(обратно)145
Собор.
(обратно)146
Дора Каррингтон.
(обратно)147
…намного (длинный мел). А откуда это пошло? От крикета? От биллиарда? (Прим. переводчика).
(обратно)148
Г. Л. Диккинсон.
(обратно)149
Слово написано неразборчиво.
(обратно)150
Речь идет об одном из в свое время «скандальных» романов, из-за отношения к которым Лоуренс после Первой мировой войны (1919) покинул Англию.
(обратно)151
Роман будет называться «Годы» (Прим. переводчика).
(обратно)152
Народная баллада «Графиня-цыганка». Перевод С. Маршака (Прим. переводчика).
(обратно)153
В новом году В. Вулф начинала дневник в новой тетради. Эта и следующая запись сделаны в начале тетради, в которой записи 1933 года (Прим. переводчика).
(обратно)154
Запись сделана в тетради 1932 года.
(обратно)155
Харли-стрит возникла в 1753 г. В 1845 г. сюда стали переезжать врачи, и к 1914 году здесь жило 200 врачей. Неподалеку находятся Лондонское медицинское общество и Королевское общество медицины (1912) (Прим. переводчика).
(обратно)156
Озеро в лондонском Гайд-парке.
(обратно)157
Предложение не закончено.
(обратно)158
«Таймс литерери сапплмент».
(обратно)159
Дворец XVI в. в Лондоне.
(обратно)160
Пропуск в рукописи.
(обратно)161
Роман 1901 г. Генри Джеймса (Прим. переводчика).
(обратно)162
Генри Джеймс.
(обратно)163
Эпоха Эдуарда VII, сына королевы Виктории, правившего в 1901–1910 гг. (Прим. переводчика).
(обратно)164
Аббазия ди Антимо в Монтальчино.
(обратно)165
Книга Джеймса Джорджа Фрэзера (Прим. переводчика).
(обратно)166
Д. Г. Лоуренс похоронен в Вансе (Прим. переводчика).
(обратно)167
Леди Сауторн.
(обратно)168
Имеется в виду рабочая комната в глубине сада Монкс-хаус (Прим. переводчика).
(обратно)169
Роман «Хроники Герриса» Хью Уолпола (Прим. переводчика).
(обратно)170
«Нью Стейтсмен».
(обратно)171
Леди Коулфакс.
(обратно)172
Кэтрин Мэнсфильд.
(обратно)173
Один из старейших лондонских театров, предоставляющий сцену танцам от фламенко до балета, а также опере. В этом театре также ставились пьесы Шекспира.
(обратно)174
Слово неразборчивое.
(обратно)175
Леди Аберконвей.
(обратно)176
Город. Вероятно, здесь он ассоциируется с лейбористами (Прим. переводчика).
(обратно)177
Предложение не закончено.
(обратно)178
Роджер Фрай.
(обратно)179
Хелен Анреп.
(обратно)180
«Он больше не знает обыкновенных чувств. Все его переживания, его радости, его удовольствия, его страдание, его отчаяние немедленно становятся предметом наблюдения. Несмотря ни на что, против собственной воли он постоянно анализирует сердца, лица, жесты, интонацию» (фр.).
(обратно)181
Стелла Дакворт, сводная сестра В. Вулф.
(обратно)182
«На воде» (1888) — книга Ги де Мопассана.
(обратно)183
Никогда не страдать, не думать, не любить, не чувствовать, подобно всем, простосердечно, искренне, незамысловато, не занимаясь самоанализом после каждой радости и каждого рыдания (фр.).
(обратно)184
Предложение не закончено.
(обратно)185
Предложение не закончено.
(обратно)186
Deo Valence (лат.) — так пожелал Господь.
(обратно)187
Роман Д. Г. Лоуренса.
(обратно)188
Незаконченный роман (1866 г.) Элизабет Гаскелл.
(обратно)189
Дэвид Гарнетт и Джулиан Белл.
(обратно)190
Периодические издания, в которых печатались рецензии.
(обратно)191
Мистер Беннетт и миссис Браун (Прим. переводчика).
(обратно)192
Трагедия Софокла.
(обратно)193
Олдос Хаксли.
(обратно)194
Марджери Фрай.
(обратно)195
Роджер Фрай.
(обратно)196
Хелен Анреп.
(обратно)197
Марджери Фрай.
(обратно)198
Фрэнсис Биррелл.
(обратно)199
«Чистая вода, комедия». В. Вулф написала эту пьесу, чтобы разыграть ее на вечере 18 января. Актерами были Ванесса Белл, Анджелика Белл, Адриан Стивен и Леонард Вулф (Прим. переводчика).
(обратно)200
Дэвид Гарнетт, Оливер Стрэчи.
(обратно)201
Поэма Эдмунда Спенсера (Прим. переводчика).
(обратно)202
Роман Шарлоты Йонг, который В. Вулф читала во время свадебного путешествия (Прим. переводчика).
(обратно)203
Роман Олдоса Хаксли (Прим. переводчика).
(обратно)204
Предложение не закончено.
(обратно)205
Пандар — знаменитый стрелок из лука. Ранил во время Троянской войны Менелая, тем самым нарушив перемирие (греч. миф) (Прим. переводчика).
(обратно)206
В переводе с английского: пичужки, мелкие птички (Прим. переводчика).
(обратно)207
«Чистилище» (итал.) (Данте).
(обратно)208
Берри — братья Берри, журналисты и издатели (Прим. переводчика).
(обратно)209
Роман Д. Г. Лоуренса.
(обратно)210
Н. — Ванесса, Несса, сестра В. Вулф.
А. — Анджелика, племянница В. Вулф.
(обратно)211
«Равнодушные» (ит., 1929), роман Альберто Моравиа (Прим. переводчика).
(обратно)212
Бриньоль.
(обратно)213
Счет на двадцать (торговля). Происхождение слова арабское.
(обратно)214
Речь В. Вулф, произнесенная в Бристоле на открытии выставки картин Роджера Фрая, перепечатанная в журнале «Момент» (Прим. переводчика).
(обратно)215
Неразборчиво.
(обратно)216
Возможно, современник В. Вулф.
(обратно)217
Десмонд Маккарти.
(обратно)218
Этель Смит.
(обратно)219
Поместье (англ.).
(обратно)220
Служанка.
(обратно)221
Хелен Анреп. Имеются в виду письма Роджера Фрая (Прим. переводчика).
(обратно)222
«Три гинеи».
(обратно)223
«Тамбур-мажор» Т. Гарди.
(обратно)224
Типография «Р. и Р. Кларки» (Прим. переводчика).
(обратно)225
Лига Наций. Вероятно, помимо всего остального, речь идет об арабских восстаниях на подмандатной территории Палестины, Великобритании связанных с надеждами арабов на Италию, Германию и СССР (Прим. переводчика).
(обратно)226
Лейбористской.
(обратно)227
Центральная улица Лондона.
(обратно)228
Пьеса Мольера.
(обратно)229
Дэвид Гарнетт.
(обратно)230
Кенсингтон Гардене.
(обратно)231
Один из последних романов Джорджа Мередита (Прим. переводчика).
(обратно)232
Пуризм — чрезмерность требований к сохранению строгости нравов, к чистоте языков, консервативное ограждение от всего нового (Прим. переводчика).
(обратно)233
Вероятно, Хью Уолпол.
(обратно)234
Пьеса Уильяма Конгрива.
(обратно)235
Название не установлено.
(обратно)236
Войска генерал А. Франко взяли Бильбао после продолжительной осады 1.04.1937–19.07.1937. 24 апреля 1937 г. немецкая авиация бомбила Гернику (Прим. переводчика).
(обратно)237
Джэнет Кейс.
(обратно)238
Рассказ В. Вулф (Прим. переводчика).
(обратно)239
Рассказ В. Вулф.
(обратно)240
Харкорт Брейс.
(обратно)241
Колледж в г. Бристоле, основанный в 1862 г. (Прим. переводчика).
(обратно)242
Вероятно, Квентин Белл, сын Ванессы.
(обратно)243
Филипп Моррелл.
(обратно)244
В дальнейшем «В антракте».
(обратно)245
Требовательная (фр.).
(обратно)246
Дункан Грант.
(обратно)247
Четвертого августа 1914 г. Великобритания объявила войну Германии (Прим. переводчика).
(обратно)248
М. А. Чемберлен (Прим. переводчика).
(обратно)249
Мост в Лондоне (Прим. переводчика).
(обратно)250
В Кройланде находятся руины монастыря бенедиктинцев, известного сохранившимися «Хрониками 1452–1485», с гибелью которого завершилась война Алой и Белой Роз (Прим. переводчика).
(обратно)251
Хаустедс — в окрестностях находятся руины римского форта (Прим. переводчика).
(обратно)252
Город в Шотландии (Прим. переводчика).
(обратно)253
Болотистый залив на Северном море (Прим. переводчика).
(обратно)254
Горная цепь в Англии, начинается в графстве Дерби и тянется с юга на север (Прим. переводчика).
(обратно)255
Римлянам не удалось покорить Шотландию и в конце концов они построили стену, впоследствии определившую границу между Англией и Шотландией (Прим. переводчика).
(обратно)256
Помимо того, что на лугах Англии нередко можно увидеть коров, Оксфорд имеет значение «бычий брод» (Прим. переводника).
(обратно)257
Развалины Мелроза находятся неподалеку от того места, где жил В. Скотт, и послужили декорацией для романа «Монастырь» (Прим. переводчика).
(обратно)258
Фамилия, ассоциирующаяся с производством виски и насчитывающая больше 350 лет своей истории (Прим. переводчика).
(обратно)259
Чертополох — эмблема Шотландии (Прим. переводчика).
(обратно)260
Гарольд Николсон.
(обратно)261
Речь шла о Судетской области (Прим. переводчика).
(обратно)262
3 августа 1914 г. итальянское правительство опубликовало декларацию о нейтралитете (Прим. переводчика),
(обратно)263
12 сентября Гитлер произносит на партсъезде в высшей степени грубую и воинственную речь против чехов, и Чемберлен в срочной телеграмме просит у Гитлера разрешения приехать в Германию для переговоров (Прим. переводчика).
(обратно)264
«Роджер Фрай».
(обратно)265
Макс Бирбом.
(обратно)266
Знаменитый трактир в Хэмпстеде (Прим. переводчика).
(обратно)267
«Здравствуй и прощай» А. Ч. Суинберна, стихотворение в память Ш. Бодлера (Прим. переводчика).
(обратно)268
«Река Керит, сирийская история» — роман Джорджа Мура. (Прим. переводчика).
(обратно)269
Журнал эротического направления, в котором художественным редактором был Обри Бердслей (1872–1898). (Прим. переводчика).
(обратно)270
Джек Хорнер — персонаж детского стихотворения:
Little Jack Horner sat in the corner,
Eating a Christmas pie;
He put in his thumb, and pulled out a plum.
And said, «What a good boy am I». (Прим. переводчика).
(обратно)271
Морган Форстер.
(обратно)272
Томас Стернз Элиот.
(обратно)273
Персонажи романа «Жизнь и приключения Николаса Никльби» Ч. Диккенса (Прим. переводника).
(обратно)274
Цепь холмов в центральной Англии — «Сердце Англии» (Прим. переводчика).
(обратно)275
Большой магазин на Пикадилли (Прим. переводчика).
(обратно)276
Автор не установлен.
(обратно)277
Книга Руфь (Ветхий Завет).
(обратно)278
Подписан договор о ненападении между СССР и Германией, т. н. пакт Молотова-Риббентропа (Прим. переводчика).
(обратно)279
Мекленбург-сквер, 37, куда переезжали Вулфы.
(обратно)280
Анна Стивен.
(обратно)281
Джон Лиман (Лехман).
(обратно)282
Данциг (Гданьск) — польский город.
(обратно)283
Район в Лондоне (Прим. переводчика).
(обратно)284
Би-би-си.
(обратно)285
Предместье Лондона, на правом берегу Темзы (Прим. переводчика).
(обратно)286
Первый британский корабль, пущенный ко дну германскими военными (Прим. переводчика).
(обратно)287
Роман «Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда». Р. Л. Стивенсона (Прим. переводчика).
(обратно)288
Т. С. Элиот.
(обратно)289
Памфлет В. Вулф.
(обратно)290
«Граф Шпее» — линкор, названный в честь погибшего в битве с англичанами во время Первой мировой войны графа М. фон Шпее (1861–1914). После начала Второй мировой войны потопил не меньше 8 торговых судов англичан. 13 декабря 1939 г. линкор в бою сильно пострадал и укрылся в бухте Монтевидео. Уругвайские власти потребовали, чтобы он покинул бухту, хотя у выхода его ждали британские крейсеры. 17 декабря линкор был взорван по приказу немецкого командования (лично Гитлера) (Прим. переводника).
(обратно)291
Вероятно, В. Вулф вспомнила роман «Потерянный горизонт» (1935) английского писателя Джеймса Хилтона (Прим. переводчика).
(обратно)292
Роман Ч. Диккенса (Прим. переводчика).
(обратно)293
«Омега Уорктон» (1913) — фирма, основанная Фраем для помощи молодым художникам (Прим. переводчика),
(обратно)294
Автобиография отца В. Вулф, написанная им после смерти его второй жены в 1895 г. (Прим. переводчика).
(обратно)295
Роман Уинифред Холтби (Прим. переводчика).
(обратно)296
Остров в Северном море на территории Германии. В 1807-остров принадлежал Великобритании (Прим. переводчика).
(обратно)297
Школа британской поэзии (Льюис, Оден, Спендер, Макнис) (Прим. переводчика.)
(обратно)298
Вероятно Джулиан Фрай.
(обратно)299
С. С. Котфлянский.
(обратно)300
Частная больница.
(обратно)301
Джордж Сэведж, врач.
(обратно)302
Мисс Томас, управительница в частной клинике.
(обратно)303
«Обыкновенный читатель».
(обратно)304
Два вяза в саду.
(обратно)305
Речь премьер-министра У. Черчилля в Палате общин, в которой он сообщает о решении образовать правительство, которое будет вести войну с Германией до победного конца (Прим. переводчика).
(обратно)306
«Желтый план» был запланирован немецким командованием на 10 мая 1940, и он оказался удачным. Сражение при Ватерлоо было 18 июня 1815 г. Речь идет не о совпадении дат, а о паническом бегстве потерпевшего поражение противника (Прим. переводчика).
(обратно)307
Цитата из речи Черчилля (Прим. переводчика).
(обратно)308
Десмонд Маккарти и профессор Д. Э. Мур.
(обратно)309
Уильям Пломер.
(обратно)310
В этот день бельгийский король Леопольд III подписал акт о капитуляции (Прим. переводчика).
(обратно)311
Южное побережье Англии (Прим. переводчика).
(обратно)312
Деревня недалеко от Льюиса (Прим. переводчика).
(обратно)313
Джон Лиман (Лехман).
(обратно)314
Леди Кэролин Лэм (Прим. переводчика).
(обратно)315
Корабль «Дредноут» (неустрашимый) — английский линейный корабль, построенный в 1906 году, имел десять мощных башенных орудий и толстую броню (Прим. переводчика).
(обратно)316
Рэй Стрэчи.
(обратно)317
Юдит Стивен и Лесли Хамфри.
(обратно)318
Первый крупный налет немецких бомбардировщиков на Лондон (Прим. переводчика).
(обратно)319
Была разрушена дворцовая церковь (Прим. переводчика).
(обратно)320
Имеется в виду битва с испанской Непобедимой Армадой в 1588 г. (Прим. переводчика).
(обратно)321
15 сентября 1940 г. произошло, как говорил Черчиль, одно из решающих сражений за Англию, своего рода «битва при Ватерлоо» (Прим. переводника).
(обратно)322
Кухарка решила переехать к своей сестре.
(обратно)323
Преподаватель в Оксфорде и Кембридже (Прим. переводчика).
(обратно)324
Мекленбургская площадь (Прим. переводчика).
(обратно)325
Первый город-сад в мире, созданный в 1903 г. по инициативе английского филантропа, архитектора Э. Хауарда (Западная Англия) (Прим. переводчика).
(обратно)326
Дом-кабинет в саду (Прим. переводчика).
(обратно)327
К. Мартин.
(обратно)328
Поток (эсперанто) (Прим. переводчика).
(обратно)329
Леди Оксфорд и Аксвит.
(обратно)330
Дом, который Вулфы арендовали на Тависток-сквер, был полностью разрушен бомбой.
(обратно)331
В дом Вулфов, М9 37 на Мекленбургской площади, попала бомба.
(обратно)332
Книга Ч. Дарвина (1835) (Прим. переводчика).
(обратно)333
Здесь Пойнтц-Холл, тогда как поначалу был Пойнтцет-Холл (Прим. переводчика).
(обратно)334
Перевод В. Орла (Прим. переводчика).
(обратно)335
«Ист-Коукер» — одна из четырех поэм, составляющих поэтический цикл «Четыре квартета» Т. С. Элиота (Прим. переводчика).
(обратно)336
1666 год (Прим. переводника).
(обратно)337
Колонна в память пожара 1666 года (Прим. переводчика).
(обратно)338
Одно из двух лондонских обществ адвокатов и здание, в котором оно помещается (Прим. переводника).
(обратно)339
Videlicet (лат.) — то есть.
(обратно)340
Девичья фамилия В.В. (Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, примечания Леонарда Вулфа и Джеймса Стрэчи.)
(обратно)341
Смит Джордж, редактор «Cornhill Magazine», прислал В.В. книгу о Дилейне, редакторе «The Times», на рецензию.
(обратно)342
Адриан Стивен.
(обратно)343
Сестра В.В.
(обратно)344
Сидни-Тернер Саксон.
(обратно)345
Фабинское общество, основанное в 1884 г. в Англии, пропагандировало постепенное преобразование капиталистического общества в социалистическое. Названо по имени древнегреческого полководца Фабия Максима, известного своей выжидательной тактикой. Вошло в Лейбористскую партию (Прим. переводчика).
(обратно)346
Речь идет о предисловии к книге писем английского писателя Джеймса Босвелла (1740–1795).
(обратно)347
Сидни-Тернер Саксон (Прим. переводчика).
(обратно)348
Поэтесса начала XIX столетия, родственница Л.С. со стороны матери.
(обратно)349
Мыс Лизард, где произошло сражение и испанской непобедимой Армадой (Прим. переводчика).
(обратно)350
Г. А. Д. Фишер, историк.
(обратно)351
Г. А. Д. Фишер, историк.
(обратно)352
Ученый, специалист по античной филологии.
(обратно)353
На самом деле 17 февраля.
(обратно)354
Миссис Дуглас Фрешфилд.
(обратно)355
Вероятно, имеется в виду скандал, связанный с тем, что легендарный военный хирург Джеймс Барри, прослуживший в армии 51 год, оказался женщиной.
(обратно)356
Имеется в виду второй дягилевский сезон в Лондоне.
(обратно)357
Леонард Вулф.
(обратно)358
Десмонд Маккарти.
(обратно)359
Возможно, Дьордь Божер (Прим. переводчика).
(обратно)360
Игра слов: гетры и икра.
(обратно)361
Роман Шарлоты Йонг.
(обратно)362
Возможно, Джон Бэйли, муж Айрис Мердок, преподаватель, писатель (Прим. переводчика).
(обратно)363
Л.С. проводил зиму в деревне в Беркшире.
(обратно)364
«Деревня в джунглях».
(обратно)365
Отвечая В.В., Л.С. пишет, что не любит викторианцев, а не их XIX век.
(обратно)366
«Человеку» (искаж. лат.).
(обратно)367
На самом деле Оттолин Моррелл жила в Беркшире в шести милях от того места, где жил Л.С.
(обратно)368
Загородный дом возле Льюиса.
(обратно)369
Сестра Л.С.
(обратно)370
Речь идет о книге Л.С. «Великие викторианцы» («Eminent Victorians»).
(обратно)371
1 стоун = 6,34 кг.
(обратно)372
Сестра Л.С.
(обратно)373
Имеется в виду роман Д. Г. Лоуренса «Радуга», который был объявлен эротическим, попирающим мораль и запрещен к публикации.
(обратно)374
В этом доме в Саффолке жила Ванесса Белл с детьми.
(обратно)375
Л.С. не смог приехать в Ашем, как обещал, ибо был занят эссе о Гордоне — последним эссе в книге «Знаменитые викторианцы».
(обратно)376
Миссис Генри Хобхаус «Об отношении к людям, отказывающимся от несения военной службы по политическим или религиозно-этическим соображениям».
(обратно)377
То есть к Ванессе и Клайву Беллам.
(обратно)378
Периодическое издание, которое в это время редактировал Леонард Вулф.
(обратно)379
«Улисс».
(обратно)380
Речь идет о статьях Л.С. для «Войны и мира».
(обратно)381
«Знаменитые викторианцы».
(обратно)382
Г. Лоуэс Диккинсон.
(обратно)383
Доктор Арнольд.
(обратно)384
Возможно, Т. Дж. Кобтен-Сандерсон — историк, переплетчик и книгопечатник (Прим. переводчика).
(обратно)385
Возможно, дочь Патричия (1886–1974) Артура Вильгельма Патрика, герцога Коннаутского (1850–1942), третьего сына королевы Виктории (Прим. переводчика).
(обратно)386
Вулфы переезжали в другой дом.
(обратно)387
В.В. имеет в виду книгу Л.С. о королеве Виктории.
(обратно)388
Речь идет о романе «Ночь и день» Вирджинии Вулф.
(обратно)389
Эмили Иден.
(обратно)390
Брат Леонарда Вулфа.
(обратно)391
Имеется в виду королева Виктория.
(обратно)392
Л.С. посвятил В.В. свою книгу о королеве Виктории.
(обратно)393
Вид Гурнардс-Хэд (Gurnard’s Head).
(обратно)394
Мимикрия. Подражание незащищенного имитатора неродственному виду-модели, но опасного для хищника. Впервые описано Г. Бейтсом (1825–1892) (Прим. переводчика).
(обратно)395
Идея организации первой Всемирной выставки (1851) принадлежала принцу Альберту, супругу королевы Виктории (Прим. переводчика).
(обратно)396
Я победила (фр.).
(обратно)397
Уолкли.
(обратно)398
Речь идет о романе «Комната Джейкоба».
(обратно)399
Книга Л.С.
(обратно)400
Томас Стернз Элиот.
(обратно)401
Джордж Райлэндс.
(обратно)402
Книга эссе В. Вулф.
(обратно)403
Джон Мэйнард, лорд Кейнс.
(обратно)404
«Королеву Викторию».
(обратно)405
Роман Анны Рэдклифф (Прим. переводчика).
(обратно)406
Королева Елизавета. Речь идет о книге «Королева Елизавета и граф Эссекс» Л.С.
(обратно)407
Э. М. Форстер.
(обратно)408
Это письмо скорее всего уже не было прочитано смертельно больным Литтоном Стрэчи.
(обратно)



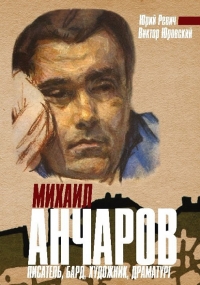

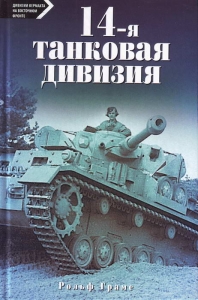
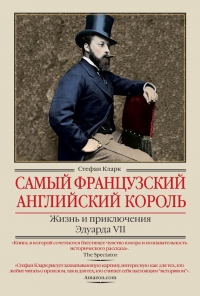

Комментарии к книге «Дневник писательницы», Вирджиния Вулф
Всего 0 комментариев