И. Я. Лосиевский. С пером и скипетром
Бесспорно, более мудрости и смысла замыкается в созидании, нежели в разрушении.
Екатерина II «Записки касательно российской истории»«История императоров – канцелярская тайна; она была сведена на дифирамб побед и на риторику подобострастия», – писал А. И. Герцен. Великие царствования порождают наибольшее количество мифов, восторженных оценок, преувеличений и, наоборот, – язвительных замечаний, разоблачений. Но каждое такое царствование составляет эпоху, и главную ее тайну следует искать не только в бумагах имперских канцелярий, но, прежде всего, в личности человека, взявшего на себя смелость отвечать за все – перед современниками, перед судом истории. Об этом тоже писал А. И. Герцен, в 1858–1859 годах впервые опубликовавший мемуары Екатерины II на языке оригинала – французском и в переводе на русский язык.
«Золотой век Екатерины»… Наверное, каждый современный россиянин имеет представление о нем, но диапазон оценок необыкновенно широк. Суд истории – все-таки земной, людской суд, и далеко не все, представлявшееся черным, скажем, «советской исторической науке», видится таковым сегодня. Ни одна прежняя или современная оценка не исчерпывает сути такого грандиозного явления, каким был Екатерининский век.
Давно замечено, что «вся политика Екатерины была системой нарядных фасадов с неопрятными задворками» (В. О. Ключевский), но приблизительно то же самое можно сказать о величайших политиках всех времен, будь то Цезарь или Наполеон, Елизавета Английская или Петр Великий, Ришелье или Кромвель. Российская императрица, любившая славу и неравнодушная к похвалам, к одам и рапортам о благоденствии России под ее скипетром, все же хорошо понимала, как далека эта громадная страна от того государственного идеала, который казался ей – в первые годы царствования – вполне достижимым.
В ответ на очередную похвалу Екатерина писала княгине Е. Р. Дашковой в 1774 году: «Согласилась бы я с Вами назвать день моего рождения счастливым для России, если бы в Империи все дела шли по моему чистосердечному желанию и чтоб во всех частях внутреннего управления государства цвели правосудие и устройство, а посреди тишины слава и страх гремели. Снаружи сколь ни святы намерения наши в своем начале, но, проходя для исполнения через руки многих, заимствуют от несовершенства, роду человеческому свойственного».
Однажды, подводя предварительные итоги своего правления, она назвала «каплей в море» все, что было ею сделано, и нельзя не привести целиком эти замечательные слова: «Россия велика сама по себе, а я что ни делаю – подобно капле, падающей в море» (из письма Г. А. Потемкину-Таврическому 22 мая 1780 года).
Судьба отпустит ей еще шестнадцать с половиной лет, будет время и для свершений, и для ошибок. Надо признать: Екатерина Великая принадлежит к числу немногих властителей во всемирной истории, кому удавалось гармонично сочетать свои честолюбивые личные планы с государственными интересами. Но так было не всегда. Сначала необходимо было заполучить российскую корону.
Думается, В. О. Ключевский очень ошибался, не находя у Екатерины «никакой выдающейся способности, одного господствующего таланта». Был у нее Божий дар – необыкновенная способность к жизнетворчеству, и сила этого дара была такова, что Екатерина, можно сказать, выстроила свою личность, рано и верно угадав свое призвание: ей было тесно в рамках частной биографии.
Еще четырнадцатилетней девочкой она была уверена: «Я буду царствовать!» Ей грезились бескрайние просторы самой большой из когда-либо существовавших империй – суровой и великой северной страны.
Принцесса Ангальт-Цербстская, София-Фредерика-Августа, появилась на свет 21 апреля (2 мая) 1729 года в Штеттине[1]. Родители ее не были «малыми государями», в отличие от родственников, среди которых – и владетельные князья, и короли. Отец будущей Екатерины II, штеттинский губернатор, находился на прусской службе, в чине генерал-майора.
«Меня воспитывали для семейной жизни», – вспоминала впоследствии императрица, и это, скорее всего, было бы одно из многочисленных немецких княжеских семейств, где подрастали ее вероятные женихи. Девочку обучали светским манерам, французскому языку, часами она зубрила лютеранский катехизис. Маленькая принцесса стремилась во всем угождать своим родителям, побаивалась матери – за самую незначительную провинность от нее можно было получить пощечину.
Еще в детстве Фике (так ее называли дома) почувствовала, что к родительской любви сильно примешаны матримониальные расчеты, к тому же мать по складу своего характера была склонна к политическим интригам и авантюрам, за что ее очень ценил прусский король Фридрих II, секретные поручения которого она нередко выполняла. Обсуждали они и будущее Фике.
На нее уже тогда смотрели как на средство, – этого она никогда никому (особенно – близким) не прощала. И, незаметно для себя, впитывала этот опыт, начиная так же вести себя с людьми, словно мстила за унижение.
Однако в ее характере не было мстительности, а чтобы не отчаиваться, Фике занялась самообразованием, не удовлетворившись той учебной программой, которую ей предложили. Басни Лафонтена и комедии Мольера, трагедии Корнеля попали в круг ее чтения: великие французы помогли ей сохранить веру в людей; не случайно Екатерина II говорила о Корнеле: «…он мне всегда возвышал душу…».
Это были ее первые литературные впечатления. А потом… она влюбилась в своего дядю и мечтала поскорее вырваться из домашнего плена.
Фридрих II полагал, что именно он является главным устроителем ее российской судьбы; отчасти это верно, но в конечном счете все решилось в Петербурге, а Фике, прибывшая туда вместе с матерью в феврале 1744 года, вскоре проявит куда большую самостоятельность, чем он от нее ожидал, и, благодаря короля за советы, будет все чаще поступать по-своему и уж, по крайней мере, не согласится с ролью послушной слуги и осведомительницы прусского монарха.
Судьба словно подменила ей жизнь – все теперь должно было пойти по-другому: надо было врасти в эту неизвестную ей страну. Уже в июле, вопреки воле отца-лютеранина, принцесса София-Фредерика-Августа приняла православие и стала Екатериной Алексеевной, невестой наследника российского престола, великого князя Петра Федоровича, внука Петра Великого. Новое имя казалось ей неблагозвучным, но еще со многим придется ей смириться – во имя достижения заветной цели.
С самых первых месяцев пребывания в России у этой девочки-подростка (в апреле 1744 года ей исполнилось пятнадцать лет) был план. Позднее она часто будет говорить о том, что Россия становится серьезным испытанием для иностранцев, пожелавших ей служить, «пробным камнем для их достоинств»: страна огромных пространств и возможностей, Россия взыскивает с чужаков по наивысшему счету, требуя максимального напряжения умственных и физических сил, предельного раскрытия способностей, заложенных в них природой, и не прощая малейшей слабости.
Конечно, это – размышления и о себе самой. Как и известные слова Екатерины: «…тот, кто успевал в России, может быть уверен в успехе во всей Европе». Вскоре европейцы снова заговорят о России с восхищением и опаской, да и вообще станут говорить о ней чаще, чем когда бы то ни было. Поразительно, но факт: Екатерина-подросток уже начинала чувствовать то, что могла бы выразить словами: «Эта страна по мне».
Справедливо пишут биографы о том, что Екатерина всегда могла безошибочно просчитать все свои «ходы», и поведение ее при российском дворе, тактика (а проще говоря, придворные интриги, – здесь, очевидно, сказался мамин характер), подчиненная стратегической сверхзадаче, похожи на ряд мастерски разыгранных шахматных партий.
При этом она не сосредоточивалась исключительно на событиях внутридворцовой жизни, внимательно следя за тем, что происходит в Петербурге и Москве, в провинции, за рубежом, пытаясь угадать, что происходит в умах людей. Были в ее новой жизни моменты сомнений, были слезы и отчаяние, но, обладая поразительной силой духа, она быстро приходила в себя, становилась такой, как прежде: рассудительной, осторожной, владеющей ситуацией и добивающейся своего.
Впоследствии Екатерина сочинит автоэпитафию, где будут замечательные по искренности строки: «Четырнадцати лет от роду она возымела тройное намерение: понравиться своему мужу, Елисавете и народу. Она ничего не забывала, чтобы успеть в этом».
Сначала умом, а потом – с годами – и сердцем Екатерина приняла решение: стать россиянкой. У нее был прекрасный учитель русского языка – Василий Евдокимович Ададуров, ученый-языковед, математик и переводчик, по-видимому, знакомивший ее и с тогдашними новинками русской литературы – произведениями Ломоносова и Сумарокова.
Со временем Екатерина сама станет автором множества литературно-художественных и публицистических сочинений на русском языке, а ее письма и записки близким людям неопровержимо свидетельствуют: она не только могла писать по-русски (пусть с некоторыми грамматическими ошибками, но много ли было тогда россиян, которые писали по-русски правильно?), она и думала по-русски. Родной немецкий Екатерина стала с годами забывать, а русский, наряду с французским, был языком ее общения, научных и литературных трудов, переписки.
Любовь к народным пословицам и поговоркам, лирическим песням и сказкам, к русским национальным одеждам, которые она и сама охотно надевала, подчеркнутое внимание к православным обрядам и строгое соблюдение их (церковную службу, по ее словам, Екатерина знала не хуже священника), – все это уже не будет казаться сплошным лицемерием, если понять, что стремление «понравиться народу» постепенно переросло у Екатерины в чувство родства: теперь это был ее народ, уважение и любовь которого еще надо заслужить.
Об этом уже в 1744 году задумывалась Екатерина, а вот наследник престола, по ее же наблюдениям, российским народом совсем не интересовался и мало его ценил. Будучи сыном старшей дочери Петра I Анны и приняв при крещении имя Петра Федоровича, в душе он оставался немцем, кем и был по отцу – принцем Голштейн-Готторпским, Карлом-Петром-Ульрихом, а еще он был внучатым племянником шведского короля Карла XII.
Бракосочетание Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны состоялось 21 августа 1745 года, Екатерина получила титул великой княгини.
Отношения между юными супругами не сложились: слишком они были разными. Петр, старше Екатерины на год с небольшим, оказался гораздо младше ее по уму, жизненным наблюдениям и впечатлениям, которые определяют возраст души. Уже в детстве отмечали у Фике «философский склад ума», а Петр Федорович, несмотря на свой высокий титул, и через десять лет после брака вел себя как избалованный, капризный и взбалмошный мальчишка.
Об идиотских его выходках, о грубости и жестокости по отношению к жене и придворным свидетельствуют не только мемуары Екатерины II, но и другие, вполне заслуживающие доверия источники. Разговоры о том, что «такой и Россию погубит», начались задолго до июньских событий 1762 года.
Нет, он не был безнадежным глупцом, законченным негодяем. Екатерина в своих мемуарах вспоминает о добрых поступках великого князя, о непродолжительных периодах дружбы и взаимопонимания между ними. При этом ей, конечно, важно показать, что она пыталась спасти их брак, «понравиться своему мужу». Вероятно, так и было на самом деле, но уже ничто не могло предотвратить семейную катастрофу: по словам самой Екатерины, она не полюбила мужа, потому что он не пожелал «быть любимым».
Поначалу Петр был весьма дружелюбно настроен по отношению к ней, пользовался ее советами, благодарил за помощь; но, словно не понимая, как это ее унижает, уже с первых месяцев брака он стал сообщать жене о своих новых любовных увлечениях, прося совета и по этой части… Екатерине приходилось исполнять одновременно роль его конфидентки и покинутой им, нелюбимой жены, соблюдая при этом все внешние формы уважительного отношения к супругу.
Последующие бурные события в своей интимной жизни Екатерина объясняла в «Чистосердечной исповеди» так: «…Бог видит, что не от распутства, к которому никакой склонности не имею, и, если б я в участь получила смолоду мужа, которого бы любить могла, я бы вечно к нему не переменилась. Беда та, что сердце мое не хочет быть ни на час охотно без любви».
Только через девять лет после свадьбы у великокняжеской четы родился сын Павел – будущий самодержец всероссийский. В «Чистосердечной исповеди» и в других автобиографических записках Екатерина II дала понять потомкам, что отцом ребенка был камергер Сергей Васильевич Салтыков. Дочь Екатерины, великая княжна Анна Петровна, появилась на свет через три с небольшим года после Павла и была очень похожа на графа Станислава Августа Понятовского – второго екатерининского фаворита.
Не только к Екатерине, но и к государственным делам Петр Федорович особенного интереса не проявлял. Екатерина долго не расставалась с надеждой приручить его, предпочитая не укорять и поучать, а незаметно наставлять великого князя. Во второй половине 1750-х, когда императрица Елисавета Петровна стала часто болеть и не раз между придворными начинались разговоры о том, что дни государыни сочтены, Екатерина даже набросала для Петра Федоровича план первоочередных действий после того, как «это будет признано совершившимся», причем будущему императору здесь рекомендовалось вести себя с «хладнокровием полководца и без малейшего замешательства и тени смущения…».
Подготовила Екатерина и проект соответствующего императорского указа, который даже сейчас, в XXI веке, читать страшновато: при живой Елисавете Петровне (она будет царствовать еще несколько лет) написаны слова о «Блаженной памяти тетке Нашей», а в извещении о ее кончине оставлено место для даты…
Вряд ли сей документ ужаснул Петра Федоровича: «высочайшую» смерть он ожидал с едва прикрываемым цинизмом. Возможно, великая княгиня и не показывала эти листки мужу, ожидая более точных сведений о болезни императрицы. Не будем строго осуждать молодую Екатерину, становящуюся политиком.
Дело тут не в пресловутом «холодном сердце» и не в том, что у нее были причины не особенно любить императрицу Елисавету Петровну (о чем ниже). Главное здесь – понимание Екатериной, что есть моменты в жизни государства, когда все зависит от права, воли и энергии новых людей. Она готова была «принять страну», чего нельзя было сказать о великом князе.
Оставаясь частным человеком, Петр мог бы стать домашним сумасбродом, семейным тираном или, наоборот, с годами успокоиться, перебеситься. Некоторые современники даже полагали, что он только притворяется эдаким чудаком, а на самом деле гораздо умнее, чем кажется. Но Петру Федоровичу суждено было царствовать в России, которую он так и не попытался понять и полюбить, а взрослое ребячество государя, как показало непродолжительное его царствование, может представлять опасность для страны.
Почувствовав скорое освобождение из-под опеки тетушки-императрицы, Петр Федорович становился все более неуправляемым, и наступил момент, когда Екатерина должна была сделать выбор, о котором с предельной откровенностью написала в своих мемуарах: либо «делить участь Его Императорского Высочества, как она может сложиться» и «подвергаться ежечасно тому, что ему угодно будет затеять за или против меня», либо «избрать путь, независимый от всяких событий.
Но говоря яснее, дело шло о том, чтобы погибнуть с ним или через него или же спасать себя, детей и, может быть, государство от той гибели, опасность которой заставляли предвидеть все нравственные и физические качества этого государя».
Петр Федорович справедливо считал свою жену умнейшей женщиной и даже побаивался ее, пока не стал императором. Но едва ли он заметил в ней перемену, произошедшую во второй половине 1750-х годов: Екатерина стала его политической соперницей.
Пока великий князь разменивал свои годы по пустякам, играл в солдатики, воображал себя великим скрипачом, устраивал попойки и т. д., Екатерина продолжала свое самообразование.
Через много лет Дени Дидро в беседе с Екатериной II сделал ей комплимент, сказав, что он поражен ее просвещенной мудростью, обширными познаниями в области философии, истории, юриспруденции. Императрица ответила на это: «У меня были хорошие учителя: несчастье и одиночество». Она перечитала множество книг, которые по ее частым просьбам присылали из Академии наук, располагавшей к началу 1750-х годов почти двадцатипятитысячным библиотечным фондом.
Пользовалась Екатерина и частными книжными собраниями Петербурга, интересуясь, прежде всего, трудами философов, историков и правоведов, изданиями по географии и страноведению, словарями, мемуарной литературой. У нее в руках все чаще видели книги русских авторов. Чтобы совершенствоваться в языке, она и некоторые западноевропейские сочинения прочла в русских переводах.
Мир художественной литературы также привлекал ее: на языке подлинника читала Екатерина Рабле и Скаррона, Лесажа и Вольтера, ее любимейшего современного писателя, а Сервантеса и Шекспира – в немецких и французских переводах.
Вольтера – историка и философа – она ценила не меньше, чем Вольтера-литератора, и новейшим сочинителям предпочитала Плутарха и Тацита. По воспоминаниям Екатерины, «Анналы» сделали «необыкновенный переворот» в ее голове, помогли понять, что и придворные интриги, и связанную с ними «большую» политику определяют единство и борьба интересов. Вскоре Екатерина включится в эту игру, и это будет совсем не такая борьба за власть, когда побеждающий еще не знает, что ему делать с этой властью.
Екатерина готовится к ней, изучая и конспектируя «Государство» и «Законы» Платона, «Исторический и критический словарь» Бейля, «О духе законов» Монтескье, только что вышедшие тома «Энциклопедии» Дидро и д’Аламбера. Усваивая чужие мысли, Екатерина как бы моделировала свое будущее и создавала самое себя как государственную личность.
Ближайшим по времени примером для подражания был король Пруссии Фридрих II Великий, который одним из первых монархов в Европе «скрестил» самодержавие и просвещение, кардинально реформировал законодательную систему и вообще неустанно трудился на государственном поприще.
Благодаря военным и дипломатическим успехам ему удалось вдвое увеличить территорию своей страны. Он поражал современников свободомыслием, переписывался с Вольтером, позднее ставшим его гостем – на несколько лет, покровительствовал наукам и искусствам. В свое время у него тоже были серьезные препятствия на пути к трону, хотя и совсем другого рода: отец добивался от него отказа от престолонаследия.
Екатерина находилась в переписке с Фридрихом Великим и многому научилась у него, но, несмотря на все старания прусского монарха, так и не подчинилась его воле. И отнюдь не идеализировала этого государя, как, впрочем, и других своих учителей. Сохранилась ее заметка по поводу книги Фридриха II «Анти-Макиавелли»: «Эта книга доказывает, что говорить и делать – не одно и то же».
Подобный упрек можно адресовать и самой Екатерине – будущей императрице: публично она никогда не солидаризировалась с идеями «Государя», которые в эпоху Просвещения называли «отвратительными», но Макиавелли, бесспорно, тоже был одним из ее политических учителей.
Главная проблема заключалась в том, что передавать ей власть в этой стране никто не собирался (по крайней мере, до конца 1750-х годов). При дворе Елисаветы Петровны Екатерине не раз давали понять, что ее основная миссия уже выполнена, ею воспользовались как средством для улаживания дел российского императорского дома.
Дочь Петра Великого искренне желала России добра и процветания, хотя сама не очень-то прилежно трудилась во имя этого, больше занимаясь собственными нарядами, устроением свадеб и прочих праздников. «Веселая царица была Елисавет…», – иронично заметил поэт. Оставлять же Россию такому наследнику, как Петр Федорович, ей не очень хотелось.
Все мысли ее были о маленьком Павле, который в раннем детстве был очень красивым ребенком. Императрица сразу забрала его у Екатерины, держала в своих комнатах и сама руководила его воспитанием. Вольно или невольно, Елисавета Петровна продлила и даже ужесточила ту многолетнюю пытку одиночеством, на которую была обречена Екатерина, умевшая любить, жаждавшая любви, но, увы, ни в муже, ни в «предложенном» ей красавце Сергее Салтыкове не нашедшая столь же сильного и глубокого чувства.
Елисавета Петровна намеревалась произвести перемену в порядке престолонаследия, передав трон Павлу и объявив великокняжескую чету регентами – до достижения Павлом совершеннолетия, но не успела это сделать, наверное, из-за того, что вообще избегала говорить и думать о смерти. (А когда безнадежно заболевал кто-либо из ее приближенных, она приказывала поскорее вывезти его из дворца.)
По иронии истории, через тридцать пять лет подобное произойдет и с самой Екатериной, скончавшейся за несколько недель до намеченного ею обнародования манифеста о передаче престола, минуя Павла, любимому внуку Александру.
Называя Екатерину «очень умной» и «непомерно гордой», Елисавета Петровна все же не могла предположить, что в голове у великой княгини созревает план государственного переворота, что уже готова… программа ее будущего царствования – «вослед Петру Великому» и в подражание другим «великим людям этого края».
В 1756–1757 годах Екатерина излагала эту программу в письмах к человеку, которому она всецело доверяла и которого историки по праву называют ее наставником, одним из творцов феномена Екатерины-политика. Это – сэр Чарлз Уильямс, английский посланник в Петербурге; секретарем его был граф С. А. Потоцкий – еще одно доверенное лицо и новый «друг сердца» великой княгини.
Письма к сэру Чарлзу поражают «прямо отчаянной своей смелостью, доходящей кое-где до дерзости, до вызова судьбе»; они свидетельствуют, что уже тогда Екатерина «совершенно определенно думала о захвате престола и принимала самые решительные меры с той целью, чтобы события не застали ее врасплох» (Е. В. Тарле). «Маленький тайный кружок», как называла она в своих мемуарах группу своих сторонников, стал расти и превращаться в новую придворную партию, в которой даже появились перебежчики из двух главных партий елисаветинского двора этого периода – шуваловской и бестужевской.
Екатерина не была идеальной красавицей, но всегда умела обаять и обольстить, владея этим искусством в совершенстве. Однако екатерининская партия станет партией власти, прежде всего, потому, что в ней, Екатерине, увидят сильную, политически необходимую России личность, какой не было здесь со времен Петра Великого. Страна нуждалась во «Второй», даже эта символическая очередность в двух словосочетаниях: «Петр Первый» – «Екатерина Вторая» завораживала современников.
Кроме стратегических планов, у Екатерины была и целая система тактических ходов. Она окружила больную императрицу своими осведомителями, каждый из которых не знал о других. Заручилась поддержкой морганатического супруга императрицы, графа А. Г. Разумовского (в первые дни своего правления Екатерина даже предложит ему титул Императорского Высочества, но он благоразумно откажется от этой чести).
На стороне великой княгини уже были гвардейские офицеры, каждый из которых мог привести с собой пятьдесят солдат. Планировалось арестовать Шуваловых и всех, кто окажет сопротивление. Сэра Чарлза она просила обеспечить ей политическую поддержку на Западе, а сигналом к началу действий должно было стать известие о смерти государыни.
Следует заметить, что в этот период борьбы за власть личные планы Екатерины иногда вступали в противоречие с интересами страны. Например, в благодарность за поддержку со стороны Англии она обещала, что одним из первых ее шагов после переворота будет распоряжение о выходе России из антипрусской коалиции, что отвечало тогда интересам британского кабинета и, кстати говоря, вполне соответствовало настроениям Петра Федоровича, которые он почти не скрывал, будучи приверженцем Фридриха II. Однако со стороны Екатерины это были тактические действия, направленные на достижение ближайших целей.
А вот стратегически она уже не мыслила себя без России, с чем связано ее политическое сближение с бывшим недругом – канцлером, графом А. П. Бестужевым-Рюминым, одним из влиятельнейших лиц в государстве. Не чета придворным интриганам, он, по словам Екатерины, «думал как патриот» и «никогда нельзя было подкупить его деньгами». Последнее утверждение ныне оспаривается историками, но для нас важно отметить, что свою партию она считала патриотической.
Согласно бестужевскому тайному проекту, после смерти Елисаветы Петровны Екатерина должна была стать соправительницей Петра III, но при этом реальная власть в стране сосредоточилась бы в руках канцлера. Вспоминая об этом через годы, Екатерина не преминула заметить, что «претензии» Бестужева «были чрезмерны», а тогда – из тактических соображений – не вступала в спор с ним. («Претензии» Бестужева произвели такое сильное впечатление на Екатерину, что, придя к власти и вернув его из ссылки, она лишь обласкала старого соратника, но никаких высоких постов ему не предложила.)
Будущая роль великой княгини не была окончательно и единогласно определена заговорщиками: либо соправительница Петра III, либо правительница-регентша при малолетнем Павле, либо императрица и самодержица всероссийская, которой наследует Павел Петрович. К последнему варианту склонялись братья Григорий и Алексей Орловы, главная ее опора среди гвардейцев.
В 1758 году внезапно оказался в опале канцлер Бестужев. Арестованный и допрошенный (свой проект он успел сжечь, о чем сообщил Екатерине), Бестужев почти год находился под домашним арестом, затем последовала ссылка. В изданном по этому случаю манифесте сообщалось, что бывший канцлер «нечувствительно (т. е. незаметно. – И. Л.) в самодержавное государство вводил сопротивление и сам соправителем сделался…». Вполне точная характеристика если не реального положения вещей, то ближайших планов Бестужева и Екатерины.
Это был страшный удар по екатерининской партии. Великая княгиня уничтожила почти все свои бумаги, а затем написала письмо императрице Елисавете Петровне, заявив о своей готовности покинуть пределы России, если сочтут это необходимым. На самом же деле, как признается Екатерина в своих мемуарах, она надеялась, прямо написав о своей возможной высылке, «окончательно уничтожить это намерение Шуваловых», если оно действительно возникло.
Кроме того, у Екатерины была, по ее словам, «слишком гордая душа» (в этом Елисавета Петровна не ошиблась), и она «готова была и на возвышение, и на уничтожение», готова к самому крутому повороту в своей судьбе.
Гроза миновала, а 25 декабря 1761 года произошло событие, которое с таким нетерпением ожидали Екатерина и Петр еще в середине 1750-х годов. Скончалась императрица Елисавета Петровна. Не успев сделать каких-либо распоряжений, но прося их обоих – во имя интересов наследника – жить в мире, не обижать друг друга и ее любимцев – Разумовских и Шуваловых.
В отсутствие Бестужева расстановка сил была тогда не в пользу Екатерины, и ей пришлось на время отложить свои наиболее смелые планы, продемонстрировав покорность судьбе и воле императора Петра III. Однако с этого момента ее личные интересы полностью совпали с интересами страны, которые новый император будет почти игнорировать.
Шестимесячное царствование Петра III оставило противоречивое и в целом негативное впечатление у современников. У царя были хорошие советчики, однако чаще всего он поступал вопреки их советам, не считаясь ни с кем и ни с чем.
Он издал указ о вольности дворянской, чем расположил к себе многих, но из ссылки были возвращены лишь опальные вельможи– «немцы» (Бирон, Миних и некоторые другие), о Бестужеве император «забыл». Петр III не скрывал, что преклоняется перед Фридрихом II, и тотчас же взял курс на союз с Пруссией, превратив королевского посланника чуть ли не в своего первого министра. Мир с Пруссией, вскоре им заключенный, не отвечал интересам России: Фридриху II возвращались все российские завоевания, страна выходила из антипрусской коалиции.
Россияне негодовали: каково было слышать обо всем этом воинам, недавно взявшим Берлин? Кроме того, император пристрастился к прусским военным порядкам, которые он насаждал в армии, включая замену петровских мундиров на прусские, – и это усилило ропот в войсках. А в Сенат он направил Кодекс Фридриха II, заявив, что именно этот документ, разработанный прусским королем для своей страны, станет законом и для России.
Петр III не скрывал своего пренебрежительного отношения к православным обрядам и святыням; церковные начальники были также недовольны тем, что царь взял под свою защиту раскольников, а проведя реформу в управлении архиерейскими и монастырскими вотчинами, превратил пастырей в чиновников на государственном жалованье. Намеревался император провести «реформу» и в своем семействе.
С Екатериной он мог поступить по примеру деда – Петра Великого, отправившего свою нелюбимую жену в монастырь. Так или иначе, ему нужно было избавиться от Екатерины, которую он не без основания подозревал в опасных для него «злых умышлениях» и которую собирался заменить своей фавориткой, сделав графиню Елисавету Романовну Воронцову императрицей.
В начале 1762 года в Петербурге появился слух о скором аресте Екатерины и ее высылке за границу. Но еще в декабре началась подготовка к перевороту. Во главе заговорщиков стали братья Григорий и Алексей Орловы – они, по словам Екатерины, «блистали своим искусством управлять умами» и «осторожной смелостью». Арест одного из заговорщиков-гвардейцев, П. Б. Пассека, заставил остальных действовать с большей решительностью.
Утром 28 июня 1762 года, когда Петр III находился в Ораниенбауме, гвардия и государственные чины собрались на Казанской площади в Петербурге. Екатерина была провозглашена императрицей и самодержицей всероссийской, ей присягнули войска и чиновники. Павел объявлялся наследником престола.
События развивались стремительно. Петр III, не оказавший серьезного сопротивления, был арестован и подписал отречение. Екатерина видела, что теперь он не представляет для нее серьезной опасности, надо было только как следует его стеречь, и императрица распорядилась подготовить для Петра «хорошие и приличные комнаты в Шлиссельбурге» (из письма Екатерины графу С. А. Понятовскому 2 августа 1762 года).
У другого свергнутого императора – сошедшего с ума Иоанна Антоновича, томившегося в шлиссельбургском каземате, появился бы новый сосед. Однако Петр вскоре умер или погиб – достоверных сведений о том, что с ним произошло в Ропше, никому из историков найти не удалось. Большинство современников не поверило Екатерине, сообщившей миру о смерти Петра от «приступа геморроидальных колик вместе с приливами крови к мозгу», то есть от кровоизлияния в мозг.
Полагали, что его удушили. Необходимо все же учесть, что у императора, несмотря на сравнительно молодой возраст – 34 года, было слабое здоровье (по-видимому, сказалась плохая наследственность; его отец умер 39-ти лет), и несколько дней тревог и потрясений – ничего подобного с ним раньше не случалось – могли привести к катастрофе.
Известны три записки Алексея Орлова о Петре-арестанте, которые он посылал Екатерине. Первая и вторая свидетельствуют о быстром развитии болезни («очень занемог», «нечаянная колика», «теперь так болен, что не думаю, чтоб он дожил до вечера и почти совсем уже в беспамятстве», и т. п.), если только это не мистификация самого Алексея Орлова.
Известно, что братья Орловы очень боялись примирения между супругами, что грозило им неминуемой гибелью, и даже после отречения Петра их ужасало, что среди прочего «вздора» свергнутый император «иногда так отзывается, хотя в прежнем состоянии быть» (цитата из первой записки).
В третьей же записке сообщается, что Петр, – казалось бы, находившийся «почти совсем уже в беспамятстве», – за столом (!) поссорился с одним из своих сторожей – князем Федором Барятинским и погиб в пьяной драке («мы были пьяны и он тоже»). Однако оригинал этой записки не сохранился (якобы был уничтожен Павлом I), а текст вызывает серьезные сомнения в ее подлинности; возможно, это – подделка в духе бытовавшей на рубеже XVIII–XIX вв. легенды[2].
Екатерина не приказывала устранять своего мужа, но и не требовала от Орлова строжайшего выполнения распоряжения, необходимого в таких ситуациях: «ни волоса с головы». По свидетельствам современников, она была потрясена случившимся и полагала, что эта смерть отрицательно скажется на отечественных и западных оценках ее «революции».
Наступила новая эпоха, о которой было заявлено в екатерининском манифесте 6 июля 1762 года. Екатерина II гарантировала «соблюдение нашего православного закона», «укрепление и защищение любезного отечества», «сохранение правосудия», «искоренение зла и всяких утеснений».
Назвала главную причину, побудившую ее стать во главе заговора: дела «Отца отечества» Петра Великого, «великого в свете монарха», были «развращены» внуком, и «все отечество к мятежу неминуемому уже противу его наклонялося…». Здесь же изложена история переворота, и, надо отметить, со времени Петра Великого так откровенно российские правители со своим народом не разговаривали.
Сильнейшее впечатление произвели на современников заключительные слова манифеста: «А как Наше искреннее и нелицемерное желание есть прямым делом доказать, сколь Мы хотим быть достойны любви народа Нашего», то «наиторжественнейше обещаем Нашим Императорским словом – узаконить такие государственные установления, по которым бы правительство любезного Нашего отечества в своей силе и при надлежащих границах течение свое имело так», дабы «предохранить целость Империи и Нашей самодержавной власти, бывшим несчастием несколько испроверженную, а прямых верноусердствующих своему отечеству сынов вывести из уныния и оскорбления».
22 сентября 1762 года в Москве состоялась коронация Екатерины II. Главной идеей приуроченного к этому событию театрализованного представления «Торжествующая Минерва» было духовное и нравственное превосходство новой российской власти, очищающей страну от злоупотреблений и пороков прежних правлений.
В отличие от государей с «дворцовым» мышлением, Екатерина хотя и пришла к власти в результате очередного дворцового переворота, но понимала, что эта перемена спасает и возвышает не только ее, но и Россию, оказавшуюся в руках неуравновешенного человека с незрелым умом.
У Екатерины были, по крайней мере, десятки тысяч сторонников за пределами дворца; она признавалась в то время, что восторг и энтузиазм людей напоминает ей времена Кромвеля, а впоследствии дала такую характеристику событий 1762 года: «Все дело заключалось в том, чтобы или погибнуть с сумасшедшим, или спастись вместе с народом, который хотел избавиться от него. Если бы он вел себя благоразумнее, с ним бы ничего не случилось».
Не будем забывать и о роли сильной личности в истории. Екатерина была душой переворота, ее отличали «непоколебимая настойчивость, огромное честолюбие, размеры которого она сама прекрасно сознавала…» (Е. В. Тарле).
Когда же один из главных организаторов ее триумфа, желая утвердиться в этой роли на долгие годы, прямо спросил императрицу, кому она обязана своей властью, Екатерина ответила: «Богу и избранию моих подданных». Будучи благодарна многим, она не считала возможным говорить о произошедшем как об очередном дворцовом перевороте.
Теперь пределам ее честолюбия вполне отвечали просторы страны, «завоеванной» ею и ставшей родной. Екатерине шел тридцать четвертый год. Но, как оказалось, ее «борьба за Россию» только начиналась. «Финансы были истощены… Торговля находилась в упадке, ибо многие отрасли ее были отданы в монополию.
Не было правильной системы в государственном хозяйстве», – писала императрица впоследствии, вспоминая начало 1760-х годов. Экономический кризис усиливал ропот народа: чуть ли не ежедневно в Петербург приходили известия о новых крестьянских волнениях. Резкие колебания внешнеполитического курса также выводили страну из равновесия; она напоминала тяжелобольного, периодически впадающего в полузабытье.
Действия нового – екатерининского – правительства отличали продуманность и решительность, не было резких поворотов и скачков: Россия постепенно стала приходить в себя. Это происходило не в последнюю очередь благодаря тому, что Екатерина хорошо разбиралась в людях, употребляя, как она говорила, «каждого по его способностям», находя и воспитывая будущих героев, полководцев и дипломатов, государственных мужей.
Выдвигала способнейших и, незаметно для окружающих, постоянно училась у своих же учеников, восхищалась ими. Характерны в связи с этим ее слова о Потемкине (кстати, впервые замеченном Екатериной благодаря его активному участию в перевороте 1762 года): «Мой ученик, мой кумир».
Приходилось идти и на компромиссы, но до определенного предела, например, пока интересы Орловых не вступили в противоречие с ее собственными, которые теперь большей частью стали государственными интересами. Делиться властью с кем бы то ни было Екатерина не собиралась – ни с собственным сыном, ни с другими законными претендентами на трон, ни, тем более, с самозванцами, каких много будет в годы ее царствования, ни с фаворитами.
Екатерина обладала поистине «неограниченным властолюбием» (Пушкин). 1762 год – год триумфа Екатерины и Орловых – в известном смысле стал началом ее прощания с любимым человеком – Григорием Орловым, оказавшимся не столь предусмотрительным, как граф А. Г. Разумовский, и уже помышлявшим о получении, по крайней мере, великокняжеского титула, об официальном браке с самодержицей всероссийской. Екатерину снова хотели использовать как средство: это становилось для нее очевидным.
Нет, сподвижники Екатерины не оказались в тюрьме, не были казнены, как нередко случалось с теми, кто помогал монархам прийти к власти и уже поэтому становился для них опасным. Орловы будут обласканы, получат титулы и земли, более того, еще не раз у них будет возможность снова проявить свои недюжинные организаторские таланты, но реальной власти над страной никогда не получат.
«Divide et impera» (лат. «Разделяй и властвуй») – этому макиавеллиевскому правилу Екатерина следовала не реже, чем советам Монтескье, маневрируя между партиями Орловых и Паниных, а позднее – сохраняя панинскую партию как противовес Потемкину. Хорошо знавший императрицу принц Ш.-Ж. де Линь писал: «Она умела употреблять в свою пользу все, даже и противоборство страстей человеческих».
Пожалуй, лишь в последние годы своего царствования стареющая Екатерина изменила этому правилу, и после смерти Потемкина партия Зубовых, не обладавших особенными государственными талантами, оказалась вне всякой конкуренции, что имело заметные отрицательные последствия для страны.
Иностранные дипломаты, находившиеся при дворе Екатерины II, сильно ошибались, сообщая своим правительствам о несамостоятельности императрицы, о слабости и нерешительности новой власти в России. Екатерина проявляла разумную осторожность и внимательно выслушивала мнения своих влиятельных помощников, не сразу отказывалась она и от предложений, заведомо неприемлемых. Так было, например, с предложенным партией Паниных проектом создания Императорского совета, фактически ограничивавшим самодержавную власть в России.
Императрица поначалу сделала вид, что одобряет этот проект, но вскоре отвергла его, поблагодарив автора – графа Н. И. Панина, умного и просвещенного царедворца, дипломата, воспитателя великого князя. Он останется в числе ближайших сотрудников Екатерины II, но до самой его смерти императрица будет подозревать графа (не без определенных оснований) в авторстве другого проекта – государственного переворота в пользу Павла.
Характерно екатерининское нелицеприятное замечание о братьях Паниных в письме Потемкину 29 июля 1774 года, во время Пугачевского восстания, когда граф П. И. Панин согласился возглавить борьбу против бунтовщиков при условии предоставления ему диктаторских полномочий: «…господин граф [Н. И.] Панин из братца своего изволит делать властителя с беспредельной властию в лучшей части Империи, т. е. Московской, Нижегородской, Казанской и Оренбургской губернии, a sous-entendu[3] есть и прочие; […] если сие я подпишу, […] я сама нималейше не сбережена [буду]…».
Прислушиваясь к советам Орловых и Паниных, Дашковой, Потемкина, Безбородко и многих других, Екатерина все-таки была самостоятельна в решениях, лично определяя и внешнюю, и внутреннюю политику страны.
Как справедливо отмечает С. М. Соловьев, императрица «по своей энергии хотела сама управлять» Россией, «искала в канцлере собственно секретаря», и «затруднения всегда заставали Екатерину на ее месте, в царственном положении и достойною этого положения, потому затруднения и преодолевались». Она была выдающимся администратором и называла дела управления главным своим «ремеслом».
Вскоре монархи и политики Европы убедились в том, что Россия возвращается к самостоятельной политике на международной арене. Переход от пропрусской позиции к нейтралитету, осуществленный Екатериной, приблизил окончание Семилетней войны (что и произошло в начале 1763 года). С некоторой наивностью Екатерина надеялась тогда, что новых войн ей удастся избежать.
Подпись императрицы под письмом шведскому королю: «Вашего Величества добрая сестра и соседка», – конечно, не свидетельство миролюбия, а дипломатия, но Екатерина действительно верила тогда в возможность длительного мирного сосуществования европейских государств, считая усиление России одним из главных факторов международной стабильности: чтобы «посреди тишины слава и страх гремели».
Влиять же на европейское общественное мнение императрица намеревалась через такие органы, как рукописный журнал «Литературная, философская и политическая переписка» барона Ф. М. Гримма, оплачивая затраты на его подготовку, копирование и регулярную рассылку правителям многих стран.
Избежать войны Екатерине не удалось, а со временем императрица стала охотно рассуждать о том, что война, конечно, дело недоброе, но благодаря ей быстрее развивается промышленность, укрепляется дух россиян, превращающихся в истинных патриотов, от победы к победе растет могущество страны. Отчасти эти соображения были верными, но до поры до времени, потому что финансирование военных кампаний екатерининского царствования в конечном счете истощило государственную казну.
Учитывая же, что они забрали десятки тысяч жизней россиян, трудно не усмотреть примеси цинизма в словах вошедшей во вкус «воительницы», – так назвал Екатерину Вольтер. Говоря подобное, она словно проводила аналогию с тогдашней медициной, считавшей наиболее действенным средством против многих болезней кровопускание…
Это была великая военная эпоха в истории России, «громкий век военных споров, свидетель славы россиян», когда их подвигам, «страшась, дивился мир» и всюду поспевали «сподвижники, друзья Екатерины» (цитаты – из пушкинских «Воспоминаний в Царском Селе»).
Россия активно включилась тогда в международные споры по т. н. Восточному вопросу, имеющему прямое отношение к ее стратегическим интересам в Северном Причерноморье, на Черном и Средиземном морях. Столкновение с Турцией стало неизбежным. В екатерининское царствование произошло две русско-турецких войны: в 1768–1774 гг. и в 1787–1791 гг.
Обе они были начаты Турцией и закончились победами России. Враг был разгромлен при Ларге и Кагуле, в морском сражении при Чесме, успешным был и крымский поход. Во второй русско-турецкой войне были взяты Кинбурн, Фокшаны, Рымник, Измаил, Очаков. Весь мир повторял тогда имена «екатерининских орлов» – Румянцева-Задунайского, Долгорукова-Крымского, Орлова-Чесменского, Суворова-Рымникского, Потемкина-Таврического, Ушакова.
Еще одну войну с Россией затеяла Швеция, но победы россиян в Гогландском (1788 г.) и Выборгском (1790 г.) морских сражениях, провал шведской операции в Финляндии заставили противника отказаться от новых попыток вернуть территории, утраченные Швецией в годы Северной войны.
Блестящих успехов добилась российская дипломатия, в чем была немалая заслуга самой Екатерины II, поддерживавшей постоянную переписку со своими западными коллегами-монархами, собственноручно составлявшей инструкции для дипломатов, которые направлялись ею в Англию и Францию, Пруссию и Австрию. Екатерина искусно использовала противоречия между этими странами в интересах российской политики.
В Европе наконец поняли, что имеют дело с сильной личностью, выдающимся политическим деятелем. Екатерина иронизировала над этими западными экспертами (еще недавно утверждавшими, что ей не удастся долго продержаться на престоле) в одном из писем к Вольтеру: «…Европа находит у меня много ума. Однако в сорок лет ни ум наш, ни красота далеко не увеличиваются перед Господом Богом» (октябрь 1770 года).
Между тем Империя крепла и переходила свои прежние границы: она расширялась. В 1773 году по первому разделу Польши Россия получила бо́льшую часть Белоруссии, по Кучук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 года – берега Азовского и Черного морей. Русские корабли отныне свободно проходили через Босфор и Дарданеллы.
В 1783-м Россия присоединила Крым и Кубань и взяла под свое покровительство Грузию, а в конце 1780-х – начале 1790-х увеличила свои причерноморские владения. Кроме того, по второму разделу Польши 1793 года в состав Империи вошли волынские, подольские и оставшаяся часть минских земель, а по третьему разделу, в 1795-м, – Гродненское воеводство и Курляндия.
Надо признать, что Екатерина II была из числа наиболее ненасытных имперских хищников, собирателей громадных пространств. В конце ее царствования был начат поход в Персию, покорены Дербент и Баку. И еще в середине 1770-х возник «греческий проект» Потемкина и Безбородко, главной целью которого было окончательное поражение Турции, утрата ею государственности и восстановление православной Восточной Империи. «Константин в Константинополе» – ей очень нравилось это созвучие.
Внуку Екатерины не случайно было дано такое имя; едва родившись, он уже стал ведущей фигурой в грандиозной политической игре императрицы. Однако этому полуфантастическому проекту не суждено было осуществиться.
Во внутренней политике Екатерина действовала намного осторожнее. Поначалу она исходила из умозрительного предположения о том, что россияне, только приобщающиеся к европейскому просвещению, не знакомые с новейшими «ложными теориями» (к ним она относила сочинения Ж.-Ж. Руссо и других просветителей-радикалов), более восприимчивы, чем западные народы, к голосу разума и еще не испорчены нравственно.
Екатерине казалось, что Россия – tabula rasa (лат. «доска выскобленная», то есть чистая доска; на ней ничего еще не написано), лучшее поле деятельности для просвещенного монарха.
В действительности все было гораздо сложнее, и, помня горький опыт Петра III, Екатерина не торопилась. Она продвигалась медленно, но верно на путях к наиболее рациональной системе управления такой огромной страной.
Едва вступив на престол, императрица отменила все нововведения в войсках, превращавшие российскую армию в точную копию прусской. Последовали указы, направленные против взяточничества, против частных монополий, которые охватили тогда почти все отрасли торговли. Казнокрадство, поразившее российский чиновничий мир, было подобно эпидемии, и Екатерина пыталась найти эффективные средства для борьбы с нею, не только изгоняя взяточников, но и повышая жалованье чиновникам.
Однако эта борьба шла с переменным успехом: воровали везде, даже в Академии наук. По поводу обнаружившейся там недостачи ценных документов и вещей императрица писала, что искать их бесполезно, «понеже верно украдены». Вскоре Академическая канцелярия, против которой метал перуны Ломоносов, будет ею ликвидирована.
Сама же Екатерина, подавая пример богатейшим из числа своих подданных, пожертвовала на государственные нужды значительные суммы «комнатных денег» – личных своих сбережений, и это произвело большое впечатление на современников.
Чтобы успокоить духовенство, Екатерина на время вернула ему реквизированные имения, но уже в 1764 году была осуществлена сплошная секуляризация монастырских владений и крестьян. В отношениях с церковниками императрица продолжила петровскую политику полного их подчинения интересам государства, последовательной борьбы с религиозным фанатизмом.
Объявляя себя защитницей православия, она провозглашала и политику веротерпимости, потому что хорошо понимала, что мусульмане, став гражданами России, хотят при этом остаться мусульманами. После завоевания Крыма Екатерина будет проявлять заботу о восстановлении мечетей; известны также ее шаги навстречу духовным потребностям католиков и протестантов.
В октябре 1762 года императрица подписала указ, свидетельствующий о том, что она не намерена была слепо подражать Петру Великому и не во всем согласна с ним: «Тайной розыскных дел канцелярии не быть и оную совсем уничтожить», дабы «невиновных людей от напрасных арестов, а иногда и самых истязаний защитить», а «самым злонравным пресечь пути к произведению в действо их ненависти, мщения и клеветы…». Екатерина неоднократно высказывалась против пыток, считая их недопустимыми в цивилизованном обществе и негодными для следствия: истязаемый говорит не правду, а то, чего добиваются от него палачи, оговаривает других и самого себя; пытка – надежное «средство осудить невинного».
Императрица стремилась упорядочить ведение административных и судебных дел в Сенате, разделенном в 1763 году на департаменты. Но она понимала, что успех ее реформ будет зависеть, прежде всего, от людей, которых она расставит на местах, в том числе и вдали от столиц.
Екатерининское «Наставление губернаторам» 1764 года содержит требование к ним быть подотчетными верховной власти хозяевами вверенных им губерний, непримиримыми к «врагам отечества» – лихоимцам; стать «оком и душою правосудия», чтобы «ни знатность вельмож, ни сила богатства не могли обольщать совести…».
Губернаторы должны были стать не только исполнителями монаршей воли, но также помощниками и советчиками Екатерины, признававшейся в своем «Наставлении»: «…не бывав во всех губерниях и провинциях, лежащих в разных климатах и разными выгодами довольствующихся, заочно невозможно ни всех польз провидеть, ни всех неустройств отвратить…». Надо отметить, что к тому времени императрица уже начала знакомство со страной, совершив поездки по Средней России и Прибалтике.
В 1767 году она отправится в Поволжье, а через двадцать лет, в 1787-м, состоится ее самая известная поездка – по Украине и Новороссии, в Крым и западные губернии. Это будет масштабная политическая акция. Екатерина проедет по новым имперским землям с огромной свитой, в сопровождении английского, французского и австрийского послов; с императрицей будет встречаться король польский Станислав Понятовский, а в поездке к ней присоединится австрийский император Иосиф II.
Законотворческие планы Екатерины 1760-х годов позволяют предполагать, что далеко не сразу политик-реалист переборол в ней кабинетного мечтателя с «республиканской душой» (собственные ее слова).
Бейль и Монтескье дали ей точное представление о том, какими должны быть законы государства. Однако работа государственной машины, регламентируемая законодательством, в не меньшей степени зависит от доброй воли, понимания и умения тех, кому надлежит эти законы проводить в жизнь и соблюдать. Екатерина призывала россиян повиноваться законам, не раболепствуя и понимая, что это не прихоть очередного монарха, а государственная необходимость.
В 1767 году была созвана «Комиссия о составлении проекта нового Уложения» – выборный орган, занявшийся разработкой свода законов – на смену давно устаревшему Соборному Уложению царя Алексея Михайловича 1649 года. Депутатам Комиссии Екатерина адресовала свой знаменитый «Наказ», который не имел законодательной силы, но был как бы «духом законов» будущего Российского государства.
Два года Екатерина работала над «Наказом», не говоря никому о главной цели своих ежедневных занятий, «последуя единственно уму и сердцу своему с ревностным желанием пользы, чести и счастия Империи», как писала она впоследствии. Затем это сочинение было показано ею графу Н. И. Панину и графу Г. Г. Орлову, предложившим свои коррективы.
В составлении и редактировании «Наказа» принимали участие также И. И. Бецкой, А. И. Бибиков, Г. В. Козицкий.
Из первоначального текста были удалены написанные Екатериной статьи об освобождении крестьян от жестоких помещиков, о крестьянском самосуде и некоторые другие. В те годы Екатерину очень интересовали эти вопросы в связи с частыми крестьянскими волнениями, с бунтом крестьян, приписанных к заводам.
По ее поручению даже изучался вопрос о возможных выгодах вольного труда в сравнении с наемным; этот же вопрос императрица поставила перед Вольным экономическим обществом, основанным ею в 1765 году. А в следующем году был объявлен конкурс на лучший проект крестьянской реформы, в котором приняло участие более полутора сотен русских и иностранных авторов.
Главными задачами, поставленными перед конкурсантами, были поиск путей к улучшению положения крестьян, к «приращению земледелия», повышению экономической эффективности помещичьих хозяйств. Изучив все эти предложения, а главное, настроения помещиков, Екатерина, по ее словам, стала склоняться к мысли, что освобождение крестьян – реформа, уже произошедшая в большинстве европейских стран, – здесь не была бы «средством приобрести любовь землевладельцев, исполненных упорства и предрассудков».
Между тем, даже после удаления из «Наказа» наиболее радикальных строк, этот труд сохранил свой просветительско-реформаторский заряд, и его публикация в 1767 году вызвала недовольство у ряда представителей дворянской знати.
«Наказ» состоит из введения и двадцати глав, содержание которых было, в основном, заимствовано императрицей из юридических сочинений Ш.-Л. Монтескье и Ч. Беккариа (ок. 350-ти пунктов из 526-ти, составляющих основной корпус «Наказа»). Екатерина сама признавалась, что «обобрала» покойного Монтескье, будучи уверенной, что он «простил бы эту литературную кражу во благо 20 миллионов людей…».
«Наказ» познакомил российское общество со множеством идей, определявших развитие западноевропейской цивилизации, это было еще одно «окно в Европу». Уже первая глава предлагала россиянам отказаться от прежних представлений об отделении их страны от Европы некоей стеной, подобной Китайской: «Россия есть Европейская держава».
Целью законотворчества объявлялось достижение соответствия каждого государственного акта интересам каждого россиянина и общества в целом. Вполне соответствует конституционным нормам современного демократического государства предложенная Екатериной трактовка свободы как права «все то делать, что законы дозволяют…
Государственная вольность во гражданине есть спокойство духа, происходящее от мнения, что всяк из них (граждан. – И. Л.) собственною наслаждается безопасностию; и, чтобы люди имели свою вольность, надлежит быть закону такову, чтоб один гражданин не мог бояться другого, а боялись бы все одних законов. Ничего не должно запрещать законами, кроме того, что может быть вредно или каждому особенно (т. е. лично. – И. Л.), или всему обществу».
Екатерина подробно освещает вопросы судопроизводства, высказывается против применения (по крайней мере, частого) такой высшей меры наказания, как смертная казнь, ставя в пример европейским монархам прошедшее без казней елисаветинское двадцатилетие. Темы нескольких глав «Наказа» раскрываются в вопросах и ответах, здесь преобладает не величавая строгость императорского указа, а доверительная интонация родительской беседы с детьми, материнского увещевания: «Хотите ли предупредить преступление? Сделайте, чтоб законы меньше благодетельствовали разным между гражданами чинам, нежели всякому особому (т. е. отдельно взятому. – И. Л.) гражданину… Сделайте, чтобы просвещение распространилося между людьми».
«Наказ» неоднократно издавался при жизни Екатерины, в том числе в переводах. Оригинал написан по-французски, но во Франции «Наказ» был запрещен: королевские власти увидели в нем серьезную угрозу абсолютизму. О том, что этот документ в известной мере даже обогнал время, свидетельствует и отношение к нему в XIX веке. Пушкин напомнит своему цензору в 1822 году:
Скажи, читал ли ты «Наказ» Екатерины? Прочти, пойми его; увидишь ясно в нем Свой долг, свои права, пойдешь иным путем.Екатерина никогда не отказывалась от идеи и практики самодержавного правления, рассуждая в «Наказе» о том, что, ввиду обширности территории, «всякое другое правление не только было бы России вредно, но и вконец разорительно». Но часто, может быть, даже не сознавая того, она, в стремлении облагородить самовластие, указывает на пути его самоограничения.
Известно, например, ее резко отрицательное отношение к секретным судам, чрезвычайным судебным комиссиям: «Зачем отнимать у обыкновенных судов дела, подлежащие их ведению? Быть стороною и назначить еще судей – значит показывать, что боишься иметь правосудие и законы против себя».
В советском XX веке «Наказ» принято было называть образцом высочайшего лицемерия. Екатерина II якобы вводила в заблуждение Запад относительно истинных целей и задач своего правления. Из очень разных пушкинских отзывов об императрице чаще других приводилось едкое замечание о «Тартюфе в юбке», обольстившей самого Вольтера.
Однако умнейшего француза XVIII столетия не так уж легко было обольстить. Дифирамбов и преувеличений в вольтеровских письмах к Екатерине предостаточно (она – «один из лучших Его образов в этом мире» и т. п.), но «Наказ» Вольтер ценил очень высоко, называя его новейшим «всемирным евангелием».
Сохранилось множество свидетельств тому, что Екатерина искренне верила в осуществимость того, о чем написала. Императрица просила передать д’Аламберу, что, хотя «Наказ» и «написан пером новичка», она отвечает за лучшее его исполнение «на практике».
Этого не произошло по двум причинам. Во-первых, потому, что право определять «вредное» и «полезное» для россиян Екатерина оставляла за собой: ее воля была превыше всего, кроме Божьей воли, выше даже самого «просвещенного» закона. Характерно признание императрицы в письме к Потемкину от 16 июня 1788 года: «…закона себе предписать я, конечно, никому не дозволю».
Во-вторых, по той причине, что не справилась со своей задачей упомянутая выше Комиссия – «всероссийская этнографическая выставка, представляющая своим составом живые образчики едва ли не всех пройденных человечеством ступеней культуры» (В. О. Ключевский). Среди ее депутатов находим просветителей и ретроградов, убежденных крепостников, непросвещенных, малограмотных людей. Многие из них недоумевали, для чего нужны какие-то законы, если они уже присягнули самодержавной монархине.
Наблюдая за бесконечными спорами в Большом Собрании (это было основное подразделение Комиссии, где рассматривались общие вопросы, а разработка отдельных законопроектов проходила в малых комиссиях), Екатерина не только лучше узнавала страну, в которой ей довелось править, но и убеждалась в том, что взялась за явно преждевременное, опасное дело.
Как скажет в 1801 году Карамзин в своем «Историческом похвальном слове Екатерине II», императрица «не нашла, может быть, в умах той зрелости, тех различных сведений, которые нужны для законодательства… Давно ли еще сияет для нас просвещение Европы?»
Не могла не видеть Екатерина и того, как нарастает волна дворянского недовольства: помещики в своем подавляющем большинстве враждебно относились к попыткам какого-либо ограничения их власти над крестьянами. «Если бы Екатерина не распустила своего парламента, эта волна обратилась бы на нее самое» (Г. В. Вернадский).
Неудача с Комиссией еще больше склонила императрицу к авторитарному образу мыслей: по ее словам, теперь она окончательно убедилась, что в спорах истина не рождается, потому что спорящие всегда слушают только себя. Критически Екатерина относилась к историческому опыту английской конституционной монархии, большой поклонницей которой была княгиня Е. Р. Дашкова.
В декабре 1768 года Большое Собрание прекратило свою работу, что было объяснено требованиями военного времени – началась русско-турецкая война. Заседания в малых комиссиях продолжались еще несколько лет, и подготовленные в них законопроекты в той или иной мере были использованы Екатериной в дальнейшем.
Думается, не только над депутатами-спорщиками, но и над собственными иллюзиями посмеялась императрица в сочиненной ею «сказочке» о том, как шили мужичку, одежда которого износилась, новый кафтан. «Как пришло [время] надеть кафтан – не лезет: позабыли мерку снять». Начали портные «спорить о покрое, а мужик между тем на дворе дрожит…».
Разочаровавшись в депутатах и боясь недовольства знати, Екатерина тоже ничем не смогла помочь «мужичку». «Пока новые законы поспеют, будем жить, как отцы наши жили», – наставляла она своих подданных в 1769 году. В стране, где по ее повелению слово «раб» было изъято из употребления в прошениях на высочайшее имя, крестьянам вообще запрещалось жаловаться на своих помещиков. Прав по существу А. И. Герцен, утверждавший, что народом Екатерины было дворянство.
С годами о крестьянах она будет вспоминать все реже и реже, но, правда, они сами напомнят о себе. Пугачевское восстание 1773–1775 годов было для императрицы полной неожиданностью, но борьба с «крестьянским царем» Пугачевым сплотила вокруг трона дворянство и «смотрящий в дворянство» высший слой купечества. И если ранее Екатерина делала попытки подготовить Россию к крестьянской реформе, то теперь раз и навсегда отказалась от каких-либо новаций, став заложницей российской помещичьей касты, ее социального консерватизма.
В екатерининскую эпоху крепостничество развилось в человеконенавистническую по своей сути общественную систему, в основе которой лежала личная несвобода миллионов россиян. «Ты цепь на руки налагаешь, / Благословящие тебя!», – восклицал Капнист в «Оде на рабство», написанной в связи с закрепощением крестьян Киевского, Черниговского и Новгород-Северского наместничеств в 1783 году.
Вольтер словно подыгрывал Екатерине, когда убеждал ее, что «бунтовщик» Пугачев, – конечно, ставленник какой-либо оппозиционной дворянской партии или даже зарубежных ее врагов, ведь не мог же против Северной Минервы восстать обожавший ее народ! К чести императрицы, эту неправду она не поддержала, сообщив в одном из писем к Вольтеру реальную историю жизни «донского казака» Пугачева, однако ей льстило, что в Европе народную войну приняли за дворянский заговор, выступление консерваторов, а потому Екатерина в переписке с Вольтером – то ли шутя, то ли полусерьезно – упоминала о «маркизе Пугачеве»…
Однако все это не означает, что императрица полностью отказалась от идей «Наказа», от реформ. Например, в основном осуществлены были те преобразования, которые намечались в дополнительных 21 и 22 главах, написанных ею в 1768 году: «О благочинии, называемом инако полициею», «О расходах, доходах и о государственном управлении, сиречь о государственном строительстве…».
Духу «Наказа» отвечали многие внутриполитические мероприятия правительства Екатерины II, и среди них – введение в действие важнейшего регламента – «Учреждения о губерниях» (1775), основанного на принципе разделения административных и судебных властей.
В соответствии с этим документом была реформирована петровская губернская система: определен статус губернии и уезда как административных, судебных и финансовых единиц; в губернии введено двоеначалие: генерал-губернатору, обеспечивавшему правительственный надзор, подчинялся губернатор – правитель губернии, непосредственно отвечающий за состояние дел и развитие вверенной ему территории и имеющий заместителя по хозяйственным делам – вице-губернатора.
Заметим, что эта система была неоправданно усложнена введением и более крупной административно-территориальной единицы – наместничества, в состав которого входило две-три губернии. Однако губерниям при этом была предоставлена большая административная и экономическая самостоятельность. Екатерина пошла на это, понимая, что в известной мере отказывается от политики строгой централизации Петра I – военизированного управления, которое княгиня Е. Р. Дашкова называла «самым тираническим».
Последующие десятилетия показали, что этот поворот был исторически оправданным: заметно усилилось экономическое и культурное развитие регионов, увеличился военно-промышленный потенциал страны. Правительство демонстрировало поддержку предпринимательской инициативы: например, согласно указу 1780 года, фабрики и другие промышленные предприятия признавались собственностью, распоряжение которой не требовало специального разрешения властей.
В 1782 году вступил в силу «Устав благочиния», в 1785-м – «Городовое Положение». Конечно, эти документы учитывали, в первую очередь, интересы господствующего сословия – дворянства, однако екатерининскими реформами было положено начало освобождению всех сословий (кроме крепостных).
Создавалась новая система местной власти, в основе которой был принцип всесословного самоуправления; главным ее учреждением стала городская дума. На бумаге все получалось стройно и логично; в действительности Екатерине не удалось предотвратить столкновений между выборными и административными властями: последние, чаще всего, подминали первые под себя, находя поддержку в Петербурге.
Учитывая наличие больших неосвоенных территорий, Екатерина инициировала прибытие в страну иностранных колонистов, большинство из которых стало ее гражданами. Европейский облик новой России формировался и благодаря деятельности государственного банка, ссудной кассы, благодаря расширению банковских операций – необходимого условия для развития промышленности и торговли. С 1770 года был введен прием денежных вкладов на хранение.
В екатерининскую эпоху открылось множество учебных и воспитательных заведений, в том числе первых женских, возникла система народного образования: открылись уездные и главные – губернские училища. В 1783 году была основана Российская Академия, члены которой поставили перед собой задачу изучения и пропаганды родного языка. Планировалось открыть и несколько новых университетов, однако эти проекты не были тогда реализованы.
Заметно возросло количество больниц. Забота власти о здоровье населения проявилась в учреждении специальной – медицинской – коллегии и, в частности, в пропаганде и организации массового оспопрививания. Как известно, Екатерина II и наследник престола были в числе первых россиян, прошедших вакцинацию, – в то время, когда среди медиков Европы еще немало было противников этого способа лечения и от оспы умирали не только подданные, но и монархи.
Не забудем об открытых Екатериной сиротских домах, о других благотворительных учреждениях, впервые появившихся в России. Как полагал В. О. Ключевский, главным событием ее царствования стало превращение власти из «грозной силы, готовой только карать, о которой страшно было говорить и думать», в «благодетельное, попечительное существо».
Проводя просветительскую политику в области культуры, Екатерина выступила инициатором масштабной переводческой деятельности; расходы на перевод и издание иностранных сочинений правительство взяло на себя, а выбор авторов и произведений осуществлялся с 1768 года Собранием, старающимся о переводе иностранных книг.
Императрица поощряла не только переводчиков и издателей, но и отечественных авторов, финансировала научные издательские проекты (например «Древнюю российскую вивлиофику» Н. И. Новикова – многотомное собрание текстов отечественных исторических документов). При Екатерине II исследователи получили возможность работать с документами государственных архивов.
Призыв императрицы издавать новые журналы, прозвучавший в 1769 году со страниц подконтрольной ей «Всякой Всячины», имел огромное значение для развития русской журналистики. Это было, что называется, просвещение в действии. «Я вижу, – писала Екатерина, – бесконечное племя «Всякия Всячины». Я вижу, что за нею последуют законные и незаконные дети; будут и уроды ее место со временем заступать. Но вижу сквозь облака добрый вкус и здравое рассуждение, кои одною рукою прогоняют дурачество и вздоры, а другою – доброе поколение «Всякия Всячины» за руку ведут».
И действительно, вскоре появилось много новых журналов – «детей» и «внуков» «Всякой Всячины»; некоторые из них очень быстро взрослели и… обрушивались (чаще прибегая к эзопову языку, но порой обходясь без оного) на недостатки и пороки российской действительности, на охранительскую позицию правительственного журнала. «Бабушка» расстраивалась, спорила и уже начинала сердиться, особенно на Н. И. Новикова, чьи выпады отличались поразительной смелостью.
Екатерина была явно раздосадована, никак не ожидая такого эффекта. Она предвидела рождение «уродов», но все же рассчитывала найти среди облагодетельствованных ею литераторов и журналистов больше единомышленников и союзников, чем критиков. Императрице казалось, что поддержка правительственного курса ей обеспечена, но она переоценила свое влияние на российские умы. Так получилось, что Екатерина как бы выявила недовольных, хотя и не ставила это себе целью.
Императрица не готова была к диалогу с настоящей оппозицией, критику общего характера считала своей прерогативой; когда же подобные замечания попали в печать, она расценила это как явление вредное, подрывающее державные устои.
Екатерина попыталась вступить в журнальную полемику с оппозиционерами, и это уже была игра в кошки-мышки. Если вольнодумцы публично не признавали свои «ошибки», на страницах собственных изданий, последние, чаще всего, закрывались. Так прекратил свое существование первый сатирический журнал Новикова «Трутень», выходивший в 1769–1770 годах с оскорбительными для режима эпиграфами из сумароковских стихотворений: «Они работают, а вы их труд ядите» и «Опасно наставленье строго, где зверства и безумства много».
Недолго продержался в должности ее секретаря великий русский поэт XVIII столетия, осмелившийся «истину царям с улыбкой говорить». Екатерина жаждала понимания и восхищения, вольно или невольно насаждая единомыслие: она же ведь сама знала, как надо, сама видела, что сделано и как много еще предстоит сделать, а критики, как ей казалось, сгущают краски, запугивают тенденциозными рассказами о деспотизме местных властей и помещиков, о повальном взяточничестве чиновников и т. п.
Парадокс состоял в том, что это литературно-журнальное оживление вызвано было умеренно-просветительскими мероприятиями первых лет ее царствования. Пробудилось национальное самосознание, пресса стала формировать общественное мнение, выходя за рамки дозволенного императрицей «свободоязычия».
И в новом правительственном журнале – «Собеседнике любителей российского слова» – Екатерина пыталась остудить пыл своих критиков, одернуть их публично. В 1783 году здесь были напечатаны присланные в редакцию анонимом «Несколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особливое внимание», причем напечатаны с ответами императрицы (разумеется без подписи).
Екатерина полагала, что отвечает одному из вождей великосветской фронды – И. И. Шувалову, а между тем имела дело с одним из первых российских просветителей-радикалов, писателем-сатириком Денисом Ивановичем Фонвизиным. Сам факт этой публикации (шутка ли: Екатерина – соавтор Фонвизина!) свидетельствовал об огромных переменах в стране. В отличие от Екатерины, писатель знал, кому он задает свои вопросы, а потому сопроводил их словами о том, что единственная его цель – извлечь «со дна истину, столь возлюбленную монархине нашей». Приведем фрагмент этой необыкновенной публикации.
«[Фонвизин.] Имея монархиню – честного человека, что бы мешало взять всеобщим правилом: удостаиваться ее милостей одними честными делами, а не отваживаться проискивать их обманом и коварством?
[Екатерина II.] Для того, что везде, во всякой земле и во всякое время род человеческий совершенным не родится.
[Фонвизин.] Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а ныне имеют, и весьма большие?
[Екатерина II.] Сей вопрос родился от свободоязычия, которого предки наши не имели (поскольку не были просвещенными. – И. Л.); буде же бы имели, то нашли бы на нынешнего одного [шута] десять прежде бывших.
[Фонвизин.] Отчего в Европе весьма ограниченный человек в состоянии написать письмо вразумительное и отчего у нас часто преострые люди пишут так бестолково?
[Екатерина II.] Оттого, что тамо, учась слогу, одинако пишут: у нас же всяк мысли свои не учась на бумагу кладет.
[Фонвизин]. В чем состоит наш национальный характер?
[Екатерина II.] В остром и скором понятии всего, в образцовом послушании и в корени всех добродетелей, от Творца человеку данных».
В своих ответах императрица почти не скрывала державного гнева: в них слышится угроза. Отвечать ей явно неприятно, но все-таки она признает, что далеко не все в порядке здесь, в России, если обманщики и шуты удостоены больших чинов и прочих ее милостей. Такие откровения для Екатерины крайне редки, а вот ее представления о русском национальном характере гораздо полнее изложены в «Антидоте» – самом крупном публицистическом произведении императрицы, напечатанном на французском языке в Петербурге (без указания места издания) в 1770 году.
«Антидот» полемически направлен против книги Ж. Шаппа д’Отроша «Путешествие в Сибирь» (1768) и по сути является первым в России пространным изложением доктрины официального патриотизма. Екатерина поднимает вопрос о национальной самобытности русского народа, опровергает суждения о природной его порочности, грубости и невежестве, рассказывает о России XVIII столетия, приобщающейся к европейскому просвещению и уже выдвинувшей своих выдающихся ученых и литераторов, среди которых называет Ломоносова.
При этом последовательно отклоняются обвинения французского автора, пишущего о жестокости и лихоимстве представителей власти, бедственном положении простого народа.
Таких же «оборонительно-наступательных» публикаций ожидала Екатерина от российских литераторов, и многие из них оправдали ее ожидания. Но, по крайней мере, до конца 1780-х императрица не преследовала инакомыслящих.
Уже в 1760-е годы в России было издано книг в пять раз больше, чем в последнее елисаветинское десятилетие; в начале 1770-х появились первые крупные частные типографии. Одно из самых замечательных событий этой эпохи – Указ о вольных типографиях, которые с 1783 года можно было заводить частным лицам, уже не спрашивая разрешения у правительства, лишь извещая о том Управу благочиния (полицию).
Екатерина не только покровительствовала деятелям науки и искусства, но и сама относилась к их числу, хотя и отрицала наличие у себя большого «творческого ума». Действительно, она не была среди первых ученых и литераторов своего времени: тогда гремели имена Ломоносова, Крашенинникова и Палласа, Сумарокова, Фонвизина и Хераскова, Новикова и Державина. Трезво оценивая свои силы и не претендуя на первенство, императрица печатала собственные научные и художественные сочинения анонимно.
Она говорила, что могла бы поставить свою подпись, но только под таким произведением, которое по своим достоинствам соответствовало бы ее особому положению – первого лица в государстве. Однако для читающей российской публики ее авторство не оставалось тайной за семью печатями.
Научные интересы Екатерины находились преимущественно в гуманитарной сфере: филология, история, юриспруденция, педагогика. Среди искусств она предпочитала литературу и театр; живописью, скульптурой и архитектурой интересовалась гораздо меньше, к музыке была почти равнодушна. Между тем императрица основала картинное собрание Эрмитажа, в ее царствование было построено множество прекрасных зданий, в Петербурге появился знаменитый Медный Всадник.
Плодом ее занятий русским языком, о «силе выражений» которого она с гордостью писала Вольтеру, стало учебное пособие по русской грамматике и сборник пословиц. Главный труд Екатерины в области сравнительного языкознания вышел при ее жизни двумя изданиями под таким названием: «Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею всевысочайшей особы».
Ее соавтором и редактором был академик П. С. Паллас, которому принадлежат также ценнейшие научные описания отдельных регионов Российской империи – по материалам экспедиции, финансированной Екатериной II.
«Наказ» вышел под именем автора, и это наиболее крупное сочинение императрицы как юриста и государствоведа. Мысли о воспитании, изложенные здесь, были развиты Екатериной в заметках по вопросам педагогики, в «Инструкции князю Н. И. Салтыкову» – воспитателю ее внуков, в аллегорических сказках «О царевиче Хлоре» (1781) и «О царевиче Февее» (1782).
Екатерина интересовалась русской историей уже в середине 1740-х годов, когда, мечтая об императорской короне, стремилась хорошо изучить эту страну, нравы и обычаи ее народа. Но постепенно этот интерес перерос в увлеченность, и историографические опыты, как и лингвистические занятия, стали для нее творческой необходимостью. Она читала труды Татищева, Ломоносова, Миллера, Шлецера и других авторов, писавших о России, и убеждалась в том, что «История России», которую можно было бы сравнить с «Анналами» Тацита, еще не написана.
В начале 1780-х Екатерина приступила к систематическому изучению рукописных источников – древнерусских летописей, древних актов, хранящихся в государственных и церковных архивах. Главный ее исторический труд – «Записки касательно Российской Истории» – в значительной мере является изложением документальных свидетельств, сведенных воедино, включает также генеалогию русских князей, параллельные хронологические ряды фактов русской и всемирной истории, гипотезы и комментарии автора.
Материалы к «Запискам» Екатерине помогали подбирать знатоки русских древностей – И. Н. Болтин, А. А. Барсов, И. П. Елагин, А. И. Мусин-Пушкин, митрополит Платон (П. Е. Левшин), А. П. Шувалов. Вместе с тем, как отмечает в предисловии к академической публикации «Записок» А. Н. Пыпин, весь «склад изложения, с начала и до конца однородный», указывает «на единоличную работу» императрицы. В архиве сохранились сотни рукописных листов – автографов Екатерины II на русском языке, относящихся к работе над «Записками».
Делая первые выписки из летописей, императрица не претендовала на звание историка-профессионала, намереваясь составить что-то вроде учебного пособия по отечественной истории для своих внуков. Но она все-таки стала профессионалом, и шесть томов «Записок» адресованы в первую очередь будущему «русскому Тациту». Это – фундаментальное научное сочинение, фактография которого огромна, а многие авторские интерпретации исторических фактов не вызывают возражений у современных исследователей.
Конечно, полностью уйти от современности Екатерине-историку не удалось. В предисловии к «Запискам» она вступает в полемику с новейшими западными историками, чьи сочинения, выходящие «под именем Истории Российской», «скорее именовать можно творениями пристрастными…».
Екатерининские «Записки», основанные на отечественных источниках, о которых не ведали эти сочинители, должны были стать для Европы «окном в Россию», опровергнуть тенденциозные оценки ее исторического прошлого, возникшие у авторов «историй», где «каждый лист свидетельством служит, с какою ненавистью писан…».
В известном смысле «Записки» можно рассматривать и как монументальный исторический комментарий к «Наказу»; они идеологически однородны: приводя исторические примеры государственной мудрости россиян, Екатерина стремится показать превосходство сильной и просвещенной, мудрой и милосердной монаршей власти над всеми другими формами правления. Концепция «Записок» повлияла на замысел «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина.
С историческими фактами, которые уж совсем не вписывались в указанную выше концепцию, императрица-историк поступала точно так же, как и с непокорными подданными, которых ожидали опала или репрессии: Екатерина либо замалчивает эти факты, либо искажает их, «поправляя» историю во имя собственных умопостроений, как это будут делать в XX веке историки-сверхконцептуалисты А. Дж. Тойнби и Л. Н. Гумилев.
Екатерина забывает об обязанности историка быть объективным, когда рисует портреты сильных правителей Руси. Любуясь ими, она сознательно их идеализирует.
По версии Екатерины, князь Олег не убивал киевского правителя Аскольда, а только лишил его власти. Княгиня Ольга наказывает древлян – убийц князя Игоря, ее мужа, но в екатерининском повествовании, ранее неотступно следовавшем за летописью, вдруг образуется провал: отсутствуют ужасные подробности Ольгиной мести. И даже Святополк Окаянный отчасти оправдан: у него были коварные, преступные советчики. Резко отрицательные оценки действий Рюриковичей довольно редки в «Записках».
Екатерина словно хочет помирить всех русских князей – во имя будущего единства и могущества России. К центробежным силам, приведшим страну на край гибели, она относит властолюбивых бояр, «угодщиков и ласкателей», всех, кто, втершись в доверие к своему князю, давали ему плохие советы и первыми ему изменяли.
Этот сквозной мотив «Записок», безусловно, имеет документальную основу, но отражает и личный опыт Екатерины, всегда с опаской пользовавшейся советами представителей аристократической партии и нередко поступавшей вопреки этим советам.
Первые части «Записок» печатались в журналах екатерининского времени, а в 1787–1793 годах пять частей, одна за другой, вышли отдельными изданиями. По поводу появившихся в печати критических замечаний (напомним, «Записки» публиковались анонимно) Екатерина писала: «…я нашла во многом здравую критику «Записок касательно Российской Истории», но что написано, то написано: по крайней мере, ни нация, ни государство в оных не унижено».
Что ж, замечание справедливое, и этот разговор императрицы с критиками так характерен для эпохи просвещенного абсолютизма: Екатерине II угодно признать их правоту, но что-либо изменять в своем сочинении она не намерена… Однако сохранился экземпляр 5-й части «Записок» с исправлениями, сделанными рукой императрицы, – возможно, для будущего переиздания.
Между тем работа над «Записками» продолжалась, и в начале 1790-х Екатерина была увлечена ею еще больше, чем прежде. 9 мая 1792 года она писала барону Ф. М. Гримму: «Ничего не читаю, кроме относящегося к XIII веку российской истории. Около сотни старых летописей составляют мою подручную библиотеку».
Заметим попутно, что благодаря этому неподдельному интересу императрицы к памятникам древнерусской письменности мы располагаем ныне допечатным списком «Слова о полку Игореве» (т. н. Екатерининский список). Не было в российской истории другого такого монарха, который мог сказать о себе так, как говорила Екатерина: «Я люблю эту историю до безумия».
В 1796 году она завершала шестую часть «Записок» и незадолго до смерти признавалась в письме к Гримму: «…даже во сне я сочиняю целые главы этой книги, так я занята этими мыслями». Труд остался незавершенным; наиболее поздняя историческая дата, попавшая в «Записки», – 1393 год, но Екатерина собиралась довести свое повествование до XVIII века.
«Близкая» русская история интересовала ее не меньше, чем древняя. По документам и преданиям она хорошо знала историю первых романовских царствований – Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, могла часами говорить о Петре Великом, а к его бумагам, указам и распоряжениям проявляла постоянный интерес – и как историк, и как «делатель» истории.
В обширном драматургическом наследии императрицы также есть несколько произведений на темы из русской истории. Прежде всего это – написанные ею в 1786 году «Историческое представление из жизни Рюрика», «Начальное управление Олега» (обе пьесы Екатерина назвала подражаниями историческим хроникам Шекспира), «Игорь». Последняя пьеса осталась незавершенной, но императрица, вдохновленная сценическим успехом «Олега», собиралась вернуться к работе над «Игорем», являющимся его продолжением.
Пьеса о Рюрике и Вадиме была опубликована в год ее написания – 1786-й, анонимно, как и другие художественные произведения императрицы. Яков Княжнин прекрасно знал имя автора и, тем не менее, отважился написать своего «Вадима Новгородского» (1789), полемически направленного против самодержавного пафоса екатерининской драмы.
В это тревожное для нее время, боясь распространения новой «французской заразы», императрица распорядилась сжечь крамольное сочинение (опубликованное в 1793 году).
В основе сюжета пьесы об Олеге – византийский поход князя, прославивший Русь и русичей. Эта драма воспринималась современниками как историко-художественное обоснование новейших планов завоевания Константинополя. Не случайно редактором и в некоторой степени соавтором «Начального управления Олега» был Г. А. Потемкин-Таврический, один из авторов «греческого проекта».
Императрица написала также либретто оперы «Новгородский богатырь Боеслаевич» (поставлена в Эрмитажном театре в конце 1786 года), отчасти восходящее к былине и тематически близкое к «Рюрику»: несмотря на то, что опера названа ею «комической», здесь также идет нешуточная борьба с новгородским бунтарским духом; сильной княжеской власти покоряется «земля славенская», «все посадники».
Сочиняла Екатерина и художественные произведения на злободневные политические темы, воссоздавая события, которые становились историей на ее глазах и при ее деятельном участии. Так появились сказка и либретто комической оперы «Горе-богатырь Косометович» (1788–1789) – политическая сатира на шведского короля Густава III, объявившего России войну.
Казалось бы, императрица могла ограничиться составлением резкой ноты, устными словами неудовольствия, гневными и саркастическими замечаниями, которые были бы переданы шведам. Но еще 3 июля 1788 года в екатерининском письме Потемкину «включается» ее художественное мышление, возникает гротескный образ шведского короля, сковавшего себе рыцарские доспехи («шишак с преужасными перьями» и т. п.) и выехавшего из Стокгольма на войну.
Король «говорил дамам, что он надеется им дать завтрак в Петергофе», а войскам и народу заявил, что намерен «окончать предприятия Карла XII. Последнее сбыться может, понеже сей начал разорение Швеции». Можно предположить, что как раз ко времени этого письма и относится замысел «Горе-богатыря Косометовича», поставленного в 1789 году.
Воинственный Густав III превратился здесь в сказочный персонаж; все произведение, можно сказать, настоено на русском фольклоре. Екатерина посмеялась над «горе-богатырем», не оскорбив Его Величества.
На современные дела Екатерина смотрела сквозь магический кристалл истории и видела, что они нередко становятся продолжением того, что происходило пятьдесят, сто и даже сотни лет назад; видела в настоящем завязь будущих событий, может быть, тоже отделенных от нее веками.
Она слышала голоса из разных эпох, сопереживала своим любимцам – неслучайно так лично и экспрессивно звучат ее высказывания о французском короле Генрихе IV и его соратнике герцоге Сюлли, о Петре Великом. Умела она понять и логику действий тех исторических персонажей, которые были ей чужды.
В «Чесменском дворце», сочиненном ею в жанре «разговора мертвых», Екатерина заставляет своих предшественниц на русском троне спорить друг с другом: Анна Иоанновна утверждает, что в ее царствование «было больше силы», чем при Елисавете Петровне, а последняя не забывает о том, что лучшей формой защиты является нападение: «То, что одни называют силой, другие иногда называют жестокостью». В разговор вступают Петр I, его братья, отец и дед – первые цари из романовской династии, древнерусские князья…
К собственным литературно-художественным занятиям Екатерина относилась довольно критически, но продолжала сочинять пьесы, сказки, притчи, рассказы, пародии, эпиграммы, надписи, эпитафии, – и все это называла «безделками». Однако в многочисленных комедиях Екатерины 1770—1780-х годов, наряду с претензией на сатиру и юмор, есть немало подлинно комических и сатирических сценок. Это комедии нравов и комедии положений, где художественно преломляется присущее ей умение наблюдать и понимать людей, запоминать особенности русской разговорной речи.
Потому и жизненны, психологически достоверны выведенные в этих комедиях ретрограды и петиметры, сплетники, интриганы, дельцы, воры, расчетливые женихи, ничтожные дворянчики, способные только кичиться своею знатностью, невежи, уже изъездившие всю «Ерлопу», однако ни на каком языке, включая русский, не научившиеся правильно говорить.
«Лучшие театральные сочинения, – замечала Екатерина, – должны быть признаны учеными опытами человеческого сердца». Императрица проявляла большой интерес к мировой драматургической классике, написала несколько пьес по мотивам произведений Шекспира, Кальдерона, Шеридана. Пусть ее опыты нельзя отнести к числу лучших, но они, наряду с некоторыми художественными достоинствами, имеют очевидную историческую ценность как энциклопедия нравов и живого русского языка второй половины XVIII столетия.
Не стоит идти на поводу у самой Екатерины и называть ее нехудожественной натурой. Безусловно, преобладало в ней ratio – все разумное и целесообразное; она чаще поражала не живописностью, а ясностью и логической стройностью речи, остроумными и язвительными высказываниями.
Но при этом императрица не считала себя хорошим систематиком, больше полагаясь на знание людей и обстоятельств, полученное ею как бы непреднамеренно. А систематика, по словам Екатерины, далека от реальной жизни и порождает «законы», которые не учитывают всей ее сложности, отсюда – насилие и упрямство, жизнь начинают перестраивать по выдуманным «законам». (Жаль, что эти рассуждения российской императрицы не были внимательно прочитаны в XX веке.)
И в природе Екатерина больше всего любила непреднамеренность, естественность. Увлекаясь разбивкой садов в Ораниенбауме и Царском Селе, она всегда следовала английской традиции: никаких прямых линий, живых фигурных композиций из деревьев и кустарников; не нужны ей были и фонтаны, которые, по словам императрицы, заставляют воду делать неестественные усилия.
Литература была для нее прежде всего инструментом политического и нравственного воздействия на людей; в ее писательстве также немало было «неестественных усилий», но постепенно оно превратилось и в эстетическую потребность: императрице нравилась образная словесная игра, так не похожая на игру политическую: в искусстве нет господства систематики, художник творит, но не в силах все заранее рассчитать.
Не будучи гением слова, Екатерина обладала несомненным литературным талантом. Иначе не смогла бы написать, например, такую стихотворную миниатюру – эпитафию любимой собаке (даем подстрочник, оригинал по-французски):
Здесь покоится красавица леди Азор, Остроносая, с золотистой шерстью. Ум, веселость и быстрота Успокоились здесь, в тишине.Стихи ей редко удавались, чаще оставаясь в черновиках, где почти каждая строка превращалась в лесенку исправлений. Свободнее Екатерина чувствовала себя в прозе, и здесь ей суждено было создать один настоящий литературный шедевр. Это – ее знаменитые мемуары, над которыми она работала четверть века – с 21 апреля 1771 года, своего сорок второго дня рождения, и до конца жизни, доведя изложение до 1759 года.
Рядом с мемуарной книгой, известной в нескольких редакциях, образовался цикл автобиографических заметок, охватывающих и более поздние периоды, в первую очередь события 1762 года.
Карамзин – один из немногих россиян, прочитавших эту книгу до герценовской публикации, – так охарактеризовал ее: «Двор Елисаветы, как в зеркале» (из письма И. И. Дмитриеву 4 мая 1822 года). Мемуаристка создала галерею превосходных портретов именитых современников, избежав идеализации, односторонних оценок; описала великосветский быт и нравы, описала самое себя, и, хотя этот автопортрет создан не без некоторого самолюбования (характерная ее черта), Екатерина рисует себя не только с лучшей стороны, вспоминает и те случаи, когда она была несправедлива в оценках, позволяла вовлечь себя в мелкие дворцовые интриги.
По искренности этот текст можно сопоставить разве что с ее интимными письмами. В мемуарах она достигла «наивысшей откровенности, какая была доступна этой актерской натуре, рожденной для политической сцены» (В. П. Степанов).
Еще подростком Екатерина была склонна к самоанализу; первое ее сочинение было о себе – «Портрет философа пятнадцати лет». Через многие годы перечитав его, императрица сама была поражена тем, как рано она ощутила потребность точно и честно описывать состояния своего духа, душевные переживания.
И в мемуарах, хотя Екатерина и намеревалась оправдываться перед потомками, это ее природное стремление к реалистическому, психологически точному письму, в сочетании с отличным знанием светлых и темных сторон человеческой природы, превратило ее память в луч, который осветил, может быть, больше событий и лиц, чем ей хотелось бы.
В своих воспоминаниях Екатерина более объективна и в большей мере художник, чем в каком-либо другом написанном ею произведении. Она творчески увлечена процессом воссоздания ушедших лет и, кажется, помнит все, до самых незначительных мелочей.
Мемуары и письма, высказывания Екатерины в частных беседах, записанные современниками, даже в большей мере, чем манифесты и дипломатические ноты, чем журналистская и писательская ее деятельность, позволяют проследить, как очень самостоятельная ученица властителей дум XVIII столетия сама превращалась в наставницу и повелительницу, любящую славу и власть, но при этом не утратившую чувства реальности и способности к трезвой самооценке: «Я знала весьма многих людей, которые были умнее меня…» (переписка с И. Г. Циммерманом).
«Екатерининские орлы» добывали для нее славу, и она, вознаграждая их по заслугам, нередко умаляла свои собственные: «Орлов присоветовал мне послать флот в Архипелаг. Князю Потемкину я обязана изгнанием всех татар, грозивших непрестанно пределам России. Я только выбрала того и другого…».
А вот мнение из вражеского лагеря – заметки турецкого министра Ресми-эфенди, называвшего Екатерину II «претонким» политиком: «…около нее толпятся отличнейшие по своим способностям и знаменитейшие люди не только московской земли, но и разных других народов…
Чтобы привязать к себе этих людей, она, оказывая являющимся к ней государственным мужам и воеводам более радушия, чем кто-либо им оказывал, осыпая их милостынями, отвечая вежливостями, образовала себе множество таких полководцев, как Орлуф или как маршал Румянчуф (граф А. Г. Орлов и граф П. А. Румянцев. – И. Л.)…».
Это была личность большого интеллекта, огромного человеческого обаяния. Екатерина отличалась невероятной трудоспособностью, а беседовать с интересным для нее человеком могла «семь часов, не прерываясь ни минуты», – так долго длилась однажды ее беседа с бароном Ф. М. Гриммом, приехавшим в Петербург. Гримм поделился своими впечатлениями с потомками: «Надо было видеть в такие минуты эту необычайную голову, эту смесь гения с грацией, чтобы понять увлекавшую ее жизненность; как она своеобразно схватывала, какие остроты, проницательные замечания падали в изобилии, одно за другим, как светлые блестки природного водопада… Расставаясь с императрицей, я бывал, обыкновенно, до этого взволнован, наэлектризован, что половину ночи большими шагами разгуливал по комнате».
Многое позволяя своим фаворитам и задаривая их, что не могло пройти без вреда для государственной казны, Екатерина оставалась при этом сильной правительницей, лучше всех придворных интриганов владеющей ситуацией. «Несмотря на мою природную гибкость, я умела быть упрямою или твердою (как угодно), когда это было нужно», – писала она о себе.
Даже со своим вторым супругом (сохранились письменные свидетельства о «святейших узах», связавших ее и Потемкина в 1774 году) Екатерина не собиралась делить ни трона, ни власти, обладая поистине «неограниченным властолюбием» (Пушкин). Даже в самый разгар своей «огневой» любви к нему она не забывала об этом и поучала Потемкина, известного своей горячностью: «Великие дела может исправлять человек, дух которого никакое дело потревожить не может» (апрель 1774 года).
Чаще, чем многим государям и политикам, Екатерине удавалось следовать этому золотому правилу, и потому не кажутся большим преувеличением слова принца Ш.-Ж. де Линя: «Екатерина и при разрушении вселенной не возмутилась бы духом… готова была ко всему, все предвидела и ничего не страшилась».
Но Екатерина постоянно нуждалась в таких помощниках и друзьях, как умнейший, способнейший Потемкин – действительно выдающийся государственный деятель и патриот России. «Слезы. – Жаловались, что не успевают приготовить людей: теперь не на кого опереться», – так описал в своем дневнике состояние императрицы при получении известия о кончине Cветлейшего ее секретарь А. В. Храповицкий.
Она говорила тогда, в октябре 1791 года, что все теперь пойдет по-другому и все, «как улитки, станут высовывать головы». Так и вышло. Партия Зубовых, образовавшаяся вокруг ее последнего фаворита, имела большее влияние на внутренние и международные дела, чем все прежние партии, но таких блистательных государственных мужей, как Потемкин, выдвинуть не смогла.
Екатерине больше шестидесяти, в ней уже нет прежней энергии, одолевают болезни, и временщики хозяйничают в стране, а заправляет всем новоиспеченный Светлейший – Платон Зубов. Внук Екатерины Александр, будущий император, признается своему другу Виктору Кочубею, что ему стыдно видеть все это и молчать…
Любовь Екатерины к молодым мужчинам, почти мальчикам (Зубов был почти на сорок лет младше ее), можно считать как минимум некоторым отклонением в сторону психофизической патологии. Императрица уверяла себя и других в том, что у нее – «мужская душа», и в интимной жизни она чаще оказывалась «ведущей», чем «ведомой».
По крайней мере, после Потемкина, дерзавшего с переменным успехом – быть «ведущим», Екатерину все чаще влекло к нежным юным существам мужского пола, которых необходимо было «вести» – воспитывать, образовывать, обучать всему, в том числе и любовной науке. Любовь Екатерины к каждому из них была похожа и на материнское чувство, и на чувства наставника, радующегося успехам своего воспитанника.
Екатерина всегда была влюбчивой, хотела быть любимой и в чувствах к своему избраннику стремилась быть предельно искренней; одиночество переносила тяжело: «Вы меня… вовсе позабыли и оставили одну, как будто я городовой межевой столб». «Христа ради, выискивай способ, чтоб мы никогда не ссорились.
А ссоры – всегда от постороннего вздора. Мы ссоримся о власти, а не о любви» (из екатерининских писем Потемкину 1775–1776 гг.). А вот строки из ее любовного письма двадцатичетырехлетнему прапорщику Преображенского полка Ивану Римскому-Корсакову: «Буде скоро не возвратишься, сбегу отселе и понесусь искать по всему городу».
Но все-таки она не превращалась в рабу чувств и, даже охваченная страстью, помнила о главном своем предназначении. «Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество», – замечал Пушкин, имея в виду и удивительную способность Екатерины превращать своих любовников (хотя бы некоторых из них) в преданных ей помощников – политиков, дипломатов, администраторов, военачальников.
Екатерина радовалась каждому новому единомышленнику и даже расплакалась, когда впервые прочитала державинскую «Фелицу». Дашкова, познакомившая ее с этой публикацией в «Собеседнике любителей российского слова», испугалась, что императрица недовольна, однако Екатерина сказала ей: «Не опасайтесь; я только вас спрашиваю о том, кто бы меня так коротко знал, который умел так приятно описать, что, ты видишь, я, как дура, плачу».
Слух идет о твоих поступках, Что ты нимало не горда; Любезна и в делах, и в шутках, Приятна в дружбе и тверда; Что ты в напастях равнодушна, А в славе так великодушна, Что отреклась и мудрой слыть. Еще же говорят неложно, Что будто завсегда возможно Тебе и правду говорить.Портрет несколько идеализированный, но реакция императрицы на эти строки свидетельствует о том, что ей не только хотелось казаться такой, – она искренне желала для себя достижения этого идеала, хотя и понимала, что ставит перед собой слишком трудную задачу.
Екатерина умела и сдерживать свои чувства; особенно ценила она это качество в других, говоря, например, о Петре Великом: «Превосходнее всего в его характере было то, что сколько он ни был горяч, но истина всегда брала над ним верх…».
Впрочем, кто «из великих и мудрых» без греха. Недобрые дела творил во гневе Петр, и Екатерине не всегда удавалось быть справедливой и милосердной, несмотря на всю «мягкость» ее царствования. Она умела ненавидеть и презирать, могла незаслуженно унизить, хотя и не находила в этом особенного для себя удовольствия.
Чаще всего причиной тому был гнев или нервный срыв. Показательна история с московским губернатором, престарелым графом П. С. Салтыковым, долгое время пользовавшимся благосклонностью императрицы. В 1771 году во время «чумного бунта» в Москве он не проявил должной оперативности и был отправлен в отставку с оскорбительной формулировкой: «похваляя его предкам Ее Величества учиненную знатную службу».
В одном из писем, которое стало известно в обществе, Екатерина, не сдерживая гнева, обозвала его, генерал-фельдмаршала, прославившего елисаветинское царствование победами в Семилетней войне, «старым хрычом». Придворные от Салтыкова отвернулись, он очень переживал и вскоре умер. Прощание с ним проходило не по рангу, но неожиданно прибыл не побоявшийся прослыть оппозиционером генерал-аншеф граф П. И. Панин, в парадном мундире, при всех орденах, и воздал должное памяти героя.
Сострадание не было ей чуждо, тому есть немало примеров, но крайне редко можно было увидеть ее признающей собственную ошибку, отменяющей уже обнародованное распоряжение. (Граф А. Г. Орлов уверял, что это произошло с нею лишь однажды, когда избежал ссылки сенатор-масон И. В. Лопухин.)
Кажется, императрица не готова была к покаянию, ее вера в Бога отчасти походила на соглашение о разделении обязанностей между ведущим небесным Стратегом и земным правителем, которому поручены все дела людей. К церкви ее отношение было откровенно утилитарным: «…в святые ведь мне не попасть, после того как я подчинила правительственному контролю доходы духовенства» (из письма княгине Е. Р. Дашковой, 1783 г.).
Екатерина даже позволяла себе шутки над высшими архиереями, например, в 1787 году так описала возведение Платона (П. Е. Левшина) в сан митрополита: «…нашили ему на белый клобук крест бриллиантовый в пол-аршина в длину и поперек, и он во все время был, как павлин Кременчугский» (из письма Потемкину, находившемуся тогда в Кременчуге).
Но в том же году Екатерина послала Потемкину письмо, свидетельствующее о том, что практицизм не распространился на все формы ее отношений с миром, с природой как Божьим творением.
«Дела в Европе позапутываются. Цесарь посылает войски в Нидерландию. Король Прусский противу голландцев вооружается. Франция, не имев денег, делает лагери. Англия высылает флот и дает Принцу Оранскому денег. Прочие державы бдят, а я гуляю по саду, который весьма разросся и прекрасен» (27 июля 1787 года, Царское Село).
Ей приходилось уходить из своих любимых садов – этого требовали дела государства и дела семейные, которые тоже всегда были для нее государственными делами. Когда в июле 1793 года граф И. Г. Чернышев поздравил ее по случаю обручения великого князя Александра Павловича с великой княжной Елисаветой Алексеевной, она очень удивилась, почему граф не поздравил ее также с «присоединением к Империи трех прекрасных и многолюдных губерний» – территорий, отошедших к России по второму разделу Польши.
Любовь Екатерины к внукам – Александру и Константину (Николай появился на свет за несколько месяцев до ее смерти) была сильна и потому также, что, любя и воспитывая их, императрица словно приближала к себе и «воспитывала» будущее России, всматривалась в него.
Екатерина признавалась, что по духу своему она, скорее, республиканка, замечая при этом: «…такое расположение души в сочетании с моей неограниченной властью покажется, может быть, удивительным противоречием; однако же в России никто не скажет, что я власть свою во зло употребляла». Была бы в России XVIII века республика (допустим невероятное), Екатерина не видела бы для себя никакой другой роли, кроме диктатора с неограниченными полномочиями, что неизбежно вернуло бы страну к монархическому строю.
Подобное произошло в республиканской Франции на рубеже XVIII и XIX веков, но Екатерина все предвидела, написав в 1794 году такие строки: «Если Франция справится со своими бедами, она будет сильнее, чем когда-либо, будет послушна и кротка, как овечка; но для этого нужен человек недюжинный, ловкий, храбрый, опередивший своих современников и даже, может быть, свой век… Если найдется такой человек, он стопою своею остановит дальнейшее падение…». Через десять лет Наполеон Бонапарт будет провозглашен «императором французов».
В республику без единоличного правителя как в жизнеспособную государственную систему Екатерина никогда не верила, считала ее началом общественного хаоса, а потому к революционным событиям во Франции отнеслась враждебно, увидела в них серьезную угрозу существующему порядку в России и во всей Европе.
Ей всюду стали мерещиться заговоры; русских масонов, которых раньше она считала пустыми, несерьезными людьми и высмеивала в комедиях («Обманщик», «Обольщенный», «Шаман Сибирский», 1785–1786), теперь императрица подозревала в государственной измене, связях с французскими бунтовщиками. Якобинское жало обнаружила она и в державинском стихотворении «Властителям и судиям» – переложении 81-го псалма.
Оказалось, что существовало и французское его переложение, распространявшееся в Париже и направленное против короля.
Екатерина стала «реакционером поневоле», это была плата за прежний ее политический идеализм, когда императрице казалось, что, определив допустимую меру свободы и европеизации России и проводя свои осторожные реформы, она не найдет в стране ни одного недовольного. Вдохновленные ее первыми шагами, россияне захотели большего. Защищая свою систему, Екатерина все чаще употребляла власть во зло.
Начались обыски, репрессии. Давний ее сподвижник-оппонент Н. И. Новиков, выдающийся журналист, историк, публицист и писатель, в 1792 году был арестован и без суда отправлен в Шлиссельбургскую крепость, приговоренный императорским указом к пятнадцатилетнему заключению. Позорнейшим событием екатерининского царствования были костры из книг, наполненных, по словам императрицы, «нелепыми умствованиями».
Теперь Екатерина ожесточенно боролась со словом, вопреки прежним своим заявлениям о том, что «в самодержавном государстве хотя и нетерпимы язвительные сочинения», их «не должно вменять в преступление», так как «излишняя строгость в рассуждении сего будет угнетением разума, производит невежество, отнимает охоту писать и гасит дарования ума».
Не согласившись с излишней строгостью Сената, приговорившего А. Н. Радищева к смертной казни, императрица отправляет автора «Путешествия из Петербурга в Москву» (книга была опубликована в 1790 году) в десятилетнюю сибирскую ссылку.
Выявлять крамолу Екатерине помогали «псы-рыцари» – московский генерал-губернатор князь А. А. Прозоровский, невежественные церковники, сжигавшие «бесовские» книги, жутковатый тайный советник С. И. Шешковский, допрашивавший и пытавший арестованных, словно и не было императорского указа об уничтожении Тайной канцелярии и рассуждений Екатерины о недопустимости пыток.
За несколько недель до своей кончины императрица подписала указ «Об ограничении свободы книгопечатания и ввоза иностранных книг, об учреждении на сей конец цензур и об упразднении частных типографий».
Такими мрачными были последние годы ее царствования. Просвещенный абсолютизм, как плохой актер, не справился со своей ролью – в спектакле, где он же был автором и постановщиком. В известном смысле это была политическая смерть Екатерины II, совпавшая с ее уходом из этого мира 6 ноября 1796 года.
Не будем только забывать, что в годы, когда горячие французские головы затевали свою революцию, а потом сами пали ее жертвами, вслед за тысячами казненных ими соотечественников, в Российской империи не было массовых репрессий, смертных казней. Защищаясь от наступавшего с запада хаоса, Екатерина перешла к более жесткой форме правления, словно готовилась к введению военного положения.
Дипломатические отношения с Францией были разорваны; императрица не желала сотрудничать с кровавой диктатурой, но и не позволила втянуть Россию в войну с нею, чего добивались западные монархи. Историческая заслуга Екатерины состоит в том, что она уберегла свою страну от социальных потрясений. «Равенство – это чудовище, которое хочет стать королем», – говорила она тогда, как будто предугадывая и кровавый российский опыт XX века.
Похвалим же Екатерину Великую за то, за что еще недавно принято было ее ругать. «Она увидела, что без глубоких потрясений невозможно провести коренных реформ, каких потребовала бы система законодательства на усвоенных ею началах, и на совет Дидро переделать весь государственный и общественный порядок в России по этим началам посмотрела как на мечту философа, имеющего дело с книгами, а не с живыми людьми.
Тогда она сократила свою программу, сознавая, что не может взять на себя всех задач русской власти, что то, что можно, далеко не все, что нужно» (В. О. Ключевский).
Новые же идеи, вброшенные ею в российское общество, продолжали эту «великую реформу» уже при жизни императрицы, независимо и даже против ее воли.
Екатерининская эпоха придала русскому XVIII столетию, началом которого были петровские преобразования – первые шаги на пути европеизации и просвещения, – архитектурную завершенность. Краткое павловское царствование, когда почти все делалось вопреки постановлениям Екатерины, не могло изгладить из памяти современников ее «золотой век». Наоборот, по контрасту с павловскими крайностями минувшая эпоха вызывала элегический вздох даже у недавних ее критиков. И, разумеется, идеализировалась.
Сама же Екатерина, когда Сенат поднес ей титул Великой и Премудрой Матери Отечества (по аналогии с Отцом Отечества – Петром Великим), заявила, решительно отказываясь от такой чести: «Один Бог премудр, ни одно из Его творений не имеет права на сие высокое титло. Потомство будет судить дела мои…». Еще собирались ей поднести титул… Матери народов, исходя из того соображения, что «во всеобщем благополучии мы первенствуем».
Явные переборы в оценках тоталитарных лидеров – очень русская и явно азиатская черта, как похоже это на титул «вождя всех времен и народов» и байку о «русском первенстве»! Но для русского XVIII столетия это даже отрадный факт, в нем, пусть уродливо, но проявилось одно из петровско-екатерининских завоеваний: у россиян возникли новые чувства – национального достоинства, деятельной причастности к ходу всемирной истории.
«Мой век напрасно меня боялся… Европа напрасно опасалась моих намерений, которые, напротив, были для нее совершенно полезными», – писала Екатерина в одном из последних писем к И. Г. Циммерману. В Европе, где давно уже смирились с тем, что с Россией необходимо считаться, дела императрицы воспринимались неоднозначно. Ее царствование и ее смерть сопровождали панегирики и памфлеты.
Врагам было чего бояться: Империя расширилась и окрепла, население ее возросло с 19 до 36 миллионов человек, появилось около 200 новых городов, в несколько раз увеличилось население двух российских столиц. Если в 1762 году в стране было 984 фабрики, в 1796-м их количество возросло до 3129. «Экстенсивная мощь русской империи в конце XVIII столетия является одним из важнейших и грандиознейших феноменов всемирной истории» (Е. В. Тарле).
На склоне лет Державин нарисовал в своих «Записках» еще один, уже не идеализированный портрет «Фелицы»: «…сия мудрая и сильная государыня, ежели в суждении строгого потомства не удержит на вечность имя Великой, то потому только, что не всегда держалась священной справедливости, но угождала своим окружающим, а паче своим любимцам, как бы боясь раздражить их», знавших, что «первый шаг ее восшествия на престол был не непорочен…».
«Но, как бы то ни было, да благословенна будет память такой государыни, при которой Россия благоденствовала и которую долго не забудет».
Спор о Екатерине продолжается, потомство разделилось в оценках. Собственно говоря, потомки ее подданных ныне являются гражданами разных государств: в конце XX века распалась созданная ею Империя. На карте Украины вряд ли снова появится город Екатеринослав[4],– город-то существует и ныне, но под чужим именем, что-то говорившим гражданам Страны Советов, теперь – вконец обезличенным.
Однако Екатерина не забыта, ее, как и прежде, прославляют и проклинают, любят и не любят, – такая историческая судьба ожидает каждого сильного правителя. Когда же критикам слов и дел Екатерины удается быть объективными, они не лишают ее титула – Великая. Потому что мало кто из отечественных правителей всех времен достиг того, что удалось ей, претворившей в жизнь свой афоризм: «Слава страны создает мою славу».
Много памятников поставили Екатерине Великой, большинство из них было разрушено в XX веке, но едва ли это огорчило бы императрицу. Она мечтала о другом памятнике: «…в сердцах подданных моих, не в мраморе». Более двух столетий существует этот нерукотворный памятник. В материальном мире, наверное, больше всего похож на него стоящий на Новодевичьем кладбище в Москве трехцветный памятник другому «хозяину» России – из минувшего столетия. Славному и противоречивому Екатерининскому веку идут эти цвета: белый, черный, золотой.
Игорь ЛосиевскийРАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО
О величии России[5]
Если бы кто был настолько сумасброден, чтобы сказать: вы говорите мне, что величие и пространство Российской империи требует, чтобы государь ее был самодержавен; я нимало не забочусь об этом величии и об этом пространстве России, лишь бы каждое частное лицо жило в довольстве; пусть лучше она будет поменее; такому безумцу я бы отвечала: знайте же, что, если ваше правительство преобразится в республику, оно утратит свою силу, а ваши области сделаются добычею первых хищников; не угодно ли с вашими правилами быть жертвою какой-нибудь орды татар и под их игом надеетесь ли жить в довольстве и приятности.
Безрассудное намерение Долгоруких[6], при восшествии на престол императрицы Анны, неминуемо повлекло бы за собою ослабление, – следственно, и распадение государства; но, к счастию, намерение это было разрушено простым здравым смыслом большинства. Не привожу примера Владимира[7] и последствий, которые он повлек за собою: он слишком глубоко врезан в память каждого мало-мальски образованного человека.
Мысли из Особой тетради[8]
Я желаю и хочу лишь блага той стране, в которую привел меня Господь; Он мне в том свидетель. Слава страны создает мою славу. Вот мое правило: я буду счастлива, если мои мысли могут тому способствовать.
Государи кажутся более великими по мере того, как вельможи страны и приближенные более удовлетворяются в отношении богатства; изобилие должно царить в их домах, но не ложное изобилие, основанное на неоплатных долгах, ибо тогда, вместо величия, это становится лишь смешным тщеславием, над которым смеются иностранцы; я хочу, чтобы страна и подданные были богаты, – вот начало, от которого я отправляюсь; чрез разумную бережливость они этого достигнут.
Признаюсь, что, хотя я свободна от предрассудков и от природы ума философского, я чувствую в себе большую склонность почитать древние роды; я страдаю, видя, что некоторые из них доведены здесь до нищенства; мне было бы приятно их поднять. Можно было бы достичь восстановления их блеска, украсив орденами и должностями старшего в роде, если у него есть какие-нибудь достоинства, и давая ему пенсии и даже земли по мере нужды и заслуг, с условием, что они будут переходить только старшим и что они будут неотчуждаемы.
Противно христианской религии и справедливости делать рабов из людей, которые все получают свободу при рождении; один Собор освободил всех крестьян, бывших раньше крепостными, в Германии, Франции, Испании и т. д. – сделать подобный резкий переворот не будет средством приобрести любовь землевладельцев, исполненных упрямства и предрассудков. Но вот удобный способ: постановить, что, как только отныне кто-нибудь будет продавать землю, все крепостные будут объявлены свободными с минуты покупки ее новым владельцем, а в течение сотни лет все или, по крайней мере, большая часть земель меняют хозяев, и вот народ свободен.
Свобода, душа всего, без тебя все мертво. Я хочу, чтобы повиновались законам, но не рабов. Я хочу общей цели делать счастливыми, но вовсе не своенравия, не чудачества и не тирании, которые с нею несовместимы.
Когда имеешь на своей стороне истину и разум, должно выставлять это перед очами народа, говоря: такая-то причина привела меня к тому-то; разум должен говорить за необходимость; будьте уверены, что он возьмет верх в глазах большинства; уступают истине, но редко речам, пропитанным тщеславием.
Мир необходим этой обширной империи; мы нуждаемся в населении, а не в опустошениях; заставьте кишеть народом наши обширные пустыни, если это возможно; для достижения этого не думаю, чтобы полезно было заставлять наши нехристианские народности принимать нашу веру; многоженство более полезно для [умножения] населения; вот, что касается внутренних дел. Что касается внешних дел, то мир гораздо скорее даст нам равновесие, нежели случайности войны, всегда разорительной.
Власть без доверия народа ничего не значит; тому, кто желает быть любимым и прославиться, достичь этого легко. Примите за правило ваших действий и ваших постановлений благо народа и справедливость, которая с ним неразлучна. Вы не имеете и не должны иметь иных интересов. Если душа ваша благородна – вот ее цель.
Есть средство помочь тому, чтобы военные таланты не пропадали при продолжительном мире. Посылайте местное дворянство (конечно, частями и того, кто хочет) на службу к воинственным державам; во время войны, или даже каждые 15 лет и меньше, вы можете их отозвать. Вы извлечете из того две выгоды: одну – иметь хороших офицеров и опытных генералов; другую – иметь дисциплинированных людей, которые, будучи более зрелыми, дадут лучшее воспитание своим детям, – важная точка зрения, [оставленная] в излишнем пренебрежении.
Так как, по законам Петра Великого, вечно благословенной памяти, всякий дворянин должен служить, нужно непременно возобновить плохо исполняемый закон сего законодателя, определяющий продолжительность такой принудительной службы, чтобы в 40 или 46 лет и даже ранее они могли бы оставить ее; имения и семьи терпят оттого, что нет никого, кто мог бы заняться собственными делами, и это чувствует общество.
Отец, у которого трое или больше сыновей, должен был бы иметь право оставить одного и даже двоих из них, по своему выбору, дома; но эта мысль, хорошая и благодетельная, имеет в том отношении недостаток, что можно будет опасаться, чтобы не пострадало оттого воспитание этих избранных сыновей, так как лучшая выправка, какую дают у нас, в большинстве случаев та, что получают наши молодые люди в армии; домашнее воспитание пока лишь мутный ручей. Когда станет он потоком?
Учреждение Сен-Сира[9]. Средством для полезного и удобного подражания ему было бы выписать классную наставницу и добыть устав и журналы этого заведения от самого французского двора, ибо дамы св. Людовика обязаны держать их в тайне. Дом легко было бы найти и доходы также.
А чтобы помешать невеждам кричать против монахини-француженки и ее ереси, следовало бы, под видом частного воспитания, дать ей сначала воспитать одну или двух сироток, которые впоследствии будут служить для воспитания при заведении; и таким образом из года в год стали бы обходиться без помощи француженок, когда достигнута будет подготовка, достаточная количества лиц русского происхождения для преподавания в заведении; это тем легче, что в этом доме существует правило взаимного обучения более юных пансионерок одной другою, сообразно с тем, что одна знает лучше другой.
Пойдите в деревню, спросите у крестьянина, сколько у него было детей; он вам скажет (это обыкновенно): десять, двенадцать, часто даже до двадцати. А сколько в живых?
Он ответит: один, два, четыре, редко четвертая часть; следовало бы поискать средства против такой смертности; посоветоваться с искусными врачами, более философами, чем заурядными в этом ремесле, и установить какое-нибудь общее правило, которое мало-помалу введут землевладельцы, так как я уверена, что главная причина этого зла – недостаток ухода за очень маленькими детьми; они бегают нагие в рубашках по снегу и льду; очень крепок тот, кто выживает, но девятнадцать умирают, и какая потеря для государства!
Большая часть наших фабрик – в Москве, месте, может быть, наименее благоприятном в России; там бесчисленное множество народу, рабочие становятся распущенными; фабрики шелковых изделий не могут быть там хороши – вода мутная, и особенно весною, в лучшее время года для окраски шелка; эта вода действует на цвета: они или блеклы, или грубы.
С другой стороны, сотни маленьких городов приходят в разрушение! Отчего не перенести в каждый по фабрике, выбирая сообразно с местным продуктом и годностью воды? Рабочие там будут более прилежны и города более цветущи.
Часто задерживают у многих людей платежи; это делают чиновники, заведующие платежами, чтобы заинтересованные подносили им подарки. Для искоренения этого следовало бы пометить в указе число того дня, в который должны производиться платежи, а на случай препятствия со стороны чиновников следовало бы наложить на них пени и удваивать пеню за каждый лишний день, который они пропустят в исполнении данного указа.
Дело, которое наиболее сопряжено с неудобством, – это составление какого-нибудь нового закона. Нельзя внести в это достаточно обдуманности и осторожности; единственное средство к достижению того, чтобы быть осведомленным о хорошей или дурной стороне того, что вы хотите постановить, это велеть распространить слух о том на рынке, и велеть точно известить вас о том, что говорят; но кто скажет вам, какие выйдут отсюда последствия в будущем?
Остерегайтесь, по возможности, издать, а потом отменить свой закон; это означает вашу нерассудительность и вашу слабость и лишает вас доверия народа, разве это будет только закон временный; в этом случае я желала бы заранее объявить его таковым и обозначить в нем, если возможно, основания и время, или, по крайней мере, обозначить в нем срок в несколько лет, по истечении которых можно было бы его возобновить или уничтожить.
Хочу установить, чтобы из лести мне высказывали правду; даже царедворец подчинится этому, когда увидит, что вы ее любите и что это путь к милости.
Говорите с каждым о том, что ему поручено; не награждайте никогда, если вас лично не просят о том; разве если вы сами намереваетесь это сделать, не будучи к тому побуждаемы; нужно, чтобы были обязаны вам, а не вашим любимцам, и т. п.
Тот, кто не уважает заслуг, не имеет их сам; кто не ищет заслуг и кто их не открывает, недостоин и не способен царствовать.
Я как-то сказала, и этим весьма восхищались, что в милость, как и в жизнь, вносишь с собой зачаток своего разрушения.
Уважение общества не есть следствие видной должности или видного места; слабость иного лица унижает место точно так же, как достоинство другого облагораживает его, и никто, без исключения, не бывает вне пересудов, презрения или уважения общества. Желаете вы этого уважения?
Привлеките доверие общества, основывая все свое поведение на правде и на благе общества. Если вместе с тем природа наделила вас полезными дарованиями, вы сделаете блестящую карьеру и избегнете того смешного положения, которое сообщает высокая должность лицу без достоинств и слабость которого сквозит всюду.
Самым унизительным положением мне всегда казалось – быть обманутым; будучи еще ребенком, я горько плакала, когда меня обманывали, но зато я делала все то, чего от меня хотели, и даже неприятные мне вещи с усердием, когда мне представляли действительные доводы.
Видали ли когда способ действия более варварский, более достойный турок, как тот, чтобы начинать с наказания, а затем производить следствие? Найдя человека виновным, что вы сделаете? Он уже наказан. Пожелаете ли вы быть жестокими, чтобы наказать его дважды? А если он невинен, чем исправите вы несправедливость, что его арестовали, лишили его всякой чести, должностей и проч., без вины? Через такое легкомыслие вы сделаетесь достойными презрения.
Значит, вы пожертвуете им из стыда сознаться, что вы ошиблись, и этим усилите свою вину перед очами Бога и людей. Если бы со мной случилось такое несчастье, я не стала бы колебаться, я пожертвовала бы своим стыдом справедливости, я исправила бы со всем величием души, на которое способна, зло, которое я бы сделала. В Венеции, в самом деспотическом месте Европы, если невинный брошен в тюрьму, а его невинность доказана, то дожи, в сопровождении Сената, идут в тюрьму и провожают его с торжеством домой.
Ни к чему я не имею такого отвращения, как к конфискации имуществ виновных, потому что кто на земле может отнять у детей, и проч., таких людей наследство, какое получают они от самого Бога?
Не знаю, мне кажется, что всю жизнь мою буду иметь отвращение к назначению особой комиссии для суда над виновным, и особенно, если эта комиссия должна оставаться тайной; отчего не предоставить судам дела, относящиеся до их ведения. Быть стороной и еще назначать судей, – это значит выказывать, что боишься иметь справедливость и законы против себя; пусть вельможа будет судим Сенатом, как в Англии, во Франции, пэр судим пэрами; к тому же внушаешь подозрение, что имеешь выгоду найти его виновным и что дворцовые интриги создают преступление.
Хочу, чтобы питали ко мне доверие, полагая, что я хочу лишь того, что справедливо, и что, когда я вынуждена кого-нибудь наказать, это потому, что он нарушил законы, свой долг перед Отечеством и перед тем, кто поставлен от Бога для поддержания порядка. Преступление и производство дела должны быть сделаны гласными, чтобы общество (которое всегда судит беспристрастно) могло бы распознать справедливость. Впрочем, в глазах этого общества никакое хвастовство не выдержит; удовлетворит его лишь правда; ставьте себя всегда в такое положение, чтобы она говорила за вас.
Сильная душа мало способна на советы душе слабой, ибо эта последняя не в состоянии следовать и даже оценить то, что первая предлагает ей согласно своему характеру; вообще, советовать – вещь чрезвычайно трудная; я хорошо знаю, как исполнить обдуманное мною дело, но у того, кому я советую, нет ни моей мысли, ни моей деятельности при осуществлении моего совета.
Это размышление всегда меня располагало, при советах, какие я принимала от других, входить в мельчайшие подробности, даже усваивать слова того, кто мне советовал, и следовать совершенно его мысли. Это следствие моей осторожности ради успеха часто заставляло думать, что я была управляема, между тем как я действовала с открытыми глазами и единственно занятая удачей, всегда ненадежной, как только не сам задумаешь дело, которое собираешься совершить, ибо кто может поручиться, что способ соответствует вашему характеру, даже если он вам нравится.
Правила управления[10]
Если государственный человек ошибается, если он рассуждает плохо или принимает ошибочные меры, целый народ испытывает пагубные следствия этого.
Нужно часто себя спрашивать: справедливо ли это начинание? полезно ли?
Пять предметов
1. Нужно просвещать нацию, которой должен управлять.
2. Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его соблюдать законы.
3. Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию.
4. Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным.
5. Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение соседям.
Каждый гражданин должен быть воспитан в сознании долга своего перед Высшим Существом, перед собой, перед обществом, и нужно ему преподать некоторые искусства, без которых он почти не может обойтись в повседневной жизни.
1. Императорская власть: поручать командование армиями и управление губерниями и назначать свой Совет.
2. Власть Сената: давать жизнь постановлениям указами для исполнения и регистрации.
3… передавать всем магистратам их гражданскую юрисдикцию.
4… получать апелляции всех судов.
5… некоторый надзор за финансами.
Помощь народу при бедствиях
1) Открыть кладовые и сокровищницы государства;
2) уменьшить таможенные сборы и налоги;
3) приостановить наряды на общественные работы;
4) снять запрещения, стеснительные для ловли рыбы, охоты и рубки леса;
5) облегчить продажу хлеба, отменив пошлины, и увеличить ее, принудив богатых открыть их амбары;
6) обойтись без подарков, которые подносятся государям, и без расходов по представительству на празднествах;
7) запретить пышность и разорительную обстановку похорон;
8) смягчить строгость законов и закрывать глаза на те проступки, в которых нищета замешана больше, нежели злой умысел;
9) облегчить браки и не придерживаться формальностей, требуемых законом;
10) запретить празднества увеселения и музыку;
11) издать указ о молебствиях, постах и пожертвованиях;
12) строго преследовать воров и бродяг.
Смягчить жестокости наказаний:
1) назначая смертную казнь лишь за тяжкие преступления;
2) устанавливая исключение для стариков, детей и единственных сыновей;
3) жалуя года прощения и уменьшения наказания;
4) соболезнуя слабости человеческой во всем, что представляется несчастьем, случайностью, несчастной минутной ошибкой;
5) не делая пытки из тюрьмы и допроса, в особенности для преступлений, относительно которых не имеется веских доказательств;
6) требуя, чтобы всякий приговор основывался на законных и полных доказательствах;
7) доверяя судопроизводство над виновными лишь таким судьям, честность, мудрость и бескорыстие которых всеми признаны;
8) оставляя себе последний приговор по всем преступлениям и проступкам, быстрое наказание которым не требуется интересами общественными;
9) никогда не приговаривая всех виновных, откладывая приговоры для некоторых и смягчая приговоры низших судей;
10) наконец, пуская в ход все средства мудрости и высшей власти, чтоб предотвратить все преступления, отдалить возможность их, внушить отвращение к ним и заставить иссякнуть их источники.
УКАЗЫ И ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Наказ Комиссии о составлении проекта нового Уложения[11]
Господи Боже мой, вонми ми и вразуми мя, да сотворю суд людям Твоим по закону Святому Твоему судити в правду.
1. Закон Христианский научает нас взаимно делать друг другу добро, сколько возможно.
2. Полагая сие законом веры предписанное правило за вкоренившееся или за долженствующее вкорениться в сердцах целого народа, не можем иного кроме сего сделать положения, что всякого честного человека в обществе желание есть или будет, видеть все отечество свое на самой вышней степени благополучия, славы, блаженства и спокойствия.
3. А всякого согражданина особо видеть охраняемого законами, которые не утесняли бы его благосостояния, но защищали его ото всех сему правилу противных предприятий.
4. Но дабы ныне приступить ко скорейшему исполнению такого, как надеемся, всеобщего желания, то, основываясь на вышеписанном первом правиле, надлежит войти в естественное положение сего государства.
5. Ибо законы, весьма сходственные с естеством, суть те, которых особенное расположение соответствует лучше расположению народа, ради которого они учреждены. В первых трех следующих главах описано сие естественное положение.
Глава I
6. Россия есть Европейская держава.
7. Доказательство сему следующее. Перемены, которые в России предпринял Петр Великий, тем удобнее успех получили, что нравы, бывшие в то время, совсем не сходствовали со климатом и принесены были к нам смешением разных народов и завоеваниями чуждых областей. Петр Первый, вводя нравы и обычаи европейские в европейском народе, нашел тогда такие удобности, каких он и сам не ожидал.
Глава II
8. Российского государства владения простираются на 32 степени широты и на 165 степеней долготы по земному шару.
9. Государь есть самодержавный; ибо никакая другая, как только соединенная в его ocобе власть, не может действовать сходно со пространством столь великого государства.
10. Пространное государство предполагает самодержавную власть в той особе, которая оным правит. Надлежит, чтобы скорость в решении дел, из дальних стран присылаемых, награждала медление, отдаленностию мест причиняемое.
11. Всякое другое правление не только было бы России вредно, но и вконец разорительно.
12. Другая причина та, что лучше повиноваться законам под одним господином, нежели угождать многим.
13. Какой предлог самодержавного правления? Не тот, чтоб у людей отнять естественную их вольность, но чтобы действия их направить к получению самого большого ото всех добра.
14. И так правление, к сему концу достигающее лучше прочих и при том естественную вольность меньше других ограничивающее, есть то, которое наилучше сходствует с намерениями, в разумных тварях предполагаемыми, и соответствует концу, на который в учреждении гражданских обществ взирают неотступно.
15. Самодержавных правлений намерение и конец есть слава граждан, государства и Государя.
16. Но от сея славы происходит в народе, единоначалием управляемом, разум вольности, который в державах сих может произвести столько же великих дел и столько споспешествовать благополучию подданных, как и самая вольность.
Глава III
17. О безопасности постановлений государственных.
18. Власти средние, подчиненные, и зависящие от верховной, составляют существо правления.
19. Сказано Мною: власти средние, подчиненные, и зависящие от верховной: в самой вещи Государь есть источник всякие государственные и гражданские власти.
20. Законы, основание державы составляющие, предполагают малые протоки, сиречь правительства, чрез которые изливается власть Государева.
21. Законы, сим правительствам дозволяющие представлять, что такой-то указ противен Уложению, что он вреден, темен, что нельзя по оному исполнить; и определяющие наперед, каким указам должно повиноваться, и как по оным надлежит чинить исполнение; сии законы – несомненно суть делающие твердым и неподвижным установление всякого государства.
Глава IV
22. Надобно иметь хранилище законов.
23. Сие хранилище инде не может быть нигде, как в государственных правительствах, которые народу извещают вновь сделанные и возобновляют забвению преданные законы.
24. Сии правительства, принимая законы от Государя, рассматривают оные прилежно и имеют право представлять, когда в них сыщут, что они противны Уложению и прочая, как выше сего в главе III в 21 статье сказано.
25. А если в них ничего такого не найдут, вносят оные в число прочих, уже в государстве утвержденных, и всему народу объявляют во известие.
26. В России Сенат есть хранилище законов.
27. Другие правительства долженствуют и могут представлять с тою же силою Сенату и самому Государю, как выше упомянуто.
28. Однако ежели кто спросит, что есть хранилище законов? На сие ответствую: законов хранилище есть особливое наставление, которому последуя вышеозначенные места, учрежденные для того, чтобы попечением их наблюдаема была воля Государева сходственно с законами, во основание положенными и с государственным установлением, обязаны поступать в отправлении своего звания по предписанному там порядка образу.
29. Сии наставления возбраняют народу презирать указы Государевы, не опасаяся за то никакого наказания, но купно и охранять его от желания самопроизвольных и от непреклонных прихотей.
30. Ибо, с одной стороны, сими наставлениями оправдаются осуждения, на преступающих законы уготованные, а с другой стороны, ими же утверждается быть правильным отрицание то, чтобы вместить противные государственному благочинию законы в число прочих, уже принятых, или чтоб поступать по оным в отправлении правосудия и общих всего народа дел.
Глава V
31. О состоянии всех в государстве живущих.
32. Великое благополучие для человека быть в таких обстоятельствах, что, когда страсти его вперяют в него мысли быть злым, он, однако, считает себе за полезнее не быть злым.
33. Надлежит, чтоб законы, поелику возможно, предохраняли безопасность каждого особо гражданина.
34. Равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подвержены были тем же законам.
35. Сие равенство требует хорошего установления, которое воспрещало бы богатым удручать меньшее их стяжание имеющих и обращать себе в собственную пользу чины и звания, порученные им только как правительствующим особам государства.
36. Общественная или государственная вольность не в том состоит, чтоб делать все, что кому угодно.
37. В государстве, то есть в собрании людей, обществом живущих, где есть законы, вольность не может состоять ни в чем ином, как в возможности делать то, что каждому надлежит хотеть, и чтоб не быть принуждену делать то, чего хотеть не должно.
38. Надобно в уме себе точно и ясно представить, что есть вольность? Вольность есть право все то делать, что законы дозволяют; и, если бы где какой гражданин мог делать законами запрещаемое, там бы уже больше вольности не было; ибо и другие имели бы равным образом сию власть.
39. Государственная вольность во гражданине есть спокойство духа происходящее от мнения, что всяк из них собственною наслаждается безопасностию; и, чтобы люди имели сию вольность, надлежит быть закону такову, чтоб один гражданин не мог бояться другого, а боялись бы все одних законов.
Глава VI
40. О законах вообще.
41. Ничего не должно запрещать законами, кроме того, что может быть вредно или каждому особенно, или всему обществу.
42. Все действия, ничего такого в себе не заключающие, нимало не подлежат законам, которые не с иным намерением установлены, как только чтобы сделать самое большее спокойствие и пользу людям, под сими законами живущим.
43. Для нерушимого сохранения законов надлежало бы, чтоб они были так хороши и так наполнены всеми способами к достижению самого большого для людей блага ведущими, чтобы всяк несомненно был уверен, что он ради собственной своей пользы должен сохранить нерушимыми сии законы.
44. И сие то есть самый высочайший степень совершенства, которого достигнуть стараться должно.
45. Многие вещи господствуют над человеком: вера, климат, законы, правила, принятые в основание от правительства, примеры дел прешедших, нравы, обычаи.
46. От сих вещей рождается общее в народе умствование, с оными сообразуемое, например:
47. Природа и климат царствуют почти одни во всех диких народах.
48. Обычаи управляют китайцами.
49. Законы владычествуют мучительски над Япониею.
50. Нравы некогда устраивали жизнь лакедемонян.
51. Правила, принятые в основание от властей, и древние нравы обладали Римом.
52. Разные характеры народов составлены из добродетелей и пороков, из хороших и худых качеств.
53. То составление благополучным назвать можно, от которого проистекает много великих благ, о коих часто и догадаться нельзя, чтоб они от той происходили причины.
54. Я здесь привожу во свидетельство сего разные примеры действия различного. Во все времена прославляемо было доброе сердце ишпанцев. История описывает нам их верность во хранении вверенного им залога. Они часто претерпевали смерть для соблюдения оного в тайне. Сия верность, которую они прежде имели, есть у них и теперь. Все народы, торгующие в Кадиксе, поверяют стяжания свои ишпанцам и никогда еще в том не раскаивались. Но сие удивительное качество, совокупленное с их леностью, делает такую смесь или состав, от которого происходят действия, для них вредные. Европейские народы отправляют пред глазами их всю торговлю, принадлежащую собственно их Монархии.
55. Характер китайцев другого состава, который совсем противен ишпанскому характеру. Жизнь их ненадежная причиною [по свойству климата и земли], что они имеют проворство, почти непонятное, и желание прибытка столь безмерное, что ни один торгующий народ себя им не может вверить. Сия изведанная неверность сохранила им торг японский. Ни один европейский купец не осмелился в сей торг вступить под их именем, хотя бы и очень легко можно сие сделать чрез приморские их области.
56. Предложенное Мною здесь не для того сказано, чтобы хотя на малую черту сократить бесконечное расстояние, находящееся между пороками и добродетелями. Боже сохрани! Мое намерение было только показать, что не все политические пороки суть пороки моральные и что не все пороки моральные суть политические пороки. Сие непременно должно знать, дабы воздержаться от узаконений, с общим народа умствованием не уместных.
57. Законоположение должно применять к народному умствованию. Мы ничего лучше не делаем, как то, что делаем вольно, непринужденно, и следуя природной нашей склонности.
58. Для введения лучших законов необходимо потребно умы людские к тому приуготовить. Но чтоб сие не служило отговоркою, что нельзя становить и самого полезнейшего дела; ибо если умы к тому еще не приуготовлены, так примите на себя труд приуготовить оные, и тем самым вы уже много сделаете.
59. Законы суть особенные и точные установления законоположника, а нравы и обычаи суть установления всего вообще народа.
60. Итак, когда надобно сделать перемену в народе великую к великому оного добру, надлежит законами то исправлять, что учреждено законами, и то переменять обычаями, что обычаями введено. Весьма худая та политика, которая переделывает то законами, что надлежит переменять обычаями.
61. Есть способы, препятствующие вогнездиться преступлениям, на то положены в законах наказания: также есть способы, перемену обычаев вводящие; к сему служат примеры.
62. Сверх того, чем большее сообщение имеют между собою народы, тем удобнее переменяют свои обычаи.
63. Словом сказать: всякое наказание, которое не по необходимости налагается, есть тиранское. Закон не происходит единственно от власти; вещи между добрыми и злыми средние, по своему естеству, не подлежат законам.
Глава VII
64. О законах подробно.
65. Законы, преходящие меру во благом, бывают причиною, что рождается оттуда зло безмерное.
66. В которых законах законоположение доходит до крайности, от тех всех избыть находятся способы. Умеренность управляет людьми, а не выступление из меры.
67. Гражданская вольность тогда торжествует, когда законы на преступников выводят всякое наказание из особливого каждому преступлению свойства. Все, что ни есть произвольное в наложении наказания, не должно происходить от прихоти законоположника, но от самой вещи; и не человек должен делать насилие человеку, но собственное человека действие.
68. Преступления разделяются на четыре рода.
69. Первого рода– преступления против закона или веры.
70. Второго – против нравов.
71. Третьего – против тишины и спокойствия.
72. Четвертого – против безопасности граждан устремляются.
73. Наказания, чинимые за оные, должны быть производимы из особливого каждому преступлений роду свойства.
74. (1.) Между преступлениями, касающимися до закона или веры, Я не полагаю никаких других, кроме стремящихся прямо против закона, каковы суть прямые и явные святотатства. Ибо преступления, которые смущают упражнение в законе, носят на себе свойство преступлений, нарушающих спокойствие или безопасность граждан, в число которых оные и относить должно.
Чтобы наказание за вышеописанные святотатства производимо было из свойства самой вещи, то должно оное состоять в лишении всех выгод, законом нам даруемых, как то: изгнание из храмов, исключение из собрания верных на время или навсегда, удаление от их присутствия.
75. В обыкновении же есть употребление и гражданских наказаний.
76. (2.) Во втором роде преступлений заключаются те, которые развращают нравы.
77. Такие суть нарушение чистоты нравов – или общей всем, или особенной каждому; то есть всякие поступки против учреждений показующих, каким образом должно всякому пользоваться внешними выгодами, естеством человеку данными для нужды, пользы и удовольствия его. Наказания сих преступлений должно также производить из свойства вещи.
Лишение выгод, от всего общества присоединенных к чистоте нравов, денежное наказание, стыд или бесславие, принуждение скрываться от людей, бесчестие всенародное, изгнание из города и из общества, – словом, все наказания, зависящие от судопроизводства исправительного, довольны укротить дерзость обоего пола.
И воистину сии вещи не столько основаны на злом сердце, как на забвении и презрении самого себя. Сюда принадлежат преступления, касающиеся только до повреждения нравов; а не и те, которые вместе нарушают безопасность народную, каково есть похищение и насилование; ибо сии уже вмещаются между преступлениями четвертого рода.
78. (3.) Преступления третьего рода суть нарушающие спокойство и тишину граждан. Наказания за оные должны производимы быть из свойства вещи и относимы к сему спокойству, как то лишение оного, ссылка, исправления и другие наказания, которые беспокойных людей возвращают на путь правый и приводят паки в порядок установленный. Преступления против спокойства полагаю Я в тех только вещах, которые простое нарушение гражданских учреждений в сeбе содержат.
79. Ибо нарушающие спокойство и устремляющиеся вместе против безопасности граждан относятся к четвертому роду преступлений.
(4.) Наказания сих последних преступлений называются особливым именем казни. Казнь не что иное есть, как некоторый род обратного воздаяния: посредством коего общество лишает безопасности того гражданина, который оную отнял или хочет отнять у другого. Сие наказание произведено из свойства вещи, основано на разуме и почерпнуто из источников блага и зла.
Гражданин бывает достоин смерти, когда он нарушил безопасность даже до того, что отнял у кого жизнь или предпринял отнять. Смертная казнь есть некоторое лекарство больного общества. Если нарушается безопасность в рассуждении имения, то можно сыскать доказательства, что в сем случае не надлежит казнить смертию; а кажется лучше и с самим естеством сходственнее, чтобы преступления, против безопасности во владении имением устремляющиеся, наказываемы были потерянием имения: и сему бы надлежало непременно так быть, если бы имение было общее или у всех равное.
Но как неимущие никакого стяжания стремятся охотнее отнимать оное у других, то надлежало, конечно, вместо денежного, в пополнение употребить телесное наказание. Все Мною здесь сказанное основано на естестве вещей и служит к защищению вольности гражданской.
Глава VIII
80. О наказаниях.
81. Любовь к отечеству, стыд и страх поношения суть средства укротительные и могущие воздержать множество преступлений.
82. Самое большое наказание за злое какое-нибудь дело в правлении умеренном будет то, когда кто в том изобличится. Гражданские законы там гораздо легче исправлять будут пороки, и не будут принуждены употреблять столько усилия.
83. В сих областях не столько потщатся наказывать преступления, как предупреждать оные, и приложить должно более старания к тому, чтобы вселить узаконениями добрые нравы в граждан, нежели привести дух их в уныние казнями.
84. Словом сказать: все, что в законе называется наказание, действительно, не что иное есть, как труд и болезнь.
85. Искусство научает нас, что в тех странах, где кроткие наказания, сердце граждан оными столько же поражается, как в других местах – жестокими.
86. Сделался вред в государстве чувствительный от какого непорядка? Насильное правление хочет внезапно оный исправить и, вместо того чтобы думать и стараться о исполнении древних законов, установляет жестокое наказание, которым зло вдруг прекращается. Воображение в людях действует при сем великом наказании так же, как бы оно действовало и при малом; и как уменьшится в народе страх сего наказания, то нужно уже будет установить во всех случаях другое.
87. Не надобно вести людей путями самыми крайними; надлежит с бережливостью употреблять средства, естеством нам подаваемые для препровождения оных к намереваемому концу.
88. Испытайте со вниманием вину всех послаблений, увидите, что она происходит от ненаказания преступлений, а не от умеренности наказаний. Последуем природе, давшей человеку стыд вместо бича, и пускай самая большая часть наказания будет бесчестие, в претерпении наказания заключающееся.
89. И если где сыщется такая область, в которой бы стыд не был следствием казни, то сему причиною мучительское владение, которое налагало те же наказания на людей беззаконных и добродетельных.
90. А ежели другая найдется страна, где люди инако не воздерживаются от пороков, как только суровыми казнями, опять ведайте, что сие проистекает от насильства правления, которое установило сии казни за малые погрешности.
91. Часто законодавец, хотящий уврачевати зло, не мыслит более ни о чем, как о сем уврачевании; очи его взирают на сей только предлог и не смотрят на худые оттуда следствия. Когда зло единожды уврачевано, тогда мы не видим более ничего, кроме суровости законодавца; но порок в общенародии остается, от жестокости сея произрастший; умы народа испортились, они приобыкли к насильству.
92. В повестях пишут о воспитании детском у японцев, что с детьми надлежит поступать со кротостию для того, что от наказания в сердце их вселяется ожесточение: так же, что и с рабами не должно обходиться весьма сурово, ибо они тотчас к обороне приступают. Примечая душу, долженствующую обитать и царствовать в домашнем правлении, не могли ли они рассуждениями дойти и до той, которую надлежало влить также и в правление государственное и гражданское?
93. Можно и тут сыскати способы возвратить заблудшие умы на путь правый: правилами закона Божия, любомудрия и нравоучения, выбранными и соображенными с сими умоначертаниями; уравненным смешением наказаний и награждений; беспогрешным употреблением пристойных правил честности, наказанием, состоящим в стыде, непрерывным продолжением благополучия и сладкого спокойствия.
А если бы была опасность, что умы, приобыкшие ничем не укрощаться иным, кроме свирепого наказания, не могут быть усмирены наказанием кротким; тут бы надлежало поступать (внимайте прилежно сие, как правило, опытами засвидетельствованное в тех случаях, где умы испорчены употреблением весьма жестоких наказаний) образом скрытным и нечувствительным; и в случаях особливых излияния милости неотчужденных налагать за преступления казнь умеренную до тех пор, покамест бы можно достигнуть того, чтоб и во всех случаях оную умерить.
94. Весьма худо наказывать разбойника, который грабит на больших дорогах, равным образом как и того, который не только грабит, но и до смерти убивает. Всяк явно видит, что для безопасности общенародной надлежало бы положить какое различие в их наказании.
95. Есть государства, где разбойники смертного убийства не делают для того, что воры, грабительствующие только, могут надеяться, что их пошлют в дальние поселения; а смертноубийцы сего ожидать не могут ни под каким видом.
96. Хорошие законы самой точной средины держатся: они не всегда денежное налагают наказание и не всегда также подвергают и наказанию телесному законопреступников.
Bсе наказания, которыми тело человеческое изуродовать можно, должно отменить.
Глава IX
97. О производстве суда вообще.
98. Власть судейская состоит в одном исполнении законов, и то для того, чтобы сомнения не было о свободе и безопасности граждан.
99. Для сего Петр Великий премудро учредил Сенат, коллегии и нижние правительства, которые должны давать суд именем Государя и по законам: для сего и перенос дел к самому Государю учинен столь трудным – закон, который не должен быть никогда нарушен.
100. И так надлежит быть правительствами.
101. Сии правительства чинят решения или приговоры: оные должно хранить и знать должно оные, для того чтобы в правительствах так судили сего дни, как и вчера судили, и чтобы собственное имение и жизнь каждого гражданина были чрез оные надежно утверждены и укреплены так, как и самое установление государства.
102. В самодержавном государстве отправление правосудия, от приговоров которого не только жизнь и имение, но и честь зависит, многотрудных требует испытаний.
103. Судия должен входить в тонкости и в подробности тем больше, чем больший у него хранится залог и чем важнее вещь, о которой он чинит решение. И так не должно удивляться, что в законах сих держав находится столько правил, ограничений, распространений, от которых умножаются особливые случаи, и кажется, что оное все составляет науку самого разума.
104. Различие чинов, поколения, состояния людей, установленное в единоначальном правлении, влечет за собою часто многие разделения в существе имения; а законы, относимые к установлению сея державы, могут умножить еще число сих разделений.
105. Посему имение есть собственное, приобретенное, приданое, отцовское, материнское, домашний скарб и проч., и проч.
106. Всякий род имения подвержен особливым правилам; оным надобно последовать, чтоб учинить в том распоряжение: чрез сие раздробляется еще больше на части единство вещи.
107. Чем больше суды в правительствах умножаются в правлении единоначальном, тем больше обременяется законоучение приговорами, которые иногда друг другу противоречат, или для того, что судьи одни, попеременно следующие за другими, разно думают; или что те же дела иногда хорошо, иногда худо бывают защищаемы; или, наконец, по причине бесчисленного множества злоупотреблений, вкрадывающихся помалу во все то, что идет чрез руки человеческие.
108. Сие зло неминуемо, которое законодавец исправляет от времени до времени, как противное естеству и самого умеренного правления.
109. Ибо когда кто принужден прибегнуть ко правительствам, надлежит, чтобы то происходило от естества государственного установления, а не от противоречия и неизвестности законов.
110. В правлении, где есть разделение между особами, там есть также и преимущества особам, законами утвержденные. Преимущество особенное, законами утверждаемое, которое меньше всех прочих отягощает общество, есть сие: судиться пред одним правительством предпочтительнее, нежели пред другим. Вот новые затруднения. То есть: чтоб узнать, пред которым правительством судиться должно.
111. Слышно часто, что в Европе говорят: надлежало бы, чтобы правосудие было отправляемо так, как в Турецкой земле. Посему нет никакого во всей Подсолнечной народа, кроме в глубочайшем невежестве погруженного, который бы столь ясное понятие имел о вещи такой, которую знать людям нужнее всего на свете.
112. Испытывая прилежно судебные обряды, без сомнения, вы сыщете в них много трудностей, представив себе те, какие имеет гражданин, когда ищет судом, чтоб отдали ему имение его или чтобы сделали ему удовольствие во причиненной обиде; но, сообразив оные с вольностию и безопасностию граждан, часто приметите, что их очень мало; и увидите, что труды, проести (т. е. проволочки) и волокиты, также и самые в судах опасности, – не что иное суть, как дань, которую каждый гражданин платит за свою вольность.
113. В Турецких странах, где очень мало смотрят на стяжания, на жизнь и на честь подданных, оканчивают скоро все распри таким или иным образом. Способов, как оные кончить, у них не разбирают, лишь бы только распри были кончены. Паша, внезапно ставши просвещенным, велит по своему мечтанию палками по пятам бить имеющих тяжбу и отпускает их домой.
114. А в государствах, умеренность наблюдающих, где и самого меньшего гражданина жизнь, имение и честь во уважение принимается, не отъемлют ни у кого чести, ниже имения прежде, нежели учинено будет долгое и строгое изыскание истины; не лишают никого жизни, разве когда само отечество против оные восстанет; но и отечество ни на чью жизнь не восстает инако, как дозволив ему прежде все возможные способы защищать оную.
115. Судебные обряды умножаются по тому, в каком где уважении честь, имение, жизнь и вольность граждан содержится.
116. Ответчика должно слушать не только для узнания дела, в котором его обвиняют, но и для того еще, чтоб он себя защищал. Он должен или сам себя защищать, или выбрать кого для своего защищения.
117. Есть люди, которые думают, что молодший член во всяком месте по должности своей мог бы защищать ответчика: как например, прапорщик в роте. Из сего последовала бы еще другая польза, в том состоящая, что судии чрез то во своем звании сделалися бы гораздо искуснее.
118. Защищати – значит здесь не что иное, как представлять суду в пользу ответчика все то, чем его оправдать можно.
119. Законы, осуждающие человека по выслушании одного свидетеля, суть пагубны вольности. Есть закон, во время наследников Константина I изданный, по которому свидетельство человека, в знатном каком чине находящегося, приемлется за достаточное вины доказательство, и других по тому делу свидетелей больше уже слушать не повелевается оным законом. Волею сего законодавца расправу чинили очень скоро и очень странно: о делах судили по лицам, а о лицах – по чинам.
120. По здравому рассуждению, требуются два свидетеля; ибо свидетель один, утверждающий дело, и ответчик, отрицающийся от того, составляют две равные части; ради того должно быть еще третьей – для опровержения ответчика, если не будет кроме того других неоспоримых доказательств, или общая ссылка на одного.
121. Послушествование двух свидетелей почитается довольным к наказанию всех преступлений. Закон им верит так, будто бы они говорили устами самые истины. Следующая глава о сем яснее покажет.
122. Таким же образом судят почти во всех государствах, что всякий младенец, зачавшийся во время супружества, есть законнорожденный: закон в сем имеет доверенность к матери. О сем здесь упоминается по причине неясности законов на сей случай.
123. Употребление пытки противно здравому естественному рассуждению: само человечество вопиет против оной и требует, чтоб она была вовсе уничтожена. Мы видим теперь народ, гражданскими учреждениями весьма прославившийся, который оную отметает, не чувствуя оттуда никакого худого следствия: чего ради она не нужна по своему естеству. Мы ниже сего пространнее о сем изъяснимся.
124. Есть законы, кои не дозволяют пытати, кроме только в тех случаях, когда ответчик не хочет признать себя ни виноватым, ниже невинным.
125. Делать присягу чрез частое употребление весьма общею – не что иное есть, как разрушать силу ее. Крестного целования не можно ни в каких других случаях употреблять, как только в тех, в которых клянущийся никакой собственной пользы не имеет, как то судия и свидетели.
126. Надлежит, чтоб судимые в великих чинах с согласия законов избирали себе судей или по крайней мере могли бы отрешить из них толикое число, чтоб оставшиеся казались быть в суде по выбору судимых преступников.
127. Также бы надлежало нескольким из судей быть чина по гражданству такого же, какого и ответчик, то есть: ему равным, чтоб он не мог подумать, будто бы он попался в руки таких людей, которые в его деле насильство во вред ему употребить могут. Сему уже примеры есть в законах военных.
128. Когда ответчик осуждается, то не судии налагают на него наказание, но закон.
129. Приговоры должны быть, сколь возможно, ясны и тверды, даже до того, чтоб они самые точные слова закона в себе содержали. Если ж они будут заключать в себе особенное мнение судии, то люди будут жить в обществе, не зная точно взаимных в той державе друг ко другу обязательств.
130. Следуют разные образы, коими делаются приговоры. В некоторых землях запирают судей и не дают им ни пить, ни есть до тех пор, покамест единогласно не будет окончен приговор.
131. Есть царства единоначальные, где судьи поступают наподобие производящих суд третейский. Они рассуждают вместе; сообщают друг другу свои мысли; соглашаются между собою; умеряют мнение свое, чтобы сделать оное, сходственным со мнением другого, и ищут соглашать голоса.
132. Римляне не приговаривали по иску, кроме означенного точно – без прибавки и убавки и без всякого умерения оного.
133. Однако преторы или градоначальники выдумали другие образцы истцева права, которое называлось право доброй совести. В оном чинимы были определения или приговоры по рассмотрению судейскому и по совестному их разбору.
134. За приклепный иск истец лишается иска. Надлежит и на ответчика налагать пеню, если не признал точно, чем он должен, дабы сим сохранить с обеих сторон добрую совесть.
135. Если властям, долженствующим исполнять по законам, дозволить право задержать гражданина, могущего дать по себе поруки, то там уже нет никакой вольности; разве когда его отдадут под стражу, для того чтоб немедленно отвечал в доносе на него такой вины, которая по законам смертной подлежит казни. В сем случае он действительно волен; ибо ничему иному не подвергается, как власти закона.
136. Но ежели законодательная власть мнит себя быти в опасности по некоему тайному заговору противу государства или Государя, или по какому сношению с зарубежными недругами, то она может на уреченное время дозволить власти, по законам исполняющей, под стражу брать подозрительных граждан, которые не для иного чего теряют свою свободу на время, как только чтоб сохранить оную невредиму навсегда.
137. Но всего лучше означить точно в законах важные случаи, в которых по гражданине порук принять нельзя; ибо людей, кои порук по себе сыскать не могут, законы во всех землях лишают свободы, покамест общая или частная безопасность того требует. В главе X о сем подробнее написано.
138. Хотя все преступления суть народные, однако, касающиеся больше до граждан, между собою должно различать от принадлежащих более к государству в рассуждении союза, между гражданином и государством хранимого. Первые называются особенными или частными, вторые суть преступления народные или общественные.
139. В некоторых государствах король, будучи возведен на престол, для того чтобы законы во всех державы его странах были исполняемы, по установлению закона государственного во всяком правительстве, сажает чиновного человека ради гонения преступлений именем самого короля: отчего звание доносителей в тех землях неизвестно; а ежели когда на сего народного мстителя подозревают, что он употребляет во зло должность, ему порученную, тогда принудят его объявить имя своего доносчика.
Сей чин, в обществе установленный, бдит о благосостоянии граждан; тот производит дело, а они спокойны. У нас Петр Великий предписал прокурорам изыскивать и производить все безгласные дела: если бы к сему прибавить еще чин или особу, вышеописанною должностью обязанную, то б и у нас менее известны были доносчики.
140. Достойный хулы сей закон Римский, который дозволял судьям брать малые подарки, лишь бы они во весь год не больше как до ста ефимков простиралися. Те, которым ничего не дают, не желают ничего; а которым дают мало, те желают тотчас немного поболее, и потом много. Сверх сего гораздо легче доказать тому, который, будучи должен не брать ничего, возьмет ничто, нежели тому, который возьмет больше, когда ему меньше взять надлежало, и который всегда сыщет на cие виды, извинения, причины и представления, удобно защитить его могущие.
141. Между римскими законами есть, который запрещает описывать имение на Государя, кроме в случае оскорбления Величества, и то в самом высшем степени сего преступления. Нередко сходствовало бы со благоразумием следовать силе сего Закона и определить, чтобы в некоторых только преступлениях описывано было имение на Государя, также не надлежало бы описывать на Государя других, кроме приобретенных, имений.
Глава X
142. Об обряде криминального суда.
143. Мы здесь не намерены вступати в пространное исследование преступлений и в подробное разделение каждого из них на разные роды, и какое наказание со всяким из сих сопряжено; Мы их выше сего разделили на четыре рода: в противном случае множество и различие сих предметов, также разные обстоятельства времени и места, ввели бы Нас в подробности бесконечные. Довольно будет здесь показать: 1) начальные правила самые общие и 2) погрешности самые вреднейшие.
144. Вопрос I. Откуда имеют начало свое наказания и на каком основании утверждается право наказывать людей?
145. Законы можно назвать способами, коими люди соединяются и сохраняются в обществе и без которых бы общество разрушилось.
146. Но не довольно было установить сии способы, кои сделались залогом, надлежало и предохранить оный; наказания установлены на нарушителей.
147. Всякое наказание несправедливо, как скоро оно ненадобное для сохранения в целости сего залога.
148. Первое следствие из сих начальных правил есть сие, что не принадлежит никому, кроме одних законов, определять наказание преступлениям; и что право давать законы о наказаниях имеет только один законодатель, как представляющий в своей особе все общество соединенное и содержащий всю власть в своих руках.
Отсюда еще следует, что судьи и правительства, будучи сами частию только общества, не могут по справедливости, ниже под видом общего блага на другого какого-нибудь члена общества, наложить наказания, законами точно не определенного.
149. Другое следствие есть, что Самодержец, представляющий и имеющий в своих руках всю власть, обороняющую все общество, может один издать общий о наказании закон, которому все члены общества подвержены; однако он должен воздержаться, как выше сего в 99 отделении сказано, чтоб самому не судить. Почему и надлежит ему иметь других особ, которые бы судили по законам.
150. Третье следствие: когда бы жестокость наказания не была уже опровергнута добродетелями, человечество милующими; то бы к отриновению оные довольно было и сего, что она бесполезна; и сие служит к показанию, что она несправедлива.
151. Четвертое следствие: судьи, судящие о преступлениях потому только, что они не законодавцы, не могут иметь права толковать законы о наказаниях. Так кто же будет законный оных толкователь?
Ответствую на сие: Самодержец, а не судья; ибо должность судии в том едином состоит, чтоб исследовать, такой-то человек сделал ли или не сделал действия, противного закону?
152. Судья, судящий о каком бы то ни было преступлении, должен один только силлогизм или сорассуждение сделать, в котором первое предложение, или посылка первая, есть общий закон; второе предложение, или посылка вторая, изъявляет действие, о котором дело идет, сходно ли оное с законами или противное им; заключение содержит оправдание или наказание обвиняемого. Ежели судья сам собою или убежденный темностию законов делает больше одного силлогизма в деле криминальном, тогда уже все будет неизвестно и темно.
153. Нет ничего опаснее, как общее сие изречение: надлежит в рассуждение брать смысл или разум закона, а не слова. Сие не что иное значит, как сломить преграду, противящуюся стремительному людских мнений течению. Сие есть самая непреоборимая истина, хотя оно и кажется странно уму людей, сильно поражаемых малым каким настоящим непорядком, нежели следствиями, далече еще отстоящими, но чрезмерно больше пагубными, которые влечет за собою одно ложное правило, каким народом принятое.
Всякий человек имеет свой собственный, ото всех отличный способ смотреть на вещи, его мыслям представляющиеся. Мы бы увидели судьбу гражданина, пременяемую переносом дела его из одного правительства во другое, и жизнь его и вольность, наудачу зависящую от ложного какого рассуждения или от дурного расположения его судии.
Мы бы увидели те же преступления, наказуемые различно в разные времена тем же правительством, если захотят слушаться не гласа непременяемого законов неподвижных; но обманчивого непостоянства самопроизвольных толкований.
154. Не можно сравнить с сими непорядками тех погрешностей, которые могут произойти от строгого и точных слов придержащегося изъяснения законов о наказаниях. Сии скоропреходящие погрешности обязуют законодавца сделать иногда во словах закона, двоякому смыслу подверженных, легкие и нужные поправки; но, по крайней мере, тогда еще есть узда, воспрящающая своевольство толковать и мудрствовать, могущее учиниться пагубным всякому гражданину.
155. Если законы не точно и твердо определены, и не от слова в слово ра-зумеются; если не та единственная должность судии, чтоб разобрать и положить, которое действие противно предписанным законам или сходно с оными; если правило справедливости и несправедливости, долженствующее управлять равно действия невежи, как и учением просвещенного человека, не будет для судий простой вопрос о учиненном поступке, то состояние гражданина странным приключениям будет подвержено.
156. Иные законы о наказаниях, всегда от слова в слово разумеемые, всяк может верно выложить и знать точно непристойности худого действия, что весьма полезно для отвращения людей от оного; и люди наслаждаются безопасностию как до их особы, так и до имения, им принадлежащего, чему так и быть надобно для того, что сие есть намерение и предмет, без которого общество рушилося бы.
157. Ежели право толковать законы есть зло, то также есть зло и неясность оных, налагающая нужду толкования. Сие неустройство тем больше еще, когда они написаны языком, народу неизвестным, или выражениями незнаемыми.
158. Законы должны быть писаны простым языком; и Уложение, все законы в себе содержащее, должно быть книгою весьма употребительною и которую бы за малую цену достать можно было наподобие букваря; в противном случае, когда гражданин не может сам собою узнать следствие сопряженных с собственными своими делами и касающихся до его особы и вольности, то будет он зависеть от некоторого числа людей, взявших к себе в хранение законы и толкующих оные.
Преступления не столь часты будут, чем большее число людей Уложение читать и разуметь станут. И для того предписать надлежит, чтобы во всех школах учили детей грамоте попеременно из церковных книг и из тех книг, кои законодательство содержат.
159. Вопрос II. Какие лучшие средства употреблять, когда должно взять под стражу гражданина, также открыть и изобличить преступление?
160. Тот погрешит против безопасности личной каждого гражданина, кто правительству, долженствующему исполнять по законам и имеющему власть сажать в тюрьму гражданина, дозволит отымать у одного свободу под видом каким маловажным, а другого оставлять свободным, несмотря на знаки преступления самые ясные.
161. Брать под стражу есть наказание, которое ото всех других наказаний тем разнится, что оно по необходимости предшествует судебному объявлению преступления.
162. Однако ж наказание сие не может быть наложено, кроме в таком случае, когда вероятно, что гражданин в преступление впал.
163. Сего ради закон должен точно определить те знаки преступления, по которым можно взять под стражу обвиняемого и которые подвергали бы его сему наказанию и словесным допросам, кои также суть некоторый род наказания. Например:
164. Глас народа, который его винит, побег его, признание, учиненное им вне суда; свидетельство сообщника, бывшего с ним в том преступлении, угрозы и известная вражда между обвиняемым и обиженным, самое действие преступления и другие подобные знаки довольную могут подать причину, чтобы взять гражданина под стражу.
165. Но сии доказательства должны быть определены законом, а не судьями, которых приговоры всегда противоборствуют гражданской вольности, если они не выведены, на какой бы то ни было случай, из общего правила, в Уложении находящегося.
166. Когда тюрьма не столько будет страшна, сиречь, когда жалость и человеколюбие войдут и в самые темницы и проникнут с сердца судебных служителей; тогда законы могут довольствоваться знаками, чтоб определить взять кого под стражу.
167. Есть различие между содержанием под стражею и заключением в тюрьму.
168. Взять человека под стражу – не что иное есть, как хранить опасно особу гражданина обвиняемого, доколе учинится известно, виноват ли он или невиновен. И так содержание под стражею должно длиться сколь возможно меньше и быть столь снисходительно, сколь можно.
Время оному надлежит определить по времени, которое требуется к приготовлению дела к слушанию судьями. Строгость содержания под стражею не может быть иная никакая, как та, которая нужна для пресечения обвиняемому побега или для открытия доказательств во преступлении. Решить дело надлежит так скоро, как возможно.
169. Человек, бывший под стражею и потом оправдавшийся, не должен чрез то подлежать никакому бесчестию. У римлян сколько видим мы граждан, на которых доносили пред судом преступления самые тяжкие, после признания их невинности почтенных по том и возведенных на чиноначальства очень важные.
170. Тюремное заключение есть следствием решительного судей определения и служит вместо наказания.
171. Не должно сажать в одно место: 1) вероятно обвиняемого в преступлении; 2) обвиненного во оном и 3) осужденного. Обвиняемый держится только под стражею, а другие два – в тюрьме; но тюрьма сия одному из них будет только часть наказания, а другому самое наказание.
172. Быть под стражею не должно признавать за наказание, но за средство хранить опасно особу обвиняемого, которое хранение обнадеживает его вместе и о свободе, когда он невиновен.
173. Быть под стражею военною никому из военных не причиняет бесчестия; таким же образом и между гражданами почитаться должно быть под стражею гражданскою.
174. Хранение под стражею переменяется в тюремное заключение, когда обвиняемый сыщется виноватым, и так надлежит быть разным местам для всех трех.
175. Вот предложение общее для выкладки, по которой об истине содеянного беззакония увериться можно примерно. Когда доказательства о каком действии зависят одни от других, то есть, когда знаков преступления ни доказать, ни утвердить истины их инако не можно, как одних чрез другие; когда истина многих доказательств зависит от истины одного только доказательства, в то время число доказательств ни умножает, ни умаляет вероятности действия, потому что тогда сила всех доказательств заключается в силе того только доказательства, от которого другие все зависят; и если cие одно доказательство будет опровержено, то и все прочие вдруг с оным опровергаются.
А ежели доказательства не зависят одно от другого и всякого доказательства истина особенно утверждается, то вероятность действия умножается по числу знаков для того, что несправедливость одного доказательства не влечет за собою несправедливости и другого. Может быть, кому слыша сие покажется странно, что Я слово «вероятность» употребляю, говоря о преступлениях, которые должны быть несомненно известны, чтоб за оные кого наказать можно было.
Однако ж при сем надлежит примечать, что моральная известность есть вероятность, которая называется известностию для того, что всякий благоразумный человек принужден оную за таковую признать.
176. Можно доказательства преступлений разделить на два рода: совершенные и несовершенные. Я называю совершенными те, которые исключают уже все возможности к показанию невинности обвиняемого; а несовершенными – те, которые сей возможности не исключают. Одно совершенное доказательство довольно утвердить, что осуждение, чинимое преступнику, есть правильное.
177. Что ж касается до несовершенных доказательств, то надлежит быть их числу весьма великому для составления совершенного доказательства: сиречь надобно, чтоб соединение всех таких доказательств исключало возможность к показанию невинности обвиняемого, хотя каждое порознь доказательство оные и не исключает.
Прибавим к сему и то, что несовершенные доказательства, на которые обвиняемый не ответствует ничего, что бы довольно было к его оправданию, хотя невинность его и должна бы ему подать средства к ответу, становятся в таком случае уже совершенными.
178. Где законы ясны и точны, там долг судьи не состоит ни в чем ином, как вывесть наружу действие.
179. В изыскании доказательств преступления надлежит иметь проворство и способность; чтоб вывесть из сих изысканий окончательное положение, надобно иметь точность и ясность мыслей; но, чтобы судить по окончательному сему положению, не требуется больше ничего, как простое здравое рассуждение, которое вернейшим будет предводителем, нежели все знание судьи, приобыкшего находить везде виноватых.
180. Ради того сей закон весьма полезен для общества, гдe он установлен, который предписывает всякого человека судить чрез равных ему, ибо когда дело идет о жребии гражданина, то должно наложить молчание всем умствованиям, вперяемым в нас от различия чинов и богатства или счастия; им не надобно иметь места между судьями и обвиняемым.
181. Но когда преступление касается до оскорбления третьего, тогда половину судей должно взять из равных обвиняемому, а другую половину – из равных обиженному.
182. Тако ж и то еще справедливо, чтобы обвиняемый мог отрешить некоторое число из своих судей, на которых он имеет подозрение. Где обвиняемый пользуется сим правом, там виноватый казаться будет, что он сам себя осуждает.
183. Приговоры судей должны быть народу ведома, так как и доказательства преступлений, чтобы всяк из граждан мог сказать, что он живет под защитою законов; мысль, которая подает гражданам ободрение и которая больше всех угодна и выгодна Самодержавному правителю, на истинную свою пользу прямо взирающему.
184. Вещь очень важная во всех законах есть: точно определить начальные правила, от которых зависит имоверность свидетелей и сила доказательств всякого преступления.
185. Всякий здравого рассудка человек, то есть которого мысли имеют некоторую связь одни с другими и которого чувствования сходствуют с чувствованиями ему подобных, может быть свидетелем. Но вере, которую к нему иметь должно, мерою будет причина, для коей он захочет правду сказать или не сказать. Во всяком случае свидетелям верить должно, когда они причины не имеют лжесвидетельствовать.
186. Есть люди, которые почитают между злоупотреблениями, вкравшимися и сильно уже вкоренившимися в житейских делах, достойным примечания то мнение, которое привело законодавцев уничтожить свидетельство человека виноватого, приговором уже осужденного.
Такой человек почитается граждански мертвым, говорят законоучители; а мертвый никакого уже действия произвести не может. Если только свидетельство виноватого осужденного не препятствует судебному течению дела, то для чего не дозволить и после осуждения, в пользу истины и ужасной судьбины несчастного, еще мало времени, чтоб он мог или сам себя оправдать, или и других обвиненных, ежели только может представить новые доказательства, могущие переменить существо действия.
187. Обряды нужны в отправлении правосудия, но они не должны быть никогда так законами определены, чтоб когда-нибудь могли служить к пагубе невинности; в противном случае они принесут с собою великие бесполезности.
188. Чего для можно принять во свидетели всякую особу, никакой причины не имеющую к ложному послушествованию. По сему вера, которую к свидетелю иметь должно, будет больше или меньше во сравнении ненависти или дружбы свидетелевой к обвиняемому, так же и других союзов или разрывов, находящихся между ними.
189. Одного свидетеля не довольно для того, что когда обвиняемый отрицается от того, что утверждает один свидетель, то нет тут ничего известного, и право, всякому принадлежащее, верить ему, что он прав, в таком случае перевешивает на сторону обвиняемого.
190. Имоверность свидетеля тем меньшей есть силы, чем преступление тяжчее и обстоятельства менее вероятны. Правило сие также употребить можно при обвинениях в волшебстве или в действиях, безо всякой причины суровых.
191. Кто упрямится и не хочет ответствовать на вопросы, ему от суда предложенные, заслуживает наказание, которое законом определить должно и которому надлежит быть из тяжких между установляемыми, чтоб виноватые не могли тем избежать, дабы их народу не представили в пример, который они собою дать должны.
Сие особенное наказание не надобно, когда нет в том сомнения, что обвиняемый учинил точно преступление, которое ему в вину ставят; ибо тогда уже признание не нужно, когда другие неоспоримые доказательства показывают, что он виноват. Сей последний случай есть больше обыкновенный; понеже опыты свидетельствуют, что по большой части в делах криминальных виноватые не признаются в винах своих.
192. Вопрос III. Пытка, не нарушает ли справедливости, и приводит ли она к концу, намереваемому законами?
193. Суровость, утвержденная употреблением весьма многих народов, есть пытка, производимая над обвиняемым во время устроивания судебным порядком дела его, или чтоб вымучить у него собственное его в преступлении признание, или для объяснения противоречий, которыми он в допросе спутался, или для принуждения его объявить своих сообщников, или ради открытия других преступлений, в которых его не обвиняют, в которых, однако ж, он может быть виновен.
194. 1) Человека не можно почитать виноватым прежде приговора судейского, и законы не могут его лишить защиты своей прежде, нежели доказано будет, что он нарушил оные. Чего ради какое право может кому дать власть налагати наказание на гражданина в то время, когда еще сомнительно, прав ли он или виноват?
Не очень трудно заключениями дойти к сему сорассуждению. Преступление или есть известное, или нет. Ежели оно известно, то не должно преступника наказывать инако, как положенным в законе наказанием; итак, пытка не нужна. Если преступление неизвестно, так не должно мучить обвиняемого по той причине, что не надлежит невинного мучить и что по законам тот не винен, чье преступление не доказано. Весьма нужно, без сомнения, чтоб никакое преступление, ставши известным, не осталось без наказания.
Обвиняемый, терпящий пытку, не властен над собою в том, чтоб он мог говорить правду. Можно ли больше верить человеку, когда он бредит в горячке, нежели когда он при здравом рассудке и в добром здоровье? Чувствование боли может возрасти до такой степени, что, совсем овладев всею душою, не оставить ей больше никакой свободы производить какое-либо ей приличное действие, кроме как в то же самое мгновение ока предпринять самый кратчайший путь, коим бы от той боли избавиться.
Тогда и невинный закричит, что он виноват, лишь бы только мучить его перестали. И то же средство, употребленное для различения невинных от виноватых, истребит всю между ними разность, и судьи будут также неизвестны, виноватого ли они имеют пред собою или невинного, как и были прежде начатия сего пристрастного расспроса. Посему пытка есть надежное средство осудить невинного, имеющего слабое сложение, и оправдать беззаконного, на силы и крепость свою уповающего.
195. 2) Пытку еще употребляют над обвиняемым для объяснения, как говорят, противоречий, которыми он спутался в допросе, ему учиненном: будто бы страх казни, неизвестность и забота в рассуждении, так же и самое невежество, невинным и виноватым общее, не могли привести ко противоречиям и боязливого невинного и преступника, ищущего скрыть свое беззаконие; будто бы противоречия, столь обыкновенные человеку, во спокойном духе пребывающему, не должны умножаться при востревожении души, всей в тех мыслях погруженной, как бы себя спасти от наступающей беды.
196. 3) Производить пытку для открытия, не учинил ли виноватый других преступлений, кроме того, которое ему не доказали, есть надежное средство к тому, чтобы все преступления остались без должного им наказания; ибо судья всегда новые захочет открыть; впрочем, сей поступок будет основан на следующем рассуждении: ты виноват в одном преступлении; так, может быть, ты еще сто других беззаконий сделал.
Следуя законам, станут тебя пытать и мучить не только за то, что ты виноват, но и за то, что ты, может быть, еще гораздо больше виновен.
197. 4) Кроме сего пытают обвиняемого, чтоб объявил своих сообщников. Но когда мы уже доказали, что пытка не может быть средством к познанию истины, то как она может способствовать к тому, чтоб узнать сообщников злодеяния; без сомнения показующему на самого себя весьма легко показывать на других.
Впрочем, справедливо ли мучить человека за преступление других? Как будто не можно открыть сообщников испытанием свидетелей, на преступника сысканных, исследованием приведенных против него доказательств, и самого действия, случившегося в исполнении преступления, и, наконец, всеми способами, послужившими ко изобличению преступления, обвиняемым содеянного?
198. Вопрос IV. Наказания должно ли уравнять со преступлениями, и как бы можно твердое сделать положение о сем уравнении?
199. Надлежит законом определить время к собранию доказательств и всего нужного к делу в великих преступлениях, чтоб виноватые умышленными во своем деле переменами не отводили вдаль должного им наказания или бы не запутывали своего дела. Когда доказательства все будут собраны и о подлинности преступления станет известно, надобно виноватому дать время и способы оправдать себя, если он может.
Но времени сему надлежит быть весьма короткому, чтоб не сделать предосуждения потребной для наказания скорости, которая почитается между весьма сильными средствами к удержанию людей от преступлений.
200. Чтобы наказание не казалось насильством одного или многих, против гражданина восставших, надлежит, чтоб оно было народное, по-надлежащему скорое, потребное для общества, умеренное, сколь можно при данных обстоятельствах, уравненное со преступлением и точно показанное в законах.
201. Хотя законы и не могут наказывать намерения, однако ж нельзя сказать, чтоб действие, которым начинается преступление и которое изъявляет волю, стремящуюся произвести самим делом то преступление, не заслуживало наказания, хотя меньшего, нежели какое установлено за преступление, самою вещию исполненное.
Наказание потребно для того, что весьма нужно предупреждать и самые первые покушения ко преступлению; но как между сими покушениями и исполнением беззакония может не быть промежутка времени, то не худо оставить большее наказание для исполненного уже преступления, чтоб тем начавшему злодеяние дать некоторое побуждение, могущее его отвратить от исполнения начатого злодеяния.
202. Также надобно положить наказания не столь великие сообщникам в беззаконии, которые не суть беспосредственными оного исполнителями, как самим настоящим исполнителям. Когда многие люди согласятся подвергнуть себя опасности, всем им общей, то чем более опасность, тем больше они стараются сделать оную равною для всех.
Законы, наказующие с большею жестокостию исполнителей преступления, нежели простых только сообщников, воспрепятствуют, чтоб опасность могла быть равно на всех разделена, и причинять, что будет труднее сыскать человека, который бы захотел взять на себя совершить умышленное злодеяние, понеже опасность, которой он себя подвергнет, будет больше в рассуждении наказания, за то ему положенного, неравного с прочими сообщниками.
Один только есть случай, в котором можно сделать изъятие из общего сего правила, то есть, когда исполнитель беззакония получает от сообщников особенное награждение. Тогда для того, что разнота опасности награждается разностию выгод, надлежит быть наказанию, всем им равному. Сии рассуждения покажутся очень тонки; но надлежит думать, что весьма нужно, дабы законы сколь возможно меньше оставляли средств сообщникам злодеяния согласиться между собою.
203. Некоторые правительства освобождают от наказания сообщника великого преступления, донесшего на своих товарищей. Такой способ имеет свои выгоды, также и свои неудобства, когда оный употребляется в случаях особенных.
Общий всегдашний закон, обещающий прощение всякому сообщнику, открывающему преступление, должно предпочесть временному особому объявлению в случае каком особенном; ибо такой закон может предупредить соединение злодеев, вперяя в каждого из них страх, чтоб не подвергнуть себя одного опасности; но должно по том и наблюдать свято сие обещание и дать, так говоря, защитительную стражу всякому, кто на сей закон ссылаться станет.
204. Вопрос V. Какая мера великости преступлений?
205. Намерение установленных наказаний не то, чтоб мучити тварь, чувствами одаренную; они на тот конец предписаны, чтоб воспрепятствовать виноватому, дабы он вперед не мог вредить обществу, и чтоб отвратить сограждан от соделания подобных преступлений. Для сего между наказаниями надлежит употреблять такие, которые, будучи уравнены со преступлениями, впечатлили бы в сердцах людских начертание самое живое и долго пребывающее, и в то же самое время были бы меньше люты над преступниковым телом.
206. Кто не объемлется ужасом, видя в истории столько варварских и бесполезных мучений, выисканных и в действо произведенных без малейшего совести зазора людьми, давшими ceбе имя премудрых? Кто не чувствует внутри содрогания чувствительного сердца при зрелище тех тысяч бессчастных людей, которые оные претерпели и претерпевают, многажды обвиненные во преступлениях, сбыться трудных или немогущих, часто соплетенных от незнания, а иногда от cyеверия?
Кто может, говорю Я, смотреть на растерзание сих людей, с великими приготовлениями отправляемое людьми же, их собратиею? Страны и времена, в которых казни были самые лютейшие в употреблении, суть те, в которых содевалися беззакония самые бесчеловечные.
207. Чтоб наказание произвело желаемое действие, довольно будет и того, когда зло, оным причиняемое, превосходит добро, ожиданное от преступления, прилагая, в выкладке, показывающей превосходство зла над добром, также и известность наказания несомненную и потеряние выгод, преступлением приобретаемых. Всякая строгость, преходящая сии пределы, бесполезна и, следовательно, мучительская.
208. Если где законы были суровы, то они или переменены, или ненаказание злодейств родилось от самой суровости законов. Великость наказаний должна относима быть к настоящему состоянию и к обстоятельствам, в которых какой народ находится. По мере как умы живущих в обществе просвещаются, так умножается и чувствительность каждого особо гражданина; а когда во гражданах возрастает чувствительность, то надобно, чтобы строгость наказаний умалялася.
209. Вопрос VI. Смертная казнь, полезна ль и нужна ли в обществе для сохранения безопасности и доброго порядка?
210. Опыты свидетельствуют, что частое употребление казней никогда людей не сделало лучшими. Чего для если Я докажу, что в обыкновенном состоянии общества смерть гражданина ни полезна, ни нужна, то Я преодолею восстающих против человечества. Я здесь говорю: в обыкновенном общества состоянии; ибо смерть гражданина может в одном только случае быть потребна, сиречь, когда он, лишен будучи вольности, имеет еще способ и силу, могущую возмутить народное спокойство.
Случай сей не может нигде иметь места, кроме когда народ теряет или возвращает свою вольность, или во время безначалия, когда самые беспорядки заступают место законов. А при спокойном царствовании законов и под образом правления, соединенными всего народа желаниями утвержденными, в государстве, противу внешних неприятелей защищенном, и внутри поддерживаемом крепкими подпорами, то есть силою своею и вкоренившимся мнением во гражданах, где вся власть в руках Самодержца, – в таком государстве не может в том быть никакой нужды, чтоб отнимать жизнь у гражданина.
Двадцать лет государствования Императрицы Елисаветы Петровны подают отцам народов пример, к подражанию изящнейший, нежели самые блистательные завоевания.
211. Не чрезмерная жестокость и разрушение бытия человеческого производят великое действие в сердцах граждан; но непрерывное продолжение наказания.
212. Смерть злодея слабее может воздержать беззакония, нежели долговременный и непрерывно пребывающий пример человека, лишенного своей свободы, для того чтобы наградить работою своею, чрез всю его жизнь продолжающеюся, вред, им сделанный обществу. Ужас, причиняемый воображением смерти, может быть гораздо силен, но забвению в человеке природному оный противостоять не может.
Правило общее: впечатления во человечeской душе, стремительные и насильственные, тревожат сердце и поражают, но действия их долго в памяти не остаются. Чтобы наказание было сходно со правосудием, то не должно оному иметь большого степени напряжения, как только, чтоб оно было довольно к отвращению людей от преступления.
И так Я смело утверждаю, что нет человека, который бы, хотя мало подумавши, мог положить в равновесии, с одной стороны, преступление, какие бы оно выгоды ни обещало, а с другой – всецелое и со жизнию кончащееся лишение вольности.
213. Вопрос VII. Какие наказания должно налагать за различные преступления?
214. Кто мутит народное спокойство, кто не повинуется законам, кто нарушает сии способы, которыми люди соединены в общества и взаимно друг друга защищают; тот должен из общества быть исключен, то есть: стать извергом.
215. Надлежит важнейшие иметь причины к изгнанию гражданина, нежели чужестранца.
216. Наказание, объявляющее человека бесчестным, есть знак всенародного о нем худого мнения, которое лишает гражданина почтения и доверенности, обществом ему прежде оказанной, и которое его извергает из братства, хранимого между членами того же государства. Бесчестие, законами налагаемое, должно быть то же самое, которое происходит из всесветного нравоучения; ибо когда действия, называемые нравоучителями средние, объявятся в законах бесчестными, то воспоследует сие неустройство, что действия, долженствующие для пользы общества почитаться бесчестными, перестанут вскоре признаваемы быть за такие.
217. Надлежит весьма беречься, чтоб не наказывать телесными и боль причиняющими наказаниями зараженных пороком притворного некоего вдохновения и ложной святости. Cие преступление, основанное на гордости и кичении, из самой боли получить себе славу и пищу. Чему примеры были в бывшей Тайной канцелярии, что таковые по особливым дням прихаживали единственно для того, чтобы претерпеть наказания.
218. Бесчестие и посмеяние суть одни наказания, кои употреблять должно противу притворно вдохновенных и лжесвятош; ибо сии гордость их притупить могут. Таким образом, противуположив силы силам того же рода, просвещенными законами рассыплют аки прах удивление, могущее вогнездиться во слабых умах о ложном учении.
219. Бесчестия на многих вдруг налагать не должно.
220. Наказанию надлежит быть готовому, сходственному со преступлением и народу известному.
221. Чем ближе будет отстоять наказание от преступления и в надлежащей учинится скорости, тем оно будет полезнее и справедливее. Справедливее потому, что оно преступника избавит от жестокого и излишнего мучения сердечного о неизвестности своего жребия. Производство дела в суде должно быть окончено в самое меньшее сколь можно время.
Сказано Мною, что в надлежащей скорости чинимое наказание полезно; для того, что чем меньше времени пройдет между наказанием и преступлением, тем больше будут почитать преступление причиною наказания, а наказание – действом преступления. Наказание должно быть непреложно и неизбежно.
222. Самое надежнейшее обуздание от преступлений есть не строгость наказания, но когда люди подлинно знают, что преступающий законы непременно будет наказан.
223. Известность и о малом, но неизбежном наказании сильнее впечатляется в сердце, нежели страх жестокой казни, совокупленный с надеждою избыть от оные. Поелику наказания станут кротче и умереннее, милосердие и прощение тем меньше будет нужно; ибо сами законы тогда духом милосердия наполнены.
224. Во всем, сколь ни пространно, государстве не надлежит быть никакому месту, которое бы от законов не зависело.
225. Вообще стараться должно о истреблении преступлений, а наипаче тех, кои более людям вреда наносят. Итак, средства, законами употребляемые для отвращения от того людей, должны быть самые сильнейшие в рассуждении всякого рода преступлений, по мере чем больше они противны народному благу и по мере сил, могущих злые или слабые души привлечь к исполнению оных. Ради чего надлежит быть уравнению между преступлением и наказаниями.
226. Если два преступления, вредящие не равно обществу, получают равное наказание, то неравное распределение наказаний произведет сие странное противоречие, мало кем примеченное, хотя очень часто случающееся, что законы будут наказывать преступления, ими ж самими произращенные.
227. Когда положится то же наказание тому, кто убьет животину, и тому, кто человека убьет, или кто важное какое письмо подделает, то вскоре люди не станут делать никакого различия между сими преступлениями.
228. Предполагая нужду и выгоды соединения людей в общества, можно преступления, начав от великого до малого, поставить рядом, в котором самое тяжкое преступление то будет, которое клонится к конечной расстройке и к непосредственному потом разрушению общества, а самое легкое – малейшее раздражение, которое может учиниться какому человеку частному.
Между сими двумя краями содержаться будут все действия, противные общему благу и называемые беззаконными, поступая нечувствительным почти образом от первого в сем ряду места до самого последнего. Довольно будет, когда в сих рядах означатся постепенно и порядочно в каждом из четырех родов, о коих Мы в седьмой главе говорили, действия, достойные хулы ко всякому из них при– надлежащие.
229. Мы особое сделали отделение о преступлениях, касающихся прямо и непосредственно до разрушения общества, и клонящихся ко вреду того, кто во оном главою, и которые суть самые важнейшие потому, что они больше всех прочих суть пагубны обществу: они названы преступлениями в оскорблении Величества.
230. По сем первом роде преступлений следуют те, кои стремятся против безопасности людей частных.
231. Не можно без того никак обойтись, чтоб нарушающего сие право не наказать каким важным наказанием. Беззаконные предприятия против жизни и вольности гражданина суть из числа самых великих преступлений; и под сим именем заключаются не только смертоубийства, учиненные людьми из народа, но и того же рода насилия, содеянные особами, какого бы происшествия и достоинства они ни были.
232. Воровства, совокупленные с насильством и без насильства.
233. Обиды личные, противные чести, то есть клонящиеся отнять у гражданина ту справедливую часть почтения, которую он имеет право требовать от других.
234. О поединках небесполезно здесь повторить то, что утверждают многие и что другие написали: что самое лучшее средство предупредить сии преступления есть наказывать наступателя, сиречь того, кто подает случай к поединку, а невиноватым объявить принужденного защищать честь свою, не давши к тому никакой причины.
235. Тайный провоз товаров есть сущее воровство у государства.
Сие преступление начало свое взяло из самого закона: ибо чем больше пошлины и чем больше получается прибытка от тайно провозимых товаров, следовательно, тем сильнее бывает искушение, которое еще вяще умножается удобностию оное исполнить, когда окружность заставами стрегомая есть великого пространства и когда товар, запрещенный или обложенный пошлинами, есть мал количеством. Утрата запрещенных товаров и тех, которые с ними вместе везут, есть весьма правосудна.
Такое представление заслуживает важные наказания, как то суть тюрьма и лицеимство, сходственное с естеством преступления. Тюрьма для тайно провозящего товары не должна быть та же, которая и для смертоубийцы или разбойника, по большим дорогам промышляющего; и самое приличное наказание кажется быть работа виноватого, выложенная и постановленная в ту цену, которою он таможню обмануть хотел.
236. О проторговавшихся или выступающих с долгами из торгов, должно упомянуть. Надобность доброй совести в договорах и безопасность торговли обязует законоположника подать заимодавцам способы ко взысканию уплаты с должников их.
Но должно различить выступающего с долгами из торгов хитреца от честного человека, без умыслов проторговавшегося. С проторговавшимся же без умысла, который может ясно доказать, что неустойка в слове собственных его должников, или приключившаяся им трата, или неизбежное разумом человеческим неблагополучие лишили его стяжаний, ему принадлежащих, с таким не должно по той же строгости поступать. Для каких бы причин вкинуть его в тюрьму?
Ради чего лишить его вольности, одного лишь оставшегося ему имущества? Ради чего подвергнуть его наказаниям, преступнику только приличным, и убедить его, чтоб он о своей честности раскаивался? Пускай почтут, если хотят, долг его за неоплатный даже до совершенного удовлетворения заимодавцев; пускай не дадут ему воли удалиться куда-нибудь без согласия на то соучастников; пускай принудят его употребить труды свои и дарования к тому, чтобы прийти в состояние удовлетворить тем, кому он должен: однако ж никогда никаким твердым доводом не можно оправдать того закона, который бы лишил его своей вольности безо всякой пользы для заимодавцев его.
237. Можно, кажется, во всех случаях отличить обман с ненавистными обстоятельствами от тяжкой погрешности и тяжкую погрешность от легкой, и сию от беспримесной невинности; и учредить по сему законом и наказания.
238. Осторожный и благоразумный закон может воспрепятствовать большой части хитрых отступов от торговли и приуготовить способы для избежания случаев, могущих сделаться с человеком честной совести и радетельным.
Роспись публичная, сделанная порядочно всем купеческим договорам, и беспрепятственное дозволение всякому гражданину смотреть и справляться с оною, банк, учрежденный складкою, разумно на торгующих распределенною, из которого бы можно было брать приличные суммы для вспомоществования несчастных, хотя и рачительных торговцев, были бы установления, приносящие с собою многие выгоды и никаких в самой вещи неудобств не причиняющие.
239. Вопрос VIII. Какие средства самые действительные ко предупреждению преступлений?
240. Гораздо лучше предупреждать преступления, нежели наказывать.
241. Предупреждать преступления есть намерение и конец хорошего законоположничества, которое не что иное есть, как искусство приводить людей к самому совершенному благу или оставлять между ними, если всего искоренить нельзя, самое малейшее зло.
242. Когда запретим многие действия, слывущие у нравоучителей средними, то тем не удержим преступлений, могущих от того воспоследовать, но произведем чрез то еще новые.
243. Хотите ли предупредить преступления? Сделайте, чтоб законы меньше благодетельствовали разным между гражданами чинам, нежели всякому особо гражданину.
244. Сделайте, чтоб люди боялися законов и никого бы кроме их не боялися.
245. Хотите ли предупредить преступления? Сделайте, чтобы просвещение распространилось между людьми.
246. Книга добрых законов не что иное есть, как недопущение до вредного своевольства причинять зло себе подобным.
247. Еще можно предупредить преступление награждением добродетели.
248. Наконец, самое надежное, но и самое труднейшее средство сделать людей лучшими есть приведение в совершенство воспитания.
249. В сей главе найдутся повторения о том, что уже выше сказано; но рассматривающий, хотя с малым прилежанием, увидит, что вещь сама того требовала; и, кроме того, очень можно повторять то, что долженствует быть полезным человеческому роду.
Глава XI
250. Гражданское общество, так как и всякая вещь, требует известного порядка. Надлежит тут быть одним, которые правят и повелевают, а другим – которые повинуются.
251. И cие есть начало всякого рода покорности. Сия бывает больше или меньше облегчительна, смотря на состояние служащих.
252. И так когда закон естественный повелевает нам по силе нашей о благополучии всех людей пещися, то обязаны Мы состояние и сих подвластных облегчать, сколько здравое рассуждение дозволяет.
253. Следовательно, и избегать случаев, чтоб не приводить людей в неволю, разве крайняя необходимость к учинению того привлечет, и то не для собственной корысти, но для пользы государственной; однако и та едва не весьма ли редко бывает.
254. Какого бы рода покорство ни было, надлежит, чтоб законы гражданские, с одной стороны, злоупотребление рабства отвращали, а с другой – предостерегали бы опасности, могущие оттуда произойти.
255. Несчастливо то правление, в котором принуждены установлять жестокие законы.
256. Петр Первый узаконил в 1722 году, чтобы безумные и подданных своих мучащие были под смотрением опекунов. По первой статье сего указа чинится исполнение, а последняя для чего без действа осталася, неизвестно.
257. В Лакедемоне рабы не могли требовать в суде никакого удовольствия; и несчастие их умножалося тем, что они не одного только гражданина, но при том и всего общества были рабы.
258. У римлян в увечье, сделанном рабу, не смотрели более ни на что, как только на убыток, причиненный чрез то господину. За одно почитали рану, животине нанесенную и рабу, и не принимали более ничего в рассуждение, как только сбавку цены; и то обращалося в пользу хозяину, а не обиженному.
259. У афинян строго наказывали того, кто с рабом поступал свирепо.
260. Не должно вдруг и чрез узаконение общее делать великого числа освобожденных.
261. Законы могут учредить нечто полезное для собственного рабов имущества.
262. Окончим все сие, повторяя правило то, что правление, весьма сходственное с естеством, есть то, которого частное расположение соответствует лучше расположению народа, ради которого оно учреждается.
263. Причем, однако, весьма же нужно, чтобы предупреждены были те причины, кои столь часто привели в непослушание рабов против господ своих; не узнав же сих причин, законами упредить подобных случаев нельзя, хотя спокойство одних и других от того зависит.
Глава XII
264. О размножении народа в государстве.
265. Россия не только не имеет довольно жителей, но обладает еще чрезмерным пространством земель, которые ни населены, ниже обработаны. Итак, не можно сыскать довольно ободрений к размножению народа в государстве.
266. Мужики большою частию имеют по двенадцати, пятнадцати и до двадцати детей из одного супружества; однако редко и четвертая часть оных приходит в совершенный возраст. Чего для непременно должен тут быть какой-нибудь порок или в пище, или во образе их жизни, или в воспитании, который причиняет гибель сей надежде государства. Какое цветущее состояние было бы сея державы, если бы могли благоразумными учреждениями отвратить или предупредить сию пагубу!
267. Прибавьте к сему и то, что двести лет прошло, как незнаемая предкам болезнь перешла к северу из Америки и устремилася на пагубу природы человеческой. Сия болезнь распространяет печальные и погибельные следствия во многих провинциях. Надлежит попечение иметь о здравии граждан: чего ради разумно бы было пресечь сея болезни сообщение чрез законы.
268. Моисеевы [законы] могут к сему служить примером.
269. Кажется еще, что новозаведенный способ от дворян – сбирать свои доходы – в России уменьшает народ и земледелие. Все деревни почти на оброке. Хозяева, не быв вовсе или мало в деревнях своих, обложат каждую душу по рублю, по два и даже до пяти рублей, несмотря на то, каким способом их крестьяне достают сии деньги.
270. Весьма бы нужно было предписать помещикам законом, чтоб они с большим paссмотрением располагали свои поборы, и те бы поборы брали, которые менее мужика отлучают от его дому и семейства. Тем бы распространилось больше земледелие и число бы народа в государстве умножилось.
271. А ныне иной земледелец лет пятнадцать дома своего не видит, а всякий год платит помещику свой оброк, промышляя в отдаленных от своего дому городах, бродя по всему почти государству.
272. При великом благополучии государства легко умножается число граждан.
273. Страны луговые и ко скотоводству способные обыкновенно мало имеют народа потому, что мало людей находят себе там упражнение; пахотные же земли большее число людей в упражнении содержат и имеют.
274. Везде, где есть место, в котором могут выгодно жить, тут люди умножаются.
275. Но страна, которая податями столь много отягчена, что рачением и трудолюбием своим люди с великою нуждою могут найти себе пропитание, чрез долгое время должна обнажена быть жителей.
276. Где люди не для иного чего убоги, как только, что живут под тяжкими законами и земли свои почитают не столько за основание к содержанию своему, как за подлог к удручению, в таких местах народ не размножается: они сами для себя не имеют пропитания, так как им можно подумать от оного уделить еще своему потомству?
Они не могут сами в своих болезнях надлежащим пользоваться присмотром, так как же им можно воспитывать твари, находящиеся в беспрерывной болезни, то есть во младенчестве? Они закапывают в землю деньги свои, боясь пустить оные в обращение; боятся богатыми казаться; боятся, чтоб богатство не навлекло на них гонения и притеснений.
277. Многие, пользуясь удобностию говорить, но не будучи в силах испытать в тонкость о том, о чем говорят, сказывают: чем в большем подданные живут убожестве, тем многочисленнее их семьи. Так же и то: чем большие на них наложены дани, тем больше приходят они в состояние платить оные; сии суть два мудрования, которые всегда пагубу наносили и всегда будут причинять погибель самодержавным государствам.
278. Зло есть почти неисцелимое, когда обнажение государства от жителей происходит от долгих времен по причине внутреннего некоего порока и худого правления. Люди там исчезли чрез нечувствительную и почти в природу уже преобратившуюся болезнь: родившися в унынии и в бедности, в насилии или в принятых правительством лживых рассуждениях, видели они свое истребление, часто не приметив причин истребления своего.
279. Чтоб восстановить державу, таким образом обнаженную от жителей, напрасно будем ожидать помощи в сем от детей, могущих впредь родиться. Надежда сия вовсе безвременна. Люди, в своих пустынях живущие, не имеют ни ободрения, ниже рачения. Поля, могущие пропитать целый народ, едва дают прокормление одному семейству.
Простой народ в сих странах не имеет участия и в бедности, то есть в землях никогда не оранных, которых там великое множество. Некоторые начальные граждане или Государь сделались нечувствительно владетелями всего пространства тех земель, впусте лежащих; разоренные семьи оставили оные им на паствы, а трудолюбивый человек ничего не имеет.
280. В таких обстоятельствах надлежало бы во всем пространстве той земли делать то, что римляне делали в одной своего государства части: предприять в недостатке жителей то, что они наблюдали в их излишестве; разделить земли всем семьям, которые никаких не имеют; подать им способы вспахать оные и обработать.
Сие разделение должно учинить тотчас, когда только сыщется человек, который бы принял оное так, чтоб нимало времени не было упущено для начатия работы.
281. Юлий Цезарь давал награждения имеющим много детей. Августовы законы были гораздо понудительнее. Он наложил наказание на не вступающих в супружество и увеличил награждения сочетающихся браком, так же и имеющих детей. Сии законы были несходственны с установлениями нашего православного закона.
282. В некоторых областях определены законами выгоды женатым. Как то например: там старосты и выборные в деревнях должны быть выбраны из женатых – неженатый и бездетный не может быть ни хожатым за делом, и в деревенском суде сидеть не может. У которого более детей, тот сидит в том суде в большом месте. Тот мужик, у которого более пяти сыновей, не платит уже никаких податей.
283. Неженатые у римлян не могли ничего получать по завещанию посторонних, а женатые, но бездетные больше половины не получали.
284. Выгоды, которые могли иметь муж и жена по взаимным друг от друга завещаниям, были ограничены законом. Они могли отказать после себя в завещании все, если имели друг от друга детей; а ежели у них детей не было, то могли наследствовать только десятую часть имения по умершем в рассуждении их супружества; если же имели детей от первого брака, то могли давать друг другу столько раз десятую часть, сколько имели детей.
285. Если муж отсутствовал от жены своей для другой какой причины, не по делам, до общества касающимся, то не мог он быть ее наследником.
286. В некиих странах определено уреченное жалованье имеющим десять детей, а еще большее тем, у которых было двенадцать. Однако не в том дело состоит, чтоб награждать необычайное плодородие; надлежало бы больше сделать жизнь их, сколько возможно, выгоднее, то есть подать рачительным и трудолюбивым случай ко пропитанию себя и семей своих.
287. Воздержание народное служит к размножению оного.
288. Обыкновенно в узаконениях положено отцам сочетавать союзом брачным детей своих. Но что из сего выйдет, если притеснение и сребролюбие дойдут до того, что присвоят себе неправильным образом власть отцовскую. Надлежало бы еще отцов поощрять, чтоб детей своих браком сочетавали, а не отымать у них воли сочетавать детей по их лучшему смотрению.
289. В рассуждении браков весьма бы нужно и важно было сделать единожды известное и ясное положение, в каком степени родства брак дозволен и в каком родства степени брак запрещен.
290. Есть области, в которых закон (в случае недостатка в жителях) делает гражданами чужестранных или незаконно рожденных, или которые родились только от матери-гражданки; но когда они таким образом получат довольное число народа, то уже больше не делают сего.
291. Дикий канадский народ сожигает своих пленников; но, когда у них [индейцев] есть шалаши пустые, кои можно отдать пленным, тогда признают они их за соплеменников своих.
292. Есть народы, которые завоевав другие страны, соединяются браком с завоеванными; чрез что два великие намерения исполняют: утверждение себе завоеванного народа и умножение своего.
Глава XIII
293. О рукоделии и торговле.
294. Не может быть там ни искусное рукоделие, ни твердо основанная торговля, где земледелие в уничтожении или нерачительно производится.
295. Не может земледельство процветать тут, где никто не имеет ничего собственного.
296. Сие основано на правиле весьма простом: «Всякий человек имеет более попечения о своем собственном, нежели о том, что другому принадлежит; и никакого не прилагает старания о том, в чем опасаться может, что другой у него отымет» [Монтескье].
297. Земледелие есть самый большой труд для человека. Чем больше климат приводит человека к избежанию сего труда, тем больше законы к оному возбуждать должны.
298. В Китае Богдыхан ежегодно уведомляется о хлебопашце, превосшедшем всех прочих во своем искусстве, и делает его членом осьмого чина в государстве. Сей Государь всякий год с великолепными обрядами начинает сам пахать землю сохой своими руками.
299. Не худо бы было давать награждение земледельцам, поля свои в лучшее пред прочими приведшим состояние.
300. И рукоделам, употребившим в трудах своих рачение превосходнейшее.
301. Сие установление во всех земли странах произведет успехи. Оно послужило и в наши времена к заведению весьма важных рукоделий.
302. Есть страны, где во всяком погосте есть книги, правительством изданные о земледелии, из которых каждый крестьянин может в своих недоумениях пользоваться наставлениями.
303. Есть народы ленивые. Чтоб истребить леность, в жителях от климата рождающуюся, надлежит там сделать такие законы, которые отнимали бы все способы к пропитанию у тех, кои не будут трудиться.
304. Всякий народ ленивый надмен во своем поведении; ибо не трудящиеся почитают себя некоторым образом властелинами над трудящимися.
305. Народы, в лености утопающие, обыкновенно бывают горды. Можно бы действие обратить против причины, производящей оное, и истребить леность гордостью.
306. Но славолюбие есть столь твердая подпора правлению, сколь опасна гордость. Во уверение сего должно только представить себе, с одной стороны, бесчисленное множество благ, от славолюбия происходящих: отсюда рачение, науки и художества, учтивость, вкус, а с другой стороны – бесконечное число зол, рождающихся от гордости некоторых народов: леность, убожество, отвращение ото всего, истребление народов, случайно им во власть пришедших, а потом и их самих погибель.
307. Гордость приводит человека устраняться от трудов, а славолюбие побуждает уметь трудиться лучше пред другим.
308. Посмотрите прилежно на все народы, вы увидите, что по большой части надменность, гордость и леность в них идут рядом.
309. Народы Ахимские и спесивы, и ленивы: у кого из них нет раба, тот нанимает, хотя бы то было только для того, чтобы перейти сто шагов и перенести два четверика сарацинского пшена [т. е. риса]; он почел бы себе за бесчестие, если бы сам оные нес.
310. Жены в Индии за стыд себе вменяют учиться читать. Сие дело, говорят они, принадлежит рабам; которые поют у них духовные песни во храмах.
311. Человек не для того убог, что он ничего не имеет, но для того, что он не трудится. Тот, который не имеет никакого поместья, да трудится, столь же выгодно живет, сколько имеющий доходу сто рублев, да не трудящийся.
312. Ремесленник, который обучил детей своих своему искусству и то дал им в наследие, оставил им такое поместье, которое размножается по количеству числа их.
313. Земледелие есть первый и главный труд, к которому поощрять людей должно; второй есть рукоделие из собственного произращения.
314. Махины, которые служат к сокращению рукоделия, не всегда полезны. Если что сделанное руками стоит посредственной цены, которая равным образом сходна и купцу, и тому, кто ее сделал, то махины, сокращающие рукоделие, то есть уменьшающие число работающих, во многонародном государстве будут вредны.
315. Однако надлежит различать то, что делается для своего государства, от того, что для вывоза в чужие края делается.
316. Не можно довольно споспешествовать махинами рукоделию в вещах, отсылаемых к другим народам, которые получают или могут получать такие же вещи у наших соседов или у других народов; а наипаче в нашем положении.
317. Торговля оттуда удаляется, где ей делают притеснение, и водворяется там, где ее спокойствия не нарушают.
318. Афины не отправляли той великой торговли, которую им обещали труды их рабов, великое число своих мореходцев, власть, которую они имели над Греческими городами, и, что больше всего, преизрядные установления Солоновы.
319. Во многих землях, где все на откупу, правление государственных сборов разоряет торговлю своим неправосудием, притеснениями и чрезмерными налогами; однако оно ее разоряет, еще не приступая к сему затруднениями, оным причиняемыми, и обрядами, от оного требуемыми.
320. В других местах, где таможни на вере, весьма отличная удобность торговать; одно слово письменное оканчивает превеликие дела. Не надобно купцу терять напрасно времени и иметь на то особливых приставников, чтобы прекратить все затруднения, затеянные откупщиками, или чтоб покориться оным.
321. Вольность торговли – не то, когда торгующим дозволяется делать, что они захотят; сие было бы больше рабство оной. Что стесняет торгующего, то не стесняет торговли. В вольных областях купец находит бесчисленные противоречия, а там, где рабство заведено, он никогда столько законами не связан.
Англия запрещает вывозить свою пряжу и шерсть; она узаконила возить уголье в столичный город морем; она запретила вывозить к заводам способных лошадей; корабли, из ее американских селений торгующие в Европу, должны на якорях становиться в Англии. Она сим и сему подобным стесняет купца, но все в пользу торговли.
322. Где есть торги, тут есть и таможни.
323. Предлог торговли есть вывоз и привоз товаров в пользу государства; предлог таможен есть известный сбор с сего ж самого вывоза и привоза товаров в пользу также государству. Для того должно государство держать точную средину между таможнею и торговлею, и делать такие распоряжения, чтоб сии две вещи одна другой не запутывали: тогда наслаждаются люди там вольностию торговли.
324. Англия не имеет положенного торгового пошлинного устава [или тарифа] с другими народами: торговый пошлинный ее устав переменяется, так сказать, при всяком заседании парламента чрез особые пошлины, которые она налагает и снимает. Чрезмерное имея всегда подозрение на торговлю, в ее земли производимую, мало когда с другими державами обязуется договорами и ни от чьих, кроме своих, законов не зависит.
325. В некоторых государствах изданы законы, весьма способные ко унижению держав, домостроительные торги ведущих. Им запрещено туда привозить другие товары, кроме простых невыделанных, и то из собственной их земли; и не дозволено приезжать им торговать туда инако, как на кораблях, состроенных в той земле, откуда они приезжают.
326. Державе, налагающей сии законы, надлежит быть в таком состоянии, чтоб легко сама могла торги отправлять, а без того она себе по крайней мере равный причинит вред.
Лучше дело иметь с таким народом, который взыскивает немного и который по нуждам торговли неким образом сам привязан к нам; с таким народом, который по пространству своих намерений или дел знает, куда девать излишние товары; который богат и может для себя взять много вещей; который за оные готовыми деньгами заплатит; который, так сказать, принужден быть верным; который миролюбив по вкорененным в нем правилам; который ищет прибыли, а не завоеваний; гораздо лучше, говорю Я, иметь дело с таким народом, нежели с другими всегдашними совместниками, и которые всех сих выгод не дадут.
327. Еще меньше должна держава подвергать себя тому, чтобы все свои товары продавать одному только народу под тем видом, что оный возьмет все товары по известной цене.
328. Истинное правило есть не исключать никакого народа из своей торговли без весьма важных причин.
329. Во многих государствах учреждены с хорошим успехом банки, которые доброю своею славою изобретши новые знаки ценам, сих обращение умножили.
Но чтоб в единоначальном правлении таковым учреждениям безопасно верили, должно сии банки присовокупить к установлениям, святости причастным, не зависящим от правительств и жаловальными грамотами снабденным, к которым никому не можно и не должно иметь дела, как то больницы, сиротские дома и прочее: чтобы все люди были уверены и надежны, что Государь денег их не тронет никогда и кредита сих мест не повредит.
330. Некоторый, лучший о законах писатель [Монтескье] говорит следующее: «Люди, побужденные действиями, в некоторых державах употребляемыми, думают, что надлежит установить законы, поощряющие дворянство к отправлению торговли. Сие было бы способом к разорению дворянства безо всякой пользы для торговли.
Благоразумно в сем деле поступают в тех местах, где купцы не дворяне: но они могут сделаться дворянами; они имеют надежду получить дворянство, не имея в том действительного препятствия; нет у них другого надежнейшего способа выйти из своего звания мещанского, как отправлять оное с крайним рачением или иметь в нем счастливые успехи; вещь, которая обыкновенно присовокуплена к довольству и изобилию.
Противно существу торговли, чтобы дворянство оную в самодержавном правлении делало. Погибельно было бы сие для городов, так утверждают Императоры Онорий и Феодосий, и отняло бы между купцами и чернью удобность покупать и продавать товары свои. Противно и существу самодержавного правления, чтобы в оном дворянство торговлю производило. Обыкновение, дозволившее в некоторой державе торги вести дворянству, принадлежит к тем вещам, кои весьма много способствовали ко приведению там в бессилие прежнего учрежденного правления».
331. Есть люди сему противного мнения, рассуждающие, что дворянам, не служащим, дозволить можно торговать с тем предписанием, чтоб они во всем подвергали себя законам купеческим.
332. Феофил, увидя корабль, нагруженный товарами для своей супруги Феодоры, сжег оный. Я Император, сказал он ей, а ты меня делаешь господином над стругом. Чем же могут бедные люди пропитать жизнь свою, если мы вступим еще в их звание и промыслы? Он мог к сему прибавить: Кто может нас воздержать, если мы станем входить в откупы?
Кто нас заставит исполнять наши обязательства? Торги, нами производимые, видя, захотят производить и придворные знатные люди: они будут корыстолюбивее и несправедливее нас. Народ имеет доверенность к нам в рассуждении нашего правосудия, а не богатства нашего. Столько податей, которые их приводят в бедность, явно свидетельствуют о наших нуждах.
333. Когда португальцы и кастилианцы начали владычествовать над восточными Индиями, торговля там имела столь богатые ветви, что Государи их рассудили за благо и сами за оные ухватиться. Сие разорило заведенные ими селения в тамошних частях света. Королевский наместник в Гоа дал разным людям грамоты исключительные.
Никто к таким особам не имеет доверенности; торговля рушилась беспрестанною переменою тех людей, коим оную поручали; никто сей торговли не щадит и не заботится о том нимало, когда оставит ее своему преемнику вконец разоренную; прибыль остается в руках немногих людей и далеко не распространяется.
334. Солон узаконил в Афинах, чтоб не делали больше лицеимства за гражданские долги. Сей закон весьма хорош для обыкновенных дел гражданских, но мы имеем причину не наблюдать оного в делах, до торговли касающихся. Ибо купцы принуждены бывают вверять великие суммы часто на очень короткое время, давать оные и принимать обратно; так надлежит должнику исполнять всегда в уреченное время по своим обязательствам; что предполагает уже лицеимство.
В делах, происходящих по уговорным записям гражданским обыкновенным, закон не должен чинить лицеимства ради того, что оное повреждает больше вольность гражданина, нежели способствует выгоде другого; но в уговорах, бывающих по торговле, закон долженствует больше взирать на выгоду всего общества, нежели на вольность гражданина. Однако сие не воспрящает употребления оговорок и ограничений, которых может требовать человечество и хорошее гражданское учреждение.
335. Женевский закон весьма похвален, который исключает от правления и ото входа в великий совет детей тех людей, которые жили или которые умерли не уплатя долгов, если они не удовольствуют заимодавцев за долги отцов своих. Действие сего закона производит доверенность для купцов, для правительства и для самого города. Собственная каждого в том городе человека верность имеет еще там силу общей всего народа верности.
336. Родияне еще далее в сем поступили. У них сын не мог избыть от уплаты долгов за своего отца и отказавшися от наследства по нем. Родийский закон дан обществу, основанному на торговле; ради чего мнится, что самое естество торговли требовало придать к сему закону следующее ограничение: чтоб долги, нажитые отцом после того, как сын начал сам торговать, не касалися до имения, сим последним приобретенного, и не пожирали бы оного. Купец всегда должен знать свои обязательства и вести себя в каждое время по состоянию своего стяжания.
337. Ксенофонт определяет давать награждение тем над торговлею начальникам, которые суд, по оной случившийся, скорее вершат. Он предвидел надобность словесного судопроизводства.
338. Дела, по торговле бывающие, весьма мало судебных обрядов сносить могут. Они суть ежедневные, вещей торговлю составляющих произвождения, за которыми другие того ж рода неотменно следовать должны всякий день: для сего и надлежит оным решенным быть ежедневно.
Совсем другое с делами житейскими, которые с будущим впредь человеческим состоянием великое имеют спряжение, однако очень редко случаются. Женятся и посягают больше как один раз редко; не всякий день делают завещания или дарения; в совершенный возраст прийти никому больше одного раза не удается.
339. Платон говорит, что в городе, где нет морских торгов, надлежит быть гражданских законов половиною меньше. И сие весьма справедливо. Торговля приводит в одно место различные племена народов, великое число договоров, разные виды имения и способы ко приобретению оного. Итак, в торговом городе меньше судей и больше законов.
340. Право, присвояющее Государю наследство над имением чужестранца, в областях его умершего, когда у сего наследник есть; так же право, присвояющее Государю или подданным весь груз корабля, у берегов сокрушившегося; весьма неблагоразумны и бесчеловечны.
341. Великая хартия в Англии запрещает брать земли или доходы должника, когда движимое или личное его имение довольно на уплату долгов и когда он хочет сам то имение отдать: тогда всякое имение англичанина почиталося за наличные деньги. Сия хартия не воспрящает, чтоб земли и доходы англичанина не представляли таким же образом наличных денег, как и другое его имение: оное намерение клонится к отвращению обид, могущих приключиться от суровых заимодавцев.
Правость удручается, когда взятие имения за долги нарушает превосходством своим ту безопасность, которой может всяк требовать, и, если одного имения довольно на уплату долгов, нет никакой причины, побуждающей брать в уплату оных другое. А как земли и доходы берутся на уплату долгов уже тогда, когда другого имения недостает на удовольствование заимодавцев, то, кажется, не можно и их исключать из числа знаков, наличные представляющих деньги.
342. Проба золота, серебра и меди в монете, также выпечатание и внутренняя цена монеты, должны остаться всегда в установленном однажды положении, и не надобно от того отступать ни для какой причины; ибо всякая перемена в монете повреждает государственный кредит. Ничто так должно быть не подвержено перемене, как та вещь, которая есть общею мерою всего. Купечество само собою весьма неизвестно; и так увеличилося бы еще зло присовокуплением новой неизвестности к той, которая на естестве вещи основана.
343. В некоторых областях есть законы, запрещающие подданным продавать свои земли, чтоб не переносили они таким образом своих денег в чужие государства. Законы сии могли быть в то время хороши, когда богатства каждой державы принадлежали ей так, что великая была трудность переносить оные в иностранную область.
Но после того, как посредством векселей богатства уже больше не принадлежат никакому особливо государству, и когда столь легко можно переносить оные из одной области в другую, то худым надобно назвать закон, недозволяющий располагать о своих землях по собственному всякого желанию для учреждения дел своих, когда можно располагать о своих деньгах каждому по своей воле.
Сей закон еще худ потому, что он дает преимущество имению движимому над недвижимым, потому что чужестранным делает отвращение приходить селиться в тех областях; и потому, наконец, что от исполнения оного можно вывернуться.
344. Всегда, когда кто запрещает то, что естественно дозволено или необходимо нужно, ничего другого тем не сделает, как только бесчестными людьми учинить совершающих оное.
345. В областях, торговле преданных, где многие люди ничего, кроме своего искусства, не имеют, правительство часто обязано прилагать старание о вспомоществовании старым, больным и сиротам в их нуждах. Благоучрежденное государство содержание таковых основывает на самых искусствах: в оном налагают на одних работу, с силами их сходственную, других обучают работать, что уже также есть работа.
346. Подаяние милостыни нищему на улице не может почесться исполнением обязательств правления, долженствующего дать всем гражданам надежное содержание, пищу, приличную одежду и род жизни, здравию человеческому не вредящий.
Глава XIV
347. О воспитании.
348. Правила воспитания суть первые основания, приугoтoвляющие нас быть гражданами.
349. Каждая семья должна быть управляема по примеру большой семьи, включающей в себе все частные.
350. Невозможно дать общего воспитания многочисленному народу и вскормить всех детей в нарочно для того учрежденных домах. И для того полезно будет установить несколько общих правил, могущих служить вместо совета всем родителям.
Первое.
351. Всякий обязан учить детей своих страха Божия как начала всякого целомудрия и вселять в них все те должности, которых Бог от нас требует в Десятословии Своем и православная наша восточная греческая вера во правилах и прочих своих преданиях.
352. Также вперяти в них любовь к отечеству и повадить их иметь почтение к установленным гражданским законам, и почитать правительства своего отечества, как пекущиеся по воле Божией о благе их на земли.
Второе.
353. Всякий родитель должен воздерживаться при детях своих не только от дел, но и от слов, клонящихся к неправосудию и насильству, как то: брани, клятвы, драк, всякой жестокости и тому подобных поступков; и не дозволять и тем, которые окружают детей его, давать им такие дурные примеры.
Третье.
354. Он запретить должен детям и тем, кои около них ходят, чтоб не лгали, ниже в шутку; ибо ложь изо всех вреднейший есть порок.
355. Мы присовокупим здесь для наставления всякому особо человеку то, что уже напечатано, как служащее общим правилом, от Нас уже установленным и еще установляемым для воспитания училищам и всему обществу.
356. Должно вселять в юношество страх Божий, утверждать сердце их в похвальных склонностях и приучать их к основательным и приличествующим состоянию их правилам; возбуждать в них охоту ко трудолюбию, и чтоб они страшилися праздности, как источника всякого зла и заблуждения; научать пристойному в делах их и разговорах поведению, учтивости, благопристойности, соболезнованию о бедных, несчастливых, и отвращению ото всяких предерзостей; обучать их домостроительству во всех оного подробностях, и сколько в оном есть полезного; отвращать их от мотовства; особливо же вкоренять в них собственную склонность к опрятности и чистоте, как на самих себе, так и на принадлежащих к ним; одним словом, всем тем добродетелям и качествам, кои принадлежат к доброму воспитанию, которыми во свое время могут они быть прямыми гражданами, полезными общества членами, и служить оному украшением.
Глава XV
357. О дворянстве.
358. Земледельцы живут в селах и деревнях и обрабатывают землю, из которой произрастающие плоды питают всякого состояния людей; и сей есть их жребий.
359. В городах обитают мещане, которые упражняются в ремеслах, в торговле, в художествах и науках.
360. Дворянство есть нарицание в чести, различающее от прочих тех, кои оным украшены.
361. Как между людьми одни были добродетельнее других, а при том и заслугами отличались, то принято издревле отличить добродетельнейших и более других служащих людей, дав им сие нарицание в чести, и установлено, чтоб они пользовались разными преимуществами, основанными на сих вышесказанных начальных правилах.
362. Еще и далее в сем поступлено: учреждены законом способы, какими сие достоинство от Государя получить можно, и означены те поступки, чрез которые теряется оное.
363. Добродетель с заслугою возводит людей на степень дворянства.
364. Добродетель и честь должны быть оному правилами, предписывающими любовь к отечеству, ревность к службе, послушание и верность к Государю, и беспрестанно внушающими не делать никогда бесчестного дела.
365. Мало таких случаев, которые бы более вели к получению чести, как военная служба: защищать отечество свое, победить неприятеля оного есть первое право и упражнение, приличествующее дворянам.
366. Но хотя военное искусство есть самый древнейший способ, коим достигали до дворянского достоинства, и хотя военные добродетели необходимо нужны ко пребыванию и сохранению государства.
367. Однако ж и правосудие не меньше надобно во время мира, как и в войне, и государство разрушилося бы без оного.
368. А из того следует, что не только прилично дворянству, но и приобретать сие достоинство можно и гражданскими добродетелями, так как и военными.
369. Из чего паки следует, что лишить дворянства никого не можно, кроме того, который сам себя лишил оного своими основанию его достоинства противными поступками и сделался чрез то звания своего недостойным.
370. И уже честь и сохранение непорочности дворянского достоинства требуют, чтоб такой сам чрез поступки свои, основание своего звания нарушающие, был, по обличении, исключен из числа дворян и лишен дворянства.
371. Поступки же, противные дворянскому званию, суть измена, разбой, воровство всякого рода, нарушение клятвы и данного слова, лжесвидетельство, кое сам делал или других уговаривал делать, составление лживых крепостей или других тому подобных писем.
372. Одним словом, всякий обман, противный чести, а наипаче те действия, кои за собою влекут уничижение.
373. Совершенство же сохранения чести состоит в любви к отечеству и наблюдении всех законов и должностей; из чего последует
374. Похвала и слава, особливо тому роду, который между предками своими считает более таких людей, кои украшены были добродетелями, честию, заслугою, верностию и любовию ко своему отечеству, следовательно, и к Государю.
375. Преимущества же дворянские должны все основаны быть на вышеписанных начальных правилах, составляющих существо дворянского звания.
Глава XVI
376. О среднем роде людей.
377. Сказано Мною в XV главе: в городах обитают мещане, которые упражняются в ремеслах, в торговле, в художествах и науках. В котором государстве дворянам основание сделано, сходственное с предписанными правилами XV главы; тут полезно также учредить основанное на добронравии и трудолюбии и к оным ведущее положение, коим пользоваться будут те, о коих здесь дело идет.
378. Сей род людей, о котором говорить надлежит и от которого государство много добра ожидает, если твердое на добронравии и поощрении ко трудолюбию основанное положение получит, есть средний.
379. Оный, пользуясь вольностию, не причисляется ни ко дворянству, ни ко хлебопашцам.
380. К сему роду людей причесть должно всех тех, кои, не быв дворянином, ни хлебопашцем, упражняются в художествах, в науках, в мореплавании, в торговле и ремеслах.
381. Сверх того, всех тех, кои выходить будут, не быв дворянами, изо всех Нами и предками Нашими учрежденных училищ и воспитательных домов, какого бы те училища звания ни были, духовные или светские.
382. Также приказных людей детей. А как в оном третьем роде суть разные степени преимуществ, то, не входя в подробность оных, открываем только дорогу к рассуждению об нем.
383. Как все основание сему среднему роду людей будет иметь в предмете добронравие и трудолюбие, то, напротив того, нарушение сих правил будет служить к исключению из оного, как то, например, вероломство, неисполнение своих обещаний, особливо если тому причина лень или обман.
Глава XVII
384. О городах.
385. Есть города разного существа, более или менее важные по своему положению.
386. В иных городах более обращений торга сухим или водяным путем.
387. В других лишь единственно товары привезенные складывают для отпуска.
388. Есть и такие, кои единственно служат к продаже продуктов приезжающих земледельцев того или другого уезда.
389. Иной цветет фабриками.
390. Другой, близ моря лежа, соединяет все сии и другие выгоды.
391. Третий пользуется ярманками.
392. Иные суть столицы и проч.
393. Сколько ни есть разных положений городам, только в том они все вообще сходствуют, что им всем нужно иметь одинаковый закон, который бы определил, что есть город, кто в оном почитается жителем, и кто составляет общество того города, и кому пользоваться выгодами по свойству естественного положения того места, и как сделаться городским жителем можно.
394. Из сего родится, что тем, кои обязаны принимать участие в добром состоянии города, имея в нем дом и имения, дается имя мещан. Сии суть обязаны, для собственного своего же благосостояния и для гражданской их безопасности в жизни, имении и здоровье, платить разные подати, дабы пользоваться сими выгодами и прочим своим имением беспрепятственно.
395. Кои же не дают сего общего, так сказать, залога, те и не пользуются правом иметь мещанские выгоды.
396. Основав города, остается рассмотреть, какие выгоды которому роду городов без ущерба общей пользы иметь можно и какие учреждения в их пользу постановить следует.
397. В городах, в коих многие обращения торг имеет, весьма смотреть должно, чтобы чрез честность граждан сохранился кредит во всех частях коммерции; ибо честность и кредит суть души коммерции, а где хитрость и обман возьмет верх над честностью, тут и кредит быть не может.
398. Малые города суть весьма нужны по уездам, дабы земледелец мог сбыть плоды земли и рук его и себя снабдить тем, в чем ему случится нужда.
399. Города Архангельский, Санкт-Петербург, Астрахань, Рига, Ревель и тому подобные суть города и порты морские; Оренбург, Кяхта и многие другие города имеют обращения другого рода; из чего усмотреть можно, сколь великое свойство имеет положение мест со гражданскими учреждениями, и что, не знав обстоятельств, каждому городу удобное положение сделать нет возможности.
400. О цеховых мастерствах и установлении цехов для мастерств по городам еще состоит великий спор: лучше ли иметь цеха по городам или без них быть, и что из сих положений более споспешествует рукоделиям и ремеслам.
401. Но то бесспорно, что для заведения мастерства цеха полезны, а бывают они вредны, когда число работающих определено, ибо сие самое препятствует размножению рукоделий.
402. Во многих городах в Европе оные сделаны свободными в том, что не ограничено число, а могут вписываться в оные по произволению, и примечено, что то служило к обогащению тех городов.
403. В малолюдных городах полезны быть могут цеха, дабы иметь искусных людей в мастерствах.
Глава ХVIII
404. О наследствах.
405. Порядок в наследии выводится от оснований права государственного, а не от оснований права естественного.
406. Раздел имения, законы о сем разделе, наследие по смерти того, кто имел сей раздел, все сие не могло быть инако учреждено, как обществом и, следовательно, законами государственными или гражданскими.
407. Естественный закон повелевает отцам кормить и воспитывать детей своих, а не обязывает их делать оных своими наследниками.
408. Отец, например, обучивши сына своего какому-нибудь искусству или рукомеслу, могущему его пропитать, делает его чрез то гораздо богатее, нежели когда бы он оставил ему малое свое имение, учиня его ленивцем или праздным.
409. Правда, порядок государственный и гражданский требует часто, чтоб дети наследниками были после отцов, но оный не взыскивает быть сему так всегда.
410. Правило сие общее: воспитывать детей своих есть обязательство права естественного, а давать им свое наследие есть учреждение права гражданского или государственного.
411. Всякое государство имеет законы о владении имениями, соответствующие государственному установлению; следовательно, отцовским имением должно владеть по образу, законами предписанному.
412. И надлежит установить порядок, неподвижный для наследия, чтоб можно было удобно знать, кто наследник, и чтоб о сем не могло произойти никаких жалоб и споров.
413. Всякое узаконение должно быть всеми и каждым исполнено, и не надобно дозволять нарушать оного собственными кого-либо из граждан распоряжениями.
414. Порядок наследия понеже был установлен вследствие государственного закона у римлян, то никакой гражданин не должен был оного развращать собенною своею волею, сиречь, с первых времен в Риме не дозволено было никому делать завещания; однако ж сие было ожесточительно, что человек в последние жизни своей часы лишен был власти делать благодеяния.
415. И так сыскано было средство в рассуждении сего согласить законы с волею частных особ. Дозволили располагать о своем имении в собрании народа, и всякое завещание было некоторым образом дело власти законодательной той республики.
416. В последующие времена дали неопределенное дозволение римлянам делать завещания, что немало способствовало к нечувствительному разрушению государственного установления о разделе земель; а сие больше всего ввело весьма великую и погибельную им разность между богатыми и убогими гражданами; многие поместья удельные собраны были сим образом во владение одного барина; граждане римские имели очень много, а бесчисленное множество других ничего не имели, и чрез то сделались несносным бременем той державе.
417. Древние афинские законы не дозволяли гражданину делать завещания. Солон дозволил, выключая тех, у которых были дети.
418. А римские законодавцы, воображением отеческой власти будучи убеждены, дозволили отцам делать завещания во вред и самих своих детей.
419. Надобно признаться, что древние афинские законы гораздо сходнее были с заключениями здравого разума, нежели законы римские.
420. Есть государства, где держатся средины во всем сем, то есть где дозволено завещания делать о приобретенном имении, а не дозволено, чтоб деревня одна была разделена на разные части, и ежели отцовское наследство, или, лучше сказать, отчина продана или расточена, то узаконено, чтоб равная оному наследству часть из купленного или приобретенного имения отдана была природному наследнику; ежели доказательства, утвержденные на законах, не учинили его недостойным наследия: в сем последнем случае следующие по нем заступают его место.
421. Как природному наследнику, так и наследнику, избранному по завещанию, можно дозволить отказаться от наследства.
422. Дочери у римлян были исключены из завещания; для сего утверждали за ними под обманом и подлогом. Сии законы принуждали или сделаться бесчестными людьми, или презирать законы естественные, вперяющие в нас любовь к детям нашим. Сии суть случаи, которых, дая законы, убегать должно.
423. Понеже ничто так не наносит ослабления законам, как возможность коварством избегнуть от оных. Так же и ненужные законы умаляют почтение к нужным.
424. У римлян жены были наследницами, если сие согласовано с законом о разделе земель; а ежели сие могло тот закон нарушить, то не были они наследницами.
425. Мое намерение в сем деле склоняется больше к разделению имения, понеже Я почитаю Себе за долг желать, чтобы каждый довольную часть на свое пропитание имел; сверх сего, земледелие таким образом может прийти в лучшее состояние; и государство чрез то большую получит пользу, имея несколько тысячей подданных, наслаждающихся умеренным достатком, нежели имея несколько сот великих богачей.
426. Но разделение имения не должно вреда наносить другим общим при установлении законов правилам, столь же или и более нужным для сохранения в целости государства, которых без примечания оставлять не должно.
427. Раздел по душам, как доныне делывалось, вреден земледелию, тягость причиняет в сборах и приводит последних раздельщиков в нищету; а разделение наследия до некоторой части сходственнее с сохранением всех сих главных правил и с прибылью общественною и собственною каждого.
428. Недоросль до указных возраста лет есть член семьи домашней, а не член общества. Итак, полезно сделать учреждение об опекунстве, как например:
429. 1) Для детей, оставшихся после смерти отцовской в летах возраста несовершенного, когда им имения их в полную власть поручить еще не можно ради той опасности, чтоб они, по незрелому своему рассудку, не разорилися;
430. Так 2) и для безумных или лишившихся ума;
431. Не меньше же 3) и тому подобных.
432. В некоторых вольных державах ближним родственникам человека, расточившего половину своего имения или пришедшего в долги, той половине равные, дозволено запретить ему владеть другою оного имения половиною. Доходы с сей оставшейся половины разделяются на несколько частей, и одну часть дают впадшему в сей случай на содержание его, а другие употребляют на уплату долгов; причем запрещается ему уже больше продавать и закладывать; после уплаты долгов отдают ему, если поправится, опять его имение, для его ж собственной пользы родственниками сбереженное, а если не поправится, то одни доходы ему отдают ежегодно.
433. Надлежит положить правила, приличные каждому из сих случаев, чтоб закон предохранял всякого гражданина от насилия и крайности, могущих быть при сем.
434. Законы, поручающие опеку матери, больше смотрят на сохранение оставшегося сироты; а вверяющие оную ближнему наследнику – уважают больше сохранение имения.
435. У народов, испорченные имеющих нравы, законодавцы опеку над сиротою вручили матери; а у тех, где законы должны иметь упование на нравы граждан, дают опеку наследнику имения, а иногда и обоим.
436. Жены у германцев не могли быть без опекуна никогда. Август узаконил: женам, имевшим троих детей, быть свободным от опеки.
437. У римлян законы дозволяли жениху дарить невесте, и невесте – жениху, прежде брака; а после брачного сочетания делать то запрещали.
438. Закон западных готов повелевал, чтобы жених будущей своей супруге не дарил больше десятой части своего имения; и в первый год после бракосочетания не дарил бы ей ничего.
Глава XIX
439. О составлении и слоге законов.
440. Bcе права должно разделить на три части.
441. Первой части будет заглавие: законы.
442. Вторая примет название: учреждения временные.
443. Третьей части дается имя: указы.
444. Под словом законы разумеются все те установления, которые ни в какое время не могут перемениться, и таковых числу быть не можно великому.
445. Под названием временные учреждения разумеется тот порядок, которым все дела должны отправляемы быть, и разные о том наказы и уставы.
446. Имя указы заключает в себе все то, что для каких-нибудь делается приключений, и что только есть случайное, или на чью особу относящееся, и может со временем перемениться.
447. Надобно включить во книге прав всякую порознь материю по порядку в том месте, которое ей принадлежит: например, судные, воинские, торговые, гражданские или полицейские, городские, зeмcкие и проч., и проч.
448. Всякий закон должен написан быть словами, вразумительными для всех, и при том очень коротко; чего ради без сомнения надлежит, где нужда потребует, прибавить изъяснения или толкования для судящих, чтоб могли легко видеть и понимать как силу, так и употребление закона. Воинский устав наполнен подобными примерами, которым удобно можно последовать.
449. Но однако ж должно поступать весьма осторожно в сих изъяснениях и толкованиях: понеже оные легко могут иногда более затмить, нежели объяснить случай; чему бывали многие примеры.
450. Когда в каком законе исключения, ограничения и умерения не надобны, то гораздо лучше их и не полагать; ибо такие подробности приводят ко другим еще подробностям.
451. Если пишущий законы хочет в них изобразить причину, побудившую к изданию некоторых между оными, то должно, чтобы причина та была сего достойна. Между Римскими законами есть определяющий: слепому в суде не производить никакого дела, для того что он не видит знаков и украшений судейских. Сия причина весьма плоха, когда можно было привесть довольно других хороших.
452. Законы не должны быть тонкостями, от остроумия происходящими, наполнены: они сделаны для людей посредственного разума, равномерным образом как и для остроумных; в них содержится не наука, предписывающая правила человеческому уму, но простое и правое рассуждение отца, о чадах и домашних своих пекущегося.
453. Надлежит, чтобы в законах видно было везде чистосердечие: они даются для наказания пороков и злоухищрений; и так надобно им самим заключать в себе великую добродетель и незлобие.
454. Слог законов должен быть краток, прост; выражение прямое всегда лучше можно разуметь, нежели околичное выражение.
455. Когда слог законов надут и высокопарен, то они инако не почитаются, как только сочинением, изъявляющим высокомерие и гордость.
456. Неопределенными речами законов писать не должно. Чему здесь прописывается пример. Закон одного Императора Греческого наказывать велит смертию того, кто купит освобожденного как будто раба или кто такого человека станет тревожить и беспокоить. Не должно было употреблять выражения так неопределенного и неизвестного: беспокойство и тревоженье, причиняемое человеку, зависит вовсе не от того, какую кто степень чувствительности имеет.
457. Слог Уложения блаженной памяти Царя Алексея Михайловича по большей части ясен, прост и краток; с удовольствием слушаешь, где бывают из оного выписи; никто не ошибется в разумении того, что слышит; слова в нем внятны и самому посредственному уму.
458. Законы делаются для всех людей, все люди должны по оным поступать, – следовательно, надобно, чтобы все люди оные и разуметь могли.
459. Надлежит убегать выражений витиеватых, гордых или пышных и не прибавлять в составлении закона ни одного слова лишнего, чтоб легко можно было понять вещь, законом установляемую.
460. Также надобно беречься, чтобы между законами не были такие, которые не достигают до намеренного конца; которые изобильны словами, а недостаточны смыслом; которые по внутреннему своему содержанию маловажны, а по наружному слогу надменны.
461. Законы, признающие необходимо нужными действия, непричастные ни добродетели, ни пороку, подвержены той непристойности, что они заставляют почитать, напротив того, действия необходимо нужные за ненужные.
462. Законы при денежном наказании или пени, означивающие точно число денег, за какую-либо вину платимых, надлежит, по крайней мере всякие пятьдесят лет, вновь пересматривать, для того что плата деньгами, признаваемая в одно время достаточною, в другое почитается за ничто, ибо цена денег переменяется по мере имущества. Был некогда в Риме такой сумасбродный человек, который всем попадающимся ему навстречу раздавал пощечины, платя при том тотчас всякому из них по двадцати пяти копеек, то есть по скольку законом было предписано.
Глава XX
463. Разные статьи, требующие изъяснения.
464. 1) Преступление в оскорблении Величества.
465. Под сим именованием разумеются все преступления, противные безопасности Государя и Государства.
466. Все законы должны составлены быть из слов ясных и кратких, однако нет между ними никаких, которых бы сочинение касалося больше до безопасности граждан, как законы, принадлежащие ко преступлению в оскорблении Величества.
467. Вольность гражданина ни от чего не претерпевает большего нападения, как от обвинений судебных и сторонних вообще; сколь же бы ей великая настояла опасность, если бы сия столь важная статья осталась темною: ибо вольность гражданина зависит, во-первых, от изящества законов криминальных.
468. Не должно же криминальных законов смешивать с законами, учреждающими судебный порядок.
469. Если преступление в оскорблении Величества описано в законах словами неопределенными, то уже довольно из сего может произойти различных злоупотреблений.
470. Китайские законы, например, присуждают, что, если кто почтения Государю не окажет, должен казнен быть смертию. Но как они не определяют, что есть неоказание почтения, то все может там дать повод к отнятию жизни, у кого захотят, и к истреблению поколения, чье погубить пожелают.
Два человека, определенные сочинять придворные ведомости, при описании некоторого совсем неважного случая, поставили обстоятельства, с истиною несходственные; сказано на них, что лгать в придворных ведомостях не что иное есть, как должного почтения двору не оказывать; и казнены они оба были смертию.
Некто из князей на представлении, подписанном Императором, из неосторожности поставил какой-то знак: заключили из сего, что он должного почтения не оказал Богдыхану. И сие причинило всему сего князя поколению ужасное гонение.
471. Называть преступлением, до оскорбления Величества касающимся, такое действие, которое в самой вещи оного в себе не заключает, есть самое насильственное злоупотребление. Закон Римских Кесарей как со святотатцами поступал с теми, кои сомневалися о достоинствах и заслугах людей, избранных ими к какому ни есть званию, следовательно, и осуждал их на смерть.
472. Другой закон тех, которые делают воровские деньги, объявлял виновными в преступлении оскорбления Величества. Но они не что иное суть, как воры государственные. Таким образом смешиваются вместе разные о вещах понятия.
473. Давать имя преступления в оскорблении Величества другому какому преступлению не что иное есть, как уменьшать ужас, сопряженный с преступлением оскорбления Величества.
474. Градоначальник писал к Римскому Императору, что делают приготовление судить, как виновного в преступлении оскорбления Величества, судью, учинившего приговор, противный сего Кесаря узаконениям. Кесарь ответствовал, что в его владение преступления в оскорблении Величества непрямые, но окольные в суде не приемлются.
475. Еще между римскими законами находился такой, который повелевал наказывать как преступников в оскорблении Величества тех, кои, хотя из неосторожности, бросали что-нибудь пред изображениями Императоров.
476. В Англии закон один почитал виновными в самой высочайшей измене всех тех, которые предвещают королевскую смерть. В болезни королей врачи не смели сказать, что есть опасность: думать можно, что они поступали по сему и в лечении.
477. Человеку снилось, что он умертвил Царя. Сей Царь приказал казнить его смертию, говоря, что не приснилось бы ему сие ночью, если бы он о том днем наяву не думал. Сей поступок был великое тиранство; ибо если бы он то и думал, однако ж на исполнение мысли своей еще не поступил. Законы не обязаны наказывать никаких других, кроме внешних или наружных действий.
478. Когда введено было много преступлений в оскорблении Величества, то и надлежало непременно различить и умерить сии преступления. Так, наконец, дошли до того, чтоб не почитать за такие преступления, кроме тех только, кои заключают умысел в себе противу жизни и безопасности Государя и измену против государства и тому подобные; каковым преступлениям и казни предписаны самые жесточайшие.
479. Действия суть не ежедневные многие люди могут оные приметить: ложное обвинение в делах может легко быть объяснено.
480. Слова, совокупленные с действием, принимают на себя естество того действия. Таким образом, человек, пришедший, например, на место народного собрания увещевать подданных к возмущению, будет виновен в оскорблении Величества потому, что слова совокуплены с действием и заимствуют нечто от оного.
В сем случае не за слова наказуют, но за произведенное действие, при котором слова были употреблены. Слова не вменяются никогда во преступление, разве оные приуготовляют, или соединяются, или последуют действию беззаконному. Все превращает и опровергает, кто делает из слов преступление, смертной казни достойное: слова должно почитать за знак только преступления, смертной достойного казни.
481. Ничто не делает преступления в оскорблении Величества больше зависящим от толка и воли другого, как когда нескромные слова бывают оного содержанием. Разговоры столько подвержены истолкованиям, столь великое различие между нескромностию и злобою, и столь малая разнота между выражениями, от нескромности и злобы употребляемыми, что закон никоим образом не может слов подвергнуть смертной казни, по крайней мере, не означивши точно тех слов, которые он сей казни подвергает.
482. Итак, слова не составляют вещи, подлежащей преступлению. Часто они не значат ничего сами по себе, но по голосу, каким оные выговаривают. Часто пересказывая те же самые слова, не дают им того же смысла: сей смысл зависит от связи, соединяющей оные с другими вещами. Иногда молчание выражает больше, нежели все разговоры.
Нет ничего, что бы в себе столько двойного смысла замыкало, как все сие. Так как же из сего делать преступление столь великое, каково оскорбление Величества, и наказывать за слова так, как за самое действие? Я чрез сие не хочу уменьшить негодования, которое должно иметь на желающих опорочить славу своего Государя, но могу сказать, что простое исправительное наказание приличествует лучше в сих случаях, нежели обвинение в оскорблении Величества, всегда страшнее и самой невинности.
483. Письма суть вещь не так скоро преходящая, как слова; но когда они не приуготовляют ко преступлению Величества, то и они не могут быть вещию, содержащею в себе преступление Величества.
484. Запрещают в самодержавных государствах сочинения очень язвительные, но оные делаются предлогом, подлежащим градскому чиноправлению, а не преступлением; а весьма беречься надобно изыскания о сем далече распространять, представляя себе ту опасность, что умы почувствуют притеснение и угнетение; а сие ничего иного не произведет, как невежество, опровергнет дарования разума человеческого и охоту писать отнимет.
485. Надлежит наказывать клеветников.
486. Во многих державах закон повелевает под смертною казнию открывать и те заговоры, о которых кто не по сообщению с умышленниками, но по слуху знает. Весьма прилично сей закон употребить во всей оного строгости в преступлении, самого высочайшего степени касающемся до оскорбления Величества.
487. И весьма великая в том состоит важность: не смешивать различных сего преступления степеней.
488. 2) О судах по особливым нарядам.
489. Самая бесполезная вещь государям в самодержавных правлениях есть наряжать иногда особливых судей судить кого-нибудь из подданных своих. Надлежит быть весьма добродетельным и справедливым таковым судьям, чтоб они не думали, что они всегда оправдаться могут их повелениями, скрытною какою-то государственною пользою, выбором, в их особе учиненным, и собственным их страхом. Столь мало от таковых судов происходит пользы, что не стоит сие того труда, чтобы для того превращать порядок суда обыкновенный.
490. Еще же может сие произвести злоупотребления, весьма вредные для спокойства граждан. Пример сему здесь предлагается. В Англии при многих королях судили членов верхней камеры чрез наряженных из той же камеры судей; сим способом предавали смерти всех, кого хотели, из оного вельмож собрания.
491. У нас часто смешивали исследование такого-то дела чрез каких-то наряженных судей и их о том деле мнение с судным по оному делу приговором.
492. Однако ж великая разница: собрать все известия и обстоятельства какого дела и дать о том свое мнение, или судить то дело.
493. 3) Правила весьма важные и нужные.
494. В столь великом Государстве, распространяющем свое владение над столь многими разными народами, весьма бы вредный для спокойства и безопасности своих граждан был порок – запрещение или недозволение их различ– ных вер.
495. И нет подлинно иного средства, кроме разумного иных законов дозволения, православною нашею верою и политикою неотвергаемого, которым бы можно всех сих заблудших овец паки привести к истинному верных стаду.
496. Гонение человеческие умы раздражает, а дозволение верить по своему закону умягчает и самые жестоковыйные сердца, и отводит их от заматерелого упорства, утушая споры их, противные тишине Государства и соединению граждан.
497. Надлежит быть очень осторожным в исследовании дел о волшебстве и еретичестве. Обвинение в сих двух преступлениях может чрезмерно нарушить тишину, вольность и благосостояние граждан, и быть еще источником бесчисленных мучительств, если в законах пределов оному не положено.
Ибо как сие обвинение не ведет прямо к действиям гражданина, но больше к понятию, воображенному людьми о его характере, то и бывает оно очень опасно по мере простонародного невежества. И тогда уже гражданин всегда будет в опасности, для того что ни поведение, в жизни самое лучшее, ни нравы, самые непорочные, ниже исполнение всех должностей не могут быть защитниками его противу подозрений в сих преступлениях.
498. Царствующему Греческому Императору Мануилу Комнину доносили на протестатора, что он имел умысел против царя и употреблял к тому тайные некоторые волшебства, делающие людей невидимыми.
499. В цареградской истории пишут, что как по откровению учинилось известно, коим образом чудодействие престало по причине волшебства некоего человека, то и он и сын его осуждены были на смерть.
Сколько тут разных вещей, от которых сие преступление зависело и которые судии разбирать надлежало? 1) Что чудодействие престало; 2) что при сем пресечении чудодействия было волшебство; 3) что волшебство могло уничтожить чудодеяние; 4) что тот человек был волшебник; 5) наконец, что он сие действие волшебства учинил.
500. Император Феодор Ласкар приписывал болезнь свою чародейству. Обвиняемые в том не имели другого средства ко спасению, как осязать руками раскаленное железо и не ожечься. Со преступлением в свете самым неизвестным совокупляли опыты для изведания самые неизвестные.
501. 4) Как можно узнать, что государство приближается к падению и конечному разрушению?
502. Повреждение всякого правления начинается почти всегда с повреждения начальных своих оснований.
503. Начальное основание правления не только тогда повреждается, когда погасает то умоначертание государственное, законом во всяком из них впечатленное, которое можно назвать равенством, предписанным законами, но и тогда еще, когда вкоренится умствование равенства, до самой крайности дошедшего, и когда всяк хочет быть равным тому, который законом учрежден быть над ним начальником.
504. Ежели не оказуют почтения Государю, правительствам, начальствующим; если не почитают старых, не станут почитать ни отцов, ни матерей, ни господ; и Государство нечувствительно низриновенно падет.
505. Когда начальное основание правления повреждается, то принятые в оном положения называются жестокостию или строгостию; установленные правила именуются принуждением; бывшее прежде сего радение нарицается страхом. Имение людей частных составляло прежде народные сокровища; но в то время сокровище народное бывает наследием людей частных, и любовь к Отечеству исчезает.
506. Чтоб сохранить начальные основания учрежденного правления невредимыми в настоящем его величии; и сие Государство разрушится, если начальные в нем переменятся основания.
507. Два суть рода повреждения: первый – когда не наблюдают законов; второй – когда законы так худы, что они сами портят; и тогда зло есть неизлечимо потому, что оно в самом лекарстве зла находится.
508. Государство может также перемениться двумя способами: или для того, что установление оного исправляется, или что оное ж установление портится. Если в Государстве соблюдены начальные основания и переменяется оного установление, то оно исправляется; если же начальные основания потеряны, когда установление переменяется, то оно портится.
509. Чем больше умножаются казни, тем больше опасности предстоит Государству; ибо казни умножаются по мере повреждения нравов, что также производит разрушение государств.
510. Что истребило владения поколений Цина и Сунги? Говорит некоторый китайский писатель: то, что сии владетели, не довольствуясь главным надзиранием, одним только приличным Государю, восхотели всем беспосредственно управлять и привлекли к себе все дела, долженствующие управляться установлением разных правительств.
511. Самодержавство разрушается еще тогда, когда Государь думает, что он больше свою власть покажет, ежели он переменит порядок вещей, а не оному будет следовать, и когда он больше прилепится к мечтаниям своим, нежели к своим благоизволениям, от коих проистекают и проистекли законы.
512. Правда, есть случаи, где власть должна и может действовать безо всякой опасности для Государства в полном своем течении. Но есть случаи и такие, где она должна действовать пределами, себе ею же самою положенными.
513. Самое высшее искусство государственного управления состоит в том, чтобы точно знать, какую часть власти, малую ли или великую, употребить должно в разных обстоятельствах; ибо в самодержавии благополучие правления состоит отчасти в кротком и снисходительном правлении.
514. В изящных махинах искусство употребляет столь мало движения, сил и колес, сколько возможно. Сие правило также хорошо и в правлении; средства самые простые суть часто самые лучшие, а многосплетенные суть самые худшие.
515. Есть некоторая удобность в правлении: лучше, чтоб Государь ободрял, а законы бы угрожали.
516. Министр тот очень искусен во звании своем, который вам всегда станет сказывать, что Государь досадует, что он нечаянно упрежден, что он в том поступит по своей власти.
517. Еще бы сие великое было несчастие в Государстве, если бы не смел никто представлять своего опасения о будущем каком приключении, ни извинять своих худых успехов, от упорства счастия происшедших, ниже свободно говорить своего мнения.
518. Но скажет кто, когда же должно наказывать и когда прощать должно? Сие есть такая вещь, которую лучше можно чувствовать, нежели предписать. Когда милосердие подвержено некоторым опасностям, то опасности сии очень видны. Легко различить можно милосердие от той слабости, которая Государя приводит ко презрению наказания, и в такое состояние, что он сам не может разобрать, кого наказать должно.
519. Правда, что хорошее мнение о славе и власти Царя могло бы умножить силы державы его; но хорошее мнение о его правосудии равным образом умножит оные.
520. Все сие не может понравиться ласкателям, которые по вся дни всем земным обладателям говорят, что народы их для них сотворены. Однако же Мы думаем и за славу Себе вменяем сказать, что Мы сотворены для Нашего народа, и по сей причине Мы обязаны говорить о вещах так, как они быть должны. Ибо, Боже сохрани, чтобы после окончания сего законодательства был какой народ больше справедлив и, следовательно, больше процветающ на земле: намерение законов Наших было бы не исполнено – несчастие, до которого Я дожить не желаю.
521. Все приведенные в сем сочинении примеры и разных народов обычаи не должны иного производить действия, как только споспешествовать выбору способов, коими бы народ Российский, сколько возможно по человечеству, учинился во свете благополучнейшим.
522. Остается ныне Комиссии подробности каждые части законов сравнять с правилами сего Наказа.
Окончание
523. Может случиться, что некоторые, прочитав сей Наказ, скажут: не всяк его поймет. На сие не трудно ответствовать: подлинно не всяк его поймет, прочитав одиножды слегка; но всякий поймет сей Наказ, если со прилежанием и при встречающихся случаях выберет из оного то, что ему в рассуждениях его правилом служить может. Должно сей Наказ почаще твердить, дабы он знакомее сделался, и тогда всякий твердо надеяться может, что его поймет, понеже
524. Прилежание и радение все преодолевают, так как лень и нерадение ото всякого добра отводят.
525. Но дабы сделать облегчение в сем трудном деле, то должно сей Наказ читать в Комиссии о сочинении проекта нового Уложения и во всех частных от нее зависящих Комиссиях, а особливо главы и статьи, им порученные, одиножды в начале каждого месяца до окончания Комиссии.
526. Но как нет ничего совершенного, что человеком сочинено, то, если откроется в производстве, что на какие ни есть учреждения в сем Наказе правила еще не положено, дозволяется Комиссии о том Нам докладывать и просить дополнения.
ЕкатеринаДополнение к большому наказу
Глава XXI
527. О благочинии, называемом инако полициею.
528. Часто разумеется под названием полиции порядок вообще в Государстве.
529. Мы изъяснимся в сей главе, что Мы здесь под именем полиции разумеем,
530. К попечению которой все то принадлежит, что служит к сохранению благочиния в обществе.
531. Уставы сея части суть совсем другого рода от прочих гражданских законов.
532. Есть преступники такие, которых наказывают.
533. Есть иные, которых только исправляют.
534. Первые подлежат силе закона, другие – власти оного; те извергаются из общества, сии, напротив того, приводятся жить по учрежденным в обществе правилам.
535. Вещи, ко благочинию принадлежащие, суть такие, кои всякий час случиться могут и в коих обыкновенно дело идет о малом чем: итак, не надлежит тут быть пространным судебным обрядам.
536. Полиция беспрестанно занята подробностями или мелочами: посему дела, которых исследование требует очень долгого времени, не свойственны рассматриванию и разбору сего правления. Во многих местах дела, по прошествии известного означенного числа дней, отсылаются в те судебные правительства, к которым оные принадлежат.
537. Действия полиции должны быть нимало не медлительны; и оные чинятся над вещьми, всякий день сызнова случающимися. И так великие наказания тут не властны; и великие примеры не для сего правления сделаны.
538. Более нужны оному уставы, нежели законы.
539. Люди, от оного зависящие, всегда находятся в глазах градского начальства; и мудрые установления о благочинии препятствуют им впадать в большие преступления.
540. Чего для не надобно смешивать великого нарушения законов с простым нарушением установленного благочиния: сих вещей в одном ряду ставить не должно.
541. Отсюда следует, например, что поступок некоего султана, указавшего посадить на кол хлебника, пойманного в обмане, есть поступок тирана, не знающего быть инако правосудным, как переходя меру самого правосудия.
542. Весьма потребно те случаи, в которых надлежит наказывать, от тех отделять, в коих только исправлять надобно.
543. Не довольно того, чтоб узнать непорядки и выдумать способы для отвращения их; надлежит еще сверх того недремлющим оком смотреть, чтобы способы сии были при встречающихся случаях самым делом исполняемы.
544. И сия-то часть задачи, к решению здесь предлагаемой, во многих землях совсем пренебрежена; однако ж без нее и другие части цели, если так сказать можно, составляющей правление всего Государства, придут в беспорядок.
545. С уставами сея части точно то же случилося, что со множеством домов, город составляющих, которым земельного чертежа прежде начатия их строения не сделано. В таком городе, когда он начинает строиться, всяк занимает место, которое ему лучше понравилося, несмотря нимало ни на правильность, ни на пространство занимаемого им места; а оттуда выходит куча зданий, которую в правильный порядок привести едва могут целых веков старания и рачительное смотрение. Тому же неустройству подвержены и законы о сохранении благочиния.
546. По мере нужд число оных учреждений возрастает; но привести их в порядок таким образом, чтобы безо всяких затруднений они могли быть всегда по-надлежащему исполняемы, будет самое искусство в рассуждении сея отрасли законов.
547. Сии учреждения разделить надлежит на два рода.
548. Первый содержит в себе полицию градскую;
549. Вторый – полицию земскую.
550. Сие последнее не имеет ни предлога, ни пространства, равного первому.
551. В сих частях должно прилагать тщание о нижеследующем.
552. 1) Чтобы ничего не дозволять, что может смутить отправление службы Божией, творимой в местах, к тому определенных, и чтоб порядок и приличное благолепие были гражданами наблюдаемы при крестных ходах и тому подобных обрядах.
553. 2) Целомудрие нравов есть вторым предлогом сохранения благочиния и заключает в себе все нужное ко стеснению роскоши, к отвращению пьянства, ко пресечению запрещенных игр, пристойное учреждение об общих банях или мыльнях и о позорищах, чтоб воздержать своевольство людей, худую жизнь ведущих, и чтоб изгнать из общества обольщающих народ под именем волшебников, прорицателей, предзнаменователей и других подобных обманщиков.
554. 3) Здоровье – третий предмет Полиции, и обязует распространить свое тщание на безвредность воздуха, на чистоту улиц, рек, колодезей и других водных источников, на качество съестных и питейных припасов, наконец, на болезни, как в народе размножающиеся, так и на прилипчивые.
555. 4) Бдение о сохранении всякого рода жит и тогда, когда они еще не сняты с кореня, соблюдение скота, лугов для их паствы, рыбных ловель и проч. Предписывать должно общие правила о сих вещах по приличию обстоятельств, и какие в том иметь надобно для предосторожности.
556. 5) Безопасность и твердость зданий, и правила к наблюдению в сем случае, потребные для разных художников и мастеровых, от которых твердость здания зависит; содержание мостовой; благолепие и украшение городов; свободный проход и проезд по улицам; общий извоз; постоялые дворы и проч.
557. 6) Спокойство народное требует, чтобы предупреждены были внезапные случаи и другие приключения, как то: пожары, воровство и проч. И так предписываются для сохранения сего спокойства известные правила, например, гасить огонь в положенные часы; запирать ворота в домах; бродяг и людей, никакого вида о себе не имеющих, заставляют работать или высылают из города. Запрещают носить оружие людям, к тому не имеющим права, и проч. Запрещают недозволенные сходбища или собрания, разноску и раздачу писем возмутительных или поносительных.
По окончании дня стараются соблюсти спокойство и безопасность в городе и в ночное время, освещают улицы и проч.
558. 7) Установляют верный и одинаковый вес и меру, и препятствуют, чтоб никакого обмана не было чинено.
559. 8) Наемные слуги и поденные работники составляют также предлог сего правления, как для содержания их в своей должности, так и для того, чтоб они должную себе плату верно получали от тех, кои их нанимают.
560. 9) Наконец, нищие, а наипаче нищие-больные привлекают попечение сего правления к себе, во-первых, в том, чтоб заставить работать просящих милостыни, которые руками и ногами своими владеют, а при том, чтобы дать надежное пропитание и лечение нищим немощным.
561. Как установление сего правления, намерение и конец есть хороший порядок и благочиние вообще в гражданском сожитии, то отсюда явствует, что каждый член общества, какого бы чина и состояния он ни был, зависит от сего правления.
562. Где пределы власти полицейской кончатся, тут начинается власть правосудия гражданского.
563. Например. Полиция берет под стражу вора или преступника; она делает ему допрос; однако произведение дела его препоручает тому судебному месту, к которому его дело принадлежит.
564. Изо всего вышеписанного явствует, что сему правлению не надлежит налагать на людей тяжких наказаний; довольно для обуздания особ и содержания в порядке дел, оному порученных, чтоб оного наказания состояли в исправлениях, пенях денежных и других наказаниях, наносящих стыд и поношение на поступающих худо и бесчинно, и удерживающих в почтении сию часть правительства, и в повиновении оному всех прочих сограждан.
565. В судебных местах есть правило, чтоб не судить ни о каких других вещах, кроме представленных в оные надлежащим порядком к суду.
566. Напротив того, Полиция открывает преступления, оставляя в прочем судить дела другим правительствам, и отсылает им оные.
ЕкатеринаДополнение к большому наказу
Глава XXII
567. О расходах, доходах и о государственном оных управлении, сиречь о государственном строительстве, инако камерным правлением нарицаемом.
568. Всяк должен здесь самому себе сказать: я человек; ничего, чему подвержено человечество, я чуждым себе не почитаю.
569. Итак: 1) Человека не должно и не можно никогда позабывать.
570. 2) Мало в свете человеком делается, что бы не для человека же было, и большею частию все вещи чрез него же делаются.
571. Первое из сих двух последних изречение по достоинству требует всякого возможного примечания и внимания.
572. Второе – много благодарности и искреннего к трудящимся благоволения.
573. Человек, кто бы он ни был: владелец или земледелатель; рукодельник или торговец; праздный хлебоядец или прилежанием и рачением своим подающий к тому способы; управляющий или управляемый, – все есть человек: сие одно слово подает уже совершенное изображение всех нужд и всех средств к удовольствованию оных.
574. Сколь больше нужд есть еще великому множеству людей, общежитием в государстве соединенных.
575. Вот что называется государственные надобности, из коих истекают государственные издержки и кои состоят в следующем.
576. Сохранение целости государства: 1) Содержанием обороны, сиречь войск сухопутных и морских, крепостей, артиллерии или огнестрелия, и всего, что к тому принадлежит.
577. 2) Соблюдением внутреннего порядка, спокойства и безопасности всякого особенно и всех вообще; содержанием людей для отправления правосудия, благочиния и надзирания над разными установлениями, служащими к общей пользе.
578. 3) Предприятиями, касающимися до пользы общей. К сему относится строение городов, дорог, делание каналов, то есть прокопов, чищение рек, учреждение училищ, больниц и прочие бесчисленные предлоги, коих в подробности здесь описывать краткость сего сочинения не дозволяет.
579. 4) Благопристойность требует, чтоб довольство и великолепие окружали престол, аки источник благоденствия обществу, от которого истекают награждения, ободрения и милости. На все сие расходы нужны и полезны.
580. Сделав краткое описание государственным издержкам, надлежит говорить о доходах государственных и о тех средствах, которыми те сборы сделать можно сносными.
581. Подати суть, как выше показано, дань, которую каждый гражданин платит для сохранения своего собственного благосостояния, спокойствия, жизни и имения.
582. Но – 1) На какие предлоги налагать подати?
583. 2) Как их учинить легчайшими для народа?
584. 3) Как уменьшить издержки при сборах?
585. 4) Как сделать доходы верными?
586. 5) Как оными управлять?
587. Сии вопросы суть те, которые решить весьма нужно, хотя весьма трудно.
588. На 1) Считают пять предлогов, на которые обыкновенно делается накладка: а) лица; б) имения; в) произрастения домашние, употребляемые людьми; г) товары отвозные и привозные; д) действия.
589. На 2) Легчайшими подати почитают те, кои суть добровольны и от принуждений отделяемы, которые более касаются до всех вообще государственных жителей и умножаются по мере роскоши всякого.
590. Но дабы елико возможно сделать накладки подданным не столь чувствительными, надлежит при том хранить всегдашним правилом, чтоб во всех случаях избегать монополии, то есть не давать, исключая всех прочих, одному промышлять тем или другим.
591. На 3). Уменьшение издержек при сборах требует подробного рассуждения о мелочах и о выключении из числа оных всего того, что иногда причиняет издержки ненужные.
592. На 4). Чем народ будет достаточнее, тем будет в состоянии платить вернее.
593. Можно здесь упомянуть, что вообще есть подати, кои по естеству своему подвержены многим трудностям и некоторым неудобствам, для отвращения коих способы найти должно; другие, кои, за исключением издержек, при оных употребляемых, суть весьма маловажны.
594. Также подлежит и то испытанию, отчего в иных местах бывают недоимки?
595. Оттого ли, что там меньше обращается денег, нежели в других местах?
596. Или оттого, что тягостен делается отвоз избытков;
597. Что искусств и рукоделий там еще довольно не находится;
598. Или что народу там мало средств к обогащению себя;
599. Или то от лени, либо от излишнего, противу других, удручения происходит?
600. Следует на 5) говорить о государственном сборов управлении, или экономии, что инако камерным называется правлением. Но Мы все сие разумеем под именем государственного строительства.
601. Показано выше, что считают пять предлогов доходам: но налоги в государстве суть, как парусы на корабле – для безопасного оному надежным путем течения и приведения к намереваемому пристанищу, а не для обременения беспрестанного по морю плавания, и, наконец, для гибельного в пучине погружения.
602. Кто о строительстве по деньгам рассуждает, тот видит только окончательный оного исход, а начальных оснований не понимает. Но рассматривающий прилежно все дела сего околичности и вникающий в самый нутр оного сыщет и начальное основание, и предмет, и средства действий, самонужнейших для государства.
603. Какие ж начальные основания, крепостию своею содержащие сие строительство? Не иные подлинно, как люди.
604. Отсюда следует, что настоит нужда 1) ободрить размножение народа, чтоб великое число людей было в государстве.
605. 2) Употребить оных в пользу, сколько к чему довольно по количеству людей и пространству земель; способствовать и вспомоществовать разным искусствам и званиям по мере различных степеней надобности их и пользы.
606. Здесь земледелие, само собою, занимает первое место. Ибо оно одно, питая людей, может их привести в такое состояние, чтоб у них и все прочее было. Без земледелия не будет первых веществ на потребу рукоделиям и ремеслам.
607. Должность строительства есть найти средства ободрить владетелей: 1) чтоб они пользовались добротою земель всякого рода, какое бы их употребление ни было и какие бы произведения оные ни приносили; 2) чтоб старались о растении и размножении плодов, лесов, дерев и всех прочих растений, поверх– ность земли покрывающих; 3) чтоб распложали животных всякого рода и всякого вида ползущих по земле и парящих по воздуху, которые служат к удобрению земли и которым она взаимно дает пищу; 4) чтоб в пользу свою употребляли металлы или крушцы, соли, камни и прочие минералы, внутрь земли крыющиеся и трудами нашими из недр ее извлекаемые; 5) также и рыбы и вообще все, что ни находится в водах.
608. Вот основание и корень торговли. Чрез торговлю все сии вещи приходят в обращение внутри государства или отвозятся в чужие страны.
609. Внутренняя торговля собственно не может торговлею назваться; она не что иное есть, как простое круговое обращение.
610. Прямая торговля есть та, посредством которой Государство достает себе из чужих земель нужные вещи, коих у себя не имеет, а лишние свои вне пределов отсылает.
611. Но вывоз и привоз товаров подлежат различным законам по различию их предлога.
612. Внешняя торговля не всегда бывает одинаковая.
613. Торговля, хорошо учрежденная и рачительно отправляемая, все животворит, все поддерживает: если она внешняя, и баланс, то есть перевес оной для нас выгоден; если же внутренняя, и круговое обращение никаких препятствий и уз, ее утесняющих, не находит, то в обоих случаях необходимо должна принести всеобщее и постоянное изобилие народу.
614. От чего родятся богатства; которые суть 1) естественные или приобретенные;
615. 2) Существенные или мысленные.
616. В числе естественных богатств можно класть природный ум жителей, который, получив просвещение и будучи ревностию поощрен и возвышен, может простертися далече и великими своими успехами принесть пользу Государству и частным людям немалую.
617. Земли, прилежно испытанные и рачительно обработанные, подают богатую жатву и обильный достаток всяких вещей нужных, полезных и приятных.
618. Богатства приобретенные суть те, которые происходят от рачения и прилежности, господствующей в ремеслах, рукоделиях, художествах и науках.
619. Ободрение много вспомоществует дальнейшему и совершеннейшему знанию и произвождению оных.
620. За приобретенное богатство еще надлежит почитать внутриудобность водяного хода по прокопанным нарочно для того рвам в местах, к судовому ходу без того не способных; извне распространение морской торговли, приращение сухопутной, облегчение и безопасность оные построением, восстановлением, содержанием в хорошем состоянии и прочности больших дорог, мостов и плотин.
621. Число вещей, сюда принадлежащих, столь велико, что здесь главнейшие только из них означаются; да и те еще всегда по нуждам и разным видам подвергаются перемене. Однако ж довольно сего, чтоб дать понятие о том, что Мы под именем государственного строительства разумеем. Прочее оставляется рассуждению тех, кои к исполнению сей важной части приступят, чтобы во глубину оные вникнули.
622. Богатства в государстве суть еще иные существенные, иные мысленные.
623. Существенные суть или недвижимые, или движимые.
624. Оные принадлежат либо Государю, либо частному человеку.
625. Богатства Государевы суть или просто владельческие, поелику некоторые известные земли или вещи ему как частному некоему помещику и господину принадлежат; или как богатства Самодержца, владычествующего по сему Богом данному званию над всем тем, что общенародную казну составляет.
626. Частных людей богатства суть те, коими они владеют как граждане, которых имения суть основанием существенных государства богатств двумя способами:1) произведениями всякого рода, вступающими от них в торговлю и в круговое обращение; 2) налогами, которые частный человек уплатить инако не может, как посредством сих же самих произведений.
627. Богатства существенные, состоящие в доходах, суть или непременные, или случайные; и оные принадлежат так, как и земли, либо Государю, либо и человеку частному.
628. Доходы, принадлежащие Государю, суть также двоякого рода: или как частного некоего владельца, или как державы правителя.
629. Государь первыми владеет сам собою.
630. Но поелику Самодержец, счисляет он: 1) все доходы имений государственных во всецелом их объятии; 2) налоги на то, чем другие владеют.
631. Сего последнего дохода благоразумный Самодержец никогда без крайнего соболезнования не умножает и, делая то, прилежно смотрит, чтоб учреждение налогов чинимо было по мере имущества подданных, чтоб не превосходило меры их возможности в рассуждении их имения и чтобы не обременяло граждан больше, нежели естественно им поднять, и по справедливости от них требовать можно.
632. Надлежит, чтобы при сборах столько же точность, сколько умеренность и человеколюбие были наблюдаемы.
633. Приметим здесь, что золото и серебро, которые суть попеременно товары и знаки, представляющие все то, что в мену употребить можно, достаются или из рудокопных ям, или чрез торговлю.
634. Золото и серебро приемлется в рассуждение либо как первое простое вещество, либо как вещь, искусством выработанная.
635. Товары и всякое движимое имение суть часто предлогом внутреннего кругового обращения и торговли, с иностранными государствами производимой.
636. И в сем случае, а особливо в последнем, весьма нужно испытать, первое ли простое вещество и совершенная отделка вместе, или одно что-нибудь из них производится нашим народом.
637. Мысленными богатствами могут чрезвычайно умножиться богатства существенные.
638. Оные основаны на кредите или доверенности, то есть на впечатленном и принятом мнении, что платят верно и что в состоянии уплатить.
639. Кредит или доверенность может быть или целого народа, которая видна в банках и в обращении некоторых вещей, от правительства хорошими распоряжениями силу в доверенности получивших, или доверенность людей частных, и то либо раздельно, либо совокупно.
640. Раздельно могут они добросовестием своим, честным поведением и дальновидными намерениями сделаться банкирами не только одного государства, но и всего света.
641. Совокупно могут они сойтись в большие и малые собрания, в купеческие общества; и тогда личная доверенность умножает доверенность общенародную.
642. Но выгоды от богатств естественных и приобретенных, существенных и мысленных не вмещаются в пределах времени настоящего; они распростираются и на будущее, приуготовляя в нужде надежные способы ко умножению дохода, сии составляют также отрасль государственную строительства.
643. С сими способами то же бывает, что и с доверенностию: разумное употребление размножает оные, а злоупотребление истребляет.
644. Не хорошо ни то, когда их вовсе не ведают, ни другое, когда к ним прибегают беспрестанно. Надобно их искать так, будто бы без них обойтися нельзя было; не должно, напротив того, ими пользоваться, как только в существенной нужде; и с такою же осторожностию щадить их надлежит, будто бы впредь невозможно было сыскать других новых.
645. И к сей-то разумной бережливости ведут нас истинные начальные основания государственного строительства.
646. Общее государственное строительство разделяется на политическое и хозяйское.
647. Политическое объемлет всецелость народа и вещей, рассуждение о состоянии всех людей, о звании и упражнениях их.
648. Всецелость вещей требует хорошо знать каждую из них в подробности и вообще, чтоб можно было судить о взаимном их между собою отношении, и сделать их всех вместе полезными обществу.
649. Хозяйское строительство имеет следующие предлоги. В рассуждении начальных оснований строительства надлежит хранить безвредными источники оного, сделать их, если можно, обильнейшими и почерпать из них, не приводя в скудость и не иссушая их.
650. В рассуждении богатств, надобно в добром состоянии содержать земли и стараться приводить в лучшее.
651. Защищать права, собирать доходы так, чтоб при сборах ничего не пропадало, что в государственную казну войти должно.
652. А при расходах, чтобы каждая часть сборов употреблялась на определенные ей издержки.
653. Чтобы все расходы, если можно, не превышали доходов.
654. И чтобы счеты всегда были в порядке и ясными утверждены доказательствами.
655. Изо всего Мною здесь сказанного о государственном строительстве видно, что разделение самое простое и самое естественное, что собрание и связь понятий, всякому ясных и всем общих, ведут ко прямому определению слова, столь для всего общества важного; что в сей главе все части входят одна в другую по приличному их между собою отношению; что нет из них ни одной, которая бы от прочих не зависела; и что только одно всех сих частей сопряжение может составить, укрепить и в веки продлить безопасность Государства, благосостояние народа и славу Самодержца.
ЕкатеринаПамятная заметка о «Наказе»[12]
В первые три года царствования моего, усматривая из прошений, мне подаваемых, из сенатских и разных коллегий дел, из сенаторских рассуждений и прочих многих людей разговоров неединообразные, ни об единой вещи, установленные правила, законы же, по временам сделанные, соответствующие сему умов расположению, многим казались законами противоречащими; и требовали, и желали, дабы законодательство было приведено в лучший порядок.
Из сего, у себя на уме я вывела заключение, что образ мыслей вообще, да и самый гражданский закон не может получить поправления инако, как установлением полезных для всех в империи живущих и для всех вещей вообще правил, мною писанных и утвержденных.
И для того я начала читать [разные сочинения] и потом писать Наказ Комиссии Уложения, и читала я и писала два года, не говоря ни слова полтора года, следуя единственно уму и сердцу своему, с ревностнейшим желанием пользы, чести и счастия, и с желанием довести империю до высшей степени благополучия всякого рода, людей и вещей, вообще всех и каждого особенно.
Преуспев по мнению в сей работе довольно, я начала казать по частям, всякому по его вкусу, статьи, мною заготовленные, людям разным, и между прочим князю [Григорию] Орлову и графу Никите Панину. Сей последний мне сказал:
«Се sont des axiomes а́ renverser des murailles»[13]. Князь Орлов цены не ставил моей работе и требовал часто тому или другому показать, но я более листа одного или другого не показывала вдруг. Наконец, подготовив манифест о созыве депутатов со всей империи, дабы лучше опознать каждой округи состояние, съехались оные к Москве в 1767 году, где, быв в Коломенском дворце, назначила я разных персон, вельми разномыслящих, дабы выслушать заготовленный Наказ Комиссии Уложения.
Тут при каждой статье родились прения. Я дала им волю чернить и вымарать все, что хотели. Они более половины того, что написано мною было, помарали, и остался Наказ Уложения, яко напечатан, и я запретила на оного инако взирать, как единственно он есть: то есть правила, на которых основать можно мнение, но не яко закон, и для того по делам не выписывать яко закон, но мнение основать на оном дозволено.
Комиссия Уложения, быв в собрании, подала мне свет и сведения о всей империи, с кем дело имеем и о ком пещися должно. Она все части закона собрала и по материям разобрала, и более того бы сделала, ежели бы Турецкая война не началась. Тогда распущены были депутаты, и военные поехали в армию.
Наказ Комиссии Уложения ввел единство в правила и в рассуждения не в пример более прежнего, и стали многие о цветах судить по цветам, а не яко слепые о цветах. По крайней мере, стали знать волю законодателя и по оной поступать.
1785 г., апреля 21 грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства[14]
Божиею поспешествующую милостию мы, Екатерина Вторая, императрица и самодержица Всероссийская, Московская, Киевская, Владимирская, Новгородская, царица Казанская, царица Астраханская, царица Сибирская, царица Херсонеса Таврического, государыня Псковская и великая княгиня Смоленская, княгиня Эстляндская, Лифляндская, Корельская, Тверская, Югорская, Пермская, Вятская, Болгарская и иных, государыня и великая княгиня Новагорода Низовския земли, Черниговская, Рязанская, Полоцкая, Ростовская, Ярославская, Белоозерская, Удорская, Обдорская, Кондийская, Витепская, Мстиславская и всея Северныя страны повелительница и государыня Иверския земли, Карталинских и Грузинских царей и Кабардинския земли, Черкасских и Горских князей, и иных наследная государыня и обладательница.
Известно всенародно, что в сем титуле нашего самодержавства не вмещены мнимые или нам неподвластные царства, княжения, области, города или земли чуждые; но паче означаются самые обширные наши владения кратчайшими именованиями, ибо многочисленны суть.
Всероссийская империя в свете отличается пространством ей принадлежащих земель, кои простираются от восточных пределов Камчатских до реки и за реку Двину, падающую под Ригою в Варяжской залив, включая в свои границы сто шестьдесят пять степеней долготы. От устья же рек: Волги, Кубани, Дона и Днепра, втекающих в Хвалынское, Азовское и Черное моря, до Ледовитого океана простирается на тридцать две степени широты.
Таково есть существенное состояние Российской империи в сем знаменитом столетии, в коем истекает и настоящий 1785 год. И сим образом в истинной славе и величестве империи вкушаем плоды и познаем следствия действия нам подвластного, послушного, храброго, неустрашимого, предприимчивого и сильного российского народа, когда верою к Богу, верностию к престолу он управляем, когда труд и любовь к отечеству соединенными силами стремятся преимущественно к общему благу и когда в военном и гражданском деле примером предводителей поощрены подчиненные на деяния, хвалу, честь и славу за собою влекущие.
Начальников и предводителей таковых Россия чрез течение осьми сот лет от времени своего основания находила посред своих сынов, наипаче же во всякое время свойственно было, есть да помощию Божиею и пребудет вечно российскому дворянству отличаться качествами, блистающими к начальству. Сие неопровергаемо доказывается самыми успехами, доведшими империю Российскую до края нынешнего ея величества, силы и славы.
Да как тому и быть инако? Когда знатнейшее и благороднейшее российское дворянство, входя в службы военную или гражданскую, проходит все степени чиноначалия и от юности своей в нижних узнает основание службы, привыкает к трудам и сии нести твердо и терпеливо; а научась послушанию, тем самым приуготовляется к вышнему начальству. Не бысть бо в свете добрый начальник, который во свое время сам повиноватися не приобык.
Достигают же до вышних степеней те российского дворянства знаменитые особы, кои отличаются или службою, или храбростию, или верностию, или искусством, или же те, что, в послушании терпеливо пребывая, твердостию духа усердно преодолевают трудности и самое время, умножая опытами знание и способности свои в частях, званию их принадлежащих. Обыкла Россия исстари видеть службы верность, усердие и труды всякого рода, от престола предков наших во всякое время изобильно награждаемые, почестьми украшаемые и отличностьми предпочитаемые.
Сему свидетельства подлинные находятся в древнейших поколениях родов нашего вернолюбезного подданного российского дворянства, которое ежечасно, быв готово подвизатися за веру и отечество, и нести всякое бремя наиважнейшего империи и монарху служения, потом, кровию и жизнию приобретало поместья, с оных имело свое содержание, а умножая заслуги, получало в награждение от самодержавной власти поместья в вотчины себе потомственно.
Службою приобретенное и за вящую службу в награду полученное имение долженствовало, как и свойственно есть, наипаче обращаться в тех поколениях нашего дворянства, кои от начала основания России до дней сих оказать могут превосходным числом похвальных своих предков, мужей разумных, искусных, храбрых, в трудах неутомленных, с непоколебимым усердием ратоборствовавших многообразно и в случаях различных противу внутренних и внешних врагов веры, монарха и отечества.
Но се ли едино в приобретенном имении есть доказательство древности родов их службы, а за оные награждения? Похвальные грамоты жалованы были прежде, после и при недвижимом имении. Они суть наивяще утвердительные остатки того отличного подвига, за которой хвала последовала, как дар наидрагоценнейший благородной и честь прямолюбящей душе. Прямо же, честолюбивые души от самой древности, где многочисленнее, как не между российским дворянством обретались?
Не их ли обязательства утверждались за неустойку единым стыдом, ибо стыд и поношение благородным и честь любящим душам представлялись наитягостнейшим наказанием; хвала же и отличность – лучшею наградою. Образ мысли таковой и соединенное с оным умствование требовали, по умножении заслуг, соразмерно тому и с течением времени и переменою обычаев, отличия и от личностей изобильно.
За похвальными и жалованными грамотами на память всякого рода следовали гербы, дипломы на достоинства и патенты на чины, совокупно с наружными украшениями. В честь добродетелям и заслугам установлены всероссийские кавалерские ордена, как вообще надписи свидетельствуют. Орден Святого Апостола Андрея Первозванного за веру и верность. Святой великомученицы Екатерины за любовь и отечество. Святого благоверного князя Александра Невского за труды и отечество.
И уже во днех наших служба и храбрость начальствующих российских воинов побудили нас отличать победителей знаками установленного для таковых ордена великого Победоносца Георгия и учредить также орден Святого равноапостольного князя Владимира в награждение трудов в военном и гражданском звании, приносящих общую пользу, честь и славу.
К вам обращаем наше слово, достойно знаменующиеся победительным орденом! Вас хвалим, о потомки, достойные предков своих! Сии были основа величества России, вы силу и славу отечества совершили шестилетними непрерывными победами в Европе, Азии, Африке, на сухом пути в Молдавии, Бессарабии, Валахии, за Дунаем, в городах Балканских, в Крыму и в Грузии; на море же – в Морее, в Архипелаге, Чесме, Метелине, Лемносе, Негропонте, Патросе, Египте, на Азовском и Черном морях, на реках Днепре и по великому течению Дуная.
Удивительны, без сомнения, будут потомкам сии многочисленные победы по краям вселенной; но вечная слава заключенного в Болгарии в стану наших войск при Кучук-Кайнарджи мира июля 10 дня 1774 года предводительствовавшим Первую нашу армию генерал-фельдмаршалом графом Петром Александровичем Румянцевым, проименованным от нас по сей войне Задунайским, с турецким верховным визирем, поставит удостоверение о бытии оных выше забвения и сомнительности.
Сей драгоценный мир, постановлениями своими доказывающий и прекративший победительную войну, доставил по желанию нашему великие выгоды России и отверз путь к вожделенным предметам, пользу и могущество оного усиливающим.
От блага, войною стяжанного, колико расспространяется польза государства, доказывает уже то бескровопролитное приобретение скипетру нашему Херсонеса Таврического и Кубани, одержанное 8 апреля 1783 года ревнительным подвигом нашего генерал-фельдмаршала князя Григория Александровича Потемкина, которой, удовлетворяя нашему повелению, благоразумною предприимчивостию своею явил отличную и навсегда незабвенную заслугу пред нами и отечеством.
Кроме выгод от ветвей торговли, мореплавания на Черном море и той прибыли, что приносит земля, сама по себе всяким плодородием изобилующая, всеконечно почувствует всяк россиянин сугубое утешение в душе своей, представя страну сию во времена Владимира, когда князь сей, просветившися в оной сам крещением святым, принес оттуда спасительную христианскую веру во всю Россию; и, воспоминая при том от древности до наших времен, колико царство и народ сей, учинившийся ныне России подвластным, бедоносными нашествиями раздирали отечество опустошениями, нарушая покой его; но теперь, подвергнутый во область нашу, обратился с помощию Божиею тот край вместо прежнего вреда в источник пользы.
С новыми выгодами и приращением нашей империи, когда пользуемся всякою внутреннею и внешнею повсюду тишиною, мы подвиг свой вяще и вяще устремляем к непрерывному упражнению доставить нашим верноподданным во всех нужных частях внутреннего государственного управления твердых и прочных постановлений ко умножению благополучия и порядка на будущие времена, и для того, во-первых, достойно находим простерти наше попечение к нашему вернолюбезному подданному российскому дворянству, имея в памяти вышесказанные его заслуги, ревность, усердие и непоколебимую верность самодержцам всероссийским, нам самим и престолу нашему оказанные в наисмутнейшия времена, как в войне, так и посреди мира.
А подражая примерам правосудия, милосердия и милости в Бозе почивающих, российский престол украсивших и прославивших предков наших и движимы будучи собственною нашею матернею любовию и отличною признательностию к российскому дворянству, по благорассуждению и изволению нашему императорскому повелеваем, объявляем, постановляем и утверждаем в память родов для пользы российского дворянства службы нашей и империи следующие статьи на вечные времена и непоколебимо.
А. О личных преимуществах дворян
1. Дворянское название есть следствие, истекающее от качества и добродетели начальствовавших в древности мужей, отличивших себя заслугами, чем, обращая самую службу в достоинство, приобрели потомству своему нарицание благородное.
2. Не токмо империи и престолу полезно, но и справедливо есть, чтоб благородного дворянства почтительное состояние сохранялось и утверждалось непоколебимо и ненарушимо; и для того исстари, ныне да и пребудет на веки благородное дворянское достоинство не отъемлемо, наследственно и потомственно тем честным родам, кои оным пользуются, и следственно:
3. Дворянин сообщает дворянское достоинство жене своей.
4. Дворянин сообщает детям своим благородное дворянское достоинство наследственно.
5. Да не лишится дворянин или дворянка дворянского достоинства, буде сами себя не лишили оного преступлением, основаниям дворянского достоинства противным.
6. Преступления, основания дворянского достоинства разрушающие и противные, суть следующие: 1) Нарушение клятвы. 2) Измена. 3) Разбой. 4) Воровство всякого рода. 5) Лживые поступки. 6) Преступления, за кои по законам следовать имеет лишение чести и телесное наказание. 7) Буде доказано будет, что других уговаривал или научал подобные преступления учинить.
7. Но понеже дворянское достоинство неотъемлется, окроме преступления; брак же есть честен и законом Божиим установлен, и для того благородная дворянка, вышедши замуж за недворянина, да не лишится своего состояния; но мужу и детям не сообщает она дворянства.
8. Без суда да не лишится благородный дворянского достоинства.
9. Без суда да не лишится благородный чести.
10. Без суда да не лишится благородный жизни.
11. Без суда да не лишится благородный имения.
12. Да не судится благородный, окроме своими равными.
13. Дело благородного, впадшего в уголовное преступление и по законам достойного лишения дворянского достоинства, или чести, или жизни, да не вершится без внесения в Сенат и конфирмации императорского величества.
14. Всякого рода преступления (благородного), коим десять лет прошло, и чрез таковое долгое время они не сделались гласны и по оным производства не было, все таковые дела повелеваем отныне предать, если где об них взыскатели, истцы или доносители явятся, вечному забвению.
15. Телесное наказание да не коснется до благородного.
16. С дворянами, служащими в нижних чинах наших войск, поступать во всех штрафах так, как по нашим военным правилам поступается с обер-офицерскими чинами.
17. Подтверждаем на вечные времена в потомственные роды российскому благородному дворянству вольность и свободу.
18. Подтверждаем благородным, находящимся в службе, дозволение службу продолжать и от службы просить увольнения по сделанным на то правилам.
19. Подтверждаем благородным дозволение вступать в службы прочих европейских нам союзных держав и выезжать в чужие край.
20. Но как благородное дворянское название и достоинство исстари, ныне, да и впредь приобретается службою и трудами, империи и престолу полезными, и существенное состояние российского дворянства зависимо есть от безопасности отечества и престола: и для того во всякое таковое российскому самодержавию нужное время, когда служба дворянства общему добру нужна и надобна, тогда всякий благородный дворянин обязан по первому позыву от самодержавной власти не щадить ни труда, ни самого живота для службы государственной.
21. Благородный имеет право по прозвании своем писаться как помещиком его поместий, так и вотчинником родовых, наследственных и жалованных его вотчин.
22. Благородному свободная власть и воля оставляется, быв первым приобретателем какого имения, благоприобретенное им имение дарить, или завещать, или в приданные или на прожиток отдать, или передать, или продать, кому заблагорассудит. Наследственным же имением да не распоряжает инако, как законами предписано.
23. Благородного наследственное имение, в случае осуждения и по важнейшему преступлению, да отдастся законному его наследнику.
24. Понеже желание и хотение наше было, есть и впредь с помощию Божиею непременно будет, чтоб империя Всероссийская управляема была издаваемыми от самодержавной нашей власти узаконениями и постановлениями, для утверждения правосудия, правды и безопасности имения и имущества каждого, находим справедливо снова запретить и строго подтвердить древние о том запрещения: да не дерзнет никто без суда и приговора, в силу законов тех судебных мест, коим суды поручены, самовольно отобрать у благородного имение или оное разорять.
25. Правосудие и возмездие за преступление вверены в каждом наместничестве единственно судебным на то установленным местам; они выслушивают жалобы истца и оправдания ответчика и чинят решения по законам, которым всяк, какого бы рода и поколения ни был, повиноватися обязан, и для того, буде благородный имеет законное требование или кто на благородного, то оное разобрать надлежит в установленных и на то власть имеющих судебных местах предписанным порядком, ибо несправедливо и с общим порядком несходственно бы было, когда бы всяк в собственном своем деле вздумал сделаться судьею.
26. Благородным подтверждается право покупать деревни.
27. Благородным подтверждается право оптом продавать, что у них в деревнях родится или рукоделием производится.
28. Благородным дозволяется иметь фабрики и заводы по деревням.
29. Благородным дозволяется в вотчинах их заводить местечки и в них торги и ярмарки, согласно с государственными узаконениями, с ведома генерал-губернаторов и губернских правлений и с наблюдением, чтоб сроки ярмарок в местечках их соображены были со сроками в других окрестных местах.
30. Благородным подтверждается право иметь или строить, или покупать дома в городах и в оных иметь рукоделие.
31. Буде кто благородный желает пользоваться городовым правом, да повинуется оному.
32. Благородным дозволяется оптом продавать или из указных гаваней за моря отпускать товар, какой у кого родится, или на основании законов выделан будет, ибо им не запрещается иметь или заводить фабрики, рукоделия и всякие заводы.
33. Подтверждается благородным право собственности, дарованное милостивым указом от 28 июня 1782 года, не только на поверхности земли, каждому из них принадлежащей, но и в недрах той земли и в водах, ему принадлежащих, на все сокровенные минералы и произрастения и на все из того делаемые металлы в полной силе и разуме, как в том указе изъяснено.
34. Подтверждается благородным право собственности в лесах, растущих в их дачах, и свободного их употребления в полной силе и разуме, как в милостивом указе 22 сентября 1782 года изображено.
35. По деревням помещичий дом имеет быть свободен от постоя.
36. Благородной самолично изъемлется от личных податей.
Б. О собрании дворян, установлении общества дворянского в губернии и о выгодах дворянского общества
37. Нашим верноподданным дворянам жалуем дозволение собираться в той губернии, где жительство имеют, и составлять дворянское общество в каждом наместничестве и пользоваться нижеписанными правами, выгодами, отличностями и преимуществами.
38. Дворянство собирается в губернии по позыву и дозволению генерал-губернатора или губернатора как для вверенных дворянству выборов, так и для выслушивания предложений генерал-губернатора или губернатора, всякие три года в зимнее время.
39. Собранию дворянства в наместничестве дозволяется избрать губернского предводителя дворянства той губернии; и для того собранию дворянства всякие три года представить из уездных дворянских предводителей двух государеву наместнику или правителю, и, которого из сих генерал-губернатор или губернатор назначит, тому и быть губернским предводителем дворянства той губернии.
40. По силе 64 и 211 статей учреждений уездный предводитель дворянства выбирается дворянством того уезда чрез всякие три года по баллам.
41. По силе 65 статьи учреждений верхнего земского суда десять заседателей и двое заседателей совестного суда выбираются дворянством тех уездов, кои составляют подсудное ведомство того верхнего земского суда чрез всякие три года и представляются от оного правителю или губернатору, когда генерал-губернатора на месте нет: и буде за ними нет явного порока, то государев наместник или в небытность его правитель наместничества подтверждает дворянский выбор.
42. Десять заседателей (верхнего земского суда и заседатели совестного суда, уездного суда и нижнего земского суда) выбираются чрез всякие три года дворянством тех уездов, кои составляют подсудное ведомство того верхнего земского суда, из дворян, на месте живущих, или на тех, кои в дворянском списке той губернии написаны суть, но неотлучны по службе и должностям бывают.
43. По силе 66 статьи учреждений уездный или окружный судья и земской исправник или капитан выбираются дворянством чрез всякие три года и представляются от оного правителю; и буде за ними нет явного порока, то губернатор подтверждает дворянский выбор.
44. По силе 67 статьи учреждений заседатели уездного суда и дворянские заседатели нижнего земского суда выбираются дворянством чрез три года и представляются правителю; и буде за ними нет явного порока, то губернатор подтверждает дворянский выбор.
45. Собранию дворянства, буде выбор всего дворянства по баллам продолжителен и неудобен окажется, тогда дозволяется собранию дворянства представить кандидатов, из коих баллотировать.
46. В случае предложений дворянству от генерал-губернатора или губернатора собрание дворянства в губернии берет предложения во уважение и на оные чинит по случаю или пристойные ответы, или соглашения, сходственный как узаконениям, так и общему добру.
47. Собранию дворянства дозволяется представить генерал-губернатору или губернатору о своих общественных нуждах и пользах.
48. Подтверждается собранию дворянства дозволение делать представления и жалобы чрез депутатов их как Сенату, так и императорскому величеству на основании узаконений.
49. Собранию дворянства запрещается делать положения, противные законам, или требования в нарушении узаконений под опасением за первый случай (то есть за положения, противные законам) наложения и взыскания с собрания пени двести рублей; а за второй случай (то есть за требования в нарушении узаконений) уничтожения недельных требований, что поручается бдению и иску губернских стряпчих, по силе второго предмета должности их.
50. Собранию дворянства в каждом наместничестве дозволяется в губернском городе иметь дом для собрания дворянства той губернии.
51. Собранию дворянства каждой губернии дозволяется в наместничестве иметь архив
52. Собранию дворянства каждой губернии дозволяется иметь печать. 53. Собранию дворянства каждой губернии дозволяется избрать и иметь своего собственного секретаря.
54. Собранию дворянства каждой губернии дозволяется составить особливую казну своими добровольными складками и оную казну употреблять им по общему их согласию.
55. Да не взыщется на дворянстве вообще личное преступление дворянина. 56. Собрание дворянства на суд да не предстанет, но да защищается своим стряпчим.
57. Собрание дворянства ни в каком случае не подлежит страже. 58. По силе 173 статьи учреждений в верхний земский суд вносятся по апелляции на уездные суды, дворянские опеки и нижние земские суды все дела, жалобы и тяжбы дворянские и на дворянина как гражданские, так и уголовные дела, касающиеся до вотчин, выгод, привилегий, завещания до наследства в имении и до права наследования, спорные о владении, тяжкие до бесчестия и до права стряпчих касающиеся; тако ж и все дела разночинцев тех, кои по правам апелляции на уездные и нижние земские суды непосредственно до верхнего земского суда принадлежат.
59. По силе 20 и 209 статей учреждений при каждом уездном суде учреждается место под названием дворянской опеки для дворянских вдов и малолетних.
60. По силе 21 и 210 статей учреждений в дворянской опеке председает уездный дворянский предводитель и заседают уездный судья и его заседатели.
61. По силе 213 статьи учреждений дворянской опеке поручается попечение не токмо об оставшихся после дворянских родителей малолетних сиротах и их имении, но и о вдовах и их делах.
62. Собранию дворянства запрещается избирать для тех должностей, кои по силе учреждений выбором наполняются, дворянина, которого доход с деревень ниже ста рублей составляет и который моложе двадцати пяти лет.
63. В собрании дворянства дворянин, который сам не владеет деревнею и моложе двадцати пяти лет, присутствовать может, но голоса не имеет.
64. В собрании дворянства быть может дворянин, который вовсе не служил, или, быв в службе, до обер-офицерского чина не дошел (хотя бы обер-офицерский чин ему при отставке и был дан); но с заслуженными сидеть не должен, ни голоса в собрании дворянства иметь не может, ни выбран быть способен для тех должностей, кои наполняются выбором собрания дворянства.
65. Собранию дворянства дозволяется исключить из собрания дворянства дворянина, который опорочен судом или которого явной и бесчестный порок всем известен, хотя бы и судим еще не был, пока оправдается.
66. Возобновляем повеления блаженной памяти предков наших, изданные по уничтожении (согласном с прошением о том самих дворян) вредного государству местничества, и снова повелеваем предбудущим родам на память: во всякой губернии составить дворянскую родословную книгу, в коей вписать дворянство той губернии, дабы доставить каждому благородному дворянскому роду тем наипаче способие продолжать свое достоинство и название наследственно, в поколение, непрерывно, непоколебимо и невредимо от отца к сыну, внуку, правнуку и законному потомству, пока Богу угодно продлить им наследие.
67. Для составления в наместничестве дворянской родословной книги дворянство каждого уезда избирает по одному депутату чрез всякие три года по баллам, дабы те депутаты, общо с губернским предводителем дворянства той губернии, имели попечение о действительном составлении и продолжении той дворянской родословной книги по данному им для того наставлению.
68. В дворянскую родословную книгу в наместничестве внести имя и прозвание всякого дворянина, в той губернии имением недвижимым владеющего и дворянство свое доказательствами утвердить могущего.
69. Буде кто не внесен в дворянскую родословную книгу той губернии, тот не только не принадлежит к дворянству той губернии, но да и не пользуется общими преимуществами дворянства той губернии.
70. Всякий благородный дворянин в том наместничестве, где внесен в родословную дворянскую книгу, имеет право присутствовать по совершеннолетии при собрании дворянства той губернии.
71. Дворянству каждого наместничества повелеваем дать жалованную грамоту за нашим подписанием и с приложением государственной печати, в которой прописать от слова до слова сии здесь выше и ниже сего прописанные общественные и личные дворянские преимущества.
В. Наставление для сочинения и продолжения дворянской родословной книги в наместничестве
72. Уездный предводитель дворянства имеет сочинить по приложенной форме список по алфавиту всем дворянским родам, в том уезде имением недвижимым владеющим, отличая особо:
1) Кто женат и на ком.
2) Много ли детей мужеского и женского пола и их имена.
3) Холост ли или вдов.
4) Сколько за кем по последней ревизии наследственных или купленных, или вновь пожалованных, или в приданое полученных обоего пола душ ныне состоит, и во скольких селах и деревнях.
5) В уезде живет или в отлучке.
6) Какого чина.
7) В службе ли или в отставке.
73. Форма списка дворянского рода, в уезде живущего [далее – форма списка дворянского рода]:
74. Уездный предводитель дворянства список таковой за своим подписанием доставит губернскому предводителю дворянства того наместничества, копию же у себя оставит.
75. Губернский предводитель дворянства того наместничества общо с выбранными уездными депутатами из списков уездных предводителей дворянства составит дворянскую родословную книгу той губернии.
76. Родословная книга разделяется на шесть частей.
77. В первую часть родословной книги внесут роды действительного дворянства по алфавиту.
Толкование. Действительное дворянство не иные суть роды, как те, кои от нас самих и других коронованных глав в дворянское достоинство дипломом, гербом и печатью пожалованы.
Изъяснение. Но дабы и тем родам оказать справедливость, кои доказательства имеют на действительное дворянство до ста лет, то дозволяем и сии роды вносить в сию часть.
78. Во вторую часть родословной книги внесут роды военного дворянства по алфавиту.
Толкование. Военное дворянство не иные суть роды, как те, о коих в именном указе блаженной и вечнодостойной памяти государя императора Петра Первого 1721 года января 16 дня узаконено сими словами: «Все обер-офицеры, которые произошли не из дворянства, оные и их дети и их потомки суть дворяне, и надлежит им дать патенты на дворянство».
79. В третью часть родословной книги внесут роды осьмиклассного дворянства по алфавиту.
Толкование. Осьмиклассное дворянство не иные суть роды, как те, о коих в Табели о рангах блаженной и вечнодостойной памяти государя императора Петра Первого 1722 года января 24 дня в 11 пункте узаконено сими словами: «Все служители российские или чужестранные, которые осьми первых рангов находятся или действительно были, имеют оных законные дети и потомки в вечные времена лучшему старшему дворянству во всяких достоинствах и авантажах равно почтены быть, хотя бы они и низкой породы были и прежде от коронованных глав никогда в дворянское достоинство произведены или гербом снабдены не были».
80. В четвертую часть родословной книги внесут все иностранные роды по алфавиту.
Толкование. Иностранные роды не иные суть, как те, кои в российское подданство вступили и о коих упомянуто в указах 195 года о пополнении разрядной родословной книги, повелевая, чтоб таковые царские, владетельные, княжеские и иные выезжие честные роды вносить в особую часть родословной книги.
81. В пятую часть родословной книги внесут титулами отличенные роды по алфавиту.
Толкование. Титулами отличенные роды не иные суть, как те, коим присвоено или наследственно, или по соизволению коронованной главы название или княжеское, или графское, или баронское, или иное.
82. В шестую часть родословной книги внесут древние благородные дворянские роды по алфавиту.
Толкование. Древние благородные не иные суть, как те роды, коих доказательства дворянского достоинства за сто лет и выше восходят; благородное же их начало покрыто неизвестностию.
83. Губернский предводитель дворянства и уездные дворянские депутаты да не внесут в родословную книгу той губернии род, буде не представит неопровергаемых доказательств своего благородного достоинства.
84. Всякий благородный род представить имеет доказательства своего достоинства или в подлиннике, или засвидетельствованною копиею.
85. Губернский предводитель дворянства той губернии и уездные дворянские депутаты представленные доказательства благородного достоинства рассматривают, и 1) Буде при рассмотрении доказательств единогласно или две трети голосов находят доказательства недостаточными, то отдадут оные доказательства обратно, с таковым письменным объявлением, что отлагают внесение того рода в родословную книгу той губернии до представления им неопровергаемых доказательств.
2) Буде же при рассмотрении доказательств единогласно или две трети голосов находят доказательства достаточными, тогда тот род внесут в родословную книгу наместничества и дадут тому роду грамоту за своим подписанием и с приложением печати Дворянского собрания той губернии; а в грамоте напишут, что по предъявленным доказательствам тот род внесен в родословную книгу наместничества в такой-то части.
86. При внесении рода в родословную книгу отдается на волю Дворянского собрания той губернии, имеет ли каждый род внести и сколько денег в дворянскую казну, что при каждом съезде единожды дворянское собрание определить имеет, но не выше двухсот рублей.
87. Буде кто недоволен рассмотрением и разбором губернского предводителя дворянства и уездных депутатов, тот имеет просить и представить свои доказательства в Герольдии.
88. По сочинении родословной книги наместничества, губернский предводитель дворянства и уездные дворянские депутаты внесут родословную книгу в собрание дворянства, где оную прочесть должно для общего сведения: и буде собрание дворянства потребует, то прочитать имеют и протокол губернского предводителя дворянства и уездных дворянских депутатов, дабы собрание дворянства усмотреть могло порядочное производство сего дела.
89. По прочтении родословной книги в собрании дворянства, губернский предводитель дворянства и уездные дворянские депутаты, списав с родословной книги той губернии две точные копии, родословную книгу и обе копии подписывают; родословную книгу той губернии отдадут в архив собрания дворянства, обе же копии отсылают в губернское правление, которое одну копию отдаст в архив губернского правления, другую же копию отошлет в Сенат для сбережения в Герольдии.
90. Буде кто впредь получит по наследству или по закладным, или по купчим, или пожалованием вотчины или деревни в той губернии, то должен при первом съезде собрание дворянства просить о внесении его в родословную книгу; и буде собранию дворянскому известно, и сумнения о его благородстве не имеет, то без справок да внесется в родословную книгу.
Буде же вмещен в родословной книге которой губернии и о том грамоту, за подписанием губернского предводителя и уездных дворянских депутатов и за печатью Дворянского собрания внесет в собрание дворянское, то сие служит ему достаточным доказательством для внесения в родословную книгу той губернии.
Г. Доказательства благородства
91. Благородные разумеются все те, кои или от предков благородных рождены, или монархами сим достоинством пожалованы; доказательства же благородства суть многочисленны и более зависят от испытания древности, прилежного изыскания и рассмотрения доказательств, нежели от новых предписаний. Различные начала дворянских родов сами за собою затруднения таковые в предписании правил распространяют.
Точное правосудие не дозволяет исключить ни единого доказательства, которого рода инако, как тут, где слово закона доказательство таковое опровергает. В таком нежном и трудном положении сего важного дела обыкновенным милосердным попечением избираем правосудный способ подать руку помощи нашему вернолюбезному подданному российскому благородному дворянству утверждением следующих доказательств благородства, не исключая, однако же, и сверх того отыскать могущихся справедливых и неоспоримых доказательств которого рода, хотя бы здесь и не прописаны были.
92. Доказательствами неопровергаемыми благородства да будут:
1) Дипломы предков наших, или от нас, или прочих коронованных глав пожалованные на дворянское достоинство.
2) Жалованные от государей гербы.
3) Патенты на чины, к коим присвоено дворянское достоинство. 4) Доказательства, что кавалерский российский орден особу украшал. 5) Доказательства чрез жалованные или похвальные грамоты.
6) Указы на дачу земель или деревень.
7) Верстанье по дворянской службе поместьями.
8) Указы или грамоты на пожалование из поместья вотчинами.
9) Указы или грамоты на жалованные деревни и вотчины, хотя бы оные и выбыли из рода.
10) Указы или наказы, или грамоты, данные дворянину на посольство, посланничество или иную посылку.
11) Доказательства о дворянской службе предков.
12) Доказательствоа, что отец и дед вели благородную жизнь, или состояние, или службу, сходственную с дворянским названием, и свидетельство о том двенадцати человек благородных, о дворянстве коих сумнения нет.
13) Купчие, закладные, рядные и духовные о дворянском имении.
14) Доказательства, что отец и дед владели деревнями.
15) Доказательства поколенные и наследственные, восходящие сыну от отца, деда, прадеда и так выше, сколько показать могут или пожелают, чтоб быть внесену в которую часть родословной книги с их родом.
Указы, в коих доказательства о дворянстве: В указах, приложенных к родословной книге, написано сими словами:
16) В лето 7190 января в 12 день, блаженной и вечнодостойной памяти великий государь царь и великий князь Феодор Алексеевич, всея Великия и Малыя, и Белыя России самодержец, ревнуя по Господе Бозе Вседержителе и желая по благочестивом своем царствии сугубого добра и в своих государских ратных и в посольских и во всяких делах лучшего и пристойного устроения и совершенной прибыли и мирного в своей царской державе всему христианскому множеству пребывания и жительства, а бывшей между христианских родов вражде разрушения, советовав в Дусе Святе со отцом своим государевым и богомольцем, с великим господином, святейшим Кир Иоакимом, патриархом московским и всея России, и со всеми архиереи, и говоря с своими государевы бояры и думными людьми, и по доношению себе великому государю своего государского ближнего боярина князя Василья Васильевича Голицына с товарищи и челобитью выборных стольников, и генералов и стольников же и полковников, и стряпчих и дворян, и жильцов, которые по его великого государя указу сидели с ним ближним боярином, со князем Васильем Васильевичем с товарищи за ратными делами, указал, разрядные случаи и местничества, которые были между христианскими роды в отечествах и в случаях счеты и местничества, разрушить и вечно искоренить, понеже в мимошедшие лета во многих их государских ратных и в посольских и во всяких делах чинились от тех случаев и мест великое нестроение и разрушение и ратным людям от неприятелей великое умаление и неприятелям радование; а между их государскими людьми богопротивное дело, нелюбовь и великие продолжительные вражды.
И того ради при державе и деда его государева, блаженной памяти великого государя царя и великого князя Михаила Феодоровича, всея Великие России самодержца, по его государскому изволению во многих разрядах для лучшего устроения и согласия бояре и окольничие и думные и иных чинов ратные люди были без мест; так же и при державе ж отца его государева, блаженной памяти великого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца, в его государских и литовских и в немецких походах, в разрядах и в полках и у всяких дел все чины были без мест же, и тогда при помощи Божией славно над неприятели победы учинились, только хотя и было то безместие, а совершенно те случаи и места были не искоренены.
А от того вышепомянутого 190 году января 12 числа указал блаженной памяти великий государь царь и великий князь Феодор Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец, боярам и окольничим и думным и всяких чинов людям на Москве в приказах у росправных, и в полках у ратных и у посольских, и везде у всяких дел быть всем меж себя без мест, и впредь никому ни с кем никакими случаями и местничествами не считаться и никому никакими мимошедшими находками не возноситься, также и в потерках никого не укорять и не попрекать и в укоризну прежних чинах за скудостию не ставить; также буде и впредь, кто от скудости или каким ни есть случаем объявится где, в нижних каких чинах, и того тому в укоризну не ставить же, и тем никому никого не безчестить.
Для совершенного тех случаев и мест искоренения и вечного забвения те все прошедшия о случаях и о местах записки указал он, великий государь, предать огню.
А впредь им и будущим их родам на память указал он, великий государь, быть в Разряде родословной книге родам их, и тое родословную книгу пополнить, которых имен в той книге в родах их не написано, и тех имена в родословную книгу написать вновь к сродникам их; и для того взять у них расписки за руками.
А которые княжеские и иные честные роды при предках его государевых, и при нем, великом государе, были в честях, в боярах, в окольничих и в думных дворянах, или которые старых же и честных родов в таких вышеписанных честях и не явились, а с царства прадеда его государева, блаженной памяти великого государя царя и великого князя Иоанна Васильевича, всея России самодержца, и при его, государеве, державе были в послах и в посланниках, и в полках, и в городах воеводах, и в знатных посылках, и у него, великого государя, в близости, а в родословной книге родов их не написано, и те роды с явным свидетельством написать в особую книгу.
А которые роды и в вышеписанных честях и в знатных посылках не были, а с царства деда его государева, блаженной памяти великого государя царя и великого князя Михаила Феодоровича, всея Великия России самодержца, и при нем, великом государе, были в полковых и в городе воеводах, и в послах, и в посланниках, и в знатных каких посылках, и в иных честных чинах и в десятнях написаны в первой статье, и тех родов имена написать по тому ж со свидетельством в особую книгу.
А которые и в тех вышеписанных честных и знатных чинах не были, а в десятнях написаны в средней и в меньшей статьях, и тех имена написать в особую книгу. Буде кто на нижних чинов за службы отцов своих или за свои написаны в московские чины, и тех имена написать в особую ж книгу по их росписям. У того дела указал он, блаженной памяти великий государь, быть боярину князю Володимиру Дмитриевичу Долгорукову, да думному дворянину Алексею Ивановичу Ржевскому, да разрядным дьякам, думному Василью Григорьевичу Семенову да Федору Шакловитому.
17) Марта в 27 число того ж 190 года, по указу блаженной же памяти великого государя царя и великого князя Феодора Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца, по докладной выписке ведено: «Которых княжеских и иных родов в Разряде в родословной книге не написано, а они в росписях своих напишут прозвание свое, что они пошли от родословных людей, а родословные люди тех родов в поколенных своих росписях их прозвания не напишут, и о тех родах у родословных людей для свидетельства имать сказки за руками, впрямь ли они от тех их родов, к кому кто напишется, пошли; и буде в сказках своих напишут или по допросу скажут, что они повелись от предков их, и таких писать в родословной книге с теми родами, от кого они пошли; а буде в сказках своих напишут, что они не их родов, и таких отказывать и вместе с ними в родословную книгу не писать; а написать их в книгу особо, а очных ставок между ними в том не давать».
18) Резолюция блаженной памяти государя императора Петра Первого на доклад от Синода 1721 года ноября 19 числа: «О архиерейских, детях боярских, дабы как дворяне сами и их дети из подушного оклада выключены остались», собственною его императорского величества рукою написано сими словами: «Быть так, которые от шляхетства, считая от деда».
19) В Табели о рангах 1722 года января 24 дня в 15 пункте узаконено сими словами: «Воинским чинам, которые дослужатся до обер-офицерства не из дворян, то, когда кто получит вышеписанный чин, оный суть дворянин и его дети, которые родятся в обер-офицерстве; а ежели не будет в то время детей, а есть прежде, и отец будет бить челом, тогда дворянство давать и тем, только одному сыну, о котором отец будет просить; прочие же чины как гражданские, так и придворные, которые в рангах не из дворян, оных дети не суть дворяне».
Толкование. Держась точных слов сего закона и, вследствие оного, недействительно в воинской службе служащих, но равные чины имеющих почитать надлежит за имеющих лишь личное дворянство, но не наследственное.
Примечание. Имеющих личное дворянство не надлежит вносить в родословную книгу наместничества.
Постановление:
20) Но, видя полезные заслуги многих таковых, узаконяем в пользу личного дворянства, что (1) Буде дед, отец и сын имели чины, приносящие личное дворянство, то потомству их дозволяем просить дворянства действительного; (2) Буде отец и сын имели чины, приносящие личное дворянство, и пребывали двадцать лет в службе беспорочно, то внуку дозволяем просить дворянства действительного.
21) В именном указе блаженной памяти государя императора Петра Первого 1724 года января 31 числа написано сими словами: «Его императорское величество указал в секретари не из шляхетства не определять, дабы потом могли в асессоры, советники и выше происходить; буде же из подьяческого чина кто какое знатное дело покажет и заслужит, то таких с свидетельства Правительствующего Сената производить, и чтоб кто будет секретарем из таких, чтоб давать шляхетство, как и в воинской службе, кто в прапорщики пожалован».
Толкование. В Табели о рангах 1722 года января 24 дня в конце 15 пункта написано сими словами:
«Прочие же чины как гражданские, так и придворные, которые в рангах не из дворян, оных дети не суть дворяне».
В именном же указе 1724 года января 31 числа написано сими словами: «Кто будет секретарем из таких, чтоб давать шляхетство, как и в воинской службе, кто в прапорщики пожалован».
И понеже о детях и потомстве сих в сем именном указе 1724 года января 31 числа не упомянуто, Табель же о рангах 1722 года января 24 дня конец 15 пункта точно исключает сими словами: «Которые в рангах не из дворян, оных дети не суть дворяне». То, имея в памяти, с одной стороны, личное неоспоримое по законам дворянство в рангах находящихся, а с другой, сохранение почтительного российского дворянского достоинства и состояния, находим за справедливо предписать и в сем случае поступать, как выше узаконено, в пользу потомков личного дворянства, а именно: (1) Буде дед, отец и сын имели чины, приносящие личное дворянство, то потомству их дозволяется просить дворянства действительного; (2) Буде отец и сын имели чины, приносящие личное дворянство, и пребывали двадцать лет в службе беспорочно, то внуку дозволяется просить дворянства действительного.
22) В Табели о рангах 1722 года января 24 дня в конце 16 пункта написано сими словами: «В нашей службе обретающиеся чужестранные люди имеют или своими, или публичными свидетельствами от правительства их отечества свое дворянство и герб доказать».
В утверждение всего вышеписанного мы сию нашу жалованную грамоту на права, вольности и преимущества благородному, нам вернолюбезному подданному российскому дворянству, нашею собственною рукою подписали и государственною нашею печатью укрепить повелели в престольном нашем граде Святого Петра, апреля 21 дня, в лето от Рождества Христова 1785, царствования же нашего в двадесять третие.
Подлинная, подписана собственною ея императорского величества рукою тако:
Печатана в Санкт-Петербурге 1785 года апреля 24 дняГрамота на права и выгоды городам Российской империи[15]
21 апреля 1785 г.Божиею поспешествующею милостию мы, Екатерина Вторая, императрица и самодержица Всероссийская, Московская, Киевская, Владимирская, Новгородская, царица Казанская, царица Астраханская, царица Сибирская, царица Херсонеса Таврического, государыня Псковская и великая княгиня Смоленская, княгиня Эстляндская, Лифляндская, Корельская, Тверская, Югорская, Пермская, Вятская, Болгарская и иных, государыня и великая княгиня Новагорода, Низовския земли, Черниговская, Рязанская, Полоцкая, Ростовская, Ярославская, Белоозерская, Удорская, Обдорская, Кондийская, Витебская, Мстиславская и всея северныя страны повелительница и государыня Иверския земли, Карталинских и Грузинских царей и Кабардинския земли, Черкасских и Горских князей, и иных наследная государыня и обладательница.
С самого первого основания общежительств познали все народы пользы и выгоды, от устроения городов проистекающие, не токмо для граждан тех городов, но и для окрестных обитателей. Начиная от древности, мраком покрытой, встречаем мы повсюду память градоздателей, возносимую наравне с памятию законодателей, и видим, что герои, победами прославившиеся, тщились градозданием дать бессмертие именам своим.
Мы и тут не имеем нужды искать примеров чуждых, но, заимствуя оные из собственных деяний отечества нашего, находим, что предки российские славяне, от славных подвигов и самое название свое получившие, где только посягала победоносная рука их, оставляли следы свои созиданием градов, именами славянского языка украшенных, доныне сие соблюдших, и насаждением в оных торговли, до самых отдаленных краев тогда известных распространенной.
Всероссийские самодержцы от самых древних лет с расширением пределов владычества их и с умножением народным умножали и число городов, дая в них безопасное пристанище торгу и рукоделиям. Обширность государства, обилие произрастений не токмо на поверхностях земли, но и в недрах ее сокровенных, удобства сообщения сухопутного или водоходного, рачения и предприимчивость российского народа не могли не иметь добрых успехов.
Полезным таковым установлением предков наших мы тщилися подражать по мере размножения народа и возвращения богатства его, как то свидетельствуют города, в двадцатитрехлетнее царствование наше, числом двести шестнадцать, воздвигнутые повсюду, где того требовали или местные выгоды, или стечение окрестных жителей.
Не оставили мы как их, так и те, кои предками нашими сооружены были, снабдить надлежащим управлением, освободить рукоделия, промыслы и торговлю от принуждений и притеснений и преподать им различные полезные способы и ободрения.
С помощию Божиею в толь краткое время добрые плоды намерений и трудов наших, да и несомненно уповаем, что верноподданные наши, граждане городов наших, похвальным радением, доброю верою в торговле, промыслах и ремеслах и поведением, соответствующим благому нашему о них попечению будут пособствовать возвышению мест, ими населяемых в цветущем состоянии, и тем вяще заслужат нашу императорскую к себе милость и благоволение, в залог коих восхотели мы данные от нас городам, их обществам и членам сих обществ выгоды и преимущества подтвердить нашею жалованною грамотою, узаконяя, в следствие того, навеки непоколебимо следующие статьи.
А. Городовое положение
1. Об устроении по утвержденному городовому плану. Город строить по утвержденному плану за подписанием руки императорского величества.
2. Городу правильно принадлежащее. Городу подтверждаются правильно принадлежащие по межевой инструкции или инако законно земли, сады, поля, пастьбы, луга, реки, рыбные ловли, леса, рощи, кустарники, пустые места, мельницы водяные или ветряные; все оные вообще и каждое порознь ненарушимо иметь и оным пользоваться мирно и вечно на основании законов как внутри города, так и вне оного.
3. Городовые выгоны не застраивать, вторично выгонов не отводить и не покупать. Запрещается городовые выгоны застраивать; буде же город городовые выгоны застроит или инако в невыгоны обратит, то городу вторично выгонов не отводить и городу выгонов не покупать; но да наймет по нужде или удобности.
4. Об охранении каждому в городе правильно надлежащего. В городе живущим сохраняется и охраняется собственность и владение, что кому по справедливости и законно принадлежит как движимое, так и недвижимое.
5. О присяге подданнической. В городе поселившиеся обязаны присягою пред Всемогущим Богом в сохранении ненарушимо подданнической верности к особе императорского величества.
6. О расписке вместо присяги по мещанству. Кто поселится в городе, тот имеет учинить расписку вместо присяги, что право гражданское принимает и обязуется по мещанству нести тягости.
7. О неналожении новых податей служб или тягостей на город без подписания руки императорского величества. Власть имеющие места или лица да не налагают на город новых податей, или служб, или тягостей; и буде от города кто-либо требовать, в противность узаконению или что городу трудно или тягостно, то городовой магистрат в том имеет жалобу приносить губернскому магистрату, равномерно доносить и Сенату, которому не налагать податей, или служб, или тягостей без подписания руки императорского величества.
8. О недостатках нужного городовому магистрату куда представлять. Городовой магистрат, по усмотрению внутри города каких нужд или недостатков, имеет о том представить губернскому магистрату и губернскому правлению заблаговременно, которое, то обстоятельство рассмотря, буде губернатор сам не властен, в силу его наказа представит, где надлежит.
9. О городовой книге, в коей городовые дома и проч. вписаны. Городовому магистрату иметь книгу с описанием домов, строений, мест и земель городских под нумерами, дабы желающие дать взаем деньги на заклад дома или же кто дом, строение, место или землю купить или нанять хочет, с тою книгою справясь, давать деньги мог с надежностию.
10. Мещанским промыслом промышляющий повинен нести мещанские подати, службы и тягости. Мещанские подати, службы и тягости, как личные, так и вещественные, всяк в городе мещанским торгом, ремеслом или промыслом промышляющий, повинен нести наравне с мещанством, разве особою статьею освобожден от оных.
11. Кому мещанским промыслом не промышлять. Кто в городе в мещанство не записан, мещанским промыслом да не промышляет под опасением, что за то в законе написано.
12. Иногородним мещанским торгом и промыслом, пользующимся нести мещанские тягости, службы и подати. Иногородние, в городе для жительства поселившиеся, торг и промысел имеющие и пользующиеся мещанскою городовою выгодою, судом и расправою по торгу и промыслу состоят под ведомством городового магистрата и повиноватися имеют городовым личным и вещественным тягостям, службам и податям.
13. О дворянах, кои дома, сады, места и землю имеют в городе или предместии. Дворяне, кои имеют собственные свои дома, или сады, или землю, или места в городе или предместии, хотя сами в них живут или внаем отдают, от мещанских тягостей не освобождаются, но за такие дома или сады, или места, или землю, в городском ведомстве находящиеся, долженствуют нести гражданские тягости равно прочим мещанам. Ради же дворянского достоинства, благородные освобождаются от личных податей и служб. Буде же кто из таковых дом, или сад, или место, или землю в городе или предместии захочет продать, да объявит о том в городовом магистрате.
14. Кому в городе быть свободну от мещанских личных тягостей и податей. Императорского величества в военной или гражданской службе находящиеся люди, кои по должности или же по собственным нуждам в городе находятся или живут, или приходят, или приезжают на время и мещанским промыслом не промышляют, – всем таковым от мещанских тягостей податей и служб быть свободным.
15. Какие дома в городе свободны суть от постоя. Дом, в котором живет бургомистр, ратман[16] и городской глава (кроме самых нужнейших случаев), свободны суть от постоя.
16. Как защищать и подкреплять мещанские промыслы. Мещанские промыслы да защищаются правосудием и да подкрепляются порядком благочиния.
17. О народных школах. Предписывается в городе учредить и иметь школы на точном основании 384 статьи учреждений 7 ноября 1775 года и других изданных о том от императорского величества установлений.
18. О постройке водяных и ветряных мельниц. Городу не дозволяется, где удобно, на городских землях завести, построить и содержать мучные, или пильные, или иные водяные, или ветряные мельницы.
19. О корчмах и прочем на городской земле. На городской земле по дорогам дозволяется городу построить и содержать и внаем отдать харчевни, корчмы, или герберги, или трактиры.
20. О гостином дворе и лавках по домам. Мещанам отдается на волю в городе иметь или строить, или чинить для хранения или продажи товаров гостиный двор, или же иметь по домам лавки и амбары для продажи и поклажи товаров.
21. О клейменых весах и мерах. В городе иметь клейменые весы и меры и с оными поступать по установлениям.
22. О браковании товаров. Городу дозволяется установить, для подкрепления в торгу доверия, товарам брак и в том поступать по установлениям.
23. О возке товаров по всякому пути. Городовым мещанам иметь и пользоваться кораблеплаванием в привозе и отвозе товаров сухим и водяным путем, где, куда и как удобно.
24. Уездные жители имеют беспрепятственный привоз в город и вывоз из оного. Уездным жителям да будет свободно и безопасно свои произрастения, рукоделия и товары в город возить и потребное для них из города вывозить беспрепятственно; и с уездных жителей при привозе произрастений, рукоделия и товаров в город или вывозе потребного для них из города не требовать явления или записания пашпорта в здоровое время.
25. О еженедельных торговых днях в городе. В городе назначить еженедельные торговые дни и часы во дне; и для того назначить в городе место, куда, и время, когда привозить, продавать и покупать удобно, что кому потребно, и на том месте городовой магистрат велит поднять распущенное знамя, и в те часы, пока знамя поднято, запрещается продавать или покупать или закупать оптом припасы; со спущением же знамя запрещение таковое снимается. Непроданное же за кем не запрещается паки отвозить за город.
26. О годовой ярмарке. В городе учредить ежегодно одну ярмарку или более, смотря по обстоятельствам и удобности; и для того назначить время и место, в которое бы пригородные люди всякие товары беспрепятственно привозить, торги, покупки и продажи производить могли; непроданное же не запрещается паки за город вывозить.
27. О строении или выписывании судов и кораблей для торговли. Не возбраняется торговым жителям строить или выписывать из иных мест и стран для торговли суда и корабли; оные нанимать, содержать и паки в ход и плавание отпускать с грузом и без груза.
28. О городовом гербе. Городу иметь герб, утвержденный рукою императорского величества, и оный герб употреблять во всех городовых делах.
Примечание. В жалованных грамотах включается в сем месте настоящий герб того города, красками изображенный, а внизу – описание герба.
Б. О городовых обывателях. Установление общества градского и о выгодах общества градского
29. О дозволении собираться городовым обывателям. Городовым обывателям каждого города жалуется дозволение собираться в том городе и составить общество градское, и пользоватися нижеписанными правами и выгодами.
30. О собрании городовых обывателей всякие три года. Городовые обыватели собираются по приказанию и дозволению генерал-губернатора или губернатора как для дозволенных городовых обывателям выборов, так и для выслушания предложений генерал-губернатора или губернатора всякие три года в зимнее время.
31. Городской глава, бургомистры, старосты и судьи совестного суда выбираются обществом и проч. По силе 72-й статьи учреждений по городам и посадам городской глава, бургомистры и ратманы выбираются обществом городским чрез всякие три года по баллам; старосты же и судьи совестного суда выбираются тем же обществом всякий год по баллам.
32. Заседатели губернского магистрата и мещанские заседатели совестного суда выбираются губернским городом и проч. По силе 73-й статьи учреждений губернского магистрата заседатели и заседатели совестного суда выбираются губернским городом из купцов и мещан губернского города чрез всякие три года по баллам и представляются правителю или губернатору; и буде за ними нет явного порока, то губернатор дозволяет им заседание.
33. О выборе мещанством заседателей в суды из мещан, на месте живущих. Заседатели и суды выбираются мещанством из мещан, на месте живущих, или из тех, кои в городовой обывательской книге того города написаны суть, но неотлучны по торгу и промыслу бывают.
34. О заседании двум ратманам в управе благочиния. По силе 2-й статьи Устава благочиния или полицейского, в управе благочиния с городничим и приставами уголовных и гражданских дел заседают два ратмана городовые.
35. О дозволении представить к баллотированию кандидатов. Буде выбор всего мещанства по баллам продолжителен и неудобен окажется, тогда дозволяется обществу градскому каждой городовой части собираться и представить кандидатов, из коих баллотировать.
36. О представлении общественных нужд и польз. Обществу градскому дозволяется представить губернатору о своих общественных нуждах и пользах.
37. Запрещение о делании положений в противность законам и требований в нарушение узаконений. Обществу градскому запрещается делать положения, противные законам, или требования в нарушение узаконений, под опасением за первый случай (то есть за положения, противные законам) сверх уничтожения положений, противных законам, наложения и взыскания с общества пени двести рублей; а за второй случай (то есть за требования в нарушение узаконений) – уничтожения недельных требований, что поручается бдению и иску губернских стряпчих, по силе второго предмета их должности.
38. Обществу градскому как поступать с предлогом. Буде генерал-губернатор или губернатор обществу градскому учинит предлог, то общество градское оный берет во уважение и чинит по случаю пристойные ответы, сходственные как узаконениям, так и общему добру.
39. О доме для городового общества и архива. Обществу градскому дозволяется иметь дом для собрания общества того города и архива.
40. О печати городового общества. Обществу градскому дозволяется иметь печать с городовым гербом.
41. О писаре городового общества. Обществу градскому дозволяется иметь своего собственного писаря.
42. О казне городового общества. Обществу градскому дозволяется составить особливую казну своими добровольными складками и оную казну употреблять им по общему их согласию.
43. Личное преступление мещанина не взыскивать на мещанстве. Да не взыщется на обществе градском личное преступление гражданина.
44. Мещанство в суде защищается стряпчим. Общество градское на суд да не предстанет, но да защищается своим стряпчим.
45. Какие дела непосредственно вносятся в губернский магистрат. По силе 315-й статьи учреждений в губернский магистрат вносятся все дела до привилегий, спорных владений или прочие дела, до целого города или до права стряпчих касающиеся. Сии дела и переносы или апелляции на городовые магистраты, сиротские суды и ратуши непосредственно до губернского магистрата принадлежат.
46. Учреждение городового сиротского суда. По силе 30-й и 293-й статей учреждений при каждом городовом магистрате учреждается городовой сиротский суд для купеческих и мещанских вдов и малолетних сирот.
47. О присутствующих в городовом сиротском суде. По силе 31-й и 294-й статей учреждений в городовом сиротском суде председает городской глава и заседают два члена городового магистрата и городовой староста.
48. Городовому сиротскому суду поручается попечение о вдовах и сиротах, и имении, и делах их. По силе 297-й статьи учреждений городовому сиротскому суду поручается попечение не токмо об оставших в том городе после всякого звания жителей малолетних сирот и их имении, но и о вдовах и их делах.
49. Не выбирать мещанина, не имеющего капитала, с которого проценты ниже пятидесяти рублей и моложе двадцати пяти лет. Обществу градскому запрещается избирать для тех должностей, кои по силе учреждений выбором наполняются, мещанина, который в том городе не имеет капитала, с которого проценты ниже пятидесяти рублей, и который моложе двадцати пяти лет.
50. Мещанин бескапитальный голоса не имеет. В обществе градском мещанин, который капитала не имеет, с которого проценты ниже пятидесяти рублей, и моложе двадцати пяти лет, присутствовать может, но голоса не имеет.
Примечание. Запрещение в статьях 49-й и 50-й о неизбрании мещанам, не имеющим капитала, с которого проценты ниже пятидесяти рублей, и мещан, не имеющих таковых капиталов, разумеется о тех городах, в которых такие капиталы в гильдиях находятся; а где оных нет, там дозволяется и меньше капитал имеющим голос иметь и таковых же избирать.
51. Мещанин без дома, капитала или ремесла и моложе двадцати пяти лет в обществе градском ни сидеть, ни голоса иметь, ни выбран быть не может. В обществе градском мещанин быть может бескапитальный и моложе двадцати пяти лет, но сидеть не должен, ни голоса иметь, ни выбран быть не может для тех должностей, кои наполняются обществом градским.
52. Об исключении за явный порок из общества градского. Обществу градскому дозволяется исключить из общества градского гражданина, который опорочен судом или которого явный и доверие нарушающий порок всем известен, хотя бы и судим еще не был, пока оправдается.
53. В городе составить городовую обывательскую книгу. В городе составить городовую обывательскую книгу, в коей вписать обывателей того города, дабы каждому гражданину свое достояние от отца к сыну, внуку, правнуку и их наследию.
54. О выборе в городе депутатов для составления городовой обывательской книги. Для сочинения в городе городовой обывательской книги общество градское избирает чрез три года старост и депутатов, кои должны иметь попечение о действительном сочинении и продолжении городовой обывательской книги по данному ниже сего для того наставлению.
55. В городовой обывательской книге вписать имена граждан, имеющих дома и имение, и в гильдии и в цеха записанных. В городовой обывательской книге вписать имя и прозвание всякого гражданина, в том городе дом или строение, или земли имеющего, или в гильдии или в цех записанного, или мещанским промыслом промышляющего.
56. Кто не внесен в городовую мещанскую книгу, тот не принадлежит к обществу градскому того города. Буде кто не вписан в городовую обывательскую книгу того города, тот не только не принадлежит к гражданству того города, но да и не пользуется мещанскою выгодою того города.
57. О жалованной грамоте. Городу дать жалованную грамоту за подписанием императорского величества руки и с приложением государственной печати, с которой прописать от слова до слова сии здесь, выше и ниже сего, прописанные общественные и личные выгоды.
В. Наставление для сочинения и продолжения городовой обывательской книги
58. О сочинении старостам обывательского списка. Старосты имеют сочинить по приложенной форме список по алфавиту городовым обывателям, в том городе старожилам, родившимся или вновь поселившимся, отличая особо: 1) кто женат и на ком; 2) много ли детей мужеского или женского пола и их имена; 3) холост или вдов; 4) за кем дом, или иное строение, или место, или земля; им ли построено или наследственно, или куплено, или в приданое получено, и в каком месте в городе; 5) в городе ли живет или в отлучке; 6) какого промысла; 7) в каких городских или иных службах был и есть.
Примечание. Понеже о дворянских родах явствует дворянская родословная книга, и того дня, буде дворянин или дворянка дом, или иное строение, или место, или землю в городе имеет, то в городовой обывательский список внести единственно имя, прозвание и чин (буде имеет) того дворянина или дворянки, за кем который нумер.
59. Форма списка. Форма списка обывательской семьи, в том городе живущей: 1) имя и прозвание обывателя, в том городе старожила, родившегося или вновь поселившегося, и его лета́; 2) холост или женат и на ком, или вдов; 3) много ли детей мужского или женского пола и их имена и лета́; 4) есть ли в городе за ним дом или иное строение, или место, или земля; им ли построено, или наследственно, или куплено, или в приданое получено, в каком месте в городе и какой номер; 5) в городе ли живет тот обыватель или в отлучке; 6) какого он промысла; 7) в каких градских или иных службах был или есть.
60. Староста список доставит городскому главе. Староста список таковой за своим подписанием доставит городскому главе того города, копию же у себя оставит.
61. Городской глава с депутатами составит городовую обывательскую книгу. Городской глава того города с выбранными от города депутатами от каждой городовой части из списка старосты составит городовую обывательскую книгу того города.
62. О шести частях городовой обывательской книги. Городовую обывательскую книгу разделить на шесть частей.
63. Настоящие обыватели. В первую часть городовой обывательской книги внесут состояние и имена настоящих городовых обывателей по алфавиту.
Толкование. Настоящие городовые обыватели суть те, кои в том городе дом или иное строение, или место, или землю имеют.
Примечание. Каждый дом или иное строение, или место, или земля в городе да означается нумером.
64. Гильдии. Во вторую часть городовой обывательской книги внесут вписавшихся в гильдии, первую, вторую и третью по алфавиту.
Толкование. Вписавшиеся в гильдии суть все те (какого кто бы ни был рода или поколений, или семьи, или состояния, или торга, или промысла, или рукоделия, или ремесла), кои за собою объявят капитал, а именно: 1) кто объявит за собою капитал от десяти тысяч рублей и до пятидесяти тысяч рублей, того вписать в первую гильдию; 2) кто объявит за собою капитал от пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей, того вписать во вторую гильдию; 3) кто объявит за собою капитал от тысячи рублей до пяти тысяч рублей, того вписать в третью гильдию.
Примечание. Расчисление гильдий по капиталам долженствует быть от одной в государстве общей переписи до другой таковой же и по воле императорского величества подтверждаемо или исправляемо.
65. Цеха. В третью часть городовой обывательской книги внесут вписавшихся в цеха по алфавиту.
Толкование. Вписавшиеся в цех суть те мастера, подмастерья и ученики различных ремесел, кои вписалися в цех своего ремесла.
66. Иногородние и иностранные гости. В четвертую часть городовой обывательской книги внесут иногородних и иностранных гостей по алфавиту.
Толкование. Иногородние и иностранные гости суть те иных российских городов и иных государств люди, кои ради промысла или работы, или иных мещанских упражнений записалися.
67. Именитые граждане. В пятую часть городовой обывательской книги внесут именитых граждан по алфавиту.
Толкование. Именитые граждане суть те, кои: 1) Проходя по порядку службу городскую и получив уже название степенных, вторично по выборе отправили службу мещанских заседателей совестного суда, или губернского магистрата, или бургомистра, или городского главы с похвалою. 2) Ученые, кои академические или университетские аттестаты, или письменные свидетельства о своем знании, или искусстве предъявить могут и таковыми по испытаниям российских главных училищ признаны.
3) Художники трех художеств, а именно: архитекторы, живописцы, скульпторы и музыкосочинители, кои суть члены академические или удостоения академические о своем звании или искусстве имеют и таковыми по испытаниям российских главных училищ признаны. 4) Всякого звания и состояния капиталисты, кои капитала от пятидесяти тысяч рублей и более за собою объявят. 5) Банкиры, кои деньги переводят и для сего звания капитала ото ста до двухсот тысяч рублей за собою объявят. 6) Те, кои оптом торгуют и лавок не имеют. 7) Кораблехозяева, кои собственные корабли за море отправляют.
68. Посадские. В шестую часть городовой обывательской книги внесут посадских по алфавиту.
Толкование. Посадские суть в том городе старожилы, или поселившиеся, или родившиеся, кои в других частях городовой обывательской книги не внесены, промыслом, рукоделием или работою кормятся в том городе.
69. Запрещение о внесении в городовую обывательскую книгу кого без доказательства. Городской глава и депутаты да не внесут в городовую обывательскую книгу, буде кто не представит доказательства своего состояния.
70. Всякая семья представит доказательства. Всякая семья представить имеет доказательства своего состояния в подлиннике или за свидетельством.
71. О рассмотрении доказательств. Городской глава со депутатами представленные доказательства состояния рассматривают, и 1) Буде при рассмотрении доказательств единогласно или две трети находят доказательства недостаточными, то отдадут оные доказательства обратно с таковым письменным объявлением, что отлагают внесение той семьи в городовую обывательскую книгу до представления им неопровергаемых доказательств.
2) Буде же при рассмотрении доказательств единогласно или две трети голосов находят доказательства достаточными, тогда ту семью внесут в городовую обывательскую книгу того города и дадут той семье лист за своим подписанием и с приложением печати общества градского, а в листе напишут, что по представленным доказательствам та семья внесена в городовую обывательскую книгу того города в такой-то части.
72. О внесении денег в городовую казну при записании семьи в городовую обывательскую книгу. При внесении семьи в городовую обывательскую книгу отдается на волю общества градского, имеет ли семья внести и сколько денег в городовую казну, что при каждом сходе единожды общество градское определить имеет, но не выше ста рублей.
73. В случае неудовольствия просить в губернском магистрате. Буде кто недоволен рассмотрением и разбором городского главы со депутаты, тот имеет просить и представить свои доказательства в губернский магистрат.
74. О прочтении городовой обывательской книги. По сочинении городовой обывательской книги городской глава со депутаты от каждой городовой части внесут городовую обывательскую книгу в общество гражданское, где оную прочесть должно для общего сведения; и буде общество гражданское потребует, то прочитать имеют и протокол городского главы со депутаты, дабы общество градское усмотреть могло порядочное производство.
75. Городовую обывательскую книгу хранить в архиве общества градского, одну копию в губернском правлении, а другую в казенной палате. По прочтении городовой обывательской книги обществу градскому городской глава со депутаты, списав с городовой обывательской книги две точные копии, городовую обывательскую книгу и обе копии подписывают, городовую обывательскую книгу того города отдадут в архив общества градского, и обе же копии отсылают в губернское правление, которое, одну копию оставя у себя, другую копию отошлет в казенную палату той губернии.
76. О продолжении городовой обывательской книги. Буде кто в городовой обывательской книге не внесенный получит по наследству, или по закладным, или по купчим, или инако законно, дом или иное строение, или место, или землю в том городе, то должен при первом сходе общества градского просить о внесении его в городовую обывательскую книгу; и буде обществу градскому известно и сомнения о его состоянии не имеет, то без справок да внесется в городовую обывательскую книгу.
Буде же вписан в городовой обывательской книге иного города и в том лист за подписанием городского главы со депутатами и за печатью общества градского того города предъявит обществу градскому, то сие служит ему достаточным доказательством для внесения в городовую обывательскую книгу.
Г. Доказательства состояния городовых обывателей
77. Доказательства городовых обывателей. Городовыми обывателями разумеются все те, кои в том городе или старожилы, или родились, или поселились, или дома, или иное строение, или места, или землю имеют, или в гильдии, или в цех записаны, или службу городскую отправляли, или в оклад записаны, и по тому городу носят службу или тягость.
Доказательства же состояния многочисленны суть и более зависят от праводушного рассмотрения и непристрастного испытания, нежели от предписаний: различные законом дозволенные способы указуют путь, и правосудие не дозволяет исключить единого доказательства состояния, как тут, где слово закона доказательство таковое опровергает; милосердно же утверждаются следующие доказательства состояния, не уничтожая, однако же, и сверх того иные неоспоримые доказательства которой семьи, хотя бы здесь и не прописаны были.
78. Доказательство состояния городовых обывателей. Доказательства состояния суть:
Приходская книга. 1) Имя и состояние в приходской книге той приходской церкви, где крещен, священником записано и кумовьями подписано в день своего крещения число, месяц и год.
Свидетельство священника и прихожан. 2) Свидетельство приходского священника того прихода, где живет, и двух свидетелей градских, обывателей того же прихода.
Перепись. 3) Прежних лет переписи.
Ревизия. 4) Последняя ревизия.
Гильдейский лист. 5) Гильдейский лист за руками гильдейского старшины и двух человек в той же гильдии вписавшихся свидетелей.
Цеховой лист. 6) Цеховой лист за руками цехового старшины и двух человек в том же цехе вписавшихся свидетелей.
Указы, грамоты и листы. 7) Указы, или грамоты, или листы, кому данные, с прописанием состояния или промысла.
Определения. 8) Определение по делу, доказующее состояние.
Суд. 9) Градским судом судился, яко городовой обыватель.
Лист. 10) Похвальный лист.
Службы. 11) Службы какие отправлял.
Недвижимое градское имение. 12) Имел или имеет дом, или иное строение, или место, или землю, им построено, или наследственно, или куплено, или в приданое получено.
Гильдейское или цеховое свидетельство о капитале. 13) Свидетельство гильдейских или цеховых старшин и двух человек той же гильдии или цеха о подлинности капитала, который записал.
Аттестаты. 14) Аттестаты академические или университетские о знании или искусстве.
Расписки. 15) Расписки о неложной выставке по подряду.
Расписки казначейские и проч. 16) Казначейские и казенных приставов к магазейнам и иные расписки о приеме или отдаче денег, или товаров, утверждающие доверие в знатности торга или промысла, или доказующие, или утверждающие объявление по совести капитала.
Книги, счета и расчеты. 17) Торгующих и промышляющих книги, счета и расчеты.
Таможенные книги и проч. 18) Таможенные книги, счета и расчеты.
Товары. 19) Товары наличные.
Корабли. 20) Корабли наличные.
Подряды или откупы. 21) Исправность подряда или откупа.
Выплаченные векселя. 22) Векселя, выплаченные в срок.
Договоры и доверия. 23) Договоры и доверия многих.
Отец и дед. 24) Отец и дед жил в городе и мещанским промыслом промышлял, и свидетельство о том трех человек беспорочных городовых обывателей того же города.
Купчие и закладные. 25) Купчие, закладные и тому подобные доказательства городового имения.
Всякие доказательства, утверждающие доверие, единое же достаточное довольно ко внесению семьи в часть городовой обывательской книги. 26) И всякие иные доказательства, утверждающие состояние и обнадеживающие капитал, из которых единое, достаточно доверие укрепляющее, да будет довольно ко внесению семьи в часть городовой обывательской книги, в которую сами пожелают быть внесены.
79. Манифест 1775 года марта 17 дня, статья 46. В милостивом манифесте 1775 года марта 17 дня, статье 46 написано сими словами:
Об отпущенных от помещиков. «Всем отпущенным от помещиков с отпускными на волю дозволяем, как ныне, так и впредь ни за кого не записываться, а при ревизии должны они объявить, в какой род нашей службы, или в мещанское, или купеческое состояние войти желают по городам; и какое они добровольно для себя изберут, то по тому уже состоянию и должны они быть поверстаны побором или от оных освобождены».
Д. О личных выгодах городовых обывателей, среднего рода людей или мещан вообще
80. Что есть средний род людей. Городовых обывателей, среднего рода людей, или мещан, название есть следствие трудолюбия и добронравия, чем приобрели отличное состояние.
81. О пользе городов и наследствии отличного состояния. Города от предков наших и нас самих не токмо для живущих в них, но и для общественного блага основаны суть, умножая доходы государственные, устройством подают подданным способы к приобретению имущества посредством торговли, промыслов, рукоделия и ремесла; и для того городовых обывателей среднего рода людей, или мещан, отличное состояние да будет наследственно, как следует.
82. В каком случае мещанин сообщает мещанское состояние жене. Мещанин сообщает мещанское состояние жене своей, буде она породы равной или нижней.
83. Мещанские дети получают состояние наследственно. Мещанские дети получают мещанское состояние наследственно.
84. Мещанина без суда не лишить доброго имени, жизни и имения. Мещанин без суда да не лишится доброго имени, или жизни, или имения.
85. Мещанин судится мещанским судом. Мещанин судится мещанским судом.
86. Преступления, кои у мещанина отнимают доброе имя. Мещанин лишается доброго имени, буде учинит: 1) нарушит присягу, 2) измену, 3) разбой, 4) воровство всякого рода, 5) лживые поступки, 6) преступления, за кои по законам следует телесное наказание, 7) буде доказано будет, что других научал или уговаривал подобные преступления учинить.
87. Запрещение об отнятии или о разорении имения мещанина. Подтверждается и строго запрещается, да не дерзнет никто без суда и приговора в силу законов тех судебных мест, коим суды поручены, самовольно отобрать у мещанина имение или оное разорять.
88. Право первого приобретателя. Мещанин, быв первым приобретателем его состоянию приличного имения, им благоприобретенное имение волен дарить, или завещать, или в приданое отдать, или передать, или продать, кому заблагорассудит; наследственным же имением да не распоряжает инако, как законами предписано.
89. Об уничтожении преступлений, кои десять лет оставались без производства. Всякого рода преступления (мещанина), коим десять лет прошло, и чрез таковое долгое время они не сделались гласны, и по оным производства не было, все таковые дела повелеваем отныне предать, есть ли где об оных взыскатели, истцы или доносители явятся, вечному забвению.
90. Мещанин имеет станы и рукоделие. Мещанин волен заводить станы всякого рода и на них производить всякого рода рукоделие, без иного на то дозволения или приказания; ибо сею статьею всем и каждому дозволяется добровольно заводить (и иметь) всякого рода станы и рукоделия производить, не требуя на то уже иного дозволения от вышнего или нижнего места.
91. О бесчестии. Запрещается мещанам учинять бесчестие; кто же учинит мещанину бесчестие словом или письмом, то обидчик повинен платить, сколько обиженный казне и городу платит тот год, какого бы то звания сбора ни было; за единый же удар рукою без иного орудия обидчик обиженному повинен платить вдвое.
Женам. Женам же обидчик повинен платить за бесчестие вдвое против мужей.
Жене, платящей подать. Буде же жена сама платит подать, то обидчик повинен платить бесчестие вдвое против ея и мужнего платежа.
Детям. Детям женского пола обидчик повинен платить за бесчестие вчетверо против родителей. Малолетним детям обидчик повинен платить за бесчестие вполовину против отца (мужеского пола детям до 17 лет), совершеннолетнему же обидчик платит столько, сколько обиженный казне и городу платит в тот год, какого бы то звания сбора ни было.
Е. О гильдиях и о гильдейских выгодах вообще
92. Дозволение записаться в гильдии имеющим капитал от тысячи рублей до пятидесяти тысяч рублей. Дозволяется всякому, какого бы кто ни был пола, или лет, или рода, или поколения, или семьи, или состояния, или торга, или промысла, или рукоделия, или ремесла, кто за собою объявит капитал выше тысячи рублей до пятидесяти тысяч рублей, записаться в гильдии.
93. О сроке записания и платежа с капитала. Срок записания в гильдии да будет с первого декабря по первое января; сей же срок означивается и для ежегодного платежа в гильдии записанных по одному проценту с объявляемого ими по совести капитала, а подушное с них не брать.
94. Дети не в разделе не платят особенно. Записанного в гильдии дети, пока от родителей не в разделе, свободны суть от особенного платежа, ибо капитал почитается семейный, но да объявят, в каком числе семья.
95. Дети после родителей до раздела не платят особенно. Записавшегося в гильдии дети после родителей платят с родительского капитала, пока не в разделе, и свободны суть от особенного платежа, ибо капитал почитается семейным, но да объявят, в каком числе.
96. После умерших родственники до раздела не платят особенно. Буде у кого детей нет, то после умерших родственников платят с капитала умершего, пока не в разделе, ибо капитал почитается яко компанейский, но да объявят, в каком числе.
97. Об утайке капитала доноса не принимать и следствия не чинить. Объявление капитала оставить на показания по совести каждого; и того для нигде и ни под каким видом об утайке капитала доноса не принимать и следствия не чинить.
98. Об исключении из гильдии виновного банкрота. Буде кто записавшийся по капиталу в гильдии учинится банкрот его виною, то выключить из гильдии.
99. Об увольнении записавшихся в гильдии от личного рекрута и работника и о проч. Записавшимся в гильдии подтверждается дозволение при рекрутском наборе или наряде работников вместо наличного рекрута или работника платить, по скольку указом предписано (есть или будет), располагая деньги по числу душ, с которых набор или наряд в тот год назначен. Буде же кто записавшийся в гильдии добровольно сам пойдет или сына запишет в военную службу, то оное не запрещается, но обществу градскому зачесть оного за рекрута при первом наборе.
100. Дозволение гильдейским вступать в казенные подряды и откупы по мере объявленного в гильдии капитала. Записавшимся в гильдии подтверждается дозволение вступать в казенные подряды и откупы, в которых казенных подрядах и откупах повелевается каждому чинить доверие по мере объявленного им по совести капитала, а не более.
101. Записавшихся в гильдии не избирать: 1) к продаже; 2) к смотрению; 3) в разные должности; 4) к сборам и сбережениям; 5) к приготовлению дворцового и казенного. Записавшихся в гильдии не избирать к следующим казенным службам, где оные еще суть, а именно: 1) к продаже соли или вина, или иного чего, казне принадлежащего; 2) к смотрению казне принадлежащего; 3) к разным должностям, известным под названием ларечных, целовальников, носильщиков, дрягилей, счетчиков и караульщиков казне принадлежащего; 4) к приуготовлению дворцового или казне принадлежащего; а вместо того платить гильдиям вообще, по скольку указом предписано есть или будет.
Ж. О первой гильдии
102. Кого вписать в первую гильдию. В первую гильдию всякого пола и лет, кто объявит капитал выше десяти тысяч рублей и до пятидесяти тысяч рублей.
103. В гильдии дается место по мере капитала. В первой гильдии кто объявит более капитал, тому дается место пред тем, кто менее объявит капитала.
104. О торге первой гильдии. Первой гильдии не токмо дозволяется, но и поощряется производить всякие внутри и вне империи торги, товары выписывать и отпускать за море, оные продавать, выменивать и покупать оптом или подробно, на основании законов.
105. О фабриках, заводах и морских судах. Первой гильдии не запрещается иметь или заводить фабрики, заводы и морские всякие суда.
106. Дозволение ездить в карете парою. Первой гильдии дозволяется ездить по городу в карете парою.
107. Первая гильдия свободна от телесного наказания. Первая гильдия освобождается от телесного наказания.
З. О второй гильдии
108. Кого вписать во вторую гильдию. Во вторую гильдию вписать всякого пола и лет, кто объявит капитал выше пяти тысяч рублей и до десяти тысяч рублей.
109. В гильдии дается место по мере капитала. Во второй гильдии кто объявит более капитал, тому дается место пред тем, кто менее объявит капитала.
110. О торге второй гильдии. Второй гильдии не токмо дозволяется, но и поощряется производить всякие внутри империи торги, и товары возить водою и сухим путем по городам и ярмаркам, и по оным продавать, выменивать и покупать потребное для их торгу оптом или подробно, на основании законов.
111. О фабриках, заводах и речных судах. Второй гильдии не запрещается иметь или заводить фабрики, заводы и речные всякие суда.
112. Дозволение ездить в коляске парою. Второй гильдии дозволяется ездить по городу в коляске парою.
113. Вторая гильдия свободна от телесного наказания. Вторая гильдия освобождается от телесного наказания.
И. О третьей гильдии
114. Кого вписать в третью гильдию. В третью гильдию вписать всякого пола и лет, кто объявит капитал выше тысячи рублей и до пяти тысяч рублей.
115. В гильдии дается место по мере капитала. В третей гильдии кто объявит более капитал, тому дается место пред тем, кто менее объявил капитал.
116. В мелочном торге третьей гильдии. Третьей гильдии не токмо дозволяется, но и поощряется производить мелочный торг по городу и по уезду, продавать мелочный товар в городе и в округе, и тот мелочный товар возить водою и сухим путем по селам, селениям и сельским торжкам, и на оных торжках продавать, выменивать и покупать потребное для мелочного торгу оптом или подробно в городе и округе.
117. О рукоделии и речных малых судах. Третьей гильдии не запрещается иметь станы, производить рукоделие и иметь и содержать малые речные суда.
118. О дозволении третьей гильдии иметь трактиры. Третьей гильдии дозволяется иметь трактиры, герберги, торговые бани и постоялые дворы для проезжих и прохожих людей.
119. Запрещение ездить инако по городу, как на одной лошади. Третьей гильдии запрещается по городу ездить в карете и впрягать зимою и летом более одной лошади.
Й. О выгодах цеховых
120. Кому написать в цеха или управы. В цеха или ремесленные управы написать всякого, кто в городе ремесло или рукоделие производить желает и кого по городовому положению в мещанское общество причесть можно.
121. Дозволение цеховым объявлять за собою капиталы и пользоваться по оным выгодам. Дозволяется цеховым объявлять за собою капиталы, и каждый, по таковому капиталу счисляясь в гильдии, платя с оного, пользуется теми выгодами, кои каждой гильдии присвоены.
122. О работе цеховых. Цеховым не токмо дозволяется, но и поощряется производить всякие работы по их мастерствам и оными доставлять себе пропитание, поступая в том по ремесленному положению, ниже сего изображенному.
[…]
Л. О выгодах именитых граждан
132. Именитые граждане. Именитые граждане суть те, кои: 1) проходят по порядку службу городскую и, получив уже название степенных, вторично по выборе отправили службу мещанского заседателя совестного суда или губернского магистрата, или бургомистра, или городского главы с похвалою; 2) ученые, кои академические или университетские аттестаты или письменные свидетельства о своем звании или искусстве предъявить могут, и таковыми по испытаниям российских главных училищ признаны; 3) художники трех художеств, а именно: архитекторы, живописцы, скульпторы и музыкосочинители, кои суть члены академические или удостоены академические о своем знании или искусстве имеют и таковые по испытаниям российских главных училищ признаны; 4) всякого звания и состояния капиталисты, кои капитала от пятидесяти тысяч рублей и более за собою объявят; 5) банкиры, кои деньги переводят и для сего звания капитала от ста до двухсот тысяч рублей за собою объявят; 6) те, кои оптом торгуют и лавок не имеют; 7) кораблехозяева, кои собственные корабли за море отправляют.
133. Дозволение ездить в карете парою и четвернею. Именитым гражданам дозволяется ездить по городу в карете парою и четвернею.
134. Дозволение иметь загородные дворы и сады. Именитым гражданам дозволяется иметь загородные дворы и сады.
135. Именитые граждане свободны от телесного наказания. Именитые граждане свободны суть от телесного наказания.
136. О фабриках, заводах и водяных судах. Именитым гражданам не запрещается иметь, заводить и содержать фабрики, заводы и всякие морские и речные суда.
137. Буде именитость отец, сын и внук сохранил, то право имеет просить дворянство. Именитых граждан внучатам, буде дед, отец и они именитость беспорочно сохранили, дозволяется старшему после тридцати лет от рождения его, быв самому жизни беспорочной, просить дворянства.
М. О посадских и их выгодах вообще
138. Не запрещается записаться в посад. Не запрещается никому записаться в посад города.
139. О крестьянах, кои запишутся в посад. Буде крестьянин ведомства директора домоводства запишется в город в посад, да платит по крестьянству, где надлежит, крестьянскую до новой переписи по государству, по посаду же – посадскую подать.
140. Посадские имеют станы и рукоделия. Записанный в посад волен заводить станы всякого рода и на них производить всякого рода рукоделия, без оного на то дозволения или приказания; ибо сею статьею всем и каждому дозволяется добровольно заводить (и иметь) всякого рода станы и рукоделия производить, не требуя на то уже иного дозволения от вышнего или нижнего места.
141. О лавке с собственным рукоделием. Посадским дозволяется иметь в доме, где сам живет, лавку с собственным рукоделием или с мелочию.
142. О промысле и прокормлении. Посадским не запрещается содержать и иметь трактиры, герберги, торговые бани, харчевни и постоялые дворы для проезжих и прохожих людей.
143. Дозволение посадским вступать в казенные подряды и откупы по мере капитала, с которого в посаде обложен податью. Посадским не запрещается вступать в казенные подряды и откупы, в которых казенных подрядах и откупах непременно повелевается каждому чинить доверие по мере капитала, с которого в посаде обложен податью.
144. Мелочный торг посадским не запрещается. Посадским не запрещается продавать плоды, овощи и иные всякия мелочи.
145. Запрещение ездить по городу в карете и на двух лошадях. Посадским запрещается ездить в карете и на двух лошадях.
[…]
О. О городской общей думе и о городской шестигласной думе
156. Дозволение городу иметь общую городскую думу. Городовым обывателям дозволяется составить общую городскую думу.
157. Кто составляет общую городскую думу. Городскую общую думу составляют городской глава и гласные от настоящих городовых обывателей, от гильдии, от цехов, от иногородных и иностранных гостей, от именитых граждан и от посадских. Каждое из сих разделений имеет один голос в обществе градском.
158. О составлении голоса от настоящих городовых обывателей. Чтоб составить голос настоящих городовых обывателей, собираются всякие три года в каждой части города настоящие городовые обыватели и выбирают по баллам одного гласного. Каждый гласный настоящих городовых обывателей явиться должен у городского главы.
159. О составлении голоса от гильдии. Чтоб составить голос гильдейский, собирается всякие три года каждая гильдия и выбирает по балам одного гласного каждой гильдии. Каждый гласный явиться должен у городского главы.
160. О составлении голоса от цехов. Чтоб составить голос цеховых, собирается всякие три года каждый цех и выбирает по баллам одного гласного каждого цеха. Каждый гласный должен явиться у городского главы.
161. О составлении голоса от иногородних и иностранных гостей. Чтобы составить голос иногородних и иностранных гостей, собираются они всякие три года каждый народ особо и выбирают по баллам одного гласного каждого народа. Каждый гласный должен явиться у городского главы.
162. О составлении голоса от именитых граждан. Чтоб составить голос именитых граждан, собираются всякие три года именитые граждане по семи названиям, как в толковании на 67 статью написано, и которые названия более пяти человек имеют, каждое особо выбирает по баллам одного гласного. Каждый гласный явиться должен у городского главы.
163. О составлении голоса от посадских. Чтоб составить голос посадских, собираются всякие три года посадские каждой части города и выбирают по баллам одного гласного посадских. Каждый гласный явиться должен у городского главы.
164. О выборе шестигласной городской думы. Общая городская дума избирает шестигласную городскую думу из своих гласных.
165. Кто составляют шестигласную городскую думу. Шестигласная городская дума составится из голоса настоящих городовых обывателей, из голоса гильдейских, из голоса цеховых, из голоса иногородних и иностранных гостей, из голоса именитых граждан и из голоса посадских в председании городского главы; в случае же убыли во время срока общая городская дума наполняет место из того же голоса.
166. Кому и как заседание иметь в городской думе. В городской думе сидит городской глава на стуле посредине; против городского главы сидят: на лавке направо – голос цеховых, налево – голос посадских; возле городского главы в правом завороте на лавке – голос настоящих городовых обывателей и голос иногородних и иностранных гостей; возле городского главы в левом завороте на лавке же – голос именитых граждан и голос гильдейский.
167. Должность городской думы. Городской думе принадлежат попечения: 1) доставить жителям города нужное пособие к их прокормлению или содержанию; 2) сохранять город от ссор и тяжб с окрестными городами или селениями; 3) сохранять между жителями города мир, тишину и доброе согласие; 4) возбранять все, что доброму порядку и благочинию противно, оставляя, однако ж, относящееся к части полицейской исполнять местам и людям, для того установленным; 5) посредством наблюдения доброй веры и всякими позволенными способами поощрять привоз в город и продажу всего, что ко благу и выгодам жителей служить может; 6) наблюдать за прочностию публичных городских зданий, стараться о построении всего потребного, о заведении площадей, для стечения народа на торгу, пристаней, амбаров, магазейнов и тому подобного, что может быть для города потребно, выгодно и полезно; 7) стараться о приращении городских доходов на пользу города и для распространения заведений по приказу общественного призрения; 8) разрешать сомнения и недоумения по ремеслам и гильдии в силу сделанных о том положениях.
168. Запрещения городской думе мешаться в дела судные.
Городской думе запрещается мешаться в дела судные между жителями того города, ибо оные по учреждениям принадлежат магистратам или ратушам.
169. О хранении городового и ремесленного положения. Городская дума должна хранить как городовое, так и ремесленное положение, и наблюдать, чтоб оные точно и без нарушения всеми и каждым исполняемы были.
170. Запрещение делать представления или положении, противные городскому или ремесленному положениям или иным узаконениям. Городской думе запрещается делать представления или положении, противные городскому или ремесленному положениям и другим государственным узаконениям, под взысканием, выше в статье 37-й определенным.
171. О месте для собрания городской думы и печати. Городской думе собираться в доме общества градского и иметь свою печать.
172. Время заседания общей городской думы. Общая городская дума, быв составлена из людей, занятых торгами, промыслами и ремеслами, обязана собираться по однажды всякий срок заседания или же когда нужда и польза городская потребует, и в другое время.
173. О шестигласной городской думе. Для всегдашнего отправления дел, выше в статье 167-й изъясненных, полагается, как выше сказано, городская шестигласная дума.
174. Время заседания шестигласной городской думы. Городская шестигласная дума собирается всякую неделю однажды, разве, когда нужда или польза городская востребует, и кроме того.
175. Шестигласная городская дума собирается в том же месте, где и общая дума, и, в случае сомнения, предлагает дело в общей городской думе. Городская шестигласная дума собирается в том же месте, где и общей городской думе назначено, имеет ту же печать и те же должности исполняет; в случае же сомнения, по важности или трудности, дела предлагает оное в общей городской думе.
176. Кто недоволен городскою общею или шестигласною думою, тот должен приносить жалобу в губернский магистрат. Буде кто не доволен общею городскою думою или шестигласною городскою думою, тот может принести свою жалобу в губернский магистрат.
177. Об управлении городовых доходов и расходов и об отчете в оных. В управлении городовых доходов и расходов городская дума поступает по статьям 151, 152, 153 и 154 и посылает ведомости и отчет губернатору и в казенную палату на основании статьи 155 городового положения.
178. О взаимном пособии по делам службы императорского величества и пользы общей. Городовые магистраты и прочие места того города законные требования городской думы исполняют и, где польза службы императорского величества, соблюдение порядка и тишины того требуют, подают друг другу руку помощи.
Во утверждение всего вышеписанного мы сию нашу жалованную грамоту на права и выгоды верноподданным нам городам собственною нашею рукою подписали и государственною нашею печатью укрепить повелели. В престольном нашем граде святого Петра апреля 21 дня, в лето от Рождества Христова 1785, царствования же нашего в двадесять третие.
Подлинная, подписана собственною ее императорского величества рукою тако:
Печатана в Санкт-Петербурге 1785 года апреля 24 дня.МЕМУАРЫ
Часть I
Счастье не так слепо, как его себе представляют. Часто оно бывает следствием длинного ряда мер, верных и точных, не замеченных толпою и предшествующих событию. А в особенности счастье отдельных личностей бывает следствием их качеств, характера и личного поведения. Чтобы сделать это более осязательным, я построю следующий силлогизм:
качества и характер будут большей посылкой;
поведение – меньшей;
счастье или несчастье – заключением.
Вот два разительных примера:
Екатерина II,
Петр III.
Мать Петра III, дочь Петра I, скончалась приблизительно месяца через два после того, как произвела его на свет, от чахотки, в маленьком городке Киле, в Голштинии, с горя, что ей пришлось там жить, да еще в таком неудачном замужестве. Карл-Фридрих, герцог Голштинский[17], племянник Карла XII, короля Шведского, отец Петра III, был принц слабый, неказистый, малорослый, хилый и бедный (смотри «Дневник» Берхгольца в «Магазине» Бюшинга)[18]. Он умер в 1739 году и оставил сына, которому было около одиннадцати лет, под опекой своего двоюродного брата Адольфа-Фридриха, епископа Любекского, герцога Голштинского, впоследствии короля Шведского, избранного на основании предварительных статей мира в Або по предложению императрицы Елисаветы.
Во главе воспитателей Петра III стоял обер-гофмаршал его двора Брюммер [Оттон], швед родом; ему подчинены были обер-камергер Берхгольц, автор вышеприведенного «Дневника», и четыре камергера; из них двое – Адлерфельдт [Густав], автор «Истории Карла XII», и Вахтмейстер [Аксель-Вильгельм] – были шведы, а двое других, Вольф и Мардефельд, – голштинцы.
Этого принца воспитывали в виду Шведского престола при дворе, слишком большом для страны, в которой он находился, и разделенном на несколько партий, горевших ненавистью; из них каждая хотела овладеть умом принца, которого она должна была воспитать, и, следовательно, вселяла в него отвращение, которое все партии взаимно питали по отношению к своим противникам.
Молодой принц от всего сердца ненавидел Брюммера, внушавшего ему страх, и обвинял его в чрезмерной строгости. Он презирал Берхгольца, который был другом и угодником Брюммера, и не любил никого из своих приближенных, потому что они его стесняли.
С десятилетнего возраста Петр III обнаружил наклонность к пьянству. Его понуждали к чрезмерному представительству и не выпускали из виду ни днем ни ночью. Кого он любил всего более в детстве и в первые годы своего пребывания в России, так это были два старых камердинера: один – Крамер, ливонец, другой – Румберг, швед. Последний был ему особенно дорог. Это был человек довольно грубый и жесткий, из драгунов Карла XII. Брюммер, а следовательно, и Берхгольц, который на все смотрел лишь глазами Брюммера, были преданны принцу, опекуну и правителю; все остальные были недовольны этим принцем и еще более – его приближенными. Вступив на русский престол, императрица Елисавета послала в Голштинию камергера Корфа [Николая Андреевича], вызвать племянника, которого принц-правитель и отправил немедленно, в сопровождении обер-гофмаршала Брюммера, обер-камергера Берхгольца и камергера Дукера, приходившегося племянником первому.
Велика была радость императрицы по случаю его прибытия. Немного спустя она отправилась на коронацию в Москву. Она решила объявить этого принца своим наследником. Но прежде всего он должен был перейти в православную веру.
Враги обер-гофмаршала Брюммера, а именно – великий канцлер граф Бестужев и покойный граф Никита Панин, который долго был русским посланником в Швеции, утверждали, что имели в своих руках убедительные доказательства, будто Брюммер с тех пор, как увидел, что императрица решила объявить своего племянника предполагаемым наследником престола, приложил столько же старания испортить ум и сердце своего воспитанника, сколько заботился раньше сделать его достойным шведской короны.
Но я всегда сомневалась в этой гнусности и думала, что воспитание Петра III оказалось неудачным по стечению несчастных обстоятельств. Передам, что я видела и слышала, и это разъяснит многое.
Я увидела Петра III в первый раз, когда ему было одиннадцать лет, в Эйтине, у его опекуна, принца-епископа Любекского. Через несколько месяцев после кончины герцога Карла-Фридриха, его отца, принц-епископ собрал у себя в Эйтине в 1739 году всю семью, чтобы ввести в нее своего питомца. Моя бабушка, мать принца-епископа, и моя мать[19], сестра того же принца, приехали туда из Гамбурга со мною. Мне было тогда десять лет.
Тут были еще принц Август[20] и принцесса Анна[21], брат и сестра принца-опекуна и правителя Голштинии. Тогда-то я и слышала от этой собравшейся вместе семьи, что молодой герцог наклонен к пьянству и что его приближенные с трудом препятствовали ему напиваться за столом, что он был упрям и вспыльчив, что он не любил окружающих, и особенно Брюммера, что, впрочем, он выказывал живость, но был слабого и хилого сложения.
Действительно, цвет лица у него был бледен и он казался тощим и слабого телосложения. Приближенные хотели выставить этого ребенка взрослым и с этой целью стесняли и держали его в принуждении, которое должно было вселить в нем фальшь, начиная с манеры держаться и кончая характером.
Как только прибыл в Россию голштинский двор, за ним последовало и шведское посольство, которое прибыло, чтобы просить у императрицы ее племянника для наследования шведского престола. Но Елисавета, уже объявившая свои намерения, как выше сказано, в предварительных статьях мира в Або, ответила шведскому сейму, что она объявила своего племянника наследником русского престола и что она держалась предварительных статей мира в Або, который назначал Швеции предполагаемым наследником короны принца-правителя Голштинии. (Этот принц имел брата [Карла-Августа, принца Голштинского], с которым императрица Елисавета была помолвлена после смерти Петра I. Этот брак не состоялся, потому что принц умер от оспы через несколько недель после обручения; императрица Елисавета сохранила о нем очень трогательное воспоминание и давала тому доказательства всей семье этого принца.)
Итак, Петр III был объявлен наследником Елисаветы и Русским Великим Князем, вслед за исповеданием своей веры по обряду православной церкви; в наставники ему дали Симеона Теодорского [Тодорского], ставшего потом Архиепископом Псковским. Этот принц был крещен и воспитан по лютеранскому обряду, самому суровому и наименее терпимому, так как с детства он всегда был неподатлив для всякого назидания.
Я слышала от его приближенных, что в Киле стоило величайшего труда посылать его в церковь по воскресеньям и праздникам и побуждать его к исполнению обрядностей, каких от него требовали, и что он большей частью проявлял неверие.
Его Высочество позволял себе спорить с Симеоном Теодорским относительно каждого пункта; часто призывались его приближенные, чтобы решительно прервать схватку и умерить пыл, какой в нее вносили; наконец, с большой горечью он покорялся тому, чего желала императрица, его тетка, хотя он и не раз давал почувствовать – по предубеждению ли, по привычке ли, или из духа противоречия, – что предпочел бы уехать в Швецию, чем оставаться в России.
Он держал при себе Брюммера, Берхгольца и своих голштинских приближенных вплоть до своей женитьбы; к ним прибавили, для формы, нескольких учителей: одного, Исаака Веселовского, для русского языка – он изредка приходил к нему вначале, а потом и вовсе не стал ходить; другого – профессора Штелина [Яков Яковлевич], который должен был обучать его математике и истории, а в сущности играл с ним и служил ему чуть не шутом. Самым усердным учителем был Ланге [Жан-Батист], балетмейстер, учивший его танцам.
В своих внутренних покоях великий князь в ту пору только и занимался, что устраивал военные учения с кучкой людей, данных ему для комнатных услуг; он то раздавал им чины и отличия, то лишал их всего, смотря по тому, как вздумается. Это были настоящие детские игры и постоянное ребячество; вообще, он был еще очень ребячлив, хотя ему минуло шестнадцать лет в 1744 году, когда русский двор находился в Москве.
В этом именно году Екатерина II прибыла со своей матерью 9 февраля в Москву. Русский двор был тогда разделен на два больших лагеря, или партии. Во главе первой, начинавшей подниматься после своего упадка, был вице-канцлер, граф Бестужев-Рюмин; его несравненно больше страшились, чем любили; это был чрезвычайный пройдоха, подозрительный, твердый и неустрашимый, по своим убеждениям довольно-таки властный, враг непримиримый, но друг своих друзей, которых оставлял лишь тогда, когда они повертывались к нему спиной, впрочем, неуживчивый и часто мелочный.
Он стоял во главе Коллегии иностранных дел; в борьбе с приближенными императрицы он, перед поездкой в Москву, потерпел урон, но начинал оправляться; он держался Венского двора, Саксонского и Англии. Приезд Екатерины II и ее матери не доставлял ему удовольствия. Это было тайное дело враждебной ему партии; враги графа Бестужева были в большом числе, но он их всех заставлял дрожать. Он имел над ними преимущество своего положения и характера, которое давало ему значительный перевес над политиканами передней.
Враждебная Бестужеву партия держалась Франции, Швеции, пользовавшейся покровительством ее, и короля Прусского [Фридриха II Великого]; маркиз де ла Шетарди [французский посланник в России в 1739–1744 гг.] был ее душою, а двор, прибывший из Голштинии, – матадорами; они привлекли графа Лестока[22], одного из главных деятелей переворота, который возвел покойную императрицу Елисавету на русский престол.
Этот последний пользовался большим ее доверием; он был ее хирургом с кончины Екатерины I, при которой находился, и оказывал матери и дочери существенные услуги; у него не было недостатка ни в уме, ни в уловках, ни в пронырстве, но он был зол и сердцем черен и гадок.
Все эти иностранцы поддерживали друг друга и выдвигали вперед графа Михайла [Илларионовича] Воронцова, который тоже принимал участие в перевороте и сопровождал Елисавету в ту ночь, когда она вступила на престол. Она заставила его жениться на племяннице императрицы Екатерины I, графине Анне Карловне Скавронской, которая была воспитана с императрицей Елисаветой и была к ней очень привязана.
К этой партии примкнул еще граф Александр Румянцев, отец фельдмаршала [графа П. А. Румянцева-Задунайского], подписавший в Або мир со шведами, о котором не очень-то совещались с Бестужевым. Они рассчитывали еще на генерал-прокурора князя Трубецкого [Никиту Юрьевича], на всю семью Трубецких и, следовательно, на принца Гессен-Гомбургского [Людвига-Вильгельма, находившегося на русской службе с 1723 г.], женатого на принцессе этого дома[23].
Этот принц Гессен-Гомбургский, пользовавшийся тогда большим уважением, сам по себе был ничто, и значение его зависело от многочисленной родни его жены, коей отец и мать были еще живы; эта последняя имела очень большой вес. Остальных приближенных императрицы составляли тогда семья Шуваловых, которые колебались на каждом шагу, обер-егермейстер Разумовский[24], который в то время был признанным фаворитом, и один епископ.
Граф Бестужев умел извлекать из них пользу, но его главной опорой был барон Черкасов [Иван Антонович], секретарь Кабинета императрицы, служивший раньше в Кабинете Петра I. Это был человек грубый и упрямый, требовавший порядка и справедливости и соблюдения во всяком деле правил.
Остальные придворные становились то на ту, то на другую сторону, смотря по своим интересам и повседневным видам. Великий князь, казалось, был рад приезду моей матери и моему.
Мне шел пятнадцатый год; в течение первых десяти дней он был очень занят мною; тут же и в течение этого короткого промежутка времени я увидела и поняла, что он не очень ценит народ, над которым ему суждено было царствовать, что он держался лютеранства, не любил своих приближенных и был очень ребячлив.
Я молчала и слушала, чем снискала его доверие; помню, он мне сказал, между прочим, что ему больше всего нравится во мне то, что я его троюродная сестра и что в качестве родственника он может говорить со мной по душе, после чего сказал, что влюблен в одну из фрейлин императрицы, которая была удалена тогда от двора ввиду несчастья ее матери, некоей Лопухиной[25], сосланной в Сибирь; что ему хотелось бы на ней жениться, но что он покоряется необходимости жениться на мне, потому что его тетка того желает.
Я слушала, краснея, эти родственные разговоры, благодаря его за скорое доверие, но в глубине души я взирала с изумлением на его неразумие и недостаток суждения о многих вещах.
На десятый день после моего приезда в Москву как-то в субботу императрица уехала в Троицкий монастырь. Великий князь остался с нами в Москве. Мне дали уже троих учителей: одного, Симеона Теодорского, чтобы наставлять меня в православной вере; другого, Василия Ададурова[26], для русского языка, и Ланге, балетмейстера, для танцев.
Чтобы сделать более быстрые успехи в русском языке, я вставала ночью с постели и, пока все спали, заучивала наизусть тетради, которые оставлял мне Ададуров; так как комната моя была теплая и я вовсе не освоилась с климатом, то я не обувалась – как вставала с постели, так и училась.
На тринадцатый день я схватила плеврит, от которого чуть не умерла. Он открылся ознобом, который я почувствовала во вторник после отъезда императрицы в Троицкий монастырь: в ту минуту, как я оделась, чтобы идти обедать с матерью к великому князю, я с трудом получила от матери позволение пойти лечь в постель. Когда она вернулась с обеда, она нашла меня почти без сознания, в сильном жару и с невыносимой болью в боку.
Она вообразила, что у меня будет оспа: послала за докторами и хотела, чтобы они лечили меня сообразно с этим; они утверждали, что мне надо пустить кровь; мать ни за что не хотела на это согласиться; она говорила, что доктора дали умереть ее брату в России от оспы, пуская ему кровь, и что она не хотела, чтобы со мной случилось то же самое.
Доктора и приближенные великого князя, у которого еще не было оспы, послали в точности доложить императрице о положении дела, и я оставалась в постели, между матерью и докторами, которые спорили между собою. Я была без памяти, в сильном жару и с болью в боку, которая заставляла меня ужасно страдать и издавать стоны, за которые мать меня бранила, желая, чтобы я терпеливо сносила боль.
Наконец, в субботу вечером, в семь часов, то есть на пятый день моей болезни, императрица вернулась из Троицкого монастыря и прямо по выходе из кареты вошла в мою комнату и нашла меня без сознания. За ней следовали граф Лесток и хирург; выслушав мнение докторов, она села сама у изголовья моей постели и велела пустить мне кровь. В ту минуту, как кровь хлынула, я пришла в себя и, открыв глаза, увидела себя на руках у императрицы, которая меня приподнимала.
Я оставалась между жизнью и смертью в течение двадцати семи дней, в продолжение которых мне пускали кровь шестнадцать раз и иногда по четыре раза в день. Мать почти не пускали больше в мою комнату; она по-прежнему была против этих частых кровопусканий и громко говорила, что меня уморят; однако она начинала убеждаться, что у меня не будет оспы.
Императрица приставила ко мне графиню Румянцеву[27] и несколько других женщин, и ясно было, что суждению матери не доверяли. Наконец, нарыв, который был у меня в правом боку, лопнул, благодаря стараниям доктора-португальца Санхеца; я его выплюнула со рвотой, и с этой минуты я пришла в себя; я тотчас же заметила, что поведение матери во время моей болезни повредило ей во мнении всех.
Когда она увидела, что мне очень плохо, она захотела, чтобы ко мне пригласили лютеранского священника; говорят, меня привели в чувство или воспользовались минутой, когда я пришла в себя, чтобы мне предложить это, и что я ответила: «Зачем же? Пошлите лучше за Симеоном Теодорским, я охотно с ним поговорю». Его привели ко мне, и он при всех так поговорил со мной, что все были довольны. Это очень подняло меня во мнении императрицы и всего двора.
Другое очень ничтожное обстоятельство еще повредило матери. Около Пасхи, однажды утром, матери вздумалось прислать сказать мне с горничной, чтобы я ей уступила голубую с серебром материю, которую брат отца подарил мне перед моим отъездом в Россию, потому что она мне очень понравилась. Я велела ей сказать, что она вольна ее взять, но что, право, я ее очень люблю, потому что дядя мне ее подарил, видя, что она мне нравится.
Окружавшие меня, видя, что я отдаю материю скрепя сердце, и ввиду того, что я так долго лежу в постели, находясь между жизнью и смертью, и что мне стало лучше всего дня два, стали между собою говорить, что весьма неразумно со стороны матери причинять умирающему ребенку малейшее неудовольствие и что вместо желания отобрать эту материю она лучше бы сделала, не упоминая о ней вовсе.
Пошли рассказать это императрице, которая немедленно прислала мне несколько кусков богатых и роскошных материй и, между прочим, одну голубую с серебром; это повредило матери в глазах императрицы: ее обвинили в том, что у нее вовсе нет нежности ко мне, ни бережности. Я привыкла во время болезни лежать с закрытыми глазами; думали, что я сплю, и тогда графиня Румянцева и находившиеся при мне женщины говорили между собой о том, что у них было на душе, и таким образом я узнавала массу вещей.
Когда мне стало лучше, великий князь стал приходить проводить вечера в комнате матери, которая была также и моею. Он и все, казалось, следили с живейшим участием за моим состоянием. Императрица часто проливала об этом слезы.
Наконец, 21 апреля 1744 года, в день моего рождения, когда мне пошел пятнадцатый год, я была в состоянии появиться в обществе, в первый раз после этой ужасной болезни. Я думаю, что не слишком-то довольны были моим видом: я похудела, как скелет, выросла, но лицо и черты мои удлинились; волосы у меня падали, и я была бледна смертельно. Я сама находила, что страшна, как пугало, и не могла узнать себя. Императрица прислала мне в этот день банку румян и приказала нарумяниться.
С наступлением весны и хорошей погоды великий князь перестал ежедневно посещать нас; он предпочитал гулять и стрелять в окрестностях Москвы.
Иногда, однако, он приходил к нам обедать или ужинать, и тогда снова продолжались его ребяческие откровенности со мною, между тем как его приближенные беседовали с матерью, у которой бывало много народу и шли всевозможные пересуды, которые не нравились тем, кто в них не участвовал, и, между прочим, графу Бестужеву, коего враги все собирались у нас; в числе их был маркиз де ла Шетарди, который еще не воспользовался ни одним полномочием французского двора, но имел свои верительные посольские грамоты в кармане.
В мае месяце императрица снова уехала в Троицкий монастырь, куда мы с великим князем и матерью за ней последовали. Императрица стала с некоторых пор очень холодно обращаться с матерью; в Троицком монастыре выяснилась причина этого. Как-то после обеда, когда великий князь был у нас в комнате, императрица вошла внезапно и велела матери идти за ней в другую комнату. Граф Лесток тоже вошел туда; мы с великим князем сели на окно, выжидая.
Разговор этот продолжался очень долго, и мы видели, как вышел Лесток; проходя, он подошел к великому князю и ко мне – а мы смеялись – и сказал нам: «Этому шумному веселью сейчас конец»; потом, повернувшись ко мне, он сказал: «Вам остается только укладываться, вы тотчас отправитесь, чтобы вернуться к себе домой».
Великий князь хотел узнать, как это; он ответил: «Об этом после узнаете», и ушел исполнять поручение, которое было на него возложено и которого я не знаю. Великому князю и мне он предоставил размыслить над тем, что он нам только что сказал; первый рассуждал вслух, я – про себя. Он сказал: «Но если ваша мать и виновата, то вы не виновны», я ему ответила: «Долг мой – следовать за матерью и делать то, что она прикажет».
Я увидела ясно, что он покинул бы меня без сожаленья; что меня касается, то, ввиду его настроения, он был для меня почти безразличен, но не безразлична была для меня русская корона. Наконец, дверь спальной отворилась, и императрица вышла оттуда с лицом очень красным и с видом разгневанным, а мать шла за нею с красными глазами и в слезах. Так как мы спешили спуститься с окна, на которое влезли и которое было довольно высоко, то у императрицы это вызвало улыбку, и она поцеловала нас обоих и ушла.
Когда она вышла, мы узнали приблизительно, в чем было дело. Маркиз де ла Шетарди, который прежде, или, вернее сказать, в первое свое путешествие, или миссию в Россию, пользовался большою милостью и доверием императрицы, в этот второй приезд или миссию очень обманулся во всех своих надеждах.
Разговоры его были скромнее, чем письма; эти последние были полны самой едкой желчи; их вскрыли и разобрали шифр; в них нашли подробности его бесед с матерью и многими другими лицами о современных делах, разговоры насчет императрицы заключали выражения малоосторожные.
Граф Бестужев не преминул вручить их императрице, и так как маркиз де ла Шетарди не объявил еще ни одного из своих полномочий, то дан был приказ выслать его из империи; у него отняли орден Св. Андрея и портрет императрицы, но оставили все другие подарки из брильянтов, какие он имел от этой государыни. Не знаю, удалось ли матери оправдаться в глазах императрицы, но, как бы то ни было, мы не уехали; с матерью, однако, продолжали обращаться очень сдержанно и холодно.
Не знаю, что говорилось между нею и де ла Шетарди, но знаю, что однажды он обратился ко мне и поздравил, что я причесана en Moyse; я ему сказала, что в угоду императрице буду причесываться на все фасоны, какие могут ей понравиться; когда он услышал мой ответ, он сделал пируэт налево, ушел в другую сторону и больше ко мне не обращался.
Вернувшись с великим князем в Москву, мы с матерью стали жить более замкнуто; у нас бывало меньше народу и меня готовили к исповеданию веры. 28 июня было назначено для этой церемонии и следующий день, Петров день, – для моего обручения с великим князем. Помню, что гофмаршал Брюммер обращался ко мне в это время несколько раз, жалуясь на своего воспитанника, и хотел воспользоваться мною, чтобы исправить и образумить своего великого князя; но я сказала ему, что это для меня невозможно и что я этим только стану ему столь же ненавистна, как уже были ненавистны все его приближенные.
В это время мать очень сблизилась с принцем и принцессой Гессенскими и еще больше с братом последней, камергером Бецким. Эта связь не нравилась графине Румянцевой, гофмаршалу Брюммеру и всем остальным; в то время как мать была с ними в своей комнате, мы с великим князем возились в передней, и она была в полном нашем распоряжении; у нас обоих не было недостатка в ребяческой живости.
В июле месяце императрица праздновала в Москве мир со Швецией, и по случаю этого праздника она составила мне двор, как обрученной Русской великой княжне, и тотчас после этого праздника императрица отправила нас в Киев. Она сама отправилась через несколько дней после нас. Мы ехали понемногу за день: мать, я, графиня Румянцева и одна из фрейлин матери – в одной карете; великий князь, Брюммер, Берхгольц и Дукер – в другой.
Как-то днем великий князь, скучавший со своими педагогами, захотел ехать с матерью и со мной; с тех пор как он это сделал, он не захотел больше выходить из нашей кареты. Тогда мать, которой скучно было ехать с ним и со мною целые дни, придумала увеличить компанию.
Она сообщила свою мысль молодым людям из нашей свиты, между которыми находились князь Голицын[28], впоследствии фельдмаршал, и граф Захар Чернышев[29]; взяли одну из повозок с нашими постелями; приладили отовсюду кругом скамейки, и на следующий же день мать, великий князь и я, князь Голицын, граф Чернышев и еще одна или две дамы помоложе из свиты поместились в ней, и, таким образом, мы совершили остальную часть поездки очень весело, насколько это касалось нашей повозки; но все, что не имело входа туда, восстало против такой затеи, которая особенно не нравилась обер-гофмаршалу Брюммеру, обер-камергеру Берхгольцу, графине Румянцевой, фрейлине матери и также всей остальной свите, ибо они никогда туда не допускались, и, между тем как мы смеялись дорогой, они бранились и скучали.
При таком положении вещей мы прибыли через три недели в Козелец, где еще три недели ждали императрицу, коей поездка замедлилась дорогой вследствие некоторых приключений. Мы узнали в Козельце, что с дороги было сослано несколько лиц из свиты императрицы и что она была в очень дурном расположении духа.
Наконец, в половине августа, она прибыла в Козелец; мы еще оставались с ней там до конца августа. Тут вели с утра до вечера крупную игру в фараон в большой зале, посередине дома; в остальных помещениях всем приходилось очень тесно: мы с матерью спали в одной общей комнате, графиня Румянцева и фрейлина матери – в передней, и так далее.
Однажды великий князь пришел в комнату матери и в мою также, в то время как мать писала, а возле нее стояла открытая шкатулка; он захотел в ней порыться из любопытства; мать сказала, чтобы он не трогал, и он, действительно, стал прыгать по комнате в другой стороне, но, прыгая то туда, то сюда, чтобы насмешить меня, он задел за крышку открытой шкатулки и уронил ее; мать тогда рассердилась, и они стали крупно браниться; мать упрекала его за то, что он нарочно опрокинул шкатулку, а он жаловался на несправедливость, и оба они обращались ко мне, требуя моего подтверждения; зная нрав матери, я боялась получить пощечины, если не соглашусь с ней, и, не желая ни лгать, ни обидеть великого князя, находилась между двух огней; тем не менее я сказала матери, что не думала, чтобы великий князь сделал это нарочно, но что когда он прыгал, то задел платьем крышку шкатулки, которая стояла на очень маленьком табурете.
Тогда мать набросилась на меня, ибо, когда она бывала в гневе, ей нужно было кого-нибудь бранить; я замолчала и заплакала; великий князь, видя, что весь гнев моей матери обрушился на меня за то, что я свидетельствовала в его пользу, и, так как я плакала, стал обвинять мать в несправедливости и назвал ее гнев бешенством, а она ему сказала, что он невоспитанный мальчишка; одним словом, трудно, не доводя, однако, ссоры до драки, зайти в ней дальше, чем они оба это сделали.
С тех пор великий князь невзлюбил мать и не мог никогда забыть этой ссоры; мать тоже не могла этого ему простить; и их обхождение друг с другом стало принужденным, без взаимного доверия, и легко переходило в натянутые отношения. Оба они не скрывались от меня; сколько я ни старалась смягчить их обоих, мне это удавалось только на короткий срок; они оба всегда были готовы пустить колкость, чтобы язвить друг друга; мое положение день ото дня становилось щекотливее.
Я старалась повиноваться одному и угождать другому, и, действительно, великий князь был со мною тогда откровеннее, чем с кем-либо; он видел, что мать часто наскакивала на меня, когда не могла к нему придраться. Это мне не вредило в его глазах, потому что он убедился, что может быть во мне уверен. Наконец, 29 августа мы приехали в Киев. Мы пробыли там десять дней, после чего отправились назад в Москву точно таким же образом, как ехали в Киев.
Когда мы приехали в Москву, вся осень прошла в комедиях, придворных балах и маскарадах. Несмотря на это, заметно было, что императрица была часто сильно не в духе. Однажды, когда мы: моя мать, я и великий князь – были в театре в ложе напротив ложи Ее Императорского Величества, я заметила, что императрица говорит с графом Лестоком с большим жаром и гневом. Когда она кончила, Лесток ее оставил и пришел к нам в ложу; он подошел ко мне и спросил: «Заметили ли вы, как императрица со мною говорила?»
Я сказала, что да. «Ну вот, – сказал Лесток, – она очень на вас сердита». – «На меня! За что же?» – был мой ответ. «Потому что у вас, – отвечал он мне, – много долгов; она говорит, что это бездонная бочка и что, когда она была великой княжной, у нее не было больше содержания, нежели у вас, что ей приходилось содержать целый дом и что она старалась не входить в долги, ибо знала, что никто за нее не заплатит».
Он сказал мне все это с сердитым и сухим видом, должно быть, затем, чтоб императрица видела из своей ложи, как он исполняет ее поручение. У меня навернулись на глаза слезы, и я промолчала. Сказав все, он ушел.
Великий князь, который был рядом со мной и приблизительно слышал этот разговор, переспросив у меня то, что не расслышал, дал мне понять игрой лица больше, чем словами, что он разделяет мысли своей тетушки и что он доволен, что меня выбранили. Это был довольно обычный его прием, и в таких случаях он думал угодить императрице, улавливая ее настроение, когда она на кого-нибудь сердилась.
Что касается матери, то, когда она узнала, в чем дело, она сказала, что это было следствием тех стараний, которые употребляли, чтобы вырвать меня из ее рук, и что, так как меня так поставили, что я могла действовать, не спрашиваясь ее, она умывает руки в этом деле; итак, оба они стали против меня.
Я же тотчас решила привести мои дела в порядок и на следующий же день потребовала счета. Из них я увидела, что должна семнадцать тысяч рублей; перед отъездом из Москвы в Киев императрица прислала мне пятнадцать тысяч рублей и большой сундук простых материй, но я должна была одеваться богато.
В итоге оказалось, что я должна всего две тысячи; это мне показалось невесть какой суммой. Различные причины ввели меня в эти расходы. Во-первых, я приехала в Россию с очень скудным гардеробом. Если у меня бывало три-четыре платья, это уже был предел возможного, и это при дворе, где платья менялись по три раза в день; дюжина рубашек составляла все мое белье; я пользовалась простынями матери.
Во-вторых, мне сказали, что в России любят подарки и что щедростью приобретаешь друзей и станешь всем приятной. В-третьих, ко мне приставили самую расточительную женщину в России, графиню Румянцеву, которая всегда была окружена купцами; ежедневно представляла мне массу вещей, которые советовала брать у этих купцов и которые я часто брала лишь затем, чтобы отдать ей, так как ей этого очень хотелось.
Великий князь также мне стоил много, потому что был жаден до подарков; дурное настроение матери также легко умиротворялось какой-нибудь вещью, которая ей нравилась, и так как она тогда очень часто сердилась, и особенно на меня, то я не пренебрегала открытым мною способом умиротворения. Дурное расположение духа матери происходило отчасти по той причине, что она вовсе не пользовалась благосклонностью императрицы, которая ее часто оскорбляла и унижала.
Кроме того, мать, за которой я обыкновенно следовала, с неудовольствием смотрела на то, что я теперь шла пред ней; я этого избегала всюду, где могла, но в публике это было невозможно; вообще, я поставила себе за правило оказывать ей величайшее уважение и наивозможную почтительность, но все это не очень-то мне помогало; у нее всегда и при всяком случае прорывалось неудовольствие на меня, что не служило ей в пользу и не располагало к ней людей.
Графиня Румянцева своими рассказами и пересказами и разными сплетнями чрезвычайно содействовала, как и многие другие, тому, чтобы уронить мать во мнении императрицы. Восьмиместная повозка, во время поездки в Киев, тоже сделала свое дело: все старики были из нее изгнаны, вся молодежь – допущена. Бог знает, какой оборот придали этому распорядку, очень, впрочем, невинному; всего очевиднее было то, что это обидело всех, которые могли быть туда допущены по своему положению и которые увидали, что им предпочли тех, кто был забавнее.
В сущности вся эта досада матери пошла оттого, что не взяли с собой во время киевской поездки ни Бецкого, к которому она прониклась доверием, ни князя Трубецкого. Конечно, этому посодействовали Брюммер и графиня Румянцева, и восьмиместная повозка, в которую их не допустили, стала причиной затаенной злобы.
В ноябре месяце в Москве великий князь схватил корь; так как у меня ее еще не было, то приняли все меры, чтобы мне не заразиться. Окружавшие этого князя не приходили к нам, и все увеселения прекратились. Как только болезнь эта прошла и зима установилась, мы поехали из Москвы в Петербург в санях: мать и я – в одних, великий князь и граф Брюммер – в других.
18 декабря, день рождения императрицы, мы отпраздновали в Твери, откуда уехали на следующий день. Приехав на полпути в Хотиловский Яр, вечером, в моей комнате, великий князь почувствовал себя плохо; его отвели к себе и уложили; ночью у него был сильный жар.
На следующий день, в полдень, мы с матерью пошли к нему в комнату, но едва я переступила порог двери, как граф Брюммер пошел мне навстречу и сказал, чтобы я не шла дальше; я хотела узнать почему; он мне сказал, что у великого князя только что появились оспенные пятна.
Так как у меня не было оспы, мать живо увела меня из комнаты, и было решено, что мы с матерью уедем в тот же день в Петербург, оставив великого князя и его приближенных в Хотилове; графиня Румянцева и фрейлина матери остались, чтобы ходить, как говорили, за больным. Послали курьера к императрице, опередившей нас и бывшей уже в Петербурге.
В некотором расстоянии от Новгорода мы встретили императрицу, которая, узнав, что у великого князя обнаружилась оспа, возвращалась из Петербурга к нему в Хотилово, где и оставалась, пока продолжалась его болезнь. Как только императрица нас увидала, хотя это было ночью, она велела остановить свои сани и наши и спросила о здоровье великого князя. Мать сказала ей все, что знала, после чего императрица приказала кучеру ехать, а мы продолжали тоже свой путь и прибыли в Новгород к утру.
Было воскресенье, я пошла к обедне, после чего мы пообедали, и, когда собирались уезжать, приехали камергер князь Голицын и камер-юнкер граф Захар Чернышев, ехавшие из Москвы в Петербург. Мать рассердилась на Голицына за то, что он ехал с графом Чернышевым, ибо этот последний распустил какую-то ложь.
Она утверждала, что его надо избегать как человека опасного, выдумывавшего какие угодно истории. Она дулась на обоих, но так как, благодаря этой досаде, было скучно до тошноты и выбора не было, а они были более образованные и более приятные собеседники, чем другие, то я и не вдавалась в досаду, что навлекло на меня несколько нападок со стороны матери.
Наконец, мы приехали в Петербург, где нас поместили в одном из кавалерских придворных домов[30]. Так как дворец не был тогда еще достаточно велик, чтобы даже великий князь мог там помещаться, то ему был отведен также дом, находившийся между дворцом и нашим домом.
Мои комнаты были налево от лестницы, комнаты матери – направо; как только мать увидела это устройство, она рассердилась: во-первых, потому, что ей показалось, что мое помещение было лучше расположено, нежели ее; во-вторых, потому, что ее комнаты отделялись от моих общей залой; на самом же деле у каждой из нас было по четыре комнаты: две на улицу, две во двор дома; таким образом, комнаты были одинаковые, обтянутые голубою и красною материей, безо всякой разницы; но вот что еще больше способствовало ее гневу.
Графиня Румянцева, еще в Москве, принесла мне план этого дома, по приказанию императрицы, запрещая мне от ее имени говорить об этой присылке, советуясь со мною, как нас поместить. Выбирать было нечего, так как оба помещения были одинаковы. Я сказала это графине, которая дала мне понять, что императрица предпочитает, чтобы у меня было отдельное помещение, вместо того чтобы жить, как в Москве, в общем помещении с матерью.
Такое устройство нравилось мне тоже, потому что я была очень стеснена у матери в комнатах и что буквально интимный кружок, который она себе образовала, нравился мне тем менее, что мне было ясно как день, что эта компания никому не была по душе. Мать проведала о плане, показанном мне; она стала мне о нем говорить, и я сказала ей сущую правду, как было дело.
Она стала бранить меня за то, что я держала это в секрете; я ей сказала, что мне запретили говорить, но она нашла, что это не причина, и, вообще, я с каждым днем видела, что она все больше сердится на меня и что она почти со всеми в ссоре, так что перестала появляться к столу за обедом и ужином и велела подавать к себе в комнаты.
Что меня касается, я ходила к ней три-четыре раза в день, остальное время употребляла, чтобы изучать русский язык, играть на клавесине да покупать себе книги, так что в пятнадцать лет я жила одиноко в моей комнате и была довольно прилежна для своего возраста.
К концу нашего пребывания в Москве прибыло шведское посольство, во главе которого был сенатор Цедеркрейц. Немного времени спустя приехал еще граф Гюлленборг, чтобы объявить императрице о свадьбе Шведского наследного принца, брата матери, с принцессой Прусской.
Мы знали этого графа Гюлленборга; мы видели его в Гамбурге, куда он приезжал со многими другими шведами во время отъезда наследного принца в Швецию. Это был человек очень умный, уже немолодой, и которого мать моя очень ценила; я же была ему некоторым образом обязана, потому что в Гамбурге, видя, что мать мало или вовсе не обращает на меня внимания, он ей сказал, что она не права и что я, конечно, ребенок гораздо старше своих лет.
Прибыв в Петербург, он пришел к нам и сказал, как и в Гамбурге, что у меня философский склад ума. Он спросил, как обстоит дело с моей философией при том вихре, в котором я нахожусь; я рассказала ему, что делаю у себя в комнате.
Он мне сказал, что пятнадцатилетний философ не может еще себя знать и что я окружена столькими подводными камнями, что есть все основания бояться, как бы я о них не разбилась, если только душа моя не исключительного закала; что надо ее питать самым лучшим чтением, и для этого он рекомендовал мне «Жизнь знаменитых мужей» Плутарха, «Жизнь Цицерона» и «Причины величия и упадка Римской республики» Монтескье.
Я тотчас же послала за этими книгами, которые с трудом тогда нашли в Петербурге, и сказала ему, что набросаю ему свой портрет так, как себя понимаю, дабы он мог видеть, знаю ли я себя или нет. Действительно, я изложила на письме свой портрет, который озаглавила: «Портрет философа в пятнадцать лет», и отдала ему.
Много лет спустя, и именно в 1758 году, я снова нашла это сочинение и была удивлена глубиною знания самой себя, какое оно заключало. К несчастью, я его сожгла в том же году, во время несчастной истории графа Бестужева, со всеми другими моими бумагами, боясь сохранить у себя в комнате хоть единую. Граф Гюлленборг возвратил мне через несколько дней мое сочинение; не знаю, снял ли он с него копию.
Он сопроводил его дюжиной страниц рассуждений, сделанных обо мне, посредством которых старался укрепить во мне как возвышенность и твердость духа, так и другие качества сердца и ума. Я читала и перечитывала несколько раз его сочинение, я им прониклась и намеревалась серьезно следовать его советам. Я обещала это себе, а раз я себе обещала, не помню случая, чтобы это не исполнила. Потом я возвратила графу Гюлленборгу его сочинение, как он меня об этом просил, и, признаюсь, оно очень послужило к образованию и укреплению склада моего ума и моей души.
В начале февраля императрица вернулась с великим князем из Хотилова. Как только нам сказали, что она приехала, мы отправились к ней навстречу и увидели ее в большой зале, почти впотьмах, между четырьмя и пятью часами вечера; несмотря на это, я чуть не испугалась при виде великого князя, который очень вырос, но лицом был неузнаваем: все черты его лица огрубели, лицо еще все было распухшее, и несомненно было видно, что он останется с очень заметными следами оспы.
Так как ему остригли волосы, на нем был огромный парик, который еще больше его уродовал. Он подошел ко мне и спросил, с трудом ли я его узнала. Я пробормотала ему свое приветствие по случаю выздоровления, но в самом деле он стал ужасен.
9 февраля минуло ровно год с моего приезда к русскому двору. 10 февраля 1745 г. императрица праздновала день рождения великого князя, ему пошел семнадцатый год. Она обедала одна со мной на троне; великий князь не появлялся в публике ни в этот день, ни еще долго спустя; не спешили показывать его в том виде, в какой привела его оспа.
Императрица меня очень ласкала за этим обедом. Она мне сказала, что русские письма, которые я ей писала в Хотилово, доставили ей большое удовольствие (по правде сказать, они были сочинены Ададуровым, но я их собственноручно переписала) и что она знает, как я стараюсь изучить местный язык.
Она стала говорить со мною по-русски и пожелала, чтобы я отвечала ей на этом языке, что я и сделала, и тогда ей угодно было похвалить мое хорошее произношение. Потом она дала мне понять, что я похорошела с моей московской болезни; словом, во время всего обеда она только тем и была занята, что оказывала мне знаки своей доброты и расположения.
Я вернулась домой очень довольная этим обедом и очень счастливая, и все меня поздравляли. Императрица велела снести к ней мой портрет, начатый художником Караваком, и оставила его у себя в комнате; это тот самый, который скульптор Фальконет[31] увез с собою во Францию; я была на нем совсем живая.
Чтобы ходить к обедне или к императрице, мне с матерью приходилось проходить через покои великого князя, который жил рядом с моим помещением; вследствие этого мы часто его видели. Он приходил также по вечерам на несколько минут ко мне, но безо всякой охоты; наоборот, всегда был рад найти какой-нибудь предлог, чтобы отделаться от этого и остаться у себя, среди своих обычных ребяческих забав, о которых я уже говорила.
Через несколько времени после приезда императрицы и великого князя в Петербург у матери случилось большое огорчение, которого она не могла скрыть. Вот в чем дело. Принц Август, брат матери, написал ей в Киев, чтобы выразить ей свое желание приехать в Россию; мать знала, что эта поездка имела единственную для него цель: получить при совершеннолетии великого князя, которое хотели ускорить, управление Голштинией; иначе говоря, желание отнять опеку у старшего брата, ставшего Шведским наследным принцем, чтобы вручить управление Голштинской страной от имени совершеннолетнего великого князя принцу Августу, младшему брату матери и Шведского наследного принца.
Эта интрига была затеяна враждебной Шведскому наследному принцу голштинской партией, в союзе с датчанами, которые не могли простить этому принцу того, что он одержал в Швеции верх над Датским наследным принцем, которого далекарлийцы хотели избрать наследником Шведского престола.
Мать ответила принцу Августу, ее брату, из Козельца, что, вместо того чтобы поддаваться интригам, заставлявшим его действовать против брата, он лучше бы сделал, если бы отправился служить в Голландию, где он находился, и там бы дал себя убить с честью в бою, чем затевать заговор против своего брата и присоединяться к врагам своей сестры в России.
Под «врагами» мать подразумевала графа Бестужева, который поддерживал эту интригу, чтобы вредить Брюммеру и всем остальным друзьям Шведского наследного принца, опекуна великого князя по Голштинии. Это письмо было вскрыто и прочтено графом Бестужевым и императрицей, которая вовсе не была довольна матерью и уже очень раздражена против Шведского наследного принца, который под влиянием жены, сестры Прусского короля, дал себя вовлечь французской партии во все ее виды, совершенно противоположные русским.
Его упрекали в неблагодарности и обвиняли мать в недостатке нежности к младшему брату за то, что она ему написала о том, чтобы он дал себя убить, – выражение, которое считали жестоким и бесчеловечным, между тем как мать, в глазах друзей, хвасталась, что употребила выражение твердое и звонкое. Результатом этого всего было то, что, не обращая внимания на намерения матери, или, вернее, чтобы ее уколоть и насолить всей голштино-шведской партии, граф Бестужев получил без ведома матери позволение для принца Августа Голштинского приехать в Петербург.
Мать, узнав, что он в дороге, очень рассердилась, огорчилась и очень дурно его приняла, но он, подстрекаемый Бестужевым, держал свою линию. Убедили императрицу хорошо его принять, что она и сделала для виду; впрочем, это не продолжалось и не могло продолжаться долго, потому что принц Август сам по себе не был человеком порядочным.
Одна его внешность уже не располагала к нему: он был мал ростом и очень нескладен, недалек и крайне вспыльчив, к тому же руководим своими приближенными, которые сами ничего собой не представляли. Глупость – раз уже пошло на чистоту – ее брата очень сердила мать; словом, она была почти в отчаянии от его приезда.
Граф Бестужев, овладев посредством приближенных умом этого принца, убил разом несколько зайцев. Он не мог не знать, что великий князь так же ненавидел Брюммера, как и он; принц Август тоже его не любил, потому что он был предан Шведскому принцу.
Под предлогом родства и как голштинец этот принц так подобрался к великому князю, разговаривая с ним постоянно о Голштинии и беседуя об его будущем совершеннолетии, что тот стал сам просить тетку и графа Бестужева, чтобы постарались ускорить его совершеннолетие. Для этого нужно было согласие императора Римского, которым тогда был Карл VII из Баварского дома; но тут он умер, и это дело тянулось до избрания Франца I.
Так как принц Август был еще довольно плохо принят моею матерью и выражал ей мало почтения, то он тем самым уменьшил и то немногое уважение, которое великий князь еще сохранял к ней; с другой стороны, как принц Август, так и старые камердинеры, любимцы великого князя, боясь, вероятно, моего будущего влияния, часто говорили ему о том, как надо обходиться со своею женою; Румберг, старый шведский драгун, говорил ему, что его жена не смеет дыхнуть при нем, ни вмешиваться в его дела, и что, если она только захочет открыть рот, он приказывает ей замолчать, что он хозяин в доме, и что стыдно мужу позволять жене руководить собою, как дурачком.
Великий князь по природе умел скрывать свои тайны, как пушка свой выстрел, и, когда у него бывало что-нибудь на уме или на сердце, он прежде всего спешил рассказать это тем, с кем привык говорить, не разбирая, кому это говорит, а потому Его Императорское Высочество сам рассказал мне с места все эти разговоры при первом случае, когда меня увидел; он всегда простодушно воображал, что все согласны с его мнением и что нет ничего более естественного.
Я отнюдь не доверила этого кому бы то ни было, но не переставала серьезно задумываться над ожидавшей меня судьбой. Я решила очень бережно относиться к доверию великого князя, чтобы он мог, по крайней мере, считать меня надежным для него человеком, которому он мог все говорить, безо всяких для себя последствий; это мне долго удавалось.
Впрочем, я обходилась со всеми как могла лучше и прилагала старание приобретать дружбу или, по крайней мере, уменьшать недружелюбие тех, которых могла только заподозрить в недоброжелательном ко мне отношении; я не выказывала склонности ни к одной из сторон, ни во что не вмешивалась, имела всегда спокойный вид, была очень предупредительна, внимательна и вежлива со всеми, и так как я от природы была очень весела, то замечала с удовольствием, что с каждым днем я все больше приобретала расположение общества, которое считало меня ребенком интересным и не лишенным ума.
Я выказывала большое почтение матери, безграничную покорность императрице, отменное уважение великому князю и изыскивала со всем старанием средства приобрести расположение общества.
Императрица в Москве дала мне фрейлин и кавалеров, составлявших мой двор; немного времени спустя после ее приезда в Петербург она дала мне русских горничных, чтобы, как она говорила, облегчить мне усвоение русского языка; этим я была очень довольна, все это были молодые девушки, из которых самой старшей было около двадцати лет.
Все эти девушки были очень веселые, так что с этой минуты я то и дело пела, танцевала и резвилась в моей комнате с минуты пробуждения и до самого сна. Вечером, после ужина, я впускала к себе своих трех фрейлин: двух княжон Гагариных и девицу Кошелеву[32],– и мы играли в жмурки и в разные другие соответствующие нашему возрасту игры.
Все эти девушки смертельно боялись графини Румянцевой, но так как она играла в карты с утра до вечера в передней или у себя, вставая со стула только за своею надобностью, то она редко входила ко мне. Среди всех наших забав мне вздумалось распределить уход за моими вещами между моими женщинами: я оставила мои деньги, расход и белье на руках девицы Шенк [камер-юнгферы[33] Екатерины Алексеевны], горничной, привезенной из Германии.
Это была глупая и ворчливая старая дева, которой очень не нравилась наша веселость; кроме того, она ревновала меня ко всем своим молодым товаркам, которым приходилось разделять ее обязанности и мою привязанность.
Я отдала ключи от моих брильянтов Марии Петровне Жуковой; эта последняя, будучи умнее, веселее и откровеннее остальных, начинала уже входить ко мне в доверие. Платья я поручила моему камердинеру Тимофею Евреинову; кружева – [камер-юнгфере] девице Балк, которая потом вышла за поэта Сумарокова[34]. Ленты мои были сданы девице Скороходовой-старшей, вышедшей потом замуж за Аристарха Кашкина; младшая ее сестра, Анна, ничего не получила, потому что ей было всего лет тринадцать или четырнадцать. На другой день после установления этого чудного порядка, при котором я проявила мою полную власть в своей комнате, не испрашивая совета ни единой души, вечером было представление; чтобы туда пойти, надо было проходить через покои матери.
Императрица, великий князь и весь двор пришли туда; в манеже, служившем во времена императрицы Анны для герцога Курляндского[35], покои которого я занимала, был устроен маленький театр. После представления, когда императрица вернулась к себе, графиня Румянцева пришла в мою комнату и сказала, что императрица не одобряет того, что я распределила уход за моими вещами между моими женщинами, и что ей приказано отнять ключи от моих брильянтов из рук Жуковой и отдать Шенк, что она и сделала в моем присутствии, после чего ушла и оставила нас, Жукову и меня, с немного вытянутыми лицами, а Шенк – торжествующею от доверия, оказанного ей императрицею. Шенк стала принимать со мной вызывающий вид, что делало ее еще глупее и менее приятной, чем когда-либо.
На первой неделе Великого поста у меня была очень странная сцена с великим князем. Утром, когда я была в своей комнате со своими женщинами, которые все были очень набожны, и слушала утреню, которую служили у меня в передней, ко мне явилось посольство от великого князя; он прислал мне своего карлу с поручением спросить у меня, как мое здоровье, и сказать, что ввиду Поста он не придет в этот день ко мне.
Карла застал нас всех слушающими молитвы и точно исполняющими предписания Поста, по нашему обряду. Я ответила великому князю через карлу обычным приветствием, и он ушел.
Карла, вернувшись в комнату своего хозяина, – потому ли, что он действительно проникся уважением к тому, что он видел, или потому, что он хотел посоветовать своему дорогому владыке и хозяину, который был менее всего набожен, делать то же, или просто по легкомыслию, – стал расхваливать набожность, царившую у меня в комнатах, и этим вызвал в нем дурное против меня расположение духа.
В первый раз, как я увидела великого князя, он начал с того, что надулся на меня; когда я спросила, какая тому причина, он стал очень меня бранить за излишнюю набожность, в которую, по его мнению, я впала. Я спросила, кто это ему сказал. Тогда он мне назвал своего карлу как свидетеля-очевидца.
Я сказала ему, что не делала больше того, что требовалось и чему все подчинялись и от чего нельзя было уклониться без скандала; но он был противного мнения. Этот спор кончился, как и большинство споров кончаются, то есть тем, что каждый остался при своем мнении, и Его Императорское Высочество, не имея за обедней никого другого, с кем бы поговорить, кроме меня, понемногу перестал на меня дуться.
Два дня спустя случилась другая тревога. Утром, в то время как у меня служили заутреню, девица Шенк, растерянная, вошла ко мне и сказала, что с матерью нехорошо, что она в обмороке; я тотчас же побежала туда и нашла ее лежащей на полу, на матраце, но уже очнувшейся. Я позволила себе спросить, что с нею; она мне сказала, что хотела пустить себе кровь, но что хирург был настолько неловок, что промахнулся четыре раза и на обеих руках, и на обеих ногах, и что она упала в обморок.
Я знала, что она, впрочем, боится кровопускания, но я не знала, что она имела намерение пустить себе кровь, ни того даже, что это ей было нужно; однако она стала меня упрекать, что я не принимаю участия в ее состоянии, и наговорила мне кучу неприятных вещей по этому поводу. Я извинялась, как могла, сознаваясь в своем неведении, но, видя, что она очень сердится, я замолчала и старалась удержать слезы и ушла только тогда, когда она мне это приказала с явной досадой.
Когда я вернулась в слезах к себе в комнату, женщины мои хотели узнать тому причину, которую я им попросту и объяснила. Я ходила несколько раз в день в покои матери и оставалась там сколько нужно, чтобы не быть ей в тягость; в отношении к ней это было весьма существенно, и к этому я так привыкла, что нет ничего, чего бы я так избегала в моей жизни, как быть в тягость, и всегда удалялась в ту минуту, когда у меня в уме зарождалось подозрение, что я могу быть в тягость и, следовательно, нагонять тоску.
Но знаю по опыту, что не все держатся этого правила, потому что мое терпение часто подвергали испытанию те, кто не умеет уйти прежде, чем сделаться в тягость или нагнать тоску.
Потом мать испытала очень существенное огорчение. Она получила известие в минуту, когда всего менее его ожидала, что ее дочь, моя младшая сестра Елисавета, умерла внезапно, когда ей было года три-четыре. Она этим была очень опечалена, я тоже ее оплакивала.
Несколько дней спустя, в одно прекрасное утро, императрица вошла ко мне в комнату. Она послала за матерью и вошла с нею в мою уборную, где они обе наедине имели длинный разговор, после которого они возвратились в мою спальню, и я увидела, что у матери глаза очень красные и в слезах, вследствие разговора. Я поняла, что у них был поднят вопрос о последовавшей кончине Карла VII, императора из Баварского дома, о чем императрица только что получила известие.
Императрица еще не была тогда в союзе, и она колебалась между союзом с королем Прусским и Австрийским домом, из коих каждый имел своих сторонников; императрица имела одинаковые поводы к неудовольствию против Австрийского дома и против Франции, к которой тяготел Прусский король, и если маркиз Ботта[36], посланник Венского двора, был отослан из России за дурные разговоры насчет императрицы, что в свое время постарались свести на заговор, то и маркиз де ла Шетарди был изгнан на тех же основаниях.
Не знаю цели этого разговора; но мать, казалось, возложила на него большие надежды и вышла очень довольная; она вовсе не склонялась тогда на сторону Австрийского дома; что меня касается, во всем этом я была зрителем очень безучастным, очень осторожным и почти равнодушным. После Пасхи, когда весна установилась, я выразила графине Румянцевой желание учиться ездить верхом; она получила на это для меня разрешение императрицы; к концу года у меня начались боли в груди после плеврита, который у меня был по приезде в Москву, и я продолжала быть очень худой; доктора посоветовали мне пить каждое утро молоко с сельтерской водой.
Я взяла мой первый урок верховой езды на даче графини Румянцевой, в казармах Измайловского полка; я уже несколько раз ездила верхом в Москве, но очень плохо. В мае месяце императрица с великим князем переехала на жительство в Летний дворец; нам с матерью отвели для житья каменное строение, находившееся тогда вдоль Фонтанки и прилегавшее к дому Петра I.
Мать жила в одной стороне этого здания, я – в другой. Тут кончились частые посещения великого князя. Он велел одному слуге прямо сказать мне, что живет слишком далеко от меня, чтобы часто приходить ко мне; я отлично почувствовала, как он мало занят мною и как мало я любима; мое самолюбие и тщеславие страдали от этого втайне, но я была слишком горда, чтобы жаловаться; я считала бы себя униженной, если бы мне выразили участие, которое я могла бы принять за жалость.
Однако, когда я была одна, я заливалась слезами, отирала их потихоньку и шла потом резвиться с моими женщинами. Мать тоже обращалась со мной очень холодно и церемонно; но я не упускала случая ходить к ней несколько раз в день; в душе я очень тосковала, но остерегалась говорить об этом. Однако Жукова заметила как-то мои слезы и сказала мне об этом; я привела наилучшие основания, не высказывая ей истинных.
Я больше чем когда-либо старалась приобрести привязанность всех вообще, от мала до велика; я никем не пренебрегала со своей стороны и поставила себе за правило считать, что мне все нужны, и поступать сообразно с этим, чтобы снискать себе всеобщее благорасположение, в чем и успела.
После нескольких недель пребывания в Летнем дворце, где стали говорить о приготовлениях к моей свадьбе, двор переехал на житье в Петергоф, где он больше был в сборе, нежели в городе. Императрица и великий князь жили наверху в доме, который выстроил Петр I; мы с матерью – внизу, под комнатами великого князя; мы обедали с ним каждый день под парусным навесом на открытой галерее, прилегающей к его комнате; он ужинал у нас. Императрица была часто в отъезде, разъезжая то туда, то сюда по разным принадлежавшим ей дачам.
Мы делали частые прогулки пешком, верхом и в карете. Мне тут стало ясно как день, что все приближенные великого князя, а именно его воспитатели, утратили над ним всякое влияние и авторитет; свои военные игры, которые он раньше скрывал, теперь он производил чуть ли не в их присутствии.
Граф Брюммер и старший воспитатель видели его почти только на публике, находясь в его свите. Остальное время он буквально проводил в обществе своих слуг, в ребячествах, неслыханных в его возрасте, так как он играл в куклы. Мать пользовалась отсутствием императрицы, чтобы ездить ужинать на окрестные дачи, а именно к принцу и принцессе Гессен-Гомбургским.
Однажды вечером, когда она отправилась туда верхом, а я сидела после ужина в своей комнате, которая была вровень с садом и одна из дверей которой туда выходила, я соблазнилась чудной погодой и предложила своим женщинам и трем фрейлинам пойти прогуляться по саду.
Мне нетрудно было их убедить; нас было восьмеро, мой камердинер – девятый и двое других лакеев, которые следовали за нами; мы прогуляли до полуночи самым невинным образом; когда мать вернулась, Шенк, которая отказалась идти гулять с нами, ворча против придуманной нами прогулки, поспешила пойти сказать матери, что я пошла гулять, несмотря на ее доводы.
Мать легла, и, когда я вернулась со всей своей компанией, Шенк сказала мне с торжествующим видом, что мать два раза посылала узнавать, вернулась ли я, потому что ей надо было со мной поговорить, и так как было очень поздно и она очень устала дожидаться меня, то она легла; я хотела тотчас же бежать к матери, но дверь ее оказалась запертой.
Я сказала Шенк, что она могла бы велеть позвать меня; она уверяла, что не нашла бы нас, но все это были только ее штуки, чтобы поссориться со мной, дабы меня побранить; я это отлично чувствовала и легла спать с большим беспокойством относительно завтрашнего дня. Как только я проснулась, я пошла к матери, которую нашла в постели; я хотела подойти, чтоб поцеловать ей руку, но она отдернула ее с большим гневом и страшно стала меня бранить за то, что я посмела гулять вечером без ее позволения.
Я ей сказала, что ее не было дома. Она назвала час неурочным, и, не знаю, чего только она ни выдумывала, чтобы огорчить меня, – вероятно, с целью отбить у меня охоту к ночным прогулкам; но что было верного, так это то, что прогулка эта могла быть неосторожностью, но что она была невиннейшей на свете.
Что меня больше всего огорчило, так это обвинение в том, что мы поднимались в покои великого князя. Я сказала ей, что это гнусная клевета, на что она так рассердилась, что казалась вне себя. Хоть я и встала на колени, чтобы смягчить ее гнев, но она назвала мою покорность комедией и выгнала меня вон из комнаты. Я вернулась к себе в слезах; в час обеда я поднялась с матерью, все еще очень сердитой, наверх, в покои великого князя, который спросил, что со мною, потому что у меня красные глаза.
Я ему правдиво рассказала, что произошло; он взял на этот раз мою сторону и стал обвинять мою мать в капризах и вспышках; я просила его не говорить ей об этом, что он и сделал, и мало-помалу гнев ее прошел, но она со мной все так же холодно обходилась.
Из Петергофа, к концу июля, мы вернулись в город, где все приготовлялось к празднованию нашей свадьбы. Наконец, 21 августа было назначено императрицей для этой церемонии. По мере того как этот день приближался, моя грусть становилась все более и более глубокой, сердце не предвещало мне большого счастья, одно честолюбие меня поддерживало; в глубине души у меня было что-то, что не позволяло мне сомневаться ни минуты в том, что рано или поздно мне самой по себе удастся стать самодержавной русской императрицей.
Свадьба была отпразднована с большой пышностью и великолепием. Вечером я нашла в своих покоях [Марию] Крузе, сестру старшей камер-фрау императрицы, которая поместила ее ко мне в качестве старшей камер-фрау. На следующий же день я заметила, что эта женщина приводила в ужас всех остальных моих женщин, потому что, когда я хотела приблизиться к одной из них, чтобы по обыкновению поговорить с ней, она мне сказала: «Бога ради, не подходите ко мне, нам запрещено говорить с вами вполголоса».
С другой стороны, мой милый супруг вовсе не занимался мною, но постоянно играл со своими слугами в солдаты, делая им в своей комнате ученья и меняя по двадцати раз на дню свой мундир. Я зевала, скучала, потому что не с кем было говорить или же я была на выходах.
На третий день моей свадьбы, который должен был быть днем отдыха, графиня Румянцева прислала мне сказать, что императрица уволила ее от должности при мне и что она возвратится жить к себе домой с мужем и детьми. Об этом ни я, да и никто другой не очень сожалели, потому что она подавала повод ко многим пересудам.
Свадебные торжества продолжались десять дней, по истечении коих мы с великим князем переехали на житье в Летний дворец, где жила императрица, и начали поговаривать об отъезде матери, которую я со своей свадьбы не каждый день видела, но которая очень смягчилась по отношению ко мне в это время.
К концу сентября она уехала, мы с великим князем проводили ее до Красного Села; ее отъездом я очень искренне огорчилась, я много плакала; когда она уехала, мы вернулись в город. Возвратившись в Летний дворец, я велела позвать свою девушку Жукову; мне сказали, что она пошла к своей матери, которая захворала; на следующий день утром: тот же вопрос с моей стороны – тот же ответ со стороны моих женщин.
Около полудня императрица переехала с большою пышностью из летнего жилища в зимнее; мы последовали за ней в ее покои. Прибыв в свою парадную опочивальную, она там остановилась и после нескольких незначительных слов стала говорить об отъезде моей матери; казалось, ласково сказала мне по этому поводу, чтобы я умерила свое огорчение, но каково было мое изумление, когда она мне сказала громко, в присутствии человек тридцати, что по просьбе моей матери она удалила от меня Жукову, потому что мать боялась, чтобы я не привязалась слишком к особе, которая этого так мало заслуживает, и после этого стала поносить бедную Жукову с заметной злобой.
По правде говоря, я ничего не поняла из этой сцены и не была убеждена в том, что утверждала императрица, но была глубоко огорчена несчастьем Жуковой, удаленной от дворца единственно за то, что она за свой общительный характер нравилась мне больше, чем другие мои женщины; ибо, говорила я про себя, зачем же ее поместили ко мне, если она не была того достойна; мать не могла ее знать, так как не могла с ней даже говорить, не зная по-русски, а Жукова не знала другого языка.
Мать могла только полагаться на вздорные россказни Шенк, у которой даже не было здравого смысла; эта девушка страдает из-за меня, следовательно, не надо покидать ее в ее несчастии, коего единственная причина – моя привязанность к ней.
Я никогда не могла выяснить, действительно ли мать просила императрицу удалить от меня эту особу; если это так, то мать предпочла насильственные пути мирным, потому что никогда рта не открывала относительно этой девушки; а между тем одного слова с ее стороны было бы достаточно, чтоб остеречь меня против привязанности, в конце концов, очень невинной; с другой стороны, императрица могла тоже приняться за это дело не столь круто: эта девушка была молода, стоило только подыскать ей подходящую партию, что было бы очень легко, а вместо того поступила, как я только что рассказала.
Когда императрица нас отпустила, мы с великим князем прошли в наши покои. По дороге я увидала, что то, что императрица сказала, расположило ее племянника в пользу того, что только что было сделано; я высказала ему свои возражения по этому поводу и дала почувствовать, что эта девушка несчастна исключительно потому, что предполагали, что я имела к ней пристрастие, и что, так как она страдала ради меня, то я считала себя вправе не покидать ее.
Насколько это будет, по крайней мере, от меня зависеть. Действительно, я послала ей тотчас же со своим камердинером денег, но он мне сказал, что она уже уехала со своей матерью в Москву; я приказала послать ей то, что я ей назначила, через ее брата, сержанта гвардии; пришли мне сказать, что этот человек с женою получили приказание также уехать и что его перевели офицером в один из полевых полков.
В настоящее время мне трудно найти всему этому сколько-нибудь уважительную причину, и мне кажется, что это значило зря делать зло из прихоти, без малейшего основания и даже без повода.
Но дело на этом не стало: через своего камердинера и через других своих людей я старалась отыскать для Жуковой какую-нибудь приличную партию; мне предложили одного, гвардии сержанта, дворянина, имевшего некоторое состояние, по имени Травин; он поехал в Москву, чтоб на ней жениться, если ей понравится; она приняла его предложение, его сделали поручиком в одном полевом полку; как только императрица это узнала, она сослала их в Астрахань. Этому преследованию еще труднее найти основания.
В Зимнем дворце мы помещались, великий князь и я, в покоях, которые послужили для моей свадьбы; покои великого князя были отделены от моих громадной лестницей, которая также вела в покои императрицы; чтобы идти к нему, нужно было проходить через крыльцо этой лестницы, что не было очень-то удобно, особенно зимою; однако и он, и я делали этот путь много раз на дню; вечером я ходила играть на бильярде в передней с обер-камергером Берхгольцем, между тем как великий князь резвился в другой комнате со своими кавалерами. Мои партии на бильярде были прерваны удалением Брюммера и Берхгольца, уволенных императрицею от великого князя к концу зимы, которая прошла в маскарадах в главных домах города, кои тогда были очень малы. На них обыкновенно присутствовали весь двор и весь город.
Последний маскарад был дан обер-полицмейстером Татищевым[37] в доме, принадлежавшем императрице и называвшемся Смольным дворцом; середина этого деревянного дома была уничтожена пожаром, оставались одни флигеля, которые были в два этажа; в одном танцевали, но, чтобы идти ужинать, нас заставили пройти, в январе месяце, через двор по снегу; после ужина надо было опять проделать тот же путь.
Великий князь, вернувшись домой, лег, но на следующий день проснулся с сильной головной болью, из-за которой не мог встать. Я послала за докторами, которые объявили, что это была жесточайшая горячка; его перенесли с моей постели в мою приемную и, пустив ему кровь, уложили в кровать, которую для этого тут же поставили.
Ему было очень худо; ему не раз пускали кровь; императрица навещала его несколько раз на дню и, видя у меня на глазах слезы, была мне за них признательна. Однажды, когда я читала вечерние молитвы в маленькой молельне, находившейся возле моей уборной, вошла ко мне госпожа Измайлова[38], которую императрица очень любила.
Она мне сказала, что императрица, зная, как я опечалена болезнью великого князя, прислала ее сказать мне, чтобы я надеялась на Бога, не огорчалась, и что она ни в коем случае меня не оставит. Измайлова спросила, что я читаю, я ей сказала: вечерние молитвы; она взяла мою книгу и сказала, что я испорчу себе глаза, читая при свечке такой мелкий шрифт.
После этого я попросила ее поблагодарить Ее Императорское Величество за ее милости ко мне, и мы расстались очень дружелюбно; она пошла передать императрице мое поручение, а я – ложиться спать. На следующий день императрица прислала мне молитвенник, напечатанный крупными буквами, чтобы сберечь мне глаза, как она говорила.
В комнату великого князя, в ту, куда его поместили, хоть и смежную с моей, я входила только тогда, когда не считала себя лишней, ибо я заметила, что ему не слишком-то много дела до того, чтобы я была тут, и что он предпочитал оставаться со своими приближенными, которых я, по правде, тоже не любила; впрочем, я еще не привыкла проводить время совсем одна среди мужчин.
Между тем наступил Великий пост, я говела на первой неделе; вообще у меня было тогда расположение к набожности. Я очень хорошо видела, что великий князь меня совсем не любит; через две недели после свадьбы он мне сказал, что влюблен в девицу Карр [Екатерину Алексеевну], фрейлину императрицы, вышедшую потом замуж за одного из князей Голицыных, шталмейстера императрицы. Он сказал графу Дивьеру[39], своему камергеру, что не было и сравнения между этой девицей и мною.
Дивьер утверждал обратное, и он на него рассердился; эта сцена происходила почти в моем присутствии, и я видела эту ссору. Правду сказать, я говорила самой себе, что с этим человеком я непременно буду очень несчастной, если и поддамся чувству любви к нему, за которое так плохо платили, и что будет с чего умереть от ревности безо всякой для кого бы то ни было пользы.
Итак, я старалась из самолюбия заставить себя не ревновать к человеку, который меня не любит, но, чтобы не ревновать его, не было иного средства, как не любить его. Если бы он хотел быть любимым, это было бы для меня нетрудно: я от природы была склонна и привычна исполнять свои обязанности, но для этого мне нужно было бы иметь мужа со здравым смыслом, а у моего этого не было.
Я постилась первую неделю Великого поста; императрица велела мне сказать в субботу, что я доставлю ей удовольствие, если буду поститься и вторую неделю; я велела ответить Ее Императорскому Величеству, что прошу ее разрешить мне поститься весь Пост.
Гофмаршал императрицы Сиверс [Карл Ефимович], зять Крузе, который передавал эти слова, сказал мне, что императрица получила от этой просьбы истинное удовольствие и что она мне это разрешает.
Когда великий князь узнал, что я все постничаю, он стал меня бранить; я сказала ему, что не могу поступать иначе; когда ему стало лучше, он еще долго разыгрывал больного, чтобы не выходить из комнаты, где ему больше нравилось быть, чем на придворных выходах. Он вышел только в последнюю неделю Поста, когда и говел. После Пасхи он устроил театр марионеток в своей комнате и приглашал туда гостей и даже дам. Эти спектакли были глупейшею вещью на свете.
В комнате, где находился театр, одна дверь была заколочена, потому что эта дверь выходила в комнату, составлявшую часть покоев императрицы, где был стол с подъемной машиной, который можно было поднимать и опускать, чтобы обедать без прислуги.
Однажды великий князь, находясь в своей комнате за приготовлениями к своему так называемому спектаклю, услышал разговор в соседней комнате и, так как он обладал легкомысленной живостью, взял от своего театра плотничий инструмент, которым обыкновенно просверливают дыры в досках, и понаделал дыр в заколоченной двери, так что увидел все, что там происходило, а именно, как обедала императрица, как обедал с нею обер-егермейстер Разумовский в парчовом шлафроке, – он в этот день принимал лекарство, – и еще человек двенадцать из наиболее доверенных императрицы.
Его Императорское Высочество, не довольствуясь тем, что сам наслаждается плодом своих искусных трудов, позвал всех, кто был вокруг него, чтобы и им дать насладиться удовольствием посмотреть в дырки, которые он так искусно проделал. Он сделал еще больше: когда он сам и все те, которые были возле него, насытили свои глаза этим нескромным удовольствием, он явился пригласить Крузе, меня и моих женщин зайти к нему, дабы посмотреть нечто, что мы никогда не видели.
Он нам не сказал, что это было такое, вероятно, чтобы сделать нам приятный сюрприз. Так как я не так спешила, как ему того хотелось, то он увел Крузе и моих женщин; я пришла последней и увидела их расположившимися у этой двери, где он наставил скамеек, стульев, скамеечек, – для удобства зрителей, как он говорил.
Войдя, я спросила, что это было такое, он побежал ко мне навстречу и сказал мне, в чем дело; меня так испугала и возмутила его дерзость, и я сказала ему, что я не хочу ни смотреть, ни участвовать в таком скандале, который, конечно, причинит ему большие неприятности, если тетка узнает, и что трудно, чтобы она этого не узнала, потому что он посвятил, по крайней мере, двадцать человек в свой секрет; все, кто соблазнился посмотреть через дверь, видя, что я не хочу делать того же, стали друг за дружкой выходить из комнаты; великому князю самому стало немного неловко от того, что он наделал, и он снова принялся за работу для своего кукольного театра, а я пошла к себе.
До воскресенья мы не слышали никаких разговоров, но в этот день, не знаю, как это случилось, я пришла к обедне позже обыкновенного; вернувшись в свою комнату, я собиралась снять свое придворное платье, когда увидела, что идет императрица с очень разгневанным видом и немного красная; так как она не была за обедней в придворной церкви, а присутствовала при богослужении в своей малой домашней церкви, то я, как только ее увидела, пошла по обыкновению к ней навстречу, не видав ее еще в этот день, поцеловать ей руку; она меня поцеловала, приказала позвать великого князя, а пока побранила за то, что я опаздываю к обедне и оказываю предпочтение нарядам перед Господом Богом; она прибавила, что во времена императрицы Анны, хоть она и не жила при дворе, но в своем доме, довольно отдаленном от дворца, никогда не нарушала своих обязанностей, что часто для этого вставала при свечах; потом она велела позвать моего камердинера-парикмахера и сказала ему, что если он впредь будет причесывать меня с такою медлительностью, то она его прогонит; когда она с ним покончила, великий князь, который разделся в своей комнате, пришел в шлафроке и с ночным колпаком в руке, с веселым и развязным видом, и подбежал к руке императрицы, которая поцеловала его и начала тем, что спросила, откуда у него хватило смелости сделать то, что он сделал; затем сказала, что она вошла в комнату, где была машина, и увидела дверь, всю просверленную; что все эти дырки были направлены к тому месту, где она сидит обыкновенно; что, верно, делая это, он позабыл все, чем ей обязан; что она не может смотреть на него иначе, как на неблагодарного; что отец ее, Петр I, имел тоже неблагодарного сына; что он наказал его, лишив его наследства; что во времена императрицы Анны она всегда выказывала ей уважение, подобающее венчанной главе и помазаннице Божией; что эта императрица не любила шутить и сажала в крепость тех, кто не оказывал ей уважения; что он мальчишка, которого она сумеет проучить.
Тут он начал сердиться и хотел ей возражать, для чего и пробормотал несколько слов, но она приказала ему молчать и так разъярилась, что не знала уже меры своему гневу, что с ней обыкновенно случалось, когда она сердилась, и наговорила ему обидных и оскорбительных вещей, выказывая ему столько же презрения, сколько гнева.
Мы остолбенели и были смущены оба, и, хотя эта сцена не относилась прямо ко мне, у меня слезы выступили на глаза; она заметила это и сказала мне: «То, что я говорю, к вам не относится; я знаю, что вы не принимали участия в том, что он сделал, и что вы не подсматривали и не хотели подсматривать через дверь».
Это справедливо выведенное ею заключение успокоило ее немного, и она замолчала; правда, трудно было прибавить еще что-нибудь к тому, что она только что сказала; после чего она нам поклонилась и ушла к себе очень раскрасневшаяся и со сверкающими глазами.
Великий князь пошел к себе, а я стала молча снимать платье, раздумывая обо всем, только что слышанном. Когда я разделась, великий князь пришел ко мне и сказал тоном, наполовину смущенным, наполовину насмешливым: «Она была, точно фурия, и не знала, что говорит». Я ему ответила: «Она была в чрезвычайном гневе». Мы перебрали с ним только что слышанное, затем отобедали лишь вдвоем у меня в комнате.
Когда великий князь ушел к себе, Крузе вошла ко мне и сказала: «Надо признаться, что императрица поступила сегодня, как истинная мать!» Я видела, что ей хотелось вызвать меня на разговор, и потому молчала. Она сказала: «Мать сердится и бранит детей, а потом это проходит; вы должны были бы сказать ей оба: «Виноваты, матушка», и вы бы ее обезоружили».
Я ей сказала, что была смущена и изумлена гневом Ее Величества, и что все, что я могла сделать в ту минуту, так это лишь слушать и молчать. Она ушла от меня, вероятно, чтобы сделать свой доклад. Что касается меня, то слова «виноваты, матушка» как средство, чтобы обезоружить гнев императрицы, запали мне в голову, и с тех пор я пользовалась ими при случае с успехом, как будет видно дальше.
За несколько времени перед тем, как императрица отставила графа Брюммера и обер-камергера Берхгольца от занимаемых ими при великом князе должностей, однажды, когда я вышла утром ранее обыкновенного в переднюю, первый из них, находясь там как бы наедине, воспользовался случаем поговорить со мною и стал просить и заклинать, чтобы я ходила каждое утро в уборную императрицы, так как мать моя, перед отъездом, добыла на то для меня разрешение – преимущество, которым я очень мало пользовалась до сих пор, потому что это преимущество мне надоедало; я ходила туда раз или два, заставала там женщин императрицы, которые мало-помалу удалялись, так что я оставалась одна; я ему сказала это; он мне ответил, что это ничего не значит, что надо продолжать.
По правде говоря, я ничего не понимала в этой настойчивости царедворца; это могло служить для его целей, но ни к чему не могло послужить мне, если бы я торчала в уборной императрицы, да еще была бы ей в тягость. Я высказала графу Брюммеру свое отвращение, но он сделал все, что мог, чтобы меня убедить, но безуспешно.
Мне больше нравилось быть в своих покоях, и особенно, когда Крузе там не было. Я открыла в ней нынешней зимою очень определенную слабость к вину, и так как она вскоре выдала свою дочь за гофмаршала Сиверса, то или она постоянно уходила, или мои люди находили способы ее напаивать, затем она шла спать, что освобождало мою комнату от этого сварливого Аргуса[40].
Так как граф Брюммер и обер-камергер Берхгольц были отставлены от должностей при великом князе, то императрица назначила состоять при великом князе генерала Василия Репнина[41]. Это назначение было, конечно, наилучшим, что только могла сделать императрица, потому что князь Репнин не только был человек порядочный и честный, но также очень умный и благородный, с душой чистой и искренней.
Лично в глубине души я могла быть лишь очень довольна обхождением князя Репнина; что касается графа Брюммера, то я о нем не очень-то жалела; он мне надоедал своими вечными разговорами о политике, которые отзывались интригой, тогда как открытый и военный характер князя Репнина внушал мне доверие.
Что касается великого князя, то он был в восторге, что отделался от своих педагогов, которых ненавидел; однако последние, покидая его, порядком напугали его тем, что оставляли его на произвол интриг графа Бестужева, который был главной пружиной всех тех перемен, какие под благовидным предлогом совершеннолетия Его Императорского Высочества производились в его Голштинском герцогстве; принц Август, мой дядя, все еще был в Петербурге и подкарауливал управление наследственным владением великого князя.
В мае месяце мы перешли в Летний дворец; в конце мая императрица приставила ко мне главной надзирательницей Чоглокову[42], одну из своих статс-дам и свою родственницу; это меня как громом поразило; эта дама была совершенно предана графу Бестужеву, очень грубая, злая, капризная и очень корыстная.
Ее муж[43], камергер императрицы, уехал тогда, не знаю с каким-то поручением, в Вену; я много плакала, видя, как она переезжает, и также во весь остальной день; на следующий день мне должны были пустить кровь. Утром, до кровопускания, императрица вошла в мою комнату, и, видя, что у меня красные глаза, она мне сказала, что молодые жены, которые не любят своих мужей, всегда плачут, что мать моя, однако, уверяла ее, что мне не был противен брак с великим князем, что, впрочем, она меня к тому бы не принуждала, а раз я замужем, то не надо больше плакать.
Я вспомнила наставление Крузе и сказала: «Виновата, матушка», и она успокоилась. Тем временем пришел великий князь, с которым она на этот раз ласково поздоровалась, затем она ушла. Мне пустили кровь, в чем я в ту пору очень нуждалась. На следующий день великий князь отвел меня днем в сторону, и я ясно увидала, что ему дали понять, что Чоглокова приставлена ко мне, потому что я не люблю его, великого князя; но я не понимаю, как могли думать об усилении моей нежности к нему тем, что дали мне эту женщину; я ему это и сказала.
Чтобы служить мне Аргусом, – это другое дело; впрочем, для этой цели надо было бы выбрать менее глупую, и, конечно, для этой должности недостаточно было быть злой и неблагожелательной; Чоглокову считали чрезвычайно добродетельной, потому что тогда она любила своего мужа до обожания; она вышла за него замуж по любви; такой прекрасный пример, какой мне выставляли напоказ, должен был, вероятно, убедить меня делать то же самое.
Увидим, как это удалось. Вот что, по-видимому, ускорило это событие, я говорю «ускорило», потому что, думаю, с самого начала граф Бестужев имел всегда в виду окружать нас своими приверженцами; он очень бы хотел сделать то же и с приближенными Ее Императорского Величества, но там дело было труднее.
Великий князь имел, при моем приезде в Москву, в своих покоях троих лакеев, по имени Чернышевых[44], все трое были сыновьями гренадеров лейб-компании императрицы; эти последние были поручиками, в чине, который императрица пожаловала им в награду за то, что они возвели ее на престол. Старший из Чернышевых приходился двоюродным братом остальным двоим, которые были братьями родными.
Великий князь очень любил их всех троих; они были самые близкие ему люди, и, действительно, они были очень услужливы, все трое рослые и стройные, особенно старший. Великий князь пользовался последним для всех своих поручений и несколько раз в день посылал его ко мне. Ему же он доверялся, когда не хотелось идти ко мне. Этот человек был очень дружен и близок с моим камердинером Евреиновым, и часто я знала этим путем, что иначе оставалось бы мне неизвестным.
Оба были мне действительно преданы сердцем и душою, и часто я добывала через них сведения, которые мне было бы трудно приобрести иначе, о множестве вещей. Не знаю, по какому поводу старший Чернышев сказал однажды великому князю, говоря обо мне: «Ведь она не моя невеста, а ваша». Эти слова насмешили великого князя, который мне это рассказал, и с той минуты Его Императорскому Высочеству угодно было называть меня «его невеста», а Андрея Чернышева, говоря о нем со мною, он называл «ваш жених».
Андрей Чернышев, чтобы прекратить эти шутки, предложил Его Императорскому Высочеству, после нашей свадьбы, называть меня «матушка», а я стала называть его «сынок», но так как и между мною, и великим князем постоянно шла речь об этом «сынке», ибо великий князь дорожил им как зеницей ока, и так как и я тоже очень его любила, то мои люди забеспокоились: одни из ревности, другие – из страха за последствия, которые могут из этого выйти и для них, и для нас.
Однажды, когда был маскарад при дворе, а я вошла к себе, чтобы переодеться, мой камердинер Тимофей Евреинов отозвал меня и сказал, что он и все мои люди испуганы опасностью, к которой я, видимо для них, стремлюсь. Я его спросила, что бы это могло быть; он мне сказал: «Вы только и говорите про Андрея Чернышева и заняты им». – «Ну так, что же, – сказала я в невинности сердца, – какая в том беда; это мой сынок; великий князь любит его так же, и больше, чем я, и он к нам привязан и нам верен».
– «Да, – отвечал он мне, – это правда; великий князь может поступать, как ему угодно, но вы не имеете того же права; что вы называете добротой и привязанностью, ибо этот человек вам верен и вам служит, ваши люди называют любовью». Когда он произнес это слово, которое мне и в голову не приходило, я была как громом поражена – и мнением моих людей, которое я считала дерзким, и состоянием, в котором я находилась, сама того не подозревая.
Он сказал мне, что посоветовал своему другу Андрею Чернышеву сказаться больным, чтобы прекратить эти разговоры; Чернышев последовал совету Евреинова, и болезнь его продолжалась приблизительно до апреля месяца. Великий князь очень был занят болезнью этого человека и продолжал говорить мне о нем, не зная ничего об этом.
В Летнем дворце Андрей Чернышев снова появился; я не могла больше видеть его без смущения. Между тем императрица нашла нужным по-новому распределить камер-лакеев: они служили во всех комнатах по очереди, и, следовательно, Андрей Чернышев, как и другие.
Великий князь часто тогда давал концерты днем; в них он сам играл на скрипке. На одном из этих концертов, на которых я обыкновенно скучала, я пошла к себе в комнату; эта комната выходила в большую залу Летнего дворца, в которой тогда раскрашивали потолок и которая была вся в лесах.
Императрица была в отсутствии, Крузе уехала к дочери, к Сиверс; я не нашла ни души в моей комнате. От скуки я открыла дверь залы и увидала на противоположном конце Андрея Чернышева; я сделала ему знак, чтобы он подошел; он приблизился к двери; по правде говоря, с большим страхом, я его спросила: «Скоро ли вернется императрица?»
Он мне сказал: «Я не могу с вами говорить, слишком шумят в зале, впустите меня к себе в комнату». Я ему ответила: «Этого-то я и не сделаю». Он был тогда снаружи перед дверью, а я за дверью, держа ее полуоткрытой и так с ним разговаривая. Невольное движение заставило меня повернуть голову в сторону, противоположную двери, возле которой я стояла.
Я увидела позади себя, у другой двери моей уборной, камергера графа Дивьера, который мне сказал: «Великий князь просит Ваше Высочество». Я закрыла дверь залы и вернулась с Дивьером в комнату, где у великого князя шел концерт. Я узнала впоследствии, что граф Дивьер был своего рода доносчиком, на которого была возложена эта обязанность, как на многих вокруг нас.
На следующий день затем, в воскресенье, мы с великим князем узнали, что все трое Чернышевых были сделаны поручиками в полках, находившихся возле Оренбурга, а днем Чоглокова была приставлена ко мне.
Немного дней спустя нам было приказано готовиться сопутствовать императрице в Ревель. В то же время Чоглокова пришла мне сказать от имени Ее Императорского Величества, что она меня освобождает впредь от посещения ее уборной и что когда мне нужно будет сказать ей что-нибудь, то – делать это не иначе, как через Чоглокову.
В сущности, я была в восторге от этого приказания, которое освобождало меня от необходимости торчать среди женщин императрицы; впрочем, я не часто туда ходила и видела Ее Величество очень редко: с тех пор как я имела к ней вход, она показывалась мне всего три-четыре раза, и обыкновенно все женщины понемногу, одна за другой, выходили из комнаты, когда я туда входила; чтобы не быть там одной, я тоже недолго оставалась. В июне императрица поехала в Ревель, и мы ей сопутствовали.
Мы с великим князем ехали в четырехместной карете, принц Август и Чоглокова ехали вместе с нами. Способ нашего путешествия был и неприятен, и неудобен. Почтовые дома, или станции, занимала императрица; что же нас касается, то давали нам палатки или помещали нас в службах. Помню, что однажды, во время этого путешествия, я одевалась возле печи, где только что испекли хлебы, и что другой раз – в палатке, где поставили мою кровать, было на полфута воды, когда я туда вошла.
Кроме того, так как у императрицы не было никакого определенного часа ни для еды, ни для отдыха, то все мы были измучены, как господа, так и слуги. Наконец, после десяти или двенадцати дней езды мы приехали в имение графа Стенбока, в 40 верстах от Ревеля, откуда императрица выехала с большою торжественностью, желая прибыть днем в Екатериненталь[45]; но не знаю, как случилось, что ехали до половины второго ночи.
Во время всего путешествия из Петербурга в Ревель Чоглокова надоедала нам и была отчаянием нашей кареты; на малейший пустяк, какой высказывали, она возражала словами: «Такой разговор не был бы угоден Ее Величеству», или: «Это не было бы одобрено императрицей», иногда и самым невинным и безразличным вещам она навязывала подобный этикет. Что меня касается, я покорилась этому и всю дорогу лишь спала в карете.
На следующий день нашего приезда в Екатериненталь возобновился наш обычный образ жизни; это значит, что с утра до вечера и до очень поздней ночи играли в довольно крупную игру в передней императрицы, в той зале, которая разделяла дом и оба этажа этого здания пополам.
Чоглокова была игроком – она посоветовала мне играть, подобно всем, в фараон; обыкновенно все любимицы императрицы находились там, когда не были в покоях Ее Императорского Величества или, вернее, в ее ставке, потому что она велела разбить большую и великолепную ставку рядом со своими комнатами, которые были на первом этаже и были очень маленькие, как их обыкновенно строил Петр I; он велел выстроить этот дом и развести сад.
Князь и княгиня Репнины, которые участвовали в поездке и уже знали заносчивое и лишенное здравого смысла поведение Чоглоковой в дороге, посоветовали мне поговорить об этом с графиней Шуваловой и Измайловой, самыми любимыми дамами императрицы.
Эти дамы не любили Чоглокову, и они уже были осведомлены о том, что происходило; маленькая графиня Шувалова, которая была воплощением болтливости, не стала ждать, когда я с ней об этом заговорю, но, сидя за игрою рядом со мной, сама начала этот разговор, и так как у нее был очень насмешливый тон, то она выставила все поведение Чоглоковой в столь смешном виде, что та стала всеобщим посмешищем.
Она сделала больше того: рассказала императрице все, что было; вероятно, Чоглоковой досталось, потому что она значительно понизила со мною тон.
По правде сказать, я очень в этом нуждалась, так как начинала чувствовать большое расположение к грусти. Я чувствовала себя совершенно одинокой. Великий князь увлекся ненадолго в Ревеле некоей Цедерспарр; он не преминул, по принятому им обычаю, поверить мне это тотчас же. Я чувствовала частые боли в груди, и у меня в Екатеринентале однажды пошла кровь горлом, вследствие чего мне сделали кровопускание.
Днем Чоглокова вошла ко мне в комнату и застала меня в слезах; обходясь гораздо мягче, она спросила меня, что со мною, и предложила, от имени императрицы, чтобы развеять мою ипохондрию, как она говорила, пройтись по саду; в этот день великий князь был на охоте с обер-егермейстером графом Разумовским.
Кроме того, она мне передала от Ее Императорского Величества три тысячи рублей для игры в фараон. Дамы заметили, что мне не хватало денег, и сказали это императрице. Я попросила Чоглокову поблагодарить Ее Императорское Величество за ее милость ко мне и пошла с Чоглоковой прогуляться по саду, чтобы подышать воздухом.
Через несколько дней после нашего приезда в Екатериненталь приехал великий канцлер граф Бестужев в сопровождении имперского посла барона Бретлаха, и мы узнали из его приветствия, что оба имперских двора вступили в союз, заключив договор. Затем императрица отправилась смотреть маневры флота, но, кроме пушечного дыма, мы ничего не видали; день был чрезвычайно жаркий и тишина полная.
По возвращении с этих маневров был бал в палатках императрицы, раскинутых на террасе, ужин был подан на открытом воздухе вокруг бассейна, где должен был быть пущен фонтан, но, как только императрица села за стол, полил дождь, промочивший всю компанию, которая бросилась как попало в дом и палатки. Так кончился этот праздник.
Через несколько дней императрица поехала в Рогервик[46]. Флот снова там маневрировал, и опять мы видели только один дым. От этого путешествия мы все необычайно натрудили себе ноги. Почва этого местечка каменистая, покрытая густым слоем мелкого булыжника такого свойства, что если постоишь немного на одном месте, то ноги начинают увязать, и мелкий булыжник покроет ноги.
Мы стояли здесь лагерем и должны были ходить из палатки в палатку и к себе по такому грунту в течение нескольких дней; у меня ноги болели потом целых четыре месяца. Каторжники, работавшие на моле, носили деревянные башмаки, и те не выдерживали больше восьмидесяти дней. Имперский посол последовал за императрицей в этот порт Рогервик; он обедал и ужинал с Ее Императорским Величеством.
На полпути между Рогервиком и Ревелем, во время ужина, к императрице привели старуху 130 лет, которая походила на ходячий скелет. Императрица велела дать ей кушанья со своего стола и денег, и мы продолжали наш путь. По возвращении в Екатериненталь Чоглокова имела удовольствие встретиться с мужем, вернувшимся из своей командировки в Вену.
Многие придворные экипажи уже направились в Ригу, куда императрица хотела ехать, но, вернувшись из Рогервика, она внезапно переменила намерение. Многие ломали себе голову, чтобы отгадать причину этой перемены; несколько лет спустя основание тому раскрылось.
При проезде Чоглокова через Ригу один лютеранский священник, сумасшедший или фанатик, передал ему письмо или записку для императрицы, в которой он ее увещевал не предпринимать этого путешествия, говоря, что она подвергнется там величайшей опасности, что соседними врагами империи расставлены люди, подосланные ее убить, и тому подобная чепуха.
Это писание было передано Ее Императорскому Величеству и отбило у нее охоту ехать дальше; что касается священника, то он был признан сумасшедшим, но поездка не состоялась. Мы вернулись, помалу передвигаясь за день, из Ревеля в Петербург; у меня в эту поездку очень разболелось горло, вследствие чего я пролежала несколько дней; после этого мы отправились в Петергоф и оттуда ездили через каждую неделю в Ораниенбаум.
В начале августа императрица велела сказать великому князю и мне, что мы должны говеть; мы подчинились ее воле и тотчас же велели служить у себя утрени и всенощные и стали каждый день ходить к обедне. В пятницу, когда дело дошло до исповеди, выяснилась причина данного нам приказания говеть. Симеон Теодорский, епископ Псковский, очень много расспрашивал нас обоих, каждого порознь, относительно того, что произошло у нас с Чернышевыми; но так как совсем ничего не произошло, то ему стало немножко неловко, когда ему с невинным простодушием сказали, что даже не было и тени того, что осмелились предполагать.
В беседе со мною у него вырвалось: «Так откуда же это происходит, что императрицу предостерегали в противном?» На это я ему сказала, что ничего не знаю. Полагаю, наш духовник сообщил нашу исповедь духовнику императрицы, а этот последний передал Ее Императорскому Величеству, в чем дело, что, конечно, не могло нам повредить. Мы причащались в субботу, а в понедельник поехали на неделю в Ораниенбаум, между тем как императрица ездила в Царское Село.
Прибыв в Ораниенбаум, великий князь завербовал всю свою свиту; камергерам, камер-юнкерам, чинам его двора, адъютантам, князю Репнину и даже его сыну, камер-лакеям, садовникам – всем было дано по мушкету на плечо; Его Императорское Высочество делал им каждый день ученья, назначал караулы; коридор дома служил им кордегардией, и они проводили там день; обедать и ужинать кавалеры подымались наверх, а вечером в штиблетах приходили в зал танцевать; из дам были только я, Чоглокова, княгиня Репнина, трое моих фрейлин да мои горничные, – следовательно, такой бал был очень жидок и плохо налаживался: мужчины бывали измученные и не в духе от этих постоянных военных учений, которые приходились не слишком по вкусу придворным.
После бала им разрешалось идти спать к себе. Вообще, мне и всем нам опротивела скучная жизнь, которую мы вели в Ораниенбауме, где нас было пять или шесть женщин, которые оставались одни с глазу на глаз с утра до вечера, между тем как мужчины, со своей стороны, скрепя сердце упражнялись в военном искусстве. Я прибегла к книгам, которые привезла с собою.
С тех пор как я была замужем, я только и делала, что читала; первая книга, которую я прочла после замужества, был роман под заглавием «Tiran le blanc», и целый год я читала одни романы; но, когда они стали мне надоедать, я случайно напала на письма г-жи де Севинье[47]: это чтение очень меня заинтересовало. Когда я их проглотила, мне попались под руку произведения Вольтера; после этого чтения я искала книг с большим разбором.
Мы вернулись в Петергоф, и после двух или трех поездок из Петергофа в Ораниенбаум и обратно, где время проводили все так же однообразно, мы возвратились в Петербург, в Летний дворец. К концу осени императрица перешла в Зимний дворец, где заняла покои, в которых мы помещались прошлую зиму, а нас поместили в те, где великий князь жил до женитьбы. Эти покои нам очень понравились, и, действительно, они были очень удобны; это были комнаты императрицы Анны.
Каждый вечер весь наш двор собирался у нас; тут играли в разные игры или бывали концерты; два раза в неделю бывало представление в Большом театре, который был тогда напротив Казанской церкви. Одним словом, эта зима была одною из самых веселых и наиболее удачных в моей жизни. Мы буквально целый день смеялись и резвились.
Приблизительно среди зимы императрица приказала нам сказать, чтобы мы следовали за ней в Тихвин, куда она собиралась. Это была поездка на богомолье; но в ту минуту, как мы собирались садиться в сани, мы узнали, что поездка отложена: нам пришли сказать потихоньку, что у обер-егермейстера Разумовского подагра и что императрица не хочет ехать без него.
В этот промежуток времени мой камердинер Евреинов, причесывая меня однажды утром, сказал мне, что по очень странной случайности он открыл, что Андрей Чернышев и его братья находятся в Рыбачьей слободе, под арестом на собственной даче императрицы, унаследованной ею от своей матери. Вот как это открылось. На Масленой мой камердинер катался в санях с женою и свояченицей; свояки стояли на запятках.
Муж свояченицы был канцеляристом петербургского магистрата; у этого человека была сестра, замужем за подканцеляристом Тайной канцелярии. Они отправились как-то кататься в Рыбачью слободу и вошли к управляющему этим имением императрицы; заспорили о празднике Пасхи, в какой день он приходится. Хозяин дома сказал им, что он сейчас решит спор, что стоит только послать к заключенным за Святцами, в которых можно найти все праздники и календарь на несколько лет.
Через несколько минут принесли книгу; свояк Евреинова схватил ее и первое, что он нашел, открыв ее, это имя Андрея Чернышева, написанное им самим вместе с числом того дня, в который великий князь подарил ему книгу; затем он стал искать праздник Пасхи. Спор кончился, книга была возвращена, и они вернулись в Петербург, где свояк Евреинова сообщил ему по секрету о своем открытии. Евреинов убедительно просил меня не говорить об этом великому князю, потому что вовсе нельзя было полагаться на его скромность. Я обещала и сдержала слово.
Две или три недели спустя мы действительно поехали в Тихвин. Эта поездка продолжалась всего пять дней; мы проезжали по пути туда и обратно через Рыбачью слободу и мимо дома, где, как я знала, находились Чернышевы; я старалась увидеть их в окне, но ничего не видела. Князь Репнин не участвовал в поездке; нам сказали, что у него каменная болезнь; муж Чоглоковой исполнял обязанности князя Репнина во время этой поездки, что никому не доставляло большого удовольствия; это был дурак заносчивый и грубый, все ужасно боялись этого человека и его жены, и, говоря правду, они были действительно зловредные люди.
Однако были средства, как это оказалось впоследствии, не только усыплять этих Аргусов, но даже их задабривать, но тогда еще эти средства только изыскивались. Одно из самых надежных – было играть с ними в фараон: оба они были игроки, и очень жадные; эта слабость была открыта прежде всего, остальные – после.
В эту зиму умерла моя фрейлина, княжна Гагарина, от горячки, перед своей свадьбой с камергером князем Голицыным, который женился потом на ее младшей сестре. Я очень ее жалела и во время болезни часто навещала, несмотря на возражения Чоглоковой. Императрица вызвала из Москвы на ее место ее старшую сестру, вышедшую потом за графа Матюшкина[48].
Незадолго до Поста мы ездили с императрицей в Гостилицы на праздник к обер-егермейстеру графу Разумовскому. Там танцевали и порядком веселились, после чего вернулись в город. Немного дней спустя мне объявили о смерти моего отца, которая меня очень огорчила.
Мне дали досыта выплакаться в течение недели; но по прошествии недели Чоглокова пришла мне сказать, что довольно плакать, что императрица приказывает мне перестать, что мой отец не был королем. Я ей ответила, что это правда, что он не король, но что ведь он мне отец; на это она возразила, что великой княгине не подобает долее оплакивать отца, который не был королем. Наконец, постановили, что я выйду в следующее воскресенье и буду носить траур в течение шести недель.
Первый раз, как я вышла из комнаты, я встретила графа Санти[49], обер-церемониймейстера императрицы, в передней Ее Императорского Величества. Я сказала ему несколько незначительных слов и прошла своей дорогой. Несколько дней спустя Чоглокова пришла мне сказать, что императрица узнала от графа Бестужева, которому Санти передал это письменно, будто я ему сказала, что нахожу очень странным, что послы не выразили мне соболезнования по поводу смерти отца; что императрица находит этот разговор с графом Санти очень неуместным, что я слишком горда, что я должна помнить, что мой отец не был королем, и что по этой причине я не могла и не должна была претендовать на выражение соболезнования со стороны иностранных посланников.
Я была страшно поражена, услыхав слова Чоглоковой. Я ей сказала, что если граф Санти сказал или написал, что я ему сказала хоть что-нибудь похожее на подобный разговор, то он недостойный лжец, что мне ничего подобного и в голову не приходило, и что, следовательно, я не говорила ни ему, ни кому другому ничего относящегося к этому вопросу.
Это была сущая правда, потому что я взяла себе за непоколебимое правило ни на что и ни в каком случае не претендовать и во всем сообразоваться с волей императрицы и делать, что мне прикажут. По-видимому, простодушие, с которым я ответила Чоглоковой, ее убедило; она мне сказала, что не преминет передать императрице, что я формально отрицаю слова графа Санти.
И, действительно, она пошла к Ее Императорскому Величеству и вернулась сказать мне, что императрица очень сердита на графа Санти за такую ложь и что она приказала сделать ему выговор.
Через несколько дней граф Санти подослал ко мне кряду нескольких лиц, между прочими камергера Никиту Панина и вице-канцлера Воронцова, чтобы сказать мне, что граф Бестужев принудил его солгать, и что он очень жалеет, что через это находится у меня в немилости. Я сказала этим господам, что лжец лжецом и останется, какие бы ни имел причины для лжи, и что из опасения, чтобы этот господин не приплетал меня к своему вранью, я с ним больше не стану говорить; я сдержала слово и не говорила с ним больше. Вот что я думаю об этой истории.
Санти был итальянец; он любил вести переговоры и очень был занят своими обязанностями обер-церемониймейстера; я с ним всегда говорила, как и со всеми; он, может быть, думал, что выражения соболезнования дипломатического корпуса могли бы быть уместны, и надо полагать по складу его ума, что он думал сделать мне этим приятное; он и пошел к графу Бестужеву, великому канцлеру, своему начальнику, и сказал ему, что я вышла в первый раз, показалась ему очень опечаленной смертью отца, и, может быть, прибавил, что не соблюденные по этому случаю изъявления соболезнования могли еще увеличить мое огорчение.
Граф Бестужев, всегда злобствующий, обрадовался случаю меня унизить: он велел Санти тотчас же изложить письменно, что тот ему сказал или намекнул и подтвердил моим именем, и велел ему подписать этот протокол; Санти, боясь своего начальника как огня, и особенно страшась потерять свое место, не замедлил подписать эту ложь, вместо того чтобы пожертвовать своей карьерой.
Великий канцлер послал эту записку императрице, которая рассердилась, предполагая такие претензии с моей стороны, и послала ко мне Чоглокову, как выше сказано. Но когда императрица услышала мой ответ, основанный на сущей правде, то из всего этого вышло, что господин обер-церемониймейстер остался с носом.
Весною мы переехали на житье в Летний дворец, а оттуда – на дачу. Князь Репнин под предлогом слабого здоровья получил позволение удалиться в свой дом, и Чоглоков продолжал временно исполнять обязанности князя Репнина. Эта перемена сначала же сказалась на отставке от нашего двора камергера графа Дивьера, которого послали бригадиром в армию, и камер-юнкера Вильбуа[50], который был туда же отправлен полковником по представлению Чоглокова, косившегося на них за то, что великий князь и я к ним благоволили.
Подобные увольнения случались уже раньше, например, в лице графа Захара Чернышева в 1745 г. по просьбе его матери; но все же на эти увольнения смотрели при дворе как на немилость, и они тем самым были очень чувствительны для этих лиц. Мы с великим князем очень огорчились этой отставкой.
Так как принц Август получил все, чего желал, то ему велено было сказать от имени императрицы, чтобы он уезжал. Это тоже было дело рук Чоглоковых, которые во что бы то ни стало хотели уединить великого князя и меня, в чем следовали инструкциям графа Бестужева, которому все были подозрительны и который любил сеять и поддерживать разлад всюду, из боязни, чтобы не сплотились против него.
Несмотря на это, все взгляды сходились на ненависти к нему, но это ему было безразлично, лишь бы его боялись. В течение этого лета, за неимением лучшего и потому, что скука у нас и при нашем дворе все росла, я больше всего пристрастилась к верховой езде; остальное время я читала у себя все, что попадалось под руку. Что касается великого князя, так как от него отняли людей, которых он больше всего любил, то он выбрал новых среди камер-лакеев.
На даче он составил себе свору собак и начал сам их дрессировать; когда он уставал их мучить, он принимался пилить на скрипке; он не знал ни одной ноты, но имел отличный слух, и для него красота в музыке заключалась в силе и страстности, с которою он извлекал звуки из своего инструмента.
Те, кому приходилось его слушать, часто с охотой заткнули бы себе уши, если бы посмели, потому что он их терзал ужасно. Этот образ жизни продолжался как на даче, так и в городе. Когда мы вернулись в Летний дворец, Крузе, которая продолжала быть всеми признанным Аргусом, настолько стала добрее, что очень часто соглашалась обманывать Чоглоковых, которые стали всем ненавистны. Она делала больше того, а именно доставляла великому князю игрушки, куклы и другие детские забавы, которые он любил до страсти; днем их прятали в мою кровать и под нее.
Великий князь ложился первый после ужина, и, как только мы были в постели, Крузе запирала дверь на ключ, и тогда великий князь играл до часу или двух ночи; волей-неволей я должна была принимать участие в этом прекрасном развлечении, так же как и Крузе. Часто я над этим смеялась, но еще чаще это меня изводило и беспокоило, так как вся кровать была покрыта и полна куклами и игрушками, иногда очень тяжелыми.
Не знаю, проведала ли Чоглокова об этих ночных забавах, но однажды, около полуночи, она постучалась к нам в дверь спальной; ей не сразу открыли, потому что великий князь, Крузе и я спешили спрятать и снять с постели игрушки, чему помогло одеяло, под которое мы игрушки сунули.
Когда это было сделано, открыли дверь, но Чоглокова стала нам ужасно выговаривать за то, что мы заставили ее ждать, и сказала нам, что императрица очень рассердится, когда узнает, что мы еще не спим в такой час, и ушла ворча, но не сделав другого открытия. Когда она ушла, великий князь продолжал свое, пока не захотел спать. При наступлении осени мы снова перешли в покои, которые занимали раньше, после нашей свадьбы, в Зимнем дворце.
Здесь вышло очень строгое запрещение от императрицы через Чоглокову, чтобы никто не смел входить в покои великого князя и мои без особого разрешения господина или госпожи Чоглоковых, и также приказание дамам и кавалерам нашего двора находиться в передней, не переступать порога комнаты и говорить с нами только громко; то же приказание вышло и слугам под страхом увольнения. Мы с великим князем, оставаясь, таким образом, всегда наедине друг с другом, оба роптали и обменивались мыслями об этой своего рода тюрьме, которой никто из нас не заслуживал.
Чтобы доставить себе больше развлечения зимой, великий князь выписал из деревни восемь или десять охотничьих собак и поместил их за деревянной перегородкой, которая отделяла альков моей спальной от огромной прихожей, находившейся сзади наших покоев. Так как альков был только из досок, то запах псарни проникал к нам, и мы должны были оба спать в этой вони.
Когда я жаловалась на это, он мне говорил, что нет возможности сделать иначе; так как псарня была большим секретом, то я переносила это неудобство, не выдавая тайны Его Императорского Высочества. 6 января 1748 года я схватила сильную лихорадку с сыпью. Когда лихорадка прошла, и так как не было никаких развлечений в течение этой Масленой при дворе, то великий князь придумал устраивать маскарады в моей комнате; он заставлял рядиться своих и моих слуг и моих женщин, и заставлял их плясать в моей спальной; он сам играл на скрипке и тоже подплясывал.
Это продолжалось до поздней ночи; что меня касается, то под предлогами головной боли или усталости я ложилась на канапе, но всегда ряженая, и до смерти скучала от нелепости этих маскарадов, которые его чрезвычайно потешали.
С наступлением Поста от него удалили еще четверых лиц; в числе их было трое пажей, которых он больше любил, нежели других. Эти увольнения его огорчали, но он не делал ни шагу, чтобы их прекратить, или же делал такие неудачные шаги, что только увеличивал беду. В эту зиму мы узнали, что князь Репнин, как ни был болен, должен был командовать корпусом, который посылали в Богемию, на помощь императрице-королеве Марии-Терезии.
Это была форменная немилость для князя Репнина; он туда отправился и уже не возвратился, потому что умер с горя в Богемии. Княжна Гагарина, моя фрейлина, первая передала мне известие, несмотря на все запрещения доводить до нас малейшее слово о том, что происходило в городе или при дворе. Отсюда видно, что значат подобные запрещения, которые никогда во всей строгости не исполняются, потому что слишком много лиц занято тем, чтобы их нарушать.
Все окружавшие нас, до ближайших родственников Чоглоковых, старались уменьшить суровость такого рода политической тюрьмы, в которой пытались нас держать. Даже собственный брат Чоглоковой, граф Гендриков[51], и тот часто вскользь давал мне полезные и необходимые сведения, и другие пользовались им же, чтобы мне их доставлять, чему он всегда поддавался с простодушием честного и благородного человека; он смеялся над глупостями и грубостями своей сестры и своего зятя, и все с ним чувствовали себя хорошо и уверенно, потому что он никогда не выдавал и не обманывал; это был прямолинейный человек, но ограниченный, дурно воспитанный и невежественный, впрочем, твердый и бесхитростный.
Во время того же Поста, однажды около полудня я вышла в комнату, где были наши кавалеры и дамы; Чоглоковы еще не приходили; разговаривая с теми и другими, я подошла к двери, где стоял камергер Овцын[52]. Он, понизив голос, заговорил о скучной жизни, какую мы ведем, и сказал, что при том нас чернят в глазах императрицы; так, несколько дней тому назад Ее Императорское Величество сказала за столом, что я чересчур обременяю себя долгами, что все, что я ни делаю, глупо, что при этом я воображаю, что я очень умна, но что я одна так думаю о себе, что я никого не обману, и что моя совершенная глупость всеми признана, и что поэтому меньше надо обращать внимания на то, что делает великий князь, нежели на то, что я делаю, и Овцын прибавил со слезами на глазах, что он получил приказание императрицы передать мне это, но он меня просил не подавать вида, что он мне сказал, что именно таково было ее приказание.
Я ему ответила относительно моей глупости, что нельзя меня за это винить, потому что каждый таков, каким его Бог создал; что же касается долгов, то неудивительно, если они у меня есть, потому что, при тридцати тысячах содержания, мать оставила мне, уезжая, шестьдесят тысяч рублей долгу, чтобы заплатить за нее; что сверх того графиня Румянцева вовлекала меня в тысячу расходов, которые она считала необходимыми; что Чоглокова одна стоит мне в этом году семнадцать тысяч рублей, и что он сам знает, какую адскую игру надо вести с ними каждый день; что он может ответ передать тем, от кого получил это поручение; что, впрочем, мне очень неприятно знать, что против меня возбуждают императрицу, по отношению к которой я никогда не была неуважительной, непокорной и непочтительной, и что чем больше будут за мною наблюдать, тем больше в этом убедятся.
Я обещала ему сохранить тайну и сдержала слово – не знаю, передал ли он, что я сказала, но думаю это, хотя никогда больше не слышала разговоров об этом и остерегалась сама возобновлять беседу, столь мало приятную. В последнюю неделю Поста у меня сделалась корь, я не могла явиться на Пасху и причащалась в своей комнате в субботу.
Во время этой болезни Чоглокова, хоть и беременная на последнем месяце, почти не покидала меня и делала все, что могла, чтобы развлекать меня. При мне была тогда маленькая калмычка, которую я очень любила; этот ребенок получил от меня корь.
После Пасхи мы переехали в Летний дворец и оттуда в конце мая на Вознесенье ездили к графу Разумовскому в Гостилицы; императрица выписала туда 23-го того же месяца посла императорского двора барона Бретлаха, который ехал в Вену; он провел в Гостилицах вечер и ужинал с императрицей. Этот ужин кончился поздней ночью, и мы вернулись после восхода солнца в домик, где жили.
Этот деревянный домик был расположен на маленькой возвышенности и примыкал к катальной горе. Расположение этого домика нам понравилось зимою, когда мы были в Гостилицах на именинах обер-егермейстера, и, чтобы доставить нам удовольствие, он и на этот раз поселил нас в этом домике; он был двухэтажный; верхний этаж состоял из лестницы, зала и трех маленьких комнат; мы спали в одной, великий князь одевался в другой, а Крузе занимала третью, внизу помещались Чоглокова, мои фрейлины и горничные.
Вернувшись с ужина, все улеглись. Около шести часов утра сержант гвардии Левашов [Иван Михайлович] приехал из Ораниенбаума к Чоглокову поговорить насчет построек, которые тогда там производились; найдя всех спящими, он сел возле часового и услышал треск, показавшийся ему подозрительным; часовой сказал ему, что этот треск повторяется уже несколько раз с тех пор, как он на часах. Левашов встал и обежал дом снаружи; он увидел, что из-под дома вываливаются большие каменные плиты; он побежал разбудить Чоглокова и сказал ему, что фундамент дома опускается и что надо поскорее постараться вывести из дома всех, кто в нем находится.
Чоглоков надел шлафрок и побежал наверх; стеклянные двери были заперты; он взломал замки и дошел до комнаты, где мы спали; отдернув занавес, он нас разбудил и велел поскорее выходить, потому что фундамент дома рушился. Великий князь соскочил с постели, взял свой шлафрок и убежал. Я сказала Чоглокову, что иду за ним, и он ушел; я оделась наскоро; одеваясь, я вспомнила, что Крузе спала в соседней комнате; я пошла ее разбудить, она спала очень крепко, мне удалось с некоторым трудом разбудить ее и объяснить ей, что надо выходить из дому.
Я помогла ей одеться, и, когда она была готова, мы переступили порог комнаты и вошли в зал, но едва мы там очутились, как все затряслось, с шумом, подобным тому, с каким корабль спускается с верфи. Крузе и я упали на пол; в эту минуту Левашов вошел через дверь лестницы, находившейся против нас. Он меня поднял с полу и вышел из комнаты; я взглянула случайно на гору; она была в уровень со вторым этажом, теперь же, по крайней мере на аршин, выше уровня этого второго этажа.
Левашов, дойдя со мною до лестницы, по которой пришел, не нашел ее больше: она обрушилась, но так как несколько лиц влезли на развалины, то Левашов передал меня ближайшему, этот – другому, и так, переходя с рук на руки, я очутилась в низу лестницы, в прихожей, а оттуда меня вынесли из дому на лужайку. Там был и великий князь, в шлафроке.
Выбравшись, я стала смотреть, что делалось в стороне дома, и увидела, что некоторые лица выходили оттуда окровавленные, а других выносили; между наиболее тяжело раненными была моя фрейлина княжна Гагарина: она хотела спастись из дому, как и другие, и, когда проходила по комнате, смежной с ее комнатой, обрушившаяся печь упала на ширмы, которые опрокинули ее на находившуюся в комнате кровать; несколько кирпичей упали ей на голову и тяжело ее ранили, так же как и горничную, спасавшуюся вместе с ней.
В этом самом нижнем этаже была маленькая кухня, где спало несколько лакеев, трое из них были убиты обрушившейся печью. Но это были еще пустяки в сравнении с тем, что произошло между фундаментом этого дома и первыми этажами. Шестнадцать работников, служивших при катальной горе, спали там, и все были раздавлены этим осевшим строением.
Причиной всего этого было то, что домик этот был построен осенью, наспех. Фундамент был заложен в четыре ряда известняковых плит; архитектор велел поставить в первом этаже двенадцать балок на манер столбов в прихожей. Он должен был отправиться в Украину; уезжая, он приказал управляющему Гостилиц запретить до своего возвращения прикасаться к этим двенадцати балкам.
Когда управляющий узнал, что мы должны жить в этом домике, то, несмотря на распоряжение архитектора, принял самые спешные меры к тому, чтобы выломать эти двенадцать балок, так как они портили сени. Когда наступила оттепель, все здание осело на четыре ряда известняковых плит, которые стали сползать в разные стороны, и само здание поползло до бугра, который его задержал.
Я отделалась несколькими синяками и большим страхом, вследствие которого мне пустили кровь. Этот общий испуг был так велик, что в течение четырех с лишком месяцев всякая дверь, закрывавшаяся с некоторой силой, заставляла нас всех вздрагивать.
Когда первый страх прошел, в этот день императрица, жившая в другом доме, позвала нас к себе, и, так как ей хотелось уменьшить опасность, все старались находить в этом очень мало опасного, и некоторые даже не находили ничего опасного; мой страх ей очень не понравился, и она рассердилась на меня за него; обер-егермейстер плакал и приходил в отчаяние; он говорил, что застрелится из пистолета; вероятно, ему в этом помешали, потому что он ничего подобного не сделал, и на следующий день мы возвратились в Петербург, после нескольких недель нашего пребывания в Летнем дворце…
Не помню точно, но мне кажется, что приблизительно около этого времени приехал в Россию [мальтийский] кавалер Сакрамоза. Уже давно не приезжало в Россию мальтийских кавалеров, и, вообще, тогда очень мало видно было иностранцев, навещающих Петербург; следовательно, его приезд был своего рода событием.
С ним обошлись как можно лучше и показали ему все достопримечательности Петербурга, а в Кронштадте один из лучших флотских офицеров был назначен на этот случай, чтобы сопровождать его; это был Полянский[53], капитан линейного корабля, впоследствии адмирал. Он был нам представлен; целуя мою руку, Сакрамоза сунул мне в руку очень маленькую записку и сказал очень тихо: «Это от вашей матери».
Я почти что остолбенела от страху перед тем, что он только что сделал. Я замирала от боязни, как бы кто-нибудь этого не заметил, особенно Чоглоковы, которые были совсем близко. Однако я взяла записку и сунула ее в перчатку; никто этого не заметил. Вернувшись к себе в комнату, в этой свернутой записке, в которой он говорил мне, что ждет ответа через одного итальянского музыканта, приходившего на концерты великого князя, я действительно нашла записку от матери, которая, будучи встревожена моим невольным молчанием, спрашивала меня об его причине и хотела знать, в каком положении я нахожусь.
Я ответила матери и уведомила ее о том, что она хотела знать; я сказала ей, что мне было запрещено писать ей и кому бы то ни было, под предлогом, что русской великой княгине не подобает писать никаких других писем, кроме тех, которые составлялись в Коллегии иностранных дел и под которыми я должна была только ставить свою подпись, и никогда не говорить, о чем надо писать, ибо Коллегия знала лучше меня, что следовало в них сказать; что Олсуфьеву[54] чуть не вменили в преступление то, что я послала ему несколько строк, которые просила включить в письмо к матери. Я сообщила ей еще несколько сведений, о которых она меня просила.
Я свернула свою записку, как была свернута та, которую я получила, и выждала с тревогой и нетерпением минуту, чтобы от нее отделаться. На первом концерте, который был у великого князя, я обошла оркестр и стала за стулом виолончелиста д’Ололио, того человека, на которого мне указали.
Когда он увидел, что я остановилась за его стулом, он сделал вид, что вынимает из кармана свой носовой платок, и таким образом широко открыл карман; я сунула туда, как ни в чем не бывало, свою записку и отправилась в другую сторону, и никто ни о чем не догадался. Сакромозо во время своего пребывания в Петербурге сунул мне еще две или три записки, касавшиеся одного и того же, и ответы мои были ему так же переданы, и никто никогда об этом ничего не узнал. Из Летнего дворца мы поехали в Петергоф, который тогда перестраивали.
Нас поместили наверху, в старой постройке Петра I, тогда существовавшей. Здесь от скуки великий князь стал играть со мною вдвоем каждый день после обеда в ломбер; когда я выигрывала, он сердился, а когда проигрывала – требовал, чтобы ему было уплачено немедленно; у меня не было ни гроша, за неимением денег, он принимался играть со мною вдвоем в азартные игры.
Помню, что однажды его ночной колпак служил нам маркой в десять тысяч рублей; но когда в конце игры он проигрывал, то приходил в ярость и был способен дуться в течение нескольких дней; эта игра ни с какой стороны не была мне по душе. Во время этого пребывания в Петергофе мы увидели в окна, которые выходили в сад у моря, что муж и жена Чоглоковы постоянно ходят взад и вперед из верхнего дворца во дворец в Монплезире, на берегу моря, где жила тогда императрица.
Это заинтересовало нас так же, как и Крузе. Чтобы узнать причину этих частых хождений туда и обратно, Крузе пошла к своей сестре, которая была старшей камер-фрау императрицы. Она вернулась оттуда вся сияющая, узнав, что все эти хождения происходили оттого, что до императрицы дошло, что у Чоглокова была любовная интрига с одной из моих фрейлин, Кошелевой, и что она была беременна.
Императрица велела позвать Чоглокову и сказала ей, что муж ее обманывает, тогда как она любит его до безумия; что она была слепа до того, что эта девица, любовница ее мужа, чуть не жила у нее; что если она пожелает теперь разойтись с мужем, то сделает угодное императрице, которая без удовольствия смотрела на брак Чоглоковой с ее мужем.
Она прямо объявила ей, что не желает, чтобы ее муж оставался при нас, что она уволит его, а ей оставит ее должность. Жена в первую минуту стала отрицать перед императрицей страсть своего мужа, утверждала, что это клевета, но ее Императорское Величество в то время, как говорила с женой, послала расспросить девицу. Эта последняя во всем совершенно чистосердечно призналась, что вызвало в жене ярость против мужа.
Она вернулась к себе и стала ругать мужа; он упал перед ней на колени и стал просить прощения, и пустил в ход все влияние, какое имел на нее, чтоб ее смягчить.
Куча детей, какую они имели, послужила к тому, чтобы восстановить их согласие, которое между тем не стало с тех пор более искренним; разъединенные по любви, они были связаны по интересу; жена простила мужу, она пошла к императрице и сказала ей, что все простила мужу и хочет оставаться с ним из любви к своим детям; она на коленях умоляла императрицу не удалять ее мужа с позором от двора – это значило бы обесчестить ее и довершить ее горе; наконец, она вела себя в этом случае с такою твердостью и великодушием, и ее горе, кроме того, было так действительно, что она обезоружила гнев императрицы.
Она сделала больше того: она привела мужа к Ее Императорскому Величеству, высказала ему всю правду, а потом бросилась вместе с ним на колени к ногам императрицы и просила ее простить ее мужа ради ее и ее шестерых детей, отцом которых он был.
Все эти различные сцены продолжались пять или шесть дней, и мы узнавали почти с часу на час, что происходило, потому что нас меньше караулили в этот промежуток времени и потому что все надеялись увидеть отставку этих людей. Но исход вовсе не соответствовал ожиданию, какое у всех сложилось, ибо удалили только девицу к ее дяде, обер-гофмаршалу Шепелеву [Дмитрию Андреевичу], а Чоглоковы остались, впрочем, в меньшем почете, сравнительно с тем, каким они пользовались до тех пор. Выбрали день, в который мы должны были ехать в Ораниенбаум, и в то время, как мы ехали в одну сторону, девицу отправили в другую.
В Ораниенбауме мы занимали в этом году флигеля направо и налево от малого дворцового корпуса; приключение в Гостилицах так напугало, что во всех придворных домах велено было осмотреть потолки и полы, после чего починили все, какие в том нуждались. Вот образ жизни, какой я тогда вела в Ораниенбауме.
Я вставала в три часа утра, сама одевалась с головы до ног в мужское платье; старый егерь, который у меня был, ждал уже меня с ружьями; на берегу моря у него был совсем наготове рыбачий челнок. Мы пересекали сад пешком, с ружьем на плече, и мы садились – он, я, легавая собака и рыбак, который нас вез, – в этот челнок, и я отправлялась стрелять уток в тростниках, окаймляющих море с обеих сторон Ораниенбаумского канала, который на две версты уходит в море. Мы огибали часто этот канал и, следовательно, находились иногда в довольно бурную погоду в открытом море на этом челноке.
Великий князь приезжал через час или два после нас, потому что ему надо было всегда тащить с собою завтрак и еще невесть что такое. Если он нас встречал, мы отправлялись вместе; если же нет, то каждый из нас ездил и охотился порознь. В десять часов, а иногда и позже, я возвращалась и одевалась к обеду; после обеда отдыхала, а вечером или у великого князя была музыка, или мы катались верхом.
Приблизительно через неделю такой жизни я почувствовала сильный жар и голова была тяжелая; я поняла, что мне нужен отдых и диета. В течение суток я ничего не ела, пила только холодную воду и спала две ночи столько, сколько могла, после чего стала вести тот же образ жизни и чувствовала себя очень хорошо. Помню, что я читала тогда «Записки» Брантома[55], которые меня очень забавляли; перед этим я прочла «Жизнь Генриха IV» Перефикса[56].
К осени мы вернулись в город, и нам сказали, что зимою мы поедем в Москву. Крузе пришла мне сказать, что мне нужно прибавить белья для этой поездки; я подробно занялась этим бельем; Крузе предполагала развлечь меня, распорядившись кроить белье в моей комнате, чтобы, как она говорила, показать мне, сколько может выйти рубашек из куска полотна. Это ученье или это развлечение не понравилось, верно, Чоглоковой, которая была в самом дурном расположении духа с тех пор, как открыла измену своего мужа.
Не знаю, что она пошла сказать императрице, но только она пришла как-то днем сказать мне, что императрица увольняет Крузе от ее должности при мне, что Крузе удалится к своему зятю, камергеру Сиверсу, и на следующий день привела мне Владиславову [Прасковью Никитичну], чтоб она заняла при мне ее место. Это была женщина высокого роста, с хорошими, по-видимому, манерами; ее умное лицо на первых порах мне довольно понравилось.
Я спросила об этом выборе моего оракула Тимофея Евреинова, который сказал, что эта женщина, которую я никогда раньше не видала, была тещей старшего чиновника при графе Бестужеве, советника Пуговишникова, что у нее не было недостатка ни в уме, ни в живости, что она слыла за очень хитрую, что надо посмотреть, как она будет себя вести, и особенно не надо слишком выказывать ей доверие. Ее звали Прасковья Никитична.
Она начала очень удачно; она была общительна, любила говорить, говорила и рассказывала с умом, знала основательно все анекдоты прошлого и настоящего, знала все семьи до четвертого и пятого колена, очень отчетливо помнила родословные отцов, матерей, дедов, бабок и прадедов и предков с отцовской и материнской стороны всех на свете, и никто не познакомил меня с тем, что происходило в России в течение ста лет, более обстоятельно, чем она.
Ум и манеры этой женщины мне достаточно нравились, и, когда я скучала, я заставляла ее болтать, чему она всегда охотно поддавалась. Я без труда открыла, что она очень часто не одобряет слов и поступков Чоглоковых, но так как она очень часто ходила также в покои императрицы и совсем не знали, зачем, то были с ней до известной степени осторожны, не зная, как могут быть перетолкованы самые невинные поступки и слова.
Из Летнего дворца мы перешли в Зимний. Здесь нам представили г-жу Латур Лонуа[57], которая была при императрице в ее ранней молодости и последовала за цесаревной Анной Петровной, старшей дочерью Петра I, когда эта последняя покинула Россию со своим мужем, герцогом Голштинским, во время царствования императора Петра II.
По смерти этой герцогини г-жа Лонуа возвратилась во Францию и в настоящее время вернулась в Россию, чтоб или поселиться здесь, или снова уехать, получив от императрицы некоторые милости. Г-жа Лонуа надеялась, что в качестве старой знакомой она снова войдет в милость и близкое расположение императрицы, но она очень ошиблась; все соединились, чтобы оттеснить ее. С первых дней ее приезда я предвидела, что произойдет, и вот как.
Однажды вечером, когда была карточная игра в покоях императрицы, Ее Императорское Величество ходила из комнаты в комнату и нигде не усаживалась, как она обыкновенно делала. Г-жа Лонуа, думая, вероятно, выразить ей свою угодливость, следовала за ней повсюду, куда она ни шла. Чоглокова, видя это, сказала мне: «Смотрите, как эта женщина следует всюду за императрицей; но это недолго будет длиться; ее скоро отучат так за ней бегать». Я запомнила это, и, действительно, ее стали отстранять, а потом отправили во Францию с подарками.
В течение этой зимы состоялся брак графа Лестока с девицей Менгден [Марией Авророй], фрейлиной императрицы. Ее Императорское Величество и весь двор присутствовали на свадьбе, и государыня оказала молодым честь посетить их. Можно было сказать, что они пользуются величайшим фавором, но месяц или два спустя счастье им изменило.
Однажды вечером, во время карточной игры в покоях императрицы, я увидала там графа Лестока; я подошла к нему, чтобы поговорить; он мне сказал вполголоса: «Не подходите ко мне, я в подозрении». Я думала, что он шутит, и спросила, что это значит; он возразил: «Повторяю вам очень серьезно – не подходите ко мне, потому что я человек заподозренный, которого надо избегать». Я видела, что он изменился в лице и был очень красный; я думала, что он пьян, и повернулась в другую сторону. Это происходило в пятницу.
В воскресенье утром, причесывая меня, Тимофей Евреинов сказал мне: «Знаете ли вы, что сегодня ночью граф Лесток и его жена арестованы и отвезены в крепость как государственные преступники?» Никто не знал, из-за чего, знали только, что генерал Степан Апраксин[58] и Александр Шувалов[59] были назначены следователями по этому делу.
Отъезд двора в Москву был назначен на 16 декабря. Чернышевы были переведены из крепости в дом, принадлежавший императрице и называвшийся Смольный двор. Старший из троих братьев напаивал иногда своих сторожей и ходил гулять в город к своим приятелям.
Однажды моя гардеробная девушка-финка, которая была невестой одного камер-лакея, родственника Евреинова, принесла мне письмо от Андрея Чернышева, в котором он меня просил о разных вещах. Эта девушка видала его у своего жениха, где они провели вместе вечер. Я не знала, куда сунуть это письмо, когда его получила; я не хотела его сжечь, чтобы не забыть того, о чем он меня просил.
Уже очень давно мне было запрещено писать даже матери; через эту девушку я купила серебряное перо с чернильницей. Днем письмо было у меня в кармане; раздеваясь, я засовывала его в чулок, за подвязку, и, прежде чем ложиться спать, я его оттуда вынимала и клала в рукав; наконец, я ответила, послала ему, чего он желал, тем же путем, которому он доверил свое письмо, и выбрала удобную минуту, чтобы сжечь это письмо, причинявшее мне столь большие хлопоты.
В половине декабря мы уехали в Москву. Мы с великим князем были в большом возке, дежурные кавалеры – на передке. Великий князь днем садился в городские сани с Чоглоковыми, а я оставалась в большом возке, которого мы никогда не закрывали, и разговаривала с теми, кто сидел на передке. Помню, что камергер князь Александр Юрьевич Трубецкой рассказал мне в это время, будто граф Лесток, будучи заключен в крепость, в течение первых одиннадцати дней своего заключения хотел уморить себя голодом, но его заставили принять пищу.
Его обвиняли в том, что он взял десять тысяч рублей от Прусского короля, чтобы поддерживать его интересы, и в том, что он отравил некоего Этингера, который мог свидетельствовать против него. Его пытали, после чего сослали в Сибирь. В этом путешествии императрица обогнала нас в Твери, и так как для ее свиты взяли лошадей и провизию, какие были заготовлены для нас, то мы остались в течение суток в Твери без лошадей и без пищи.
Мы были очень голодны; к вечеру Чоглоков достал нам жареную стерлядь, которая показалась нам превкусной. Мы поехали ночью и приехали в Москву за два или за три дня до Рождества. Первое известие, которое мы там получили, было то, что камергер нашего двора, князь Александр Михайлович Голицын, в минуту нашего отъезда из Петербурга получил приказание отправиться в Гамбург русским посланником, с четырьмя тысячами жалованья. На это опять посмотрели как на новое изгнание; его свояченица, княжна Гагарина, которая была при мне, очень об этом плакала, и мы все его жалели.
Мы заняли в Москве помещение, которое было отведено мне с матерью в 1744 году. Чтобы отправиться в главную придворную церковь, надо было объехать в карете вокруг всего дома; в самый день Рождества, в час обедни, мы собирались сесть в карету и уже были для этого на крыльце, при 28—29-градусном морозе, когда нам пришли сказать от имени императрицы, что она освобождала нас от поездки к обедне в этот день, по случаю чрезвычайного холода, какой стоял; действительно, мороз щипал за нос.
Я была принуждена оставаться в своей комнате в первое время моего пребывания в Москве из-за необыкновенного количества прыщей, высыпавших у меня на лице; я смертельно боялась остаться угреватой; я послала за доктором Бургавом, который дал мне успокоительные средства и разные разности, чтобы согнать прыщи с лица; наконец, когда ничто не помогло, он мне сказал однажды: «Я вам дам средство, которое их сгонит».
Он вытащил из кармана маленький пузырек талькового масла и велел мне капнуть одну каплю в чашку воды и мочить этим лицо от времени до времени, например, еженедельно. Действительно, тальковое масло очистило мне лицо, и дней через 10 я могла показываться. Немного времени спустя после нашего приезда в Москву Владиславова пришла передать мне, что императрица приказала поскорее сыграть свадьбу моей гардеробной девушки-финки.
Единственная причина, по которой, вероятно, спешили с этой свадьбой, заключалась, по-видимому, в том, что я выказывала некоторое предпочтение этой девушке, которая была веселой толстушкой, смешившей меня иногда тем, что передразнивала всех, и особенно забавно Чоглокову. Итак, ее выдали замуж и больше и речи о ней не было.
Среди Масленой, в течение которой не было никакого веселья, ни развлечения, императрица почувствовала себя нездоровой; у нее сделались сильные колики, которые, казалось, становились очень серьезными. Владиславова и Тимофей Евреинов шепнули мне это на ухо, убедительно прося меня никому не говорить о том, что они мне сказали. Не называя их, я предупредила великого князя, что его сильно встревожило.
Однажды утром Евреинов пришел мне сказать, что канцлер Бестужев и генерал Апраксин провели эту ночь в комнате Чоглоковых, что давало основание думать, что императрица очень плоха. Чоглоков и его жена были нахмурены более, чем когда-либо, приходили к нам, обедали и ужинали у нас, но ни слова не проронили об этой болезни, и мы тоже не говорили о ней, а следовательно, и не смели послать узнать, как здоровье императрицы, потому что прежде всего спросили бы, как и откуда и через кого вы знаете, что она больна, а те, которые были бы названы или даже заподозрены, наверное, были бы уволены, сосланы или даже отправлены в Тайную канцелярию, государственную инквизицию, которой все боялись пуще огня.
Наконец, когда через десять дней императрице стало лучше, при дворе праздновали свадьбу одной из ее фрейлин. За столом я сидела рядом с графиней Шуваловой [Маврой Егоровной], любимицей императрицы. Она мне рассказала, что императрица была еще так слаба от ужасной болезни, которую вынесла, что она убирала голову невесте своими брильянтами (честь, которую она оказывала всем своим фрейлинам), сидя на постели только со спущенными ногами с постели, и что поэтому она не показалась на свадебном пиру.
Так как графиня Шувалова первая заговорила со мной об этой болезни, я выразила ей огорчение, которое мне причиняет ее состояние, и участие, какое я в нем принимаю. Она мне сказала, что императрица с удовольствием узнает о моем образе мыслей по этому поводу.
День спустя Чоглокова пришла утром в мою комнату и сказала мне в присутствии Владиславовой, что императрица очень сердита на великого князя и на меня за недостаток участия к ее болезни, дошедший до того, что мы даже ни разу не послали узнать, как она себя чувствует. Я сказала Чоглоковой, что я ссылаюсь на нее самое в том, что ни она, ни ее муж ни слова не сказали нам о болезни императрицы, что, ничего о ней не зная, мы не могли выказать участия, какое мы в ней принимали.
Она мне ответила: «Как вы можете говорить, что вы ничего не знали? Графиня Шувалова сказала императрице, что вы с ней говорили за столом об этой болезни». Я ей ответила: «Это правда, что я с ней говорила об этом, ибо она сказала мне, что Ее Величество еще очень слаба и не может выходить, и тогда я у нее расспросила подробно об этой болезни». Чоглокова ушла ворча, а Владиславова сказала мне, что странно сердиться на людей за то, чего они не знают, что так как Чоглоковы одни были вправе сказать нам об этом, то, если они этого не сделали, это их вина, а не наша, если мы не выказали участия по неведению.
Несколько времени спустя на куртаге императрица приблизилась ко мне, и я нашла удобную минуту, чтобы сказать ей, что ни Чоглоков, ни его жена не осведомили нас об ее болезни, и что поэтому мы не имели возможности выразить ей участие, которое мы в ней принимали. Она это очень хорошо приняла, и мне показалось, что влияние этих людей уменьшается.
Однажды императрица поехала обедать к генералу Степану Апраксину; мы были в числе приглашенных. После обеда привели к императрице одного старика, князя Долгорукова, который жил напротив дома генерала Апраксина. Это был князь Михаил Владимирович Долгоруков, который прежде был сенатором, но не умел ни читать, ни писать ничего, кроме своего имени; однако он считался гораздо умнее своего брата, фельдмаршала князя Василия [Владимировича] Долгорукова[60], умершего в 1746 году.
На следующий день я узнала, что третья дочь генерала Степана Апраксина, у которого мы накануне обедали, умерла в этот день от оспы; я перепугалась: все дамы, приглашенные с нами на обед к генералу Апраксину, то и дело сновали взад и вперед из комнаты этого больного ребенка в покои, где мы были. Но и на этот раз я отделалась только страхом.
Я увидела в первый раз в этот день двух дочерей генерала Апраксина, из которых старшая становилась очень красивой – ей могло быть тогда около 13 лет; это та самая, которая потом вышла замуж за князя Куракина [Бориса Александровича]; второй было только шесть лет; она была тогда чахоточной, харкала кровью и была буквально одна кожа да кости; конечно, и не подозревали, что она станет столь большою, столь колоссальною, столь чудовищно толстою, какой все те, кто ее знали, видели Талызину, ибо это именно та самая, которая тогда была лишь очень маленьким ребенком.
На первой неделе Поста Чоглоков хотел говеть. Он исповедался, но духовник императрицы запретил ему причащаться. Весь двор говорил, что это по приказанию Ее Императорского Величества из-за его приключения с Кошелевой. Одно время, когда мы были в Москве, Чоглоков, казалось, был в очень тесной дружбе с канцлером графом Бестужевым-Рюминым и с закадычным его другом генералом Степаном Апраксиным.
Он был постоянно у них или с ними, и, если его послушать, можно было сказать, что он ближайший советник графа Бестужева, чего на самом деле не могло быть, потому что у Бестужева было чересчур много ума, чтобы принимать советы от такого заносчивого дурака, каким был Чоглоков. Но почти на половине нашего пребывания в Москве эта чрезвычайная близость вдруг прекратилась, не знаю хорошенько, почему, и Чоглоков стал заклятым врагом тех, с кем перед этим жил в такой близости.
Вскоре после моего приезда в Москву я начала от скуки читать «Историю Германии» отца Барра, каноника собора Св. Женевьевы, 8 или 9 томов в четвертку[61]. В неделю я прочитывала по книге, после чего я прочла произведения Платона. Мои комнаты выходили на улицу; противоположные им были заняты великим князем; его окна выходили на маленький двор.
Я читала у себя в комнате; одна из девушек обыкновенно входила ко мне и стояла, сколько хотела, а потом выходила, и другая занимала ее место, когда находила это кстати. Я дала понять Владиславовой, что это было ни к чему и только меня беспокоило; и без этого мне приходилось страдать от близости комнат великого князя и от того, что в них происходило; что она страдала от этого столько же, сколько и я, потому что занимала маленькую комнату, которая составляла именно конец моих покоев.
Она согласилась освободить девушек от этого своего рода этикета. Вот что заставляло нас страдать: утром, днем и очень поздно ночью великий князь с редкой настойчивостью дрессировал свору собак, которую сильными ударами бича и криком, как кричат охотники, заставлял гоняться из одного конца своих двух комнат (потому что у него больше не было) в другой; тех же собак, которые уставали или отставали, он строго наказывал; это заставляло их визжать еще больше; когда наконец он уставал от этого упражнения, несносного для ушей и покоя соседей, он брал скрипку и пилил на ней очень скверно и с чрезвычайной силой, гуляя по своим комнатам, после чего снова принимался за воспитание своей своры и за наказание собак, что мне, поистине, казалось жестоким.
Слыша раз, как страшно и очень долго визжала какая-то несчастная собака, я открыла дверь спальной, в которой сидела и которая была смежной с тою комнатой, где происходила эта сцена, и увидела, что великий князь держит в воздухе за ошейник одну из своих собак, а бывший у него мальчишка, родом калмык, держит ту же собаку, приподняв за хвост.
Это был бедный маленький шарло английской породы, и великий князь бил эту несчастную собачонку изо всей силы толстой ручкой своего кнута; я вступилась за бедное животное, но это только удвоило удары; не будучи в состоянии выносить это зрелище, которое показалось мне жестоким, я удалилась со слезами на глазах к себе в комнату. Вообще, слезы и крики вместо того, чтобы внушать жалость великому князю, только сердили его; жалость была чувством тяжелым и даже невыносимым для его души.
Около этого времени мой камердинер Тимофей Евреинов передал мне письмо своего прежнего товарища, Андрея Чернышева, которого наконец освободили и который проезжал поблизости от Москвы в свой полк, куда он был назначен поручиком. Я поступила с этим письмом, как с предыдущим, и послала ему все, что он у меня просил, и ни слова не сказала ни великому князю, и ни одной живой душе. Весною императрица вызвала нас в Перово, где мы провели несколько дней с нею у графа Разумовского.
Великий князь и Чоглоков таскались почти весь день по лесам с хозяином дома; я читала у себя в комнате, или же Чоглокова, когда не играла в карты, приходила посидеть со мною от скуки. Она очень жаловалась на скуку, царившую в этом месте, и на постоянные охоты своего мужа, который стал страстным охотником с тех пор, как ему в Москве подарили прекрасную английскую борзую.
Я узнала от других, а не от нее, что муж ее служил посмешищем для всех других охотников и что он воображал и его уверяли, будто его Цирцея (так звали его суку) брала всех зайцев, которых ловили. Вообще Чоглоков воображал, что все, что ему принадлежало, было редкой красоты или редкой доброты: его жена, дети, слуги, дом, стол, лошади, собаки – все, что ему принадлежало, возбуждало его самолюбие; хотя бы все это было весьма посредственно, но раз это принадлежало ему, то становилось в его глазах несравненным.
В Перове со мной случилась такая головная боль, какой я не запомню в своей жизни. Чрезвычайная боль вызвала у меня ужасную тошноту, меня вырвало несколько раз, и каждый шаг, какой делали в комнате, увеличивал мою боль. Я провела почти сутки в таком состоянии и наконец заснула.
На следующий день я чувствовала только слабость; Чоглокова всячески позаботилась обо мне во время этого сильного приступа; вообще, все люди, которых ставило вокруг меня самое отъявленное недоброжелательство, в очень короткое время становились ко мне невольно благосклонными, и, когда их не настраивали и не возбуждали их снова, они действовали вопреки расчетам тех, кто ими пользовался, и часто поддавались склонности, которая влекла их ко мне, или, по крайней мере, интересу, который я им внушала; они никогда не видели меня надутой или нахмуренной, но всегда готовой пойти навстречу малейшему шагу с их стороны.
Во всем этом помогал мне мой веселый нрав, потому что все эти Аргусы часто забавлялись речами, с которыми я к ним обращалась, и мало-помалу невольно переставали хмуриться.
В Перове у императрицы случился новый приступ колик. Она велела перевезти себя в Москву, и мы поехали шагом во дворец, который находился всего в четырех верстах оттуда. Этот приступ не имел никаких последствий, и вскоре затем императрица поехала на богомолье в Троицкий монастырь.
Ее Императорское Величество хотела пройти эти пятьдесят верст пешком и для этого отправилась в свой дом, в Покровское; нам тоже велели направить путь к Троице, и мы поселились на этом пути, в одиннадцати верстах от Москвы, на очень маленькой даче, принадлежавшей Чоглоковой и называвшейся Раево.
Все помещение состояло из маленького зала среди дома с двумя маленькими комнатами по бокам; разбили палатки вокруг дома, где разместилась вся наша свита. У великого князя была одна палатка, я занимала одну маленькую комнату, Владиславова – другую; Чоглоковы были в остальных палатках; обедали мы в зале.
Императрица делала пешком три-четыре версты, потом отдыхала несколько дней. Это путешествие продолжалось почти все лето. Мы ежедневно ходили на охоту после обеда. Когда императрица дошла до Тайнинского, которое находится почти насупротив Раева, по ту сторону большой дороги в Троицкий монастырь, гетман граф Разумовский[62], младший брат фаворита, живший на своей даче в Петровском, на Петербургской дороге, по другую сторону Москвы, вздумал приезжать к нам каждый день в Раево.
Это был человек очень веселый и приблизительно наших лет. Мы очень его любили. Чоглоковы охотно принимали его к себе, как брата фаворита; его посещения продолжались все лето, и мы всегда встречали его с радостью; он обедал и ужинал с нами и после ужина уезжал в свое имение; следовательно, он делал от сорока до пятидесяти верст в день.
Лет двадцать спустя мне вздумалось его спросить, что заставляло его тогда приезжать делить скуку и нелепость нашего пребывания в Раеве, тогда как его собственный дом ежедневно кишел лучшим обществом, какое тогда было в Москве. Он мне ответил, не колеблясь: «Любовь». – «Но, Боже мой, – сказала я ему, – в кого вы у нас могли быть влюблены?» – «В кого? – сказал он мне. – В вас».
Я громко рассмеялась, ибо никогда в жизни этого не подозревала. Впрочем, он уже был несколько лет женат на богатой наследнице из дома Нарышкиных, на которой императрица женила его, правда, немного против его воли, но с которой он, казалось, хорошо жил; впрочем, хорошо было известно, что все самые хорошенькие придворные и городские дамы разрывали его на части.
И действительно, это был красивый мужчина своеобразного нрава, очень приятный и несравненно умнее своего брата, который, в свою очередь, равнялся с ним по красоте, но превосходил его щедростью и благотворительностью. Эти два брата составляли семью фаворитов, самую любимую всеми, какую я когда-либо видела.
Около Петрова дня императрица велела нам сказать, чтобы мы ехали к ней в Братовщину. Мы тотчас же туда отправились. Так как всю весну и часть лета я была или на охоте, или постоянно на воздухе, потому что раевский дом был так мал, что мы проводили большую часть дня в окружавшем его лесу, то я приехала в Братовщину чрезвычайно красной и загоревшей. Императрица, увидев меня, ужаснулась моей красноте и сказала мне, что пришлет умыванье, чтобы снять загар.
Действительно, она тотчас же прислала мне пузырек, в котором была жидкость, составленная из лимона, яичных белков и французской водки; она приказала, чтобы мои женщины заучили состав и пропорцию, какую нужно положить; несколько дней спустя мой загар прошел, и с тех пор я стала пользоваться этим средством и давала его многим лицам для употребления в подобных случаях.
Когда кожа разгорячена, я не знаю лучшего средства; это хорошо еще и против того, что по-русски называется «лишай», по-немецки Flechten, – французского названия я сейчас не припомню, – это не что иное, как жар, который заставляет трескаться кожу.
Мы провели Петров день в Троицком монастыре, и, так как в этот день после обеда великому князю нечем было заняться, он придумал дать бал у себя в комнате, где, однако, были только он, два его камердинера и две женщины, которые были со мной и одной из которых было за пятьдесят. Из монастыря императрица поехала в Тайнинское, а мы снова в Раево, где вели тот же образ жизни. Мы оставались там до половины августа, когда…
Императрица поехала в Софьино, – эта местность расположена в 60–70 верстах от Москвы. Мы стояли там лагерем. На другой день по приезде в это место мы пошли в ее палатку; там мы увидели, что она бранит управляющего этим имением. Она ездила на охоту и не нашла зайцев.
Этот человек был бледен и дрожал, и не было ругательства, какого бы она ему не высказала; поистине она была в бешенстве. Видя, что мы пришли поцеловать ей руку, она поцеловала нас по обыкновению и продолжала бранить своего человека; в своем гневе она проезжалась насчет всех, против кого что-либо имела или на кого была сердита. Она доходила до этого постепенно, и велика была беглость ее речи.
Она между прочим стала говорить, что она очень много понимает в управлении имением, что ее научило этому царствование императрицы Анны, что, имея мало денег, она умела беречься от расходов, что если бы она наделала долгов, то боялась бы Страшного суда, что, если бы она умерла тогда с долгами, никто не заплатил бы их и душа ее пошла бы в ад, чего она не хотела; что для этого дома и когда не было особой нужды, она носила очень простые платья, кофту из белой тафты, юбку из серого гризета, чем и делала сбережения, и что она отнюдь не надевала дорогих платьев в деревне или в дороге; это было в мой огород: на мне было лиловое с серебром платье.
Я это запомнила твердо. Это поучение – потому что иначе это и нельзя назвать, так как никто не говорил ни слова, видя, как она пылает и сверкает глазами от гнева, – продолжалось добрых три четверти часа. Наконец, ее шут Аксаков прекратил это: он вошел и подал ей в своей шапке маленького ежа. Она подошла к нему взглянуть и, как только его увидела, взвизгнула и сказала, что он похож на мышь, и побежала со всех ног внутрь палатки, потому что смертельно боялась мышей.
Мы больше ее не видели; она обедала у себя, после обеда поехала на охоту, взяла с собою великого князя, а я получила приказание вернуться с Чоглоковой в Москву, куда великий князь приехал вслед за мной несколько часов спустя, так как охота была короткая из-за очень сильного в тот день ветра.
Как-то в воскресенье императрица вызвала нас в Тайнинское из Раева, куда мы вернулись, и мы удостоились чести обедать с Ее Императорским Величеством. Она была одна в конце стола, великий князь направо от нее, я – налево, против него; возле великого князя – фельдмаршал Бутурлин[63], возле меня – графиня Шувалова.
Стол был очень длинный и узкий; великий князь, сидя между императрицей и фельдмаршалом Бутурлиным, так напился с помощью этого фельдмаршала, который не прочь был выпить, что он перешел всякую границу: не помнил, что говорит и делает, заплетался в словах, и на него было так неприятно смотреть, что у меня навернулись слезы на глаза, у меня, скрывавшей тогда или смягчавшей, насколько могла, все, что было в нем предосудительного; императрица была довольна моею чувствительностью и встала ранее обыкновенного из-за стола.
Его Императорское Высочество должен был ехать после обеда на охоту с графом Разумовским. Он остался в Тайнинском, а я вернулась в Раево. Дорогой у меня страшно разболелись зубы; погода становилась холодной и сырой, а в Раеве едва можно было укрыться. Брат Чоглоковой, граф Гендриков, который был дежурным при мне камергером, предложил сестре немедленно меня вылечить; она мне сказала, я согласилась попробовать его средство, которое мне показалось пустячным или, вернее, вполне шарлатанским; он тотчас же пошел в другую комнату и принес оттуда очень маленькую бумажную трубочку, которую велел жевать больным зубом; едва я сделала то, что он мне сказал, как зубная боль моя стала такой сильной, что я должна была лечь в постель; у меня сделалась сильная лихорадка и такой жар, что я стала бредить.
Чоглокова, испуганная моим состоянием и приписывая его средству своего брата, побранилась с ним; она не отходила от моей постели всю ночь и послала сказать императрице, что ее дом в Раеве никоим образом не годится ни для кого, кто был так тяжко болен, как ей думалось, я была больна; она так хлопотала, что на следующий день меня совсем больную отвезли в Москву. Я была дней десять-двенадцать в постели, и зубная боль начиналась у меня каждый день после обеда в один и тот же час.
В начале сентября императрица отправилась в Воскресенский монастырь, куда мы получили приказание приехать ко дню ее именин. В этот день она назначила своим камер-юнкером Ивана Ивановича Шувалова. Это было событием при дворе; все шептали друг другу на ухо, что это новый фаворит; я радовалась его возвышению, потому что, когда он еще был пажом, я его заметила, как человека много обещавшего по своему прилежанию; его всегда видели с книгой в руке.
У меня по возвращении из этой поездки сделалась острая боль в горле с сильной лихорадкой. Императрица навестила меня во время этой болезни. Едва я начала поправляться и была еще очень слаба, как Ее Императорское Величество приказала мне через Чоглокову причесать племянницу графини Румянцевой и быть у нее на свадьбе; она выходила за Александра Нарышкина[64], который впоследствии был обер-шенком.
Чоглокова, видя, что я едва еще поправляюсь, была немного огорчена, передавая мне это приказание, которое не доставило мне удовольствия, потому что я ясно видела, как мало заботятся о моем здоровье, а может быть, и о самой жизни; я в этом духе говорила с Владиславовой, которая, казалось, как и я, была очень недовольна этим грубым и беспощадным приказанием.
Я собралась с силами, и в день, назначенный для свадьбы, ко мне в комнату привели невесту, которой я убрала голову моими брильянтами; когда это было сделано, ее повели в придворную церковь для венчания; мне же велели ехать в обществе Чоглоковой и моего двора в дом к Нарышкиным.
А мы жили в Москве во дворце на краю Немецкой слободы; чтобы попасть к Нарышкиным, надо было проехать через всю Москву и сделать по крайней мере семь верст; это было в октябре месяце, около девяти часов вечера; был трескучий мороз и такая гололедица, что можно было ехать только тихим шагом. Я провела по крайней мере два с половиной часа в дороге туда и столько же оттуда, и не было ни одного человека из моей свиты и ни одной лошади, кто бы не упал один или несколько раз.
Наконец, доехав до Казанской церкви, которая возле ворот, называемых Троицкими, мы встретили другое затруднение: в этой церкви венчали в тот самый час сестру Ив[ана] Ив[ановича] Шувалова[65], которую причесывала императрица в то время, как я причесывала Румянцеву, и у этих ворот скопились и спутались кареты; мы останавливались на каждом шагу, потом возобновились падения, так как ни одна лошадь не была подкована на шипы; наконец, мы прибыли, нельзя сказать, однако, чтобы в самом лучшем настроении.
Мы очень долго ждали новобрачных, с которыми случились приблизительно те же приключения, что и с нами. Великий князь сопровождал новобрачных, потом ждали еще императрицу, наконец, сели за стол; после ужина сделали несколько туров парадных танцев по комнате, потом нам велели вести новобрачных в их спальню. Для этого пришлось пройти по нескольким очень холодным коридорам, подняться по нескольким лестницам, не менее холодным, потом проходить через длинные галереи, сколоченные на скорую руку из сырых досок, по которым вода текла со всех сторон.
Наконец, дойдя до покоев, мы сели за стол, на котором было накрыто угощение; там оставались, чтобы выпить только за здоровье новобрачных, потом повели молодую в спальню и вернулись, чтобы ехать домой. На следующий день вечером пришлось туда снова поехать. Кто бы подумал, что вся эта суматоха, вместо того чтобы повредить моему здоровью, нисколько не помешала моему выздоровлению; на следующий день я лучше чувствовала себя, чем накануне.
В начале зимы я увидела, что великий князь очень беспокоится. Я не знала, что это значит; он больше не дрессировал своих собак, раз по двадцати на дню приходил в мою комнату, имел очень огорченный вид, был задумчив и рассеян; он накупил себе немецких книг, но каких книг? Часть их состояла из лютеранских молитвенников, а другая – из историй и процессов каких-то разбойников с большой дороги, которых вешали или колесовали.
Он читал это поочередно, когда не играл на скрипке. Так как он обыкновенно недолго хранил на сердце то, что его удручало, и так как ему некому было рассказать об этом, кроме меня, то я терпеливо выжидала, что он мне скажет.
Наконец, однажды он мне открыл, что его мучило; я нашла, что дело несравненно серьезнее, чем я предполагала. В течение почти всего лета, по крайней мере во время пребывания в Раеве и по дороге в Троицкий монастырь, я видела великого князя почти только за столом и в постели; он ложился после того, как я уже спала, и уходил раньше, чем я просыпалась; остальное время почти все проходило в охоте и в приготовлениях к охоте.
Чоглоков получил от обер-егермейстера, под предлогом развлечения великого князя, две своры: одну из русских собак и с егерями, другую из французских или немецких собак; к этой были приставлены старый доезжачий-француз, мальчик-курляндец и один немец.
Так как Чоглоков стал заправлять русской сворой, Его Императорское Высочество взял на себя иностранную свору, которой Чоглоков вовсе не интересовался; каждый из них входил во все мелочи, касающиеся его части, следовательно, Его Императорское Высочество ходил сам постоянно на псарню, или же охотники приходили докладывать ему о состоянии своры, об ее приключениях и нуждах, и, наконец, коли пошло начистоту, он связался с этими людьми, закусывал и выпивал с ними; на охоте он был всегда среди них.
В Москве стоял тогда Бутырский полк; в этом полку был поручик Асаф Батурин[66], весь в долгу, игрок и всюду известный за большого негодяя, впрочем, человек очень решительный. Не знаю, по какой случайности или каким образом этот человек свел знакомство с охотниками французской своры, но думаю, что те и другие стояли возле села Мытищи или Алексеевского; словом, как бы то ни было, охотники сказали великому князю, что у них был знакомый, поручик Бутырского полка, который выказывает большую преданность Его Императорскому Высочеству и утверждает, что весь полк с ним заодно.
Великий князь охотно выслушал этот рассказ и захотел узнать подробности о полке через своих охотников; ему передали много дурного о начальниках и много хорошего о подчиненных. Батурин, все через охотников, попросил быть представленным великому князю на охоте; на это великий князь вначале согласился не сразу, но затем он стал поддаваться; мало-помалу случилось то, что, когда великий князь был однажды на охоте, Батурин встретился в укромном местечке; при виде его и пав перед ним на колени, Батурин сказал ему, что он клянется не признавать никакого другого государя, кроме него, и что он сделает все, что великий князь прикажет.
Великий князь сказал мне, что он, великий князь, услышав эту клятву, испугался, пришпорил лошадь, оставив Батурина на коленях в лесу, и что охотники, которые его представили, не слышали, что тот сказал. Великий князь утверждал, что он более не имел никаких сношений с этим человеком, и что он даже предупредил охотников, чтобы они остерегались, как бы этот человек не принес им несчастья.
Его настоящее беспокойство происходило оттого, что охотники ему только что сказали, что Батурин был арестован и переведен в Преображенское, где была Тайная канцелярия, которая ведала государственные преступления. Его Императорское Высочество дрожал за своих охотников и очень боялся оказаться замешанным. Что касается охотников, его опасения вскоре осуществились, ибо он узнал несколько дней спустя, что они были арестованы и отвезены в Преображенское.
Я старалась уменьшить его тревогу, указывая ему, что если он действительно не входил ни в какие переговоры с этим человеком, кроме тех, о которых мне говорил, то, как бы тот ни был виноват, я не думаю, чтобы его, великого князя, очень стали винить за его поступок, который, по-моему, был не больше, как неосторожностью, какую он сделал, связавшись со столь дурной компанией.
Затрудняюсь сказать, говорил ли он мне правду; я имею основание думать, что он убавлял, передавая о переговорах, которые, может быть, вел, ибо со мною даже он говорил об этом деле только отрывочными фразами и как будто поневоле; может быть, чрезвычайный страх, который он испытывал, производил на него такое действие.
Вскоре после того он пришел мне сказать, что охотники выпущены на свободу, но с приказанием выслать их за границу, и что они велели ему сказать, что не назвали его, вследствие чего он прыгал от радости, успокоился, и больше не было и речи об этом деле. Что же касается Асафа Батурина, то его нашли очень виновным.
Я не читала и не видела этого дела; но узнала с тех пор, что он замышлял ни более ни менее, как убить императрицу, поджечь дворец и этим ужасным способом, благодаря сумятице, возвести великого князя на престол. Он был осужден, после пытки, к заключению на всю жизнь в Шлиссельбурге, и во время моего царствования за то, что сделал попытку бежать из тюрьмы, был сослан в Камчатку, откуда убежал с Бениовским и был убит в пути, во время грабежа на острове Формозе, в Тихом океане.
15 декабря мы отправились из Москвы в Петербург. Мы ехали день и ночь в санях, которые были открыты. На полдороги у меня снова сделалась сильная зубная боль; несмотря на это, великий князь не соглашался закрыть сани, с трудом соглашался он, чтобы я задернула немного занавеску в кибитке, дабы защититься от холодного и сырого ветра, который дул мне в лицо. Наконец, мы приехали в, где уже была императрица, обогнавшая нас по обыкновению в пути.
Как только я вышла из саней, я пошла в комнаты, нам назначенные, и послала за лейб-медиком императрицы Бургавом[67], племянником знаменитого Бургава, и просила его, чтобы он велел вырвать мне зуб, который меня мучил уже от четырех до пяти месяцев. Он соглашался на это с трудом; но я этого хотела непременно; наконец, он послал за Гюйоном, моим хирургом.
Я села на пол, Бургав – с одной стороны, Чоглоков – с другой, а Гюйон[68] рвал мне зуб; но в ту минуту, как он его вырвал, глаза мои, нос и рот превратились в фонтан; изо рта лила кровь, из носу и глаз – вода. Тогда Бургав, у которого было много здравого смысла, воскликнул: «Какой неловкий!» и, велев подать себе зуб, сказал: «Вот этого-то я и боялся, и вот почему не хотел, чтобы его вырвали».
Гюйон, удаляя зуб, оторвал кусок нижней челюсти, в которой зуб сидел. Императрица подошла к дверям моей комнаты в ту минуту, как это происходило; мне сказали потом, что она растрогалась до слез.
Меня уложили в постель, я очень страдала, больше четырех недель, даже в городе, куда мы, несмотря на то, поехали на следующий день, все в открытых санях.
Я вышла из своей комнаты только в половине января 1750 года, потому что все пять пальцев г. Гюйона были отпечатаны у меня синими и желтыми пятнами на щеке, внизу. В первый день нового года, желая причесаться, я увидела, что мальчик-парикмахер, родом калмычонок, которого я воспитала, был очень красен и с очень отяжелевшими глазами; я спросила, что с ним; он ответил, что у него жар и очень болит голова.
Я его отослала, велев ему идти лечь, потому что действительно он еле держался. Он ушел, и вечером мне доложили, что у него оспа; я отделалась страхом, что схвачу оспу, но не заразилась, хоть он мне и причесывал голову.
Императрица оставалась большую часть Масленой в Царском Селе. Петербург был почти пуст; большая часть оставшихся там лиц жили в Петербурге по обязанности, никто – по своей охоте.
Все придворные, как только двор побывал в Москве и возвращался в Петербург, спешили брать отпуски на год, на шесть месяцев или хоть на несколько недель, чтобы остаться в Москве. Чиновники, например сенаторы и другие, делали то же самое и, когда боялись не получить отпуска, пускали в ход настоящие или притворные болезни мужей, жен, отцов, матерей, братьев, сестер или детей или же процессы и другие деловые и неотложные хлопоты, – словом, требовалось шесть месяцев, а иногда и более, прежде чем двор и город становились тем, чем были до отъезда двора, а в отсутствие двора петербургские улицы зарастали травой, потому что в городе почти не было карет.
При таком положении вещей в настоящую минуту нельзя было рассчитывать на большое общество, особенно для нас, которых держали все взаперти.
Чоглоков вздумал в это время доставить нам развлечение, или, вернее, не зная, что делать самому и жене от скуки, он приглашал нас с великим князем приходить ежедневно после обеда играть у него в покоях, которые он занимал при дворе и которые состояли из четырех-пяти довольно маленьких комнат. Он звал туда дежурных кавалеров и дам и принцессу Курляндскую, дочь герцога Эрнста Иоганна Бирона, прежнего фаворита императрицы Анны. Императрица Елисавета вернула этого герцога из Сибири, куда во время регентства принцессы Анны он был сослан; местом жительства ему назначили Ярославль, на Волге; там он и жил: с женою, двумя сыновьями и дочерью.
Эта дочь не была ни красива, ни мила, ни стройна, ибо она была горбата и довольно мала ростом, но у нее были красивые глаза, ум и необычайная способность к интриге; ее отец и мать не очень ее любили; она уверяла, что они постоянно дурно с ней обращались.
В один прекрасный день она убежала из родительского дома и укрылась у жены ярославского воеводы, Пушкиной. Эта женщина, в восторге, что может придать себе значение при дворе, привезла ее в Москву, обратилась к Шуваловой и бегство принцессы Курляндской из родительского дома объяснила как следствие преследований, которые она терпела от родителей за то, что выразила желание перейти в православие.
В самом деле, первое, что она сделала при дворе, было действительно ее исповедание веры; императрица была ее крестной матерью, после чего ей отвели помещение среди фрейлин. Чоглоков особенно старался выказывать ей внимание, потому что старший брат принцессы положил основание его благополучию, взяв его из Кадетского корпуса, где он воспитывался, в кавалергарды, и держал его при себе для посылок.
Принцесса Курляндская, втершаяся таким образом к нам и игравшая каждый день в триссет в течение нескольких часов с великим князем, с Чоглоковым и со мною, вела себя вначале с большою сдержанностью: она была вкрадчива, и ум ее заставлял забывать, что у нее было неприятного в наружности, особенно когда она сидела; она каждому говорила то, что могло ему нравиться.
Все смотрели на нее, как на интересную сироту, к ней относились как к особе почти без всякого значения. Она имела в глазах великого князя другое достоинство, которое было немаловажным: это была своего рода иностранная принцесса и тем более немка, следовательно, они говорили вместе только по-немецки.
Это придавало ей прелести в его глазах; он начал оказывать ей столько внимания, сколько был способен; когда она обедала у себя, он посылал ей вниз и некоторые любимые блюда со своего стола, и, когда ему попадалась какая-нибудь новая гренадерская шапка или перевязь, он их посылал к ней, чтобы она посмотрела. Это было не единственное приобретение, которое двор сделал в Москве в лице этой Курляндской принцессы, которой могло быть тогда от двадцати четырех до двадцати пяти лет.
Императрица взяла ко двору двух графинь Воронцовых, племянниц вице-канцлера, дочерей графа Романа[69], его младшего брата. Старшей, Марии[70], могло быть около четырнадцати лет, ее сделали фрейлиной императрицы; младшая, Елисавета, имела всего одиннадцать лет; ее определили ко мне; это была очень некрасивая девочка, с оливковым цветом лица и неопрятная до крайности. Они обе начали в Петербурге с того, что схватили при дворе оспу, и младшая стала еще некрасивее, потому что черты ее совершенно обезобразились и все лицо покрылось не оспинами, а рубцами.
К концу Масленой императрица вернулась в город. На первой неделе Поста мы начали говеть. В среду вечером я должна была пойти в баню, в доме Чоглоковой; но накануне вечером Чоглокова вошла в мою комнату, где находился и великий князь, и передала ему от императрицы приказание тоже идти в баню. А бани и все другие русские обычаи и местные привычки не только не были по сердцу великому князю, но он даже смертельно их ненавидел.
Он наотрез сказал, что не сделает ничего подобного; Чоглокова, тоже очень упрямая и не знавшая в своем разговоре никакой осторожности, сказала ему, что это значит не повиноваться Ее Императорскому Величеству. Он стал утверждать, что не надо приказывать того, что противно его натуре, что он знает, что баня, где он никогда не был, ему вредна, что он не хочет умереть, что жизнь ему дороже всего, и что императрица никогда его к такой вещи не принудит.
Чоглокова возразила, что императрица сумеет наказать его за сопротивление. Тут он рассердился и сказал ей вспыльчиво: «Увидим, что она мне сделает, я не ребенок». Тогда Чоглокова стала ему угрожать, что императрица посадит его в крепость. Ввиду этого он принялся горько плакать, и они наговорили друг другу всего, что бешенство могло им внушить самого оскорбительного, и у обоих буквально не было здравого смысла.
В конце концов она ушла и сказала, что передаст слово в слово этот разговор императрице. Не знаю, что она сделала, но она вернулась, и разговор принял другой оборот, ибо она сказала, что императрица говорила и очень сердилась, что у нас еще нет детей, и что она хотела знать, кто из нас двоих в том виноват, что мне она пришлет акушерку, а ему – доктора; она прибавила ко всему этому много других обидных и бессмысленных вещей и закончила словами, что императрица освобождает нас от говения на этой неделе, потому что великий князь говорит, что баня повредит его здоровью.
Надо знать, что во время этих разговоров я не открывала рта: во-первых, потому, что оба говорили с такою запальчивостью, что я не находила, куда бы вставить слово; во-вторых, потому, что я видела, что с той и другой стороны говорят совершенно безрассудные вещи. Я не знаю, как судила об этом императрица, но, как бы то ни было, больше не поднимался вопрос ни о том, ни о другом предмете после того, что только что я рассказала.
В половине Поста императрица поехала в Гостилицы к графу Разумовскому, чтобы отпраздновать там его именины, и она послала нас со своими фрейлинами и с нашей обычной свитой в Царское Село. Погода была необыкновенно мягкая и даже жаркая, так что 17 марта не было больше снегу, и пыль стояла по дороге. Приехав в Царское Село, великий князь и Чоглоков принялись охотиться; я же и дамы делали как можно больше прогулок то пешком, то в экипажах; вечером играли в различные игры.
Здесь великий князь стал выказывать решительное пристрастие к принцессе Курляндской, особенно выпивши вечером за ужином, что случалось с ним почти каждый день; он не отходил от нее больше ни на шаг, говорил только с нею, – одним словом, дело это быстро шло вперед в моем присутствии и на глазах у всех, что начинало оскорблять мое тщеславие и самолюбие; мне обидно было, что этого маленького урода предпочитают мне.
Однажды вечером, когда я вставала из-за стола, Владиславова сказала мне, что все возмущены тем, что эту горбунью предпочитают мне; я ей ответила: «Что делать!», у меня навернулись слезы, и я пошла спать. Только что я улеглась, как великий князь пришел спать.
Так как он был пьян и не знал, что делает, то стал мне говорить о высоких качествах своей возлюбленной; я сделала вид, что крепко сплю, чтобы заставить его поскорее замолчать; он стал говорить еще громче, чтобы меня разбудить, и, видя, что я не подаю признаков жизни, довольно сильно ткнул меня раза два-три кулаком в бок, ворча на мой крепкий сон, повернулся и заснул. Я очень плакала в эту ночь – и из-за всей этой истории, и из-за положения, столь же неприятного во всех отношениях, как и скучного.
На следующий день, казалось, ему было стыдно за то, что он сделал; он мне об этом не говорил, я сделала вид, что не почувствовала. Мы вернулись два дня спустя в город; на последней неделе Поста мы возобновили наше говение; великому князю не говорили больше о том, чтобы идти в баню. С ним случилось на этой неделе другое приключение, которое немного его озаботило.
В своей комнате в то время он был так или иначе целый день в движении; в тот день он щелкал громадным кучерским кнутом, который нарочно себе заказал; он размахивал им по комнате направо и налево и заставлял своих камер-лакеев шибко бегать из угла в угол, так как они боялись, что он их исполосует.
Не знаю, как это он сделал, но, как бы то ни было, он сам очень сильно хватил себя по щеке; рубец шел вдоль всей левой части лица и был до крови; он очень встревожился, боясь, что ему даже на Пасхе нельзя будет выходить из-за этого и что императрица из-за его окровавленной щеки снова запретит ему говеть, а когда узнает о причине, то его щелканье кнутом навлечет на него неприятный выговор. В своем несчастии он поспешил прибегнуть ко мне за советом, что всегда делал в таких случаях.
Итак, он прибежал с окровавленной щекой; я воскликнула при виде его: «Боже мой, что с вами случилось?» Он рассказал мне тогда, в чем дело. Подумав немного, я сказала: «Ну, может быть, я вам помогу; прежде всего идите к себе и постарайтесь, чтобы вашу щеку видели как можно меньше; я приду к вам, когда достану то, что мне нужно, и надеюсь, что никто этого не заметит».
Он ушел, а я вспомнила, что несколько лет назад я упала в Петергофском саду, расцарапала щеку до крови, и мой хирург Гюйон дал мне мазь из свинцовых белил; я покрыла царапину, не переставала выходить, и никто даже не заметил, что у меня была оцарапана щека. Я сейчас же послала за этой мазью и, когда мне ее принесли, пошла к великому князю и так хорошо замазала ему щеку, что он даже сам ничего не видел в зеркало.
В четверг мы причащались с императрицей в большой придворной церкви, и, когда причастились и вернулись на наши места, свет упал на щеку великому князю; Чоглоков подошел к нам, чтобы сказать что-то, и, взглянув на великого князя, заметил ему: «Вытрите щеку, на ней мазь». На это я сказала великому князю, как бы шутя: «А я, ваша жена, запрещаю вам вытирать ее». Тогда великий князь сказал Чоглокову: «Видите, как эти женщины с нами обращаются, мы не смеем даже вытереться, когда это им не угодно».
Чоглоков засмеялся и сказал: «Вот уж настоящий женский каприз». Дело тем и закончилось, и великий князь был мне очень признателен и за мазь, которая оказала ему услугу, выручив его из неприятности, и за мою находчивость, не оставившую ни малейшего подозрения даже в Чоглокове.
Так как в ночь на Пасху надо было не спать, я легла в Великую субботу около пяти часов дня, чтобы поспать до того часу, как надо будет одеваться. Как только я легла, великий князь прибежал со всех ног сказать мне, чтобы я немедленно вставала и шла есть только что привезенные из Голштинии совсем свежие устрицы.
Для него было большим и двойным праздником, когда они приходили; он их любил, и вдобавок они были из Голштинии, его родины, к которой он имел особое пристрастие, но которой он не правил от этого лучше и в которой он делал или его заставляли делать ужасные вещи, как это будет видно впоследствии.
Не встать – значило бы разобидеть его и подвергнуться очень большой ссоре; итак, я встала и пошла к нему, хотя и была измучена исполнением всех обрядов говения в течение Страстной недели. Устрицы уже были поданы, когда я пришла к нему; я съела дюжину, после чего он позволил мне вернуться к себе, чтобы снова лечь, а сам остался доканчивать устрицы. Не есть слишком много устриц значило тоже угодить ему, потому что ему оставалось больше, а он был очень жаден до них.
В двенадцать часов я встала и оделась, чтобы идти к Пасхальной заутрене и обедне, но не могла оставаться до конца службы из-за сильных колик, которые со мною случились; не помню, чтобы когда-либо в жизни у меня были такие сильные боли; я вернулась к себе в комнату только с княжной Гагариной, все мои люди были в церкви. Она помогла мне раздеться, лечь, послала за докторами; мне дали лекарство; я провела первые два дня праздника в постели.
Приблизительно около того времени или немного ранее приехали в Россию граф Берни, посол Венского двора, граф Линар, посланник датский, и генерал Арним, посланник саксонский; последний привез с собою свою жену, рожденную Гойм. Граф Берни был из Пьемонта; ему было тогда за пятьдесят; он был умен, любезен, весел и образован и такого характера, что молодые люди его предпочитали и больше развлекались с ним, нежели со своими сверстниками.
Он был вообще любим и уважаем, и я тысячу раз говорила и повторяла, что если бы этот или ему подобный человек был приставлен к великому князю, то это было бы великим благом для этого принца, который так же, как я, оказывал графу Берни привязанность и особый почет и отличие.
Великий князь сам говорил, что с таким человеком возле себя стыдно было бы делать глупости. Прекрасные слова, которых и я никогда не забывала. Граф Берни имел при себе кавалером посольства графа Гамильтона, мальтийского кавалера.
Как-то раз, когда я при дворе спросила у него о здоровье посла графа Берни, который был болен, мне вздумалось сказать кавалеру Гамильтону, что я самого высокого мнения о графе Батиани[71], которого императрица-королева Мария-Терезия назначила тогда воспитателем двоих старших сыновей своих, эрцгерцогов Иосифа и Карла, потому что его предпочли в этой должности графу Берни.
В 1780 году, когда я имела свое первое свидание с императором Иосифом II[72] в Могилеве, Его Императорское Величество сказал мне, что ему известно это мое суждение; я ему возразила, что он знает об этом, вероятно, от графа Гамильтона, который состоял при этом государе после того, как он вернулся из России; он мне сказал тогда, что я верно отгадала и что граф Берни, которого он не знал, оставил по себе репутацию человека, более пригодного для этой должности, чем его прежний воспитатель.
Граф Линар, посланник Датского короля, был отправлен в Россию, чтобы вести переговоры об обмене Голштинии, принадлежавшей великому князю, на графство Ольденбург. Это был человек, соединявший в себе, как говорили, большие знания с такими же способностями; внешностью он походил на самого настоящего фата.
Он был статен, хорошо сложен, рыжевато-белокурый, с белым, как у женщины, цветом лица; говорят, он так холил свою кожу, что ложился спать не иначе, как намазав лицо и руки помадой, и надевал на ночь перчатки и маску. Он хвастался тем, что имел восемнадцать детей, и уверял, что всех кормилиц своих детей приводил в положение, в котором они вторично могли кормить.
Этот граф Линар, такой белый, носил датский белый орден, и у него не было другого платья, кроме самых светлых цветов, как, например, голубого, абрикосового, сиреневого, телесного и проч., хотя в то время на мужчинах еще редко можно было видеть такие светлые цвета. Великий канцлер граф Бестужев и его жена принимали у себя графа Линара как родного, очень с ним носились, но это не уберегло его фатоватости от насмешек.
Против него было еще одно обстоятельство, состоявшее в том, что еще довольно свежо было в памяти, как брат его был более чем хорошо принят принцессой Анной, регентство которой все осуждали. А с тех пор как этот человек приехал, он не нашел ничего более неотложного, как хвастаться возложенными на него переговорами относительно обмена Голштинии на графство Ольденбург. Великий канцлер граф Бестужев призвал к себе Пехлина, министра Голштинского герцогства при великом князе, и рассказал ему то, с чем Линар приехал.
Пехлин сделал об этом доклад великому князю. Этот страстно любил свою Голштинскую страну. С Москвы уже представляли Его Императорскому Высочеству о ее несостоятельности. Он попросил денег у императрицы. Она дала ему немного; эти деньги не дошли до Голштинии, но ими были уплачены самые неотложные долги Его Императорского Высочества в России.
Пехлин представлял дела в Голштинии со стороны финансов безнадежными; это Пехлину было не трудно, потому что великий князь полагался на него в управлении и мало или вовсе не обращал на него внимания, так что однажды Пехлин, выведенный из терпения, сказал ему, медленно отчеканивая слова: «Ваше Высочество, от государя зависит вмешиваться или не вмешиваться в дела его страны; если он не вмешивается, страна управляется сама собою, но управляется плохо».
Этот Пехлин был человек очень маленький и очень толстый, носил громадный парик, но он не лишен был ни знаний, ни способностей; в этой короткой и толстой фигуре жил ум тонкий и проницательный; его обвиняли только за неразборчивость в средствах. Великий канцлер граф Бестужев имел к нему большое доверие, и это был один из его ближайших доверенных.
Пехлин докладывал великому князю, что слушать – не значит вести переговоры, а от ведения переговоров до принятия условий еще очень далеко, что в его власти будет всегда прервать их, когда он найдет это нужным, – словом, мало-помалу, он заставил его разрешить Пехлину выслушать предложения датского посланника, и этим переговоры были открыты. В сущности, они огорчали великого князя; он стал мне о них говорить.
Я, которая была воспитана в старинной вражде Голштинского дома против Датского и которой всегда проповедовали, что граф Бестужев всегда имел только вредные великому князю и мне планы, я приняла известие об этих переговорах с большим раздражением и беспокойством и противодействовала им у великого князя, сколько могла; мне, впрочем, кроме него, никто не говорил об этом ни слова, и ему предписывали держать это в величайшей тайне, в особенности, прибавляли, по отношению к дамам.
Я думаю, что это предостережение касалось меня больше, нежели других; но в этом ошибались, потому что первым делом великого князя было сказать мне об этом.
Чем больше подвигались переговоры, тем больше старались выставить их великому князю в благоприятном и заманчивом виде; часто я видела его в восхищении от того, что он приобретет; затем он испытывал мучительные колебания и сожаления о том, что ему приходилось потерять. Когда видели, что он колеблется, замедляли переговоры и возобновляли их лишь после того, как изобретали какую-нибудь новую приманку, чтобы заставить его видеть вещи в благоприятном свете.
В начале весны нас перевели на житье в Летний сад, в маленький Петровский домик, где комнаты выходят прямо в сад; ни каменной набережной, ни моста на Фонтанке тогда еще не существовало. В этом домике у меня было одно из самых сильных огорчений, какие я имела в царствование императрицы Елисаветы.
Как-то раз утром пришли сказать мне, что императрица уволила от меня моего старинного камердинера Тимофея Евреинова. Предлогом для этого изгнания была ссора Евреинова в моей гардеробной с человеком, подававшим нам кофе; на эту ссору пришел великий князь и услышал часть ругательств, которыми они обменивались. Противник Евреинова пошел жаловаться Чоглокову и сказал, что тот наговорил ему, без всякого уважения к присутствию великого князя, массу грубостей.
Чоглоков тотчас же доложил об этом императрице, которая велела обоих уволить от двора, и Евреинова сослали в Казань, где он был впоследствии полицмейстером. Правда в этом деле заключалась в том, что и Евреинов, и другой лакей были к нам очень привязаны, особенно первый, и это было лишь давно желанным предлогом, чтобы удалить его от меня; у него было на руках все, что мне принадлежало.
Императрица приказала, чтобы человек, которого Евреинов взял в помощники и которого звали Шкуриным[73], занял его место; к этому человеку я не имела тогда никакого доверия. Вскоре нас перевели из Петровского домика в Летний деревянный дворец, где нам приготовили новые покои; одна сторона дворца выходила на Фонтанку, которая была тогда лишь грязным болотом, а другая – на гадкий узкий дворишко.
В Троицын день императрица приказала мне пригласить супругу саксонского посланника г-жу Арним поехать со мною верхом в Екатериненгоф. Эта женщина хвасталась, что любит ездить верхом, и уверяла, что справляется с этим отлично; императрица хотела видеть, насколько это правда. Я послала пригласить госпожу Арним ехать со мною. Это была высокая стройная женщина лет двадцати пяти-шести, несколько худощавая и очень некрасивая, лицо у нее было слишком длинное и рябоватое, но так как она хорошо одевалась, то издали она производила известный эффект и казалась довольно беленькой.
Арним пришла ко мне около пяти часов пополудни, одетая с головы до ног в мужской костюм из красного сукна, обшитого золотым галуном; куртка была зеленая гродетуровая, тоже вышитая золотом. Она не знала, куда девать шляпу и руки, и показалась нам довольно неуклюжей.
Так как я знала, что императрица не любит, чтобы я ездила верхом по-мужски, то я велела приготовить себе английское дамское седло и надела английскую амазонку из очень дорогой материи, голубой с серебром, отделанную хрустальными пуговицами, которые до неузнаваемости походили на брильянты, и черная шапочка моя была окружена шнурком из брильянтов.
Я спустилась, чтоб садиться на лошадь; в эту минуту императрица пришла к нам в комнаты посмотреть, как мы поедем. Так как я была тогда очень ловка и очень привычна к верховой езде, то, как только я подошла к лошади, так на нее и вскочила; юбку, которая у меня была разрезная, я спустила по бокам лошади.
Мне передали, что императрица, видя, с каким проворством и ловкостью я вскочила на лошадь, изумилась и сказала, что нельзя быть лучше меня на лошади; она спросила, на каком я седле, и, узнав, что на дамском, сказала: «Можно поклясться, что она на мужском седле». Когда очередь дошла до Арним, она не блеснула ловкостью перед Ее Императорским Величеством.
Эта дама велела привести свою лошадь из дому; то была старая вороная кляча, очень большая и тяжелая и, как уверяли наши придворные, упряжная из ее кареты. Ей понадобилась лесенка, чтобы влезть. Все это сопровождалось всякими церемониями, и, наконец, с помощью нескольких лиц, она уселась на свою клячу, которая пошла довольно неровной рысью, так что порядком трясла даму, которая не была тверда ни в седле, ни в стременах и которая держалась рукой за луку. Видя, что она села, я поехала вперед, а за мной кто мог, тот и поспевал.
Я догнала великого князя, который уехал вперед, а Арним со своей клячей осталась позади. Мне говорили, что императрица очень смеялась и не осталась довольна верховой ездою Арним. На некотором расстоянии от двора, кажется, Чоглокова, ехавшая в карете, взяла к себе эту даму, терявшую то шляпу, то стремена; наконец, нам ее доставили в Екатериненгоф, но приключения этим еще не закончились.
В этот день шел дождь до трех часов пополудни, и площадка у лестницы Екатерингофского дома была покрыта лужами; сойдя с лошади и пробыв некоторое время в зале этого дома, где было много народу, я вздумала пройти через открытый подъезд в комнату, где были мои женщины. Арним хотела идти за мною, и так как я шла очень скоро, то она поспевала только бегом, попала в лужу, поскользнулась и растянулась во весь рост, – это вызвало смех многочисленных зрителей, бывших на крыльце.
Она поднялась немного сконфуженная, свалила всю вину своего падения на новые сапоги, которые в этот день надела. Мы вернулись с прогулки в карете, и по дороге Арним расхваливала нам доброту своей клячи, а мы кусали губы, чтоб не рассмеяться. Одним словом, в течение нескольких дней она была посмешищем двора и города.
Мои женщины уверяли, что она упала потому, что хотела мне подражать, не будучи так ловка, как я. Чоглокова, которая не была смешлива, хохотала до слез, когда ей об этом напоминали, и даже долгое время спустя.
Из Летнего дворца мы отправились в Петергоф, где в этом году жили в Монплезире. Мы проводили постоянно часть дня у Чоглоковой, и так как у нее бывал народ, то там было довольно весело. Оттуда мы отправились в Ораниенбаум, где каждый Божий день бывали на охоте и иногда проводили по тринадцати часов на лошади.
Лето было, однако, довольно дождливое; помню, что однажды, когда я возвращалась домой вся промокшая, я встретила своего портного, который мне сказал: «Как вы себя отделали; не удивляюсь, что едва поспеваю шить амазонки и что у меня постоянно требуют новых». Я носила их только из шелкового камлота; от дождя они садились, от солнца – выгорали, а следовательно – мне и нужны были все новые.
В это время я придумала себе седла, на которых можно было сидеть как угодно; они были с английским крючком, и можно было перекидывать ногу, чтобы сидеть по-мужски; кроме того, крючок отвинчивался и другое стремя спускалось и поднималось, как угодно и смотря по тому, что я находила нужным.
Когда спрашивали у берейторов, как я езжу, они отвечали: «На дамском седле, согласно с волей императрицы»; они не лгали; я перекидывала ногу только тогда, когда была уверена, что меня не выдадут, и так как я вовсе не хвасталась своей выдумкой и все были рады мне угодить, то я и не имела никаких неприятностей; великому князю было все равно, как я езжу; что касается берейторов, то они находили, что для меня менее риску ездить по-мужски, особенно гоняясь постоянно на охоте, нежели на английском седле, которое они ненавидели, боясь всегда какого-нибудь несчастного случая, за который, может быть, их потом обвинят.
По правде сказать, я была очень равнодушна к охоте, но страстно любила верховую езду; чем это упражнение было вольнее, тем оно было мне милее, так что если какая-нибудь лошадь убегала, то я догоняла ее и приводила назад. В это время у меня также всегда была с собою в кармане книга, и, если я находила свободную минутку, я употребляла ее на чтение.
Я заметила на этих охотах, что Чоглоков становится гораздо мягче, особенно со мною; это внушило мне опасение, как бы он не вздумал ухаживать за мною, что мне отнюдь не было на руку; во-первых, сама особа его нисколько мне не нравилась: он был белокурый, хлыщеватый, очень толстый и так же тяжел умом, как и телом; его все ненавидели, как жабу, и он совершенно ничем не был приятен; ревность его жены, ее злость и недоброжелательность были также вещами, которых следовало избегать, особенно мне, не имевшей на свете никакой другой опоры, кроме себя самой и своих достоинств, если они у меня были.
А потому я остерегалась и избегала, как мне казалось, очень ловко всех преследований Чоглокова, но таким образом, что ему никогда не приходилось жаловаться на мое обращение. Это было отлично замечено его женою, которая была мне за это благодарна и которая меня впоследствии очень полюбила, отчасти из-за этого, как я потом расскажу.
При нашем дворе было двое камергеров Салтыковых, сыновей генерал-адъютанта Василия Федоровича Салтыкова, жена которого, Мария Алексеевна, урожденная княжна Голицына, мать этих двух молодых людей, была в большой чести у императрицы за отличные услуги, оказанные ей при вступлении ее на престол, когда она проявила ей редкую верность и преданность. Младший из ее сыновей, Сергей, недавно женился на одной из фрейлин императрицы, Матрене Павловне Балк.
Старшего его брата звали Петром, это был дурак в полном смысле слова, у него была самая глупая физиономия, какую я только видела в моей жизни. Большие неподвижные глаза, вздернутый нос и всегда полуоткрытый рот; при этом он был сплетник первого сорта и, как таковой, был довольно хорошо принят у Чоглоковых, которые, впрочем, считали его незначащим человеком.
Я подозреваю, что это Владиславова, в качестве старинной знакомой матери этого дурака, и внушила Чоглоковым мысль женить его на принцессе Курляндской. Как бы то ни было, но он стал в ряды ее поклонников, сделал предложение, получил ее согласие, а его родители просили согласия императрицы. Великий князь узнал об этом только тогда, когда дело было уже совсем слажено.
По возвращении нашем в город он был этим сильно рассержен и дулся на принцессу Курляндскую. Не знаю, какие привела она ему доводы, но как бы то ни было, хоть он и очень не одобрял ее замужества, но все же она сохранила часть его привязанности и продолжала иметь от него некоторого рода влияние еще очень долгое время.
Я была в восторге от этого брака и велела вышить великолепный свадебный костюм для жениха. Тогда свадьбы при дворе по получении согласия императрицы совершались только по истечении нескольких лет ожидания, потому что Ее Императорское Величество сама назначала день, очень часто надолго это забывала, а когда ей напоминали, она откладывала с одного срока на другой. Так было в данном случае и с этой свадьбой.
Осенью мы возвратились в город, и я имела удовольствие видеть, как принцесса Курляндская и Петр Салтыков благодарили Ее Императорское Величество за согласие, которое она соизволила дать на их брак. Впрочем, семья Салтыковых была одна из самых древних и знатных в империи. Она даже была в свойстве с императорским домом через мать императрицы Анны, которая была Салтыковой, но от другой ветки, чем эти, между тем как Бирон, сделанный принцем Курляндским по милости императрицы Анны, был только сыном бедного мелкого фермера одного курляндского дворянина.
Этого фермера звали Бирен, но фавор, которым пользовался в России сын, сделал то, что семья Биронов во Франции приняла его в свой род, по уговору кардинала Флери[74], который, желая привлечь русский двор, поощрял честолюбие и тщеславие Бирена, герцога Курляндского. Как только мы вернулись в город, нам сказали, что, кроме двух дней в неделю, уже назначенных для французской комедии, будут еще два раза в неделю маскарады.
Великий князь прибавил к этому еще один день для концертов у него, а по воскресеньям обыкновенно был куртаг. Итак, мы собирались провести довольно веселую и оживленную зиму.
Один из маскарадных дней был только для двора и для тех, кого императрице угодно было допустить; другой – для всех сановных лиц города, начиная с чина полковника, и для тех, кто служил в гвардии в офицерских чинах; иногда допускалось и на этот бал дворянство и наиболее именитое купечество.
Придворные балы не превышали числом человек полтораста-двести; на тех же, которые назывались публичными, бывало до 800 масок. Императрице вздумалось в 1744 году в Москве заставлять всех мужчин являться на придворные маскарады в женском платье, а всех женщин – в мужском, без масок на лице; это был собственный куртаг навыворот.
Мужчины были в больших юбках на китовом усе, в женских платьях и с такими прическами, какие дамы носили на куртагах, а дамы – в таких платьях, в каких мужчины появлялись в этих случаях. Мужчины не очень любили эти дни превращений; большинство были в самом дурном расположении духа, потому что они чувствовали, что они были безобразны в своих нарядах; женщины большею частью казались маленькими, невзрачными мальчишками, а у самых старых были толстые и короткие ноги, что не очень-то их красило.
Действительно и безусловно хороша в мужском наряде была только сама императрица, так как она была очень высока и немного полна; мужской костюм ей чудесно шел; вся нога у нее была такая красивая, какой я никогда не видала ни у одного мужчины, и удивительно изящная ножка. Она танцевала в совершенстве и отличалась особой грацией во всем, что делала, одинаково в мужском и в женском наряде. Хотелось бы все смотреть, не сводя с нее глаз, и только с сожалением их можно было оторвать от нее, так как не находилось никакого предмета, который бы с ней сравнялся.
Как-то на одном из этих балов я смотрела, как она танцует менуэт; когда она закончила, она подошла ко мне; я позволила себе сказать ей, что счастье женщин, что она не мужчина, и что один ее портрет, написанный в таком виде, мог бы вскружить голову многим женщинам. Она очень хорошо приняла то, что я ей сказала от полноты чувств, и ответила мне в том же духе самым милостивым образом, сказав, что если бы она была мужчиной, то я была бы той, которой она дала бы яблоко.
Я наклонилась, чтобы поцеловать ей руку за такой неожиданный комплимент; она меня поцеловала, и все общество старалось отгадать, что произошло между императрицей и мною. Я не утаила этого от Чоглоковой, которая пересказала на ухо двум-трем лицам, и из уст в уста через четверть часа почти все это узнали.
Когда двор был в последний раз в Москве, князь Юсупов[75], сенатор и директор Кадетского корпуса, был главным командиром города Санкт-Петербурга, где он оставался в отсутствие двора. Для собственного развлечения и увеселения главных особ, которые там с ним находились, он заставлял кадетов играть поочередно лучшие трагедии, как русские, которые тогда сочинял Сумароков, так и французские трагедии Вольтера.
В этих последних сии молодые люди так же плохо произносили слова, как играли, и так как женские роли исполнялись тоже кадетами, то эти пьесы вообще были изуродованы. По возвращении своем из Москвы императрица приказала, чтобы пьесы Сумарокова были разыграны при дворе этой труппой молодых людей. Императрица находила удовольствие в этих представлениях, и вскоре заметили, что она смотрела на эту игру с бо́льшим, нежели можно было ожидать, интересом.
Театр, который был устроен в одной из зал дворца, был перенесен во внутренние ее покои; она находила удовольствие в том, чтобы наряжать актеров; она заказала им великолепные костюмы, и они сплошь были покрыты драгоценными камнями Ее Императорского Величества. Заметили особенно, что первый любовник, довольно красивый восемнадцати– или двадцатилетний юноша, был, как то и полагалось, самый нарядный; но на нем видели и вне театра брильянтовые пряжки, кольца, часы, кружева и очень изысканное белье.
Наконец, он вышел из Кадетского корпуса, и обер-егермейстер граф Разумовский, прежний фаворит императрицы, тотчас же взял его к себе в адъютанты, что этому последнему дало чин капитана. Тогда царедворцы стали делать заключения на свой лад и вообразили, что так как граф Разумовский взял к себе в адъютанты кадета Бекетова[76], то это не могло иметь другой цели, как подорвать фавор камер-юнкера Шувалова, который не был ни в хороших, ни в дружественных отношениях с семьею Разумовских, и отсюда было выведено наконец заключение, что этот молодой человек начинает пользоваться очень большой милостью императрицы.
Узнали, кроме того, что Разумовский приставил к своему новому адъютанту другого юнца, которого он и назначил, Ивана Перфильевича Елагина[77]. Этот последний был женат на прежней горничной императрицы; она-то и позаботилась снабдить молодого человека бельем и кружевами, о которых выше упомянуто; так как она вовсе не была богата, то можно было легко догадаться, что деньги на эти расходы шли не из кошелька этой женщины.
Никто не был более заинтригован начинающимся фавором этого молодого человека, как моя фрейлина княжна Гагарина, которая была уже не молода и искала себе партии по вкусу; у нее было свое состояние, она не была красива, но очень умна и ловка, ей во второй раз довелось остановить свой выбор на том самом лице, которое потом пользовалось фавором императрицы: первым был Шувалов, вторым – тот самый Бекетов, о котором только что шла речь.
Множество молодых и красивых женщин дружили с княжной Гагариной, кроме того, у нее была многочисленная родня; родня эта обвиняла Шувалова в том, что он был скрытой причиной тех постоянных выговоров, которые императрица делала княжне Гагариной относительно ее наряда и запрещала ей, как и многим другим молодым дамам, носить те или другие тряпки; от злости на это княжна Гагарина и все молодые хорошенькие придворные дамы на чем свет бранили Шувалова и принялись его ненавидеть, хотя прежде очень любили; он думал их смягчить, ухаживая за ними и передавая им разные любезности через самых доверенных своих людей, а они смотрели на это, как на новые оскорбления.
Его всюду отталкивали и дурно принимали; все эти женщины смотрели на него, как на чуму, от которой надо было бежать. Между тем великий князь подарил мне маленького английского пуделя, какого я хотела иметь.
У меня в комнате был истопник, Иван Ушаков, и ему поручили ходить за этим пуделем. Не знаю, почему, но другие слуги вздумали звать моего пуделя Иваном Ивановичем, по имени этого человека.
Пудель этот сам по себе был забавным животным; он ходил большею частью на задних лапках, словно человек, и был необычайно взбалмошный, так что я и мои женщины причесывали и одевали его каждый день по-разному, и чем больше на него напутывали, тем больше он бесновался; он садился с нами за стол, ему надевали салфетку, и он очень чисто ел со своей тарелки; потом он поворачивал голову и тявкал, прося пить у того, кто стоял за его стулом; иногда он влезал на стол, чтобы взять то, что ему приходилось по вкусу, как, например, пирожок или сухарик или что-нибудь в этом роде, что смешило всю компанию.
Так как он был мал, то он никого не беспокоил, и ему все позволяли, потому что он не злоупотреблял свободой, которой пользовался, и был образцовой чистоты. Этот пудель забавлял нас в течение всей зимы; летом мы взяли его с собою в Ораниенбаум; камергер Салтыков-младший приехал к нам с женой, и эта последняя и все наши придворные дамы целыми днями только и делали, что шили моему пуделю разные чепцы и одеяния и друг у друга его отбивали.
Наконец, Салтыкова так его полюбила, что он особенно к ней привязался, и, когда она уезжала, ни пудель не хотел от нее уходить, ни она от него, и она так просила отпустить его с ней, что я отдала его. Она взяла его под мышку и отправилась вместе с пуделем в деревню к своей свекрови, которая тогда была больна.
Свекровь, при виде ее с собакой, выделывавшей разные штуки, захотела узнать ее кличку; услышав, что ее зовут Иваном Ивановичем, она не преминула выразить свое удивление в присутствии разных придворных особ, которые приехали навестить ее из Петергофа. Последние вернулись ко двору, и через три-четыре дня весь двор и город были заняты рассказами о том, как все молодые женщины, враги Шувалова, имеют каждая по белому пуделю, с кличкой Иван Иванович, в насмешку над фаворитом императрицы, что они заставляют этих пуделей выделывать разные штуки и носить светлые цвета, в которые он любил рядиться.
Дело дошло до того, что императрица велела сказать родителям этих молодых дам, что она находит дерзким позволять такие вещи. Пуделю тотчас же переменили кличку, но с ним по-прежнему носились, и он оставался в доме Салтыковых любимцем своих хозяев до самой смерти, несмотря на императорский из-за него выговор. В сущности это была клевета; только одну эту собаку так называли, да и то она была черная, и о Шувалове не думали, когда давали ей эту кличку.
Что касается Чоглоковой, не любившей Шуваловых, то она делала вид, что не обратила внимания на кличку собаки, которую она, однако, постоянно слышала, и сама не раз кормила эту собаку пирожками и смеялась над ее шалостями и фокусами.
Во время последних зимних месяцев и частых придворных балов и маскарадов при дворе снова появились двое прежних моих камер-юнкеров, назначенных полковниками в армию, Александр Вильбуа и граф Захар Чернышев; так как они искренне были ко мне привязаны, то я была очень рада их видеть и сообразно с этим приняла их; они, со своей стороны, пользовались каждым случаем, когда могли дать доказательства своего искреннего расположения.
Я тогда очень любила танцы; на публичных балах я обыкновенно до трех раз меняла платья; наряд мой был всегда очень изысканный, и если надетый мною маскарадный костюм вызывал всеобщее одобрение, то я, наверное, ни разу больше его не надевала, потому что поставила себе за правило: раз платье произвело однажды большой эффект, то вторично оно может произвести уже меньший.
На придворных балах, где публика не присутствовала, я зато одевалась так просто, как могла, и в этом немало угождала императрице, которая не очень-то любила, чтобы на этих балах появлялись в слишком нарядных туалетах. Однако, когда дамам было приказано являться в мужских платьях, я являлась в роскошных платьях, расшитых по всем швам, или в платьях очень изысканного вкуса, и это сходило без всякой критики; наоборот, это нравилось императрице, но я не знаю хорошенько, почему. Надо сознаться, что ухищрения кокетства были тогда очень велики при дворе, и что всякий старался отличиться в наряде.
Помню, что как-то раз, на одном из этих публичных маскарадов, узнав, что все делают себе новые и прекраснейшие платья, и потеряв надежду превзойти всех женщин, я придумала надеть гродетуровый белый корсаж (у меня тогда была очень тонкая талия) и такую же юбку на очень маленьких фижмах; я велела убрать волосы спереди как можно лучше, а назади сделать локоны из волос, которые были у меня очень длинные, очень густые и очень красивые; я велела их завязать белой лентой сзади в виде лисьего хвоста и приколола к ним одну только розу с бутонами и листьями, которые до неузнаваемости походили на настоящие; другую я приколола к корсажу; я надела на шею брыжжи из очень белого газу, рукавчики и маленький передник из того же газу и отправилась на бал.
В ту минуту, как я вошла, я легко заметила, что обращаю на себя все взоры. Я прошла, не останавливаясь, через всю галерею и вошла в покои, которые составляли другую половину; я встретила императрицу, которая мне сказала: «Боже мой, какая простота! как! даже ни одной мушки?» Я засмеялась и ответила, что это для того, чтобы быть легче одетой.
Она вынула из своего кармана коробочку с мушками и выбрала из них одну средней величины, которую прилепила мне на лицо. Оставив ее, я вскоре вернулась в галерею, где показала мушку самым близким, а также фавориткам императрицы, и так как мне было очень весело, то в этот вечер я танцевала больше обыкновенного.
Не помню, чтобы когда-либо в жизни я получала столько от всех похвал, как в тот день. Говорили, что я прекрасна, как день, и поразительно хороша; правду сказать, я никогда не считала себя чрезвычайно красивой, но я нравилась, и полагаю, что в этом и была моя сила. Я вернулась домой очень довольная тем, что придумала такую простоту, в то время как остальные наряды были редкой изысканности. В таких развлечениях окончился 1750 год. Г-жа Арним танцевала не лучше, нежели ездила верхом.
Помню, как однажды, когда у меня с ней зашло дело о том, чтоб узнать, кто из нас двоих скорее устанет, оказалось, что это она; усевшись на стул, она призналась, что изнемогает, между тем как я еще танцевала.
Часть II
В начале 1751 года великий князь, полюбивший так же, как и я, посланника Венского двора графа Берни, вздумал говорить с ним о своих голштинских делах, о долгах, которыми страна эта тогда была обременена, и о начатых с его разрешения переговорах с Данией. Он мне сказал как-то раз, чтоб и я поговорила с графом Берни; я ответила, что, если он мне это приказывает, я не премину это сделать. Действительно, на первом же маскараде я подошла к графу Берни, остановившемуся у балюстрады, за которой танцевали, и сказала, что великий князь приказал мне поговорить с ним о делах Голштинии.
Граф Берни выслушал меня с большим интересом и вниманием. Я ему вполне откровенно сказала, что хотя я молода и мне не с кем посоветоваться, в делах, может быть, плохо смыслю и вовсе не имею опыта, который я могла бы привести в свою пользу, но взгляды у меня свои собственные; пусть не хватает для этого многих знаний, но мне кажется прежде всего, что голштинские дела не в таком отчаянном положении, как хотят их представить.
Далее, что касается обмена самого по себе, то я довольно хорошо понимаю, что он может быть полезнее для России, чем лично для великого князя; конечно, ему, как наследнику престола, должен быть дорог и важен интерес империи; если для этого интереса необходимо нужно, чтоб великий князь отделался от Голштинии, дабы прекратить нескончаемый разлад с Данией, то и тогда дело лишь в том, чтобы, сохраняя пока Голштинию, выбрать наиболее благоприятный момент, когда бы великий князь согласился на это; настоящее время, как мне кажется, не такой момент ни для интереса империи, ни для личной славы великого князя; между тем могло бы наступить время или обстоятельства, которые сделали бы этот акт и более важным, и более славным для него, и, может быть, более выгодным для самой Российской империи; но теперь все это имеет вид явной интриги, которая при удаче придаст великому князю такой вид слабости, от которого он не оправится, может быть, в общественном мнении во всю свою жизнь; он, так сказать, лишь немного дней управляет делами своей страны, он страстно любит эту страну, и, несмотря на это, удалось убедить его обменять ее, неизвестно зачем, на Ольденбург, которого он совсем не знает и который больше удален от России; сверх того, один только Кильский порт в руках великого князя может быть важен для русского мореплавания.
Граф Берни вошел во все мои соображения и сказал мне в заключение: «Как посланник на все это я не имею инструкций, но как граф Берни я думаю, что вы правы». Великий князь сказал мне после этого, что имперский посланник ему сказал: «Все, что я могу сказать вам об этом деле, так это то, что, по моему мнению, ваша жена права, и что вы очень хорошо сделаете, если ее послушаете».
Вследствие этого великий князь очень охладел к этим переговорам, что, очевидно, и заметили и что было причиной, по которой стали с ним реже говорить об этом. После Пасхи мы по обыкновению переехали на некоторое время в Летний дворец, а оттуда – в Петергоф. Пребывание здесь с каждым годом становилось короче.
В этом году случилось событие, которое дало придворным пищу для пересудов. Оно было подстроено интригами Шуваловых. Полковник Бекетов, о котором говорилось выше, со скуки и не зная, что делать во время своего фавора, который дошел до такой степени, что со дня на день ждали, кто из двоих уступит свое место другому, то есть Бекетов ли Ивану Шувалову, или последний первому, – вздумал заставлять малышей певчих императрицы петь у себя.
Он особенно полюбил некоторых из них за красоту их голоса, и так как и он сам, и его друг Елагин были стихотворцы, то он сочинял для них песни, которые дети пели. Всему этому дали гнусное толкование; знали, что ничто не было так ненавистно в глазах императрицы, как подобного рода порок. Бекетов, в невинности своего сердца, прогуливался с этими детьми по саду: это было вменено ему в преступление.
Императрица уехала в Царское Село дня на два и потом вернулась в Петергоф, а Бекетов получил приказание остаться там под предлогом болезни. Он там остался в самом деле с Елагиным, схватил там горячку, от которой чуть не умер, и в бреду он говорил только об императрице, которой был всецело занят; он поправился, но остался в немилости и удалился, после чего был переведен в армию, где не имел никакого успеха. Он был слишком изнежен для военного ремесла.
В это время мы поехали в Ораниенбаум, где бывали каждый день на охоте; к осени вернулись в город.
В сентябре императрица определила камер-юнкером к нашему двору Льва Нарышкина[78]. Он только что вернулся с матерью, братом, женой этого последнего и с тремя своими сестрами из Москвы. Это была одна из самых странных личностей, каких я когда-либо знала, и никто не заставлял меня так смеяться, как он.
Это был врожденный арлекин, и если бы он не был знатного рода, к какому он принадлежал, то он мог бы иметь кусок хлеба и много зарабатывать своим действительно комическим талантом: он был очень неглуп, обо всем наслышан, и все укладывалось в его голове оригинальным образом.
Он был способен создавать целые рассуждения о каком угодно искусстве или науке; употреблял при этом технические термины, говорил по четверти часа и более без перерыву, и в конце концов ни он и никто другой ничего не понимали во всем, что лилось из его рта потоком вместо связанных слов, и все под конец разражались смехом.
Он, между прочим, говорил об истории, что он не любит истории, в которой были только истории, и что, для того чтобы история была хороша, нужно, чтобы в ней не было историй, и что история, впрочем, сводится к набору слов. Еще в вопросах политики он был неподражаем. Когда он начинал о ней говорить, ни один серьезный человек этого не выдерживал без смеха.
Он говорил также, что хорошо написанные комедии большею частью скучны. Как только он был назначен ко двору, императрица дала его старшей сестре приказание выйти замуж за некоего Сенявина[79], который для этого был определен камер-юнкером к нашему двору. Это было громовым ударом для девицы, которая вышла за него замуж лишь с величайшим отвращением.
Брак этот был очень дурно принят обществом, которое взвалило всю вину на Шувалова, фаворита императрицы; он имел большую склонность к этой девице до своего фавора, и ее так неудачно выдали замуж только для того, чтобы он потерял ее из виду. Это было поистине тираническое преследование; наконец, она вышла за него замуж, впала в чахотку и умерла.
В конце сентября мы снова перешли в Зимний дворец. При дворе в это время был такой недостаток в мебели, что те же зеркала, кровати, стулья, столы и комоды, которые нам служили в Зимнем дворце, перевозились за нами в Летний дворец, а оттуда – в Петергоф и даже следовали за нами в Москву.
Билось и ломалось в переездах немалое количество этих вещей, и в таком поломанном виде нам их и давали, так что трудно было ими пользоваться; так как нужно было особое приказание императрицы на получение новых вещей и большею частью трудно, а подчас и невозможно было до нее добраться, то я решила мало-помалу покупать себе комоды, столы и самую необходимую мебель на собственные деньги, как для Зимнего, так и для Летнего дворца, и, когда мы переезжали из одного в другой, я находила у себя все, что мне было нужно, без хлопот и потерь при перевозке. Такой порядок полюбился великому князю; он завел такой же для своих покоев.
Что касается Ораниенбаума, принадлежавшего великому князю, мы там имели за свой счет все, что нам было нужно. Для своих комнат в этом дворце я все покупала на свои деньги, во избежание всяких споров и затруднений, ибо Его Императорское Высочество, хотя и очень был мотоват на все свои прихоти, но жалел денег на все, что меня касалось, и, вообще, вовсе не был щедрым; но так как то, что я делала для своих комнат на собственный кошт, служило к украшению дома, то он был очень этим доволен.
В течение этого лета Чоглокова особенно меня полюбила, и так искренно, что, вернувшись в город, не могла без меня обойтись и скучала, когда я не бывала с ней. Сущность этой привязанности заключалась в том, что я совсем не отвечала на привязанность, которую ее супругу угодно было ко мне проявить, что придало мне необычайную заслугу в глазах этой женщины.
По возвращении в Зимний дворец Чоглокова каждый день после обеда присылала за мной с приглашением к себе; у нее бывало немного народу, но все же больше, чем у меня, где я была одна за чтением или с великим князем, который появлялся только затем, чтобы ходить большими шагами по моей комнате и говорить о вещах, которые его интересовали, но для меня не имели никакой цены.
Эти прогулки продолжались часа по два и повторялись несколько раз в день; надо было шагать с ним до изнеможения, слушать со вниманием; надо было ему отвечать, а речи его были большею частью бессвязны, и воображение его часто разыгрывалось. Помню, что как-то раз он был занят почти целую зиму проектом постройки в Ораниенбауме дачи в виде капуцинского монастыря, где он, я и весь двор, который его сопровождал, должны были быть одеты капуцинами; он находил это одеяние прелестным и удобным.
Каждый должен был иметь клячу и по очереди ездить на ней за водой или возить провизию в мнимый монастырь; он помирал со смеху и был вне себя от удовольствия ввиду изумительных и забавных эффектов, какие произведет его выдумка. Он заставил меня набросать карандашом план этой чудесной затеи, и каждый день надо было прибавлять или убавлять что-нибудь.
Как я ни была полна решимости быть в отношении к нему услужливой и терпеливой, признаюсь откровенно, что очень часто мне было невыносимо скучно от этих посещений, прогулок и разговоров, ни с чем по нелепости не сравнимых. Когда он уходил, самая скучная книга казалась восхитительным развлечением.
К концу осени при дворе возобновились дворцовые и публичные балы, так же как и погоня за нарядами и изысканностью маскарадных костюмов. Граф Захар Чернышев вернулся в Петербург; как к старинному знакомому я продолжала очень хорошо к нему относиться; от меня зависело на этот раз принимать его ухаживания, как мне угодно. Он начал с того, что сказал мне, что находит меня очень похорошевшей. В первый раз в жизни мне говорили подобные вещи. Мне это понравилось и даже больше: я простодушно поверила, что он говорит правду.
На каждом балу – новые разговоры в том же духе; как-то раз княжна Гагарина принесла мне от него девиз; разламывая его, я заметила, что он был вскрыт и подклеен; билетик в нем был, как всегда, печатный, но это были два стиха, очень нежных и чувствительных. Я велела принести себе после обеда девизы и стала искать между ними билетик, который мог бы отвечать, не компрометируя меня, на его билетик; нашла подходящий, положила его в девиз, изображавший апельсин, и дала его княжне Гагариной, которая передала его графу Чернышеву.
На следующий день она принесла мне от него еще девиз, но на этот раз я нашла в нем его собственноручную записку в несколько строк. На этот раз и я ответила, и вот мы с ним в правильной, очень чувствительной переписке. На первом маскараде, танцуя со мною, он стал мне говорить, что имеет сказать мне тысячу вещей, которых не смеет доверить бумаге или вложить в девиз, так как княжна Гагарина может раздавить его в кармане или потерять по дороге, а потому он просит назначить ему на минуту свидание у меня в комнате или где это я найду удобным.
Я ответила ему, что это совершенно невозможно, что мои комнаты совершенно недоступны и что я также не могу выходить из них. Он мне сказал, что переоденется, если это нужно, лакеем, но я наотрез отказалась, и дело остановилось на переписке, какую прятали в девизы. Наконец, княжна Гагарина спохватилась, что из этого может выйти, стала бранить меня за то, что я ей это поручаю, и не захотела больше принимать девизы.
Между тем окончился 1751 год и начался 1752 год. В конце Масленой граф Чернышев уехал в свой полк. За несколько дней до его отъезда мне надо было пустить кровь. Это было в субботу; в следующую среду Чоглоков пригласил нас к себе на остров в устье Невы; он имел там дом, состоявший из одного зала посередине и нескольких боковых комнат. Рядом с этим домом он велел устроить катальные горы.
Приехав туда, я застала графа Романа Воронцова, который, увидав меня, сказал: «Я все устроил, я заказал отличные санки для катанья с гор». Так как он и раньше часто меня катал, я охотно приняла его предложение, и тотчас же он велел привезти санки, в которых было своего рода маленькое кресло; я в него уселась, а он стал позади меня, и мы начали спускаться, но на половине ската он не справился с санями: они опрокинулись, я вылетела вон, а граф Воронцов, очень тяжеловесный и неуклюжий, повалился на меня, или, вернее, на мою левую руку, из которой дня за четыре, за пять назад пускали кровь. Я поднялась, и он также, и мы пошли пешком к придворным саням, поджидавшим всех, кто скатывался, и отвозившим их на место, откуда они спускались, чтобы желающие могли снова кататься.
Сидя в этих санях с княжною Гагариной, которая вместе с графом Иваном Чернышевым поехала со мною, причем Чернышев и Воронцов стояли на запятках, я почувствовала, что левую мою руку обдает теплом от неизвестной мне причины; я засунула правую руку в рукав шубы, чтобы узнать, в чем дело, и, вытащив ее, увидела, что она в крови. Я сказала обоим графам и княжне, что, по-видимому, у меня открылась жила и что из нее течет кровь.
Они погнали сани, и, вместо гор, мы отправились домой; там мы нашли только одного тафельдекера. Я сняла шубу, тафельдекер дал нам уксусу, и граф Чернышев исполнял обязанности хирурга. Мы все согласились и рта не открывать насчет этого происшествия. Как только рука моя была перевязана, я вернулась на горы; весь остальной вечер я танцевала; потом мы поужинали, я вернулась домой, и никто не подозревал, что со мною случилось; однако от этого у меня почти на месяц как бы отнялся большой палец на руке; но понемногу это прошло.
Потом у меня была сильная перебранка с Чоглоковой; вот в чем дело. Мать моя с некоторых пор находилась в Париже; старший сын генерала Ивана Федоровича Глебова[80], вернувшись из этой столицы, передал мне от матери два куска очень богатых и красивых материй. Глядя на них в присутствии Шкурина, который их развертывал у меня в уборной, я невольно сказала, что эти материи так хороши, что мне хотелось бы подарить их императрице.
И, действительно, я выжидала минуту, чтобы сказать о них Ее Императорскому Величеству; я видела ее очень редко, и то большей частью в публике. Я не говорила об этом с Чоглоковой. Это был подарок, который я хотела сделать лично; я запретила Шкурину говорить кому бы то ни было о том, что у меня сорвалось с языка только при нем; но он первым делом поспешил передать тотчас Чоглоковой то, что у меня сорвалось с языка.
Через несколько дней, в одно прекрасное утро Чоглокова вошла ко мне и сказала, что императрица велела поблагодарить меня за материи, что она оставила одну, а другую возвращает мне. Я была поражена от удивления, услышав это. Я сказала: «Как?» Тогда Чоглокова ответила мне, что она снесла мои материи императрице, услыхав, что я их предназначаю Ее Императорскому Величеству.
Тут я так рассердилась, как и не упомню, чтобы это со мной случалось; я бормотала, почти не могла говорить, но все же сказала Чоглоковой, что я радовалась тому, что подарю сама эти материи императрице, и что она лишила меня этой радости; что она, Чоглокова, не могла знать моих намерений, потому что я ей не говорила о них, и что если она их знала, то только из уст предателя-лакея, который выдал свою госпожу, ежедневно осыпавшую его благодеяниями.
Чоглокова, у которой всегда были свои доводы, сказала мне и стала утверждать, что я никогда не должна ни о чем сама говорить с императрицей, что она мне объявляла этот приказ от имени Ее Императорского Величества, и что мои слуги должны были передавать ей все, что я говорю, что, следовательно, Шкурин исполнил только свой долг, а она – свой, снеся Ее Императорскому Величеству без моего ведома предназначенные мной для императрицы материи, и что все это сделано правильно.
Я не мешала ей говорить, потому что у меня не было слов от гнева; наконец, она ушла; я направилась в маленькую переднюю, где Шкурин обыкновенно находился по утрам и где были мои платья; застав его там, я влепила ему изо всех сил здоровую пощечину и сказала, что он предатель и самый неблагодарный из людей, так как посмел передать Чоглоковой, о чем я запретила ему говорить; что я осыпала его благодеяниями, а он выдавал меня даже в таких невинных словах; что с этого дня я больше ничего не стану ему давать, что я его прогоню и велю отодрать.
Я его спросила, на что он рассчитывает при таком поведении; ведь я всегда останусь тем, что я есть, а Чоглоковы, всеми ненавидимые и презираемые, кончат тем, что их выгонит сама императрица, которая, наверное, рано или поздно признает и их непроходимую глупость, и неспособность к своей должности, на которую определил их своими происками дурной человек; что если он хочет, то ему стоит только пойти передать то, что я ему сейчас сказала; что со мной из-за этого, конечно, ничего не случится, но он сам увидит, что с ним будет. Мой Шкурин упал на колени, заливаясь горючими слезами, и просил у меня прощения, с искренним, как мне показалось, раскаянием.
Я была тронута и сказала, что дальнейшее его поведение покажет мне путь, какого мне с ним держаться, и что с его поведением я согласую свое обращение. Это был толковый малый, у которого не было недостатка в уме и который никогда больше не поступал против меня; наоборот, он дал мне доказательства самого явного усердия и верности в наиболее трудные времена.
На выкинутую Чоглоковой со мною штуку я жаловалась всем, кому могла, дабы это дошло до ушей императрицы. Увидев меня, императрица поблагодарила меня за материи, и я из третьих рук узнала, что она не одобряет поступка Чоглоковой; дело на этом и закончилось.
После Пасхи мы перешли в Летний дворец. Я уже несколько времени замечала, что камергер Сергей Салтыков бывал чаще обыкновенного при дворе; он всегда приходил со Львом Нарышкиным, который всех забавлял своей оригинальностью, – я уже привела некоторые черты ее. Сергей Салтыков был ненавистен княжне Гагариной, которую я очень любила и к которой питала даже доверие. Льва Нарышкина все терпели и смотрели на него, как на личность совсем не значащую и очень оригинальную.
Сергей Салтыков заискивал, как только мог, у Чоглоковых; но так как Чоглоковы не были ни приятны, ни умны, ни занимательны, то его частые посещения должны были иметь какие-нибудь скрытые цели.
Чоглокова была тогда беременна и часто нездорова; так как она уверяла, что я ее развлекаю летом так же, как и зимою, то она часто просила, чтобы я к ней приходила. Сергей Салтыков, Лев Нарышкин, княжна Гагарина и некоторые другие бывали обыкновенно у нее, когда не было концерта у великого князя или представления при дворе. Концерты надоедали Чоглоковой, которая или поздно, или совсем на них не появлялась. Чоглоков никогда их не пропускал.
Сергей Салтыков нашел необыкновенное средство занимать его. Не знаю, как он выискал в этом человеке, самом тупом и лишенном всякого воображения и ума, страстную наклонность к сочинению песен, не имевших здравого смысла. Как только сделано было это открытие, каждый раз, как хотели отделаться от Чоглокова, просили его сочинить новую песню; он с большою готовностью сейчас же садился в угол комнаты, большею частью к печке, и принимался за свою песню, что заполняло весь вечер.
Потом находили песню прелестной, это его поощряло сочинять все новые. Лев Нарышкин клал их на музыку и пел с Чоглоковым, а пока тот их сочинял, разговор шел в комнате без стеснения и говорили что угодно, ибо когда Чоглоков куда-нибудь усаживался, то он уже не вставал со стула во весь вечер; таким образом, от места, где он сидел, зависело, чтобы он был удобен или неудобен, невыносим или очарователен; последним он бывал только тогда, когда находился очень далеко. У меня была толстая книга его песен, не знаю, что с ней сталось.
Во время одного из этих концертов Сергей Салтыков дал мне понять, какая была причина его частых посещений. Я не сразу ему ответила; когда он снова стал говорить со мной о том же, я спросила его: на что же он надеется? Тогда он стал рисовать мне столь же пленительную, сколь полную страсти картину счастья, на какое он рассчитывал; я ему сказала: «А ваша жена, на которой вы женились по страсти два года назад, в которую вы, говорят, влюблены и которая любит вас до безумия, – что она об этом скажет?»
Тогда он стал мне говорить, что не все то золото, что блестит, и что он дорого расплачивается за миг ослепления. Я приняла все меры, чтобы заставить его переменить эти мысли; я простодушно думала, что мне это удастся; мне было его жаль. К несчастью, я продолжала его слушать; он был прекрасен, как день, и, конечно, никто не мог с ним сравняться ни при большом дворе, ни тем более при нашем.
У него не было недостатка ни в уме, ни в том складе познаний, манер и приемов, какой дают большой свет и особенно двор. Ему было 26 лет; вообще, и по рождению, и по многим другим качествам это был кавалер выдающийся; свои недостатки он умел скрывать: самыми большими из них были склонность к интриге и отсутствие строгих правил; но они тогда еще не развернулись на моих глазах.
Я не поддавалась всю весну и часть лета; я видала его почти каждый день; я не меняла вовсе своего обращения с ним, была такая же, как всегда и со всеми: я видела его только в присутствии двора или некоторой его части. Как-то раз я ему сказала, чтобы отделаться, что он не туда обращается, и прибавила: «Почем вы знаете, может быть, мое сердце занято в другом месте?»
Эти слова не отбили у него охоту, а наоборот, я заметила, что преследования его стали еще жарче. При всем этом о милом супруге и речи не было, ибо это было дело известное, что он не любезен даже с теми, в кого он влюблен, а влюблен он был постоянно и ухаживал, так сказать, за всеми женщинами; только та, которая носила имя его жены, была исключена из круга его внимания. Между тем Чоглоков пригласил нас на охоту на свой остров, и мы все туда отправились в лодках; наши лошади были высланы вперед.
Тотчас по приезде я села на лошадь, и мы поскакали за собаками. Сергей Салтыков улучил минуту, когда все были заняты погоней за зайцами, и подъехал ко мне, чтобы поговорить на свою излюбленную тему; я слушала его терпеливее обыкновенного. Он нарисовал мне картину придуманного им плана, как покрыть глубокой тайной, говорил он, то счастье, которым некто мог бы наслаждаться в подобном случае.
Я не говорила ни слова. Он воспользовался моим молчанием, чтобы убедить меня, что он страстно меня любит, и просил меня позволить ему надеяться, что я, по крайней мере, к нему не равнодушна. Я ему сказала, что не могу помешать игре его воображения.
Наконец, он стал делать сравнения между другими придворными и собою и заставил меня согласиться, что заслуживает предпочтения, откуда он заключил, что и был уже предпочтен. Я смеялась тому, что он мне говорил, но в душе согласилась, что он мне довольно нравится.
Часа через полтора разговора я сказала ему, чтобы он ехал прочь, потому что такой долгий разговор может стать подозрительным. Он возразил, что не уедет, пока я не скажу ему, что я к нему не равнодушна; я ответила: «Да, да, но только убирайтесь», а он: «Я это запомню» – и пришпорил лошадь; я крикнула ему вслед: «Нет, нет!», а он повторил: «Да, да!». Так мы расстались.
Вернувшись в дом, находившийся на острове, мы там поужинали; во время ужина поднялся сильный ветер с моря, который вздымал волны так сильно, что они поднялись до ступеней лестницы и весь остров был покрыт водою на несколько футов над уровнем моря. Мы были принуждены оставаться на острове у Чоглокова, пока не утихнет буря и не спадет вода, что продолжалось часов до двух или до трех утра.
В это время Сергей Салтыков сказал мне, что само небо благоприятствует ему в этот день, доставляя ему возможность дольше любоваться мною, и наговорил еще множество подобных вещей; он уже считал себя очень счастливым, а я не совсем была счастлива; тысяча опасений смущали мой ум, и я была, по-моему, очень скучна в этот день и очень недовольна собою; я думала, что могу управлять его головой и своей и направлять их, а тут поняла, что и то, и другое очень трудно, если не невозможно.
Два дня спустя Сергей Салтыков сказал мне, что один из камер-лакеев великого князя, Брессан[81], француз родом, передал ему, что Его Императорское Высочество сказал в своей комнате: «Сергей Салтыков и моя жена обманывают Чоглокова, уверяют его, в чем хотят, а потом смеются над ним».
Надо правду сказать, что отчасти оно так и было, и великий князь это заметил. Я ему посоветовала в ответ, чтобы впредь он был более осмотрителен. Несколько времени спустя у меня сильно заболело горло, что продолжалось более трех недель при сильном жаре, во время которого императрица прислала мне княжну Куракину, выходившую замуж за князя Лобанова.
Я должна была ее причесывать; ее усадили для этого в придворном платье и в больших фижмах на мою постель; я старалась, как могла; но Чоглокова, видя, что мне не удастся убрать ей голову, велела ей сойти с моей постели и докончила ее прическу. Я не видала этой дамы с тех пор.
Великий князь был тогда влюблен в девицу Марфу Исаевну Шафирову, которую императрица недавно приставила ко мне так же, как и ее старшую сестру, Анну Исаевну. Сергей Салтыков, который по части интриг был настоящий бес, втерся к этим двум девицам, чтобы узнавать, какие могли быть на его счет речи у великого князя с двумя сестрами, и чтоб извлечь из них себе пользу. Эти девушки были бедные, довольно глупые и очень корыстные, и, действительно, они стали с ним очень откровенны в весьма короткий срок.
Между тем мы отправились в Ораниенбаум, где я снова была целый день на лошади и, за исключением воскресений, не носила другого костюма, кроме мужского. Чоглоков и его жена стали кротки, как овечки. Я приобрела в глазах Чоглоковой новую заслугу: я очень любила и ласкала одного из ее сыновей, бывшего с ней; я заказывала ему платья и Бог знает сколько я надавала ему игрушек и тряпья; мать же с ума сходила об этом ребенке, который потом стал таким негодяем, что за свои проделки был посажен по суду в крепость на пятнадцать лет[82].
Сергей Салтыков стал другом, поверенным и советчиком Чоглоковых; конечно, никакой человек со здравым смыслом не стал бы принуждать себя к столь тяжелому делу, как выслушивание по целым дням бредней двух дураков, гордых, заносчивых и себялюбивых, если бы не имел в том очень большого интереса. Отгадали, предположили тот интерес, какой он мог иметь; это дошло до Петергофа, до ушей императрицы.
А в это время очень часто случалось, что когда Ее Императорскому Величеству хотелось браниться, то она не бранила за то, за что могла бранить, но ухватывалась за предлог бранить за то, за что и в голову не приходило, что она может бранить. Это заметка царедворца; я знаю о ней из собственных уст ее автора, а именно от графа Захара Чернышева.
В Ораниенбауме вся наша свита, как мужчины, так и женщины, согласились сделать себе на лето костюмы одинакового цвета: нижнее платье серое, остальное – синее с черным бархатным воротником, и все безо всякой отделки; это однообразие было нам удобно во многих отношениях. К этим-то костюмам и придрались, и особенно к тому, что я всегда была одета в костюм для верховой езды и что я езжу по-мужски.
Когда мы однажды приехали в Петергоф на куртаг, императрица сказала Чоглоковой, что моя манера ездить верхом мешает мне иметь детей и что мой костюм совсем неприличен; что когда она сама ездила верхом в мужском костюме, то, как только сходила с лошади, тотчас же меняла платье. Чоглокова ей ответила, что для того, чтобы иметь детей, тут нет вины, что дети не могут явиться без причины и что хотя Их Императорские Высочества живут в браке с 1745 года, а между тем причины не было.
Тогда Ее Императорское Величество стала бранить Чоглокову и сказала, что она взыщет с нее за то, что она не старается усовестить на этот счет заинтересованные стороны; вообще, она проявила сильный гнев и сказала, что ее муж колпак, который позволяет водить себя за нос соплякам.
Все это было передано Чоглоковыми в одни сутки доверенным лицам; при слове «сопляки» сопляки утерлись и в очень секретном совещании, устроенном сопляками по этому поводу, было решено и постановлено, что, следуя с большою точностью намерениям Ее Императорского Величества, Сергей Салтыков и Лев Нарышкин притворятся, будто подверглись немилости Чоглокова, о которой он сам, пожалуй, и не будет подозревать, и под предлогом болезни их родителей поедут к себе домой недели на три, на четыре, чтобы прекратить бродившие темные слухи.
Это было выполнено буквально, и на следующий день они уехали, чтобы укрыться на месяц в свои семьи.
Что меня касается, то я тотчас переменила одеяние, ставшее к тому же бесполезным. Первая мысль об однообразном костюме явилась у нас от того костюма, который носили на куртагах в Петергофе: снизу он был белый, остальная часть – зеленая, и все обшитое серебряным галуном. Сергей Салтыков, который был брюнет, говорил, что в этом белом с серебром костюме он похож на муху в молоке.
Впрочем, я продолжала посещать Чоглоковых по-прежнему, только побольше у них скучала; и муж и жена жалели об отсутствии двоих главных героев их общества, в чем, конечно, я им не противоречила. Болезнь и смерть матери Сергея Салтыкова еще продлила его отсутствие, во время которого императрица велела приехать нам из Ораниенбаума к ней в Кронштадт, куда она отправилась для открытия канала Петра I, начатого по его приказанию и теперь законченного.
Она приехала в Кронштадт раньше нас. Первая ночь по ее приезде была очень бурной. Ее Императорское Величество, пославшая тотчас по своем прибытии сказать нам, чтобы мы ехали к ней в Кронштадт, подумала, что мы во время этой бури находимся на море; она очень беспокоилась всю ночь, и ей казалось, что какое-то судно, которое было ей видно из ее окон и которое билось на море, могло быть той яхтой, на которой мы должны были переехать по морю.
Она прибегла к мощам, которые всегда находились рядом с ее постелью. Она поднесла их к окну и делала ими движения, обратные тем, которые делало боровшееся с бурей судно. Она несколько раз вскрикивала, что мы, наверное, погибнем, что это будет ее вина, потому что недавно она посылала нам выговор, и что мы, вероятно, для засвидетельствования большей готовности, поехали тотчас по прибытии яхты.
Но на самом деле яхта приехала в Ораниенбаум уже после этой бури, так что мы взошли на нее только на следующий день после полудня. Мы оставались трое суток в Кронштадте; в это время совершено было с большою торжественностью освящение канала и впущена в него в первый раз вода.
После обеда был большой бал. Императрица хотела остаться в Кронштадте, чтобы видеть, как снова выпустят воду из канала, но она уехала на третий день, а спуск так и не удался: этот канал не был осушен до тех пор, пока в мое царствование я не велела выстроить огненную мельницу, которая удаляет из него воду, – впрочем, это было бы и невозможное тогда дело, так как дно канала ниже моря, но этого не предусмотрели.
Из Кронштадта каждый вернулся к себе. Императрица поехала в Петергоф, а мы – в Ораниенбаум. Чоглоков просил и получил разрешение поехать в одно из своих имений на месяц. В его отсутствие его супруга очень суетилась из-за того, чтобы буквально исполнять приказания императрицы.
Сначала она имела несколько совещаний с камер-лакеем великого князя Брессаном; Брессан нашел в Ораниенбауме хорошенькую вдову одного художника, некую Грот; несколько дней ее уговаривали, насулили не знаю чего, потом сообщили ей, чего от нее хотят и на что она должна согласиться; потом Брессан должен был познакомить великого князя с этой молодой и красивой вдовушкой.
Я хорошо замечала, что Чоглокова была очень занята, но я не знала, чем, когда наконец Сергей Салтыков вернулся из своего добровольного изгнания и сообщил мне приблизительно, в чем дело.
Наконец, благодаря своим трудам, Чоглокова достигла цели, и, когда она была уверена в успехе, она предупредила императрицу, что все шло согласно ее желаниям. Она рассчитывала на большие награды за свои труды, но в этом отношении она ошиблась, потому что ей ничего не дали; между тем она говорила, что империя ей за это обязана.
Тотчас после этого мы вернулись в город, и в это время я убедила великого князя прервать переговоры с Данией; я ему напомнила совет графа Берни, который уже уехал в Вену; он меня послушался и приказал прекратить переговоры без всякого решения, что и было сделано. После недолгого пребывания в Летнем дворце мы перешли в Зимний.
Мне показалось, что Сергей Салтыков стал меньше за мною ухаживать, что он становился невнимательным, подчас фатоватым, надменным и рассеянным; меня это сердило; я говорила ему об этом, он приводил плохие доводы и уверял, что я не понимаю всей ловкости его поведения. Он был прав, потому что я находила его поведение довольно странным.
Нам велели готовиться к поездке в Москву, что мы и сделали. Мы отправились из Петербурга 14 декабря 1752 года. Сергей Салтыков остался там и приехал лишь через несколько недель после нас. Я отправилась из Петербурга с кое-какими легкими признаками беременности. Мы ехали очень быстро и днем и ночью; на последней станции эти признаки исчезли при сильных резях.
Приехав в Москву и увидев, какой оборот приняли дела, я догадывалась, что могла легко иметь выкидыш. Чоглокова оставалась в Петербурге, потому что у нее только что родился ее последний ребенок – дочь; это был седьмой по счету. Когда она встала, она приехала к нам в Москву. Здесь нас поместили в деревянном флигеле, только что отстроенном в эту осень, так что вода текла с обшивок и все комнаты были необычайно сыры.
В этом флигеле было два ряда комнат, по пяти-шести в каждом; из них выходившие на улицу были моими, а находившиеся на другой стороне – великого князя. В той же комнате, которая должна была быть моей уборной, поместили моих камер-юнгфер и камер-фрау, с их служанками, так что их было семнадцать девушек и женщин в одной комнате, имевшей, правда, три больших окна, но никакого другого выхода, кроме моей спальной, через которую они должны были проходить за всякого рода нуждою, что не было удобно ни им, ни мне.
В течение десяти первых дней по моем прибытии в Москву они со мною принуждены были терпеть это неудобство, которому я ничего подобного не видела. Кроме того, их столовой была одна из моих прихожих; я была больна по приезде; чтобы устранить это неудобство, я велела наставить в моей спальне больших ширм, с помощью которых разделила ее на три части; но это почти нисколько не помогло, потому что двери постоянно открывались и закрывались, что было неизбежно.
Наконец, на десятый день императрица пришла навестить меня, и, видя это постоянное хождение, она вошла в соседнюю комнату и сказала моим женщинам: «Я велю сделать вам другой выход, а не через спальню великой княгини». Но что же она сделала? Она приказала устроить перегородку, которая отняла одно окно у этой комнаты, где и без того с трудом жило семнадцать человек; теперь комнату сузили, чтобы выгадать коридор; окно было пробито на улицу, к нему приделали лестницу, и мои женщины принуждены были выходить на улицу; под их окнами поставили для них отхожие места; когда они шли обедать, им опять приходилось идти по улице.
Словом, все это устройство никуда не годилось, и я не знаю, как эти семнадцать женщин, жившие в такой тесноте и подчас болевшие, не схватили какой-нибудь гнилой горячки в этом жилье, и это рядом с моей комнатой, которая благодаря им была полна всевозможными насекомыми до того, что они мешали спать.
Наконец, Чоглокова, оправившись от родов, приехала в Москву, а несколько дней спустя приехал и Сергей Салтыков. Так как Москва очень велика, и все там всегда очень раскидывались, то он воспользовался такой выгодной местностью, чтобы ею прикрыться и притворно или действительно сократить свои частые посещения двора.
По правде говоря, я была этим огорчена, однако он мне приводил такие основательные и действительные причины, что, как только я его увижу и поговорю с ним, мое раздумье исчезало. Мы согласились, что для уменьшения числа его врагов я велю сказать графу Бестужеву несколько слов, которые дадут ему надежду на то, что я не так далека от него, как прежде.
Я возложила это поручение на некоего Бремзе, который был чиновником в Голштинской канцелярии у Пехлина. Этот человек, когда не бывал при дворе, часто ходил в дом канцлера графа Бестужева. Он очень усердно взялся за это и сказал мне, что канцлер сердечно этому обрадовался и сказал, что я могу располагать им каждый раз, как я найду это уместным, и что если со своей стороны он может быть мне полезен, то он просит указать мне надежный путь, которым мы можем сообщать друг другу, что найдем нужным.
Я поняла его мысль и ответила Бремзе, что подумаю. Я передала это Сергею Салтыкову, и тотчас же было решено, что он поедет к канцлеру под предлогом сделать ему по приезде визит.
Старик отлично его принял, отвел его в сторону, говорил с ним о внутренней жизни нашего двора, о глупости Чоглоковых и сказал ему между прочим: «Я знаю, что хотя вы очень к ним близки, но судите о них так же, как я, потому что вы неглупый молодой человек».
Потом он стал говорить с ним обо мне, о моем положении, как будто жил в моей комнате; затем сказал: «В благодарность за благоволение, которое великой княгине угодно было мне оказать, я отплачу ей маленькой услугой, за которую она будет, я думаю, признательна мне; я сделаю Владиславову кроткой, как овечка, и она будет делать из нее что угодно. Она увидит, что я не такой бука, каким меня изображали в ее глазах».
Наконец, Сергей Салтыков вернулся в восторге и от этого поручения, и от Бестужева. Он дал лично ему несколько советов, столь же умных, сколь и полезных. Все это очень сблизило его с нами, хотя ни одна живая душа и не знала об этом. Между тем Чоглокова, вечно занятая своими излюбленными заботами о престолонаследии, однажды отвела меня в сторону и сказала: «Послушайте, я должна поговорить с вами очень серьезно».
Я, понятно, вся обратилась в слух; она с обычной своей манерой начала длинным разглагольствованием о привязанности своей к мужу, о своем благоразумии, о том, что нужно и чего не нужно для взаимной любви и для облегчения или отягощения уз супруга или супруги, и затем свернула на заявление, что бывают иногда положения высшего порядка, которые вынуждают делать исключения из правил. Я дала ей высказать все, что она хотела, не прерывая, вовсе не ведая, куда она клонит, несколько изумленная, и не зная, была ли это ловушка, которую она мне ставит, или она говорит искренно.
Пока я внутренне так размышляла, она мне сказала: «Вы увидите, как я люблю свое отечество и насколько я искренна; я не сомневаюсь, чтобы вы кому-нибудь не отдали предпочтения: предоставляю вам выбрать между Сергеем Салтыковым и Львом Нарышкиным. Если не ошибаюсь, то избранник ваш последний».
На это я воскликнула: «Нет, нет, отнюдь нет!» Тогда она мне сказала: «Ну, если это не он, так другой наверно». На это я не возразила ни слова, и она продолжала: «Вы увидите, что помехой вам буду не я». Я притворилась наивной настолько, что она меня много раз бранила за это как в городе, так и в деревне, куда мы отправились после Пасхи.
Тогда, или приблизительно около этого времени, императрица подарила великому князю имение Люберцы и несколько других, верстах в четырнадцати или пятнадцати от Москвы. Но прежде чем переехать на житье в эти новые владения Его Императорского Высочества, императрица праздновала в Москве годовщину своего коронования. Это было 25 апреля.
Нам объявили, что она приказала, чтобы церемониал был в точности соблюден сообразно с тем, как он был установлен в день самой коронации. Нам было очень любопытно посмотреть, что будет. Накануне императрица ночевала в Кремле; мы оставались в слободе, в деревянном дворце, и получили приказание явиться к обедне в собор.
В девять часов утра мы выехали из деревянного дворца в парадных экипажах, камер-лакеи шли пешком; мы проехали всю Москву шаг за шагом; проехать надо было семь верст, мы вышли из экипажей у церкви; несколько минут спустя приехала туда императрица со своим кортежем, в малой короне на голове, в императорской мантии, которую, как обыкновенно, несли камергеры. Она встала в церкви на своем обычном месте, и во всем этом не было еще ничего необычного, что не совершалось бы во все большие праздники ее царствования.
В церкви была пронизывающая холодом сырость, какой я никогда в жизнь не испытывала; я вся посинела и мерзла от холода в придворном платье и с открытой шеей. Императрица велела мне сказать, чтобы я надела соболью палатину, но у меня не было ее при себе; она велела принести свои, взяла из них одну и накинула на шею; я увидела в коробке другую и думала, что она пошлет мне ее, чтобы надеть, но ошиблась.
Она ее отослала; я сочла это за знак явного недоброжелательства; Чоглокова, видя, что я дрожу от холода, достала мне, не знаю от кого, шелковый платок, который я и надела на шею. Когда обедня и проповеди закончились, императрица вышла из церкви; мы сочли долгом последовать за нею, но она велела нам сказать, что мы можем вернуться домой. Тогда только мы узнали, что она будет обедать одна на троне и что в этом церемониал будет тот же, как и в день коронации, когда она обедала одна.
Устраненные от этого обеда, мы вернулись, как и приехали, с большим парадом: наши люди, сделав пешком четырнадцать верст туда и обратно по Москве, а мы – окоченев от холода и умирая с голода. Если императрица показалась нам в очень дурном расположении духа во время обедни, то она отослала нас ничуть не в лучшем настроении от столь неприятного для нас знака, по крайней мере, пренебрежения к нам, чтобы не сказать более.
Во время других празднеств, когда она обедала на троне, мы имели честь обедать с ней; на этот раз она публично нас отослала. Дорогой, находясь в карете одна с великим князем, я ему высказала, что об этом думаю; он мне ответил, что будет жаловаться. Вернувшись домой, окоченевшая от холода и уставшая, я пожаловалась Чоглоковой на то, что простудилась; на следующий день был бал в деревянном дворце; я сказалась больной и не поехала.
Великий князь действительно велел что-то сказать Шуваловым по этому поводу, а они также велели ответить ему что-то для него удовлетворительное, не знаю, что именно; больше и речи об этом не было. Около этого времени мы узнали, что Захар Чернышев и полковник Николай Леонтьев[83] поссорились между собою из-за игры в карты у Романа Воронцова, что они дрались на шпагах и что граф Захар Чернышев был настолько тяжело ранен в голову, что его не могли перенести из дома графа Романа Воронцова в его собственный; он там и остался, был очень плох, и говорили о трепанации.
Мне это было весьма неприятно, так как я его очень любила. Леонтьев был по приказанию императрицы посажен под арест. Этот поединок занял весь город, благодаря многочисленной родне того и другого из противников. Леонтьев был зятем графини Румянцевой и очень близким родственником Паниных и Куракиных. Граф Чернышев тоже имел родственников, друзей и покровителей. Все случилось в доме графа Романа Воронцова; больной был у него. Наконец, когда опасность миновала, дело замяли, и тем все и закончилось.
В течение мая месяца у меня появились новые признаки беременности. Мы поехали в Люберцы, имение великого князя, в 12 или 14 верстах от Москвы. Бывший там каменный дом, давно выстроенный князем Меншиковым, развалился; мы не могли в нем жить; чтобы этому помочь, разбили во дворе палатки. Я спала в кибитке; утром с трех или четырех часов сон мой прерывался ударами топора и шумом, какой производили на постройке деревянного флигеля, который спешили выстроить, так сказать, в двух шагах от наших палаток, для того чтобы нам было где прожить остаток лета.
Почти все время мы проводили на охоте или в прогулках; я не ездила больше верхом, но в кабриолете. К Петрову дню мы вернулись в Москву, и на меня напал такой сон, что я спала по целым дням до двенадцати часов и с трудом меня будили к обеду. Петров день был отпразднован, как всегда.
На следующий день я почувствовала боль в пояснице. Чоглокова призвала акушерку, и та предсказала выкидыш, который у меня и был в следующую ночь. Я была беременна, вероятно, месяца два-три; в течение тринадцати дней я находилась в большой опасности, потому что предполагали, что часть «места» осталась; от меня скрыли это обстоятельство; наконец, на тринадцатый день место вышло само без боли и усилий; меня продержали по этому случаю шесть недель в комнате, при невыносимой жаре.
Императрица пришла ко мне в тот самый день, когда я захворала, и, казалось, была огорчена моим состоянием. В течение шести недель, пока я оставалась в своей комнате, я смертельно скучала. Все мое общество составляли Чоглокова, и то она приходила довольно редко, да маленькая калмычка, которую я любила, потому что она была мила; с тоски я часто плакала.
Что касается великого князя, то он был большей частью в своей комнате, где один украинец, его камердинер, по имени Карнович, такой же дурак, как и пьяница, забавлял его, как умел, снабжая его, сколько мог, игрушками, вином и другими крепкими напитками, без ведома Чоглокова, которого, впрочем, все обманывали и надували.
Но в этих ночных и тайных попойках великого князя со своими камердинерами, среди которых было несколько калмыков, случалось часто, что великого князя плохо слушались и плохо ему служили, ибо, будучи пьяны, они не знали, что делали, и забывали, что они были со своим господином, что этот господин – великий князь; тогда Его Императорское Высочество прибегал к палочным ударам или обнажал шпагу, но, несмотря на это, его компания плохо ему повиновалась, и не раз он прибегал ко мне, жалуясь на своих людей и прося сделать им внушение; тогда я шла к нему и выговаривала им всю правду, напоминая им об их обязанностях, и тотчас же они подчинялись, что заставляло великого князя неоднократно говорить мне и повторять также Брессану, что он не знает, как я справляюсь с его людьми; что он их сечет и не может их заставить себе повиноваться, а я одним словом добиваюсь от них всего, чего хочу.
Однажды, когда я вошла с этой целью в покои Его Императорского Высочества, я была поражена при виде здоровой крысы, которую он велел повесить, и всей обстановкой казни среди кабинета, который он велел себе устроить при помощи перегородки.
Я спросила, что это значит; он мне сказал тогда, что эта крыса совершила уголовное преступление и заслуживает строжайшей казни по военным законам, что она перелезла через вал картонной крепости, которая была у него на столе в этом кабинете, и съела двух часовых на карауле, сделанных из крахмала, на одном из бастионов, и что он велел судить преступника по законам военного времени; что его легавая собака поймала крысу и что тотчас же она была повешена, как я ее вижу, и что она останется там, выставленная напоказ публике в течение трех дней, для назидания.
Я не могла удержаться, чтобы не расхохотаться над этим сумасбродством, но это очень ему не понравилось, ввиду той важности, какую он этому придавал; я удалилась и прикрылась моим женским незнанием военных законов, однако он не переставал дуться на меня за мой хохот. Можно было, по крайней мере, сказать в оправдание крысе, что ее повесили, не спросив и не выслушав ее оправдания.
Во время этого пребывания двора в Москве случилось, что один камер-лакей сошел с ума и даже стал буйным. Императрица приказала своему первому лейб-медику Бургаву иметь уход за этим человеком; его поместили в комнату вблизи покоев Бургава, который жил при дворе.
Случилось как-то, что в этом году несколько человек лишились рассудка; по мере того, как императрица об этом узнавала, она брала их ко двору, помещала возле Бургава, так что образовалась маленькая больница для умалишенных при дворе. Я припоминаю, что главными из них были: майор гвардии Семеновского полка, по фамилии Чаадаев, подполковник Лейтрум, майор Чоглоков, один монах Воскресенского монастыря, срезавший себе бритвой причинные места, и некоторые другие.
Сумасшествие Чаадаева заключалось в том, что он считал Господом Богом шаха Надира[84], иначе Тахмаса-Кулы-хана, узурпатора Персии и ее тирана. Когда врачи не смогли излечить его от этой мании, его поручили попам; эти последние убедили императрицу, чтобы она велела изгнать из него беса.
Она сама присутствовала при этом обряде; но Чаадаев остался таким же безумным, каким, казалось, он был; однако были люди, которые сомневались в его сумасшествии, потому что он здраво судил обо всем прочем, кроме шаха Надира; его прежние друзья приходили даже с ним советоваться о своих делах, и он давал им очень здравые советы; те, кто не считал его сумасшедшим, приводили как причину этой притворной мании, какую он имел, грязное дело у него на руках, от которого он отделался только этой хитростью; с начала царствования императрицы он был назначен в податную ревизию; его обвиняли во взятках, и он подлежал суду; из боязни суда он и забрал себе эту фантазию, которая его и выручила.
В половине августа мы вернулись в деревню; на 5 сентября, день именин императрицы, она уехала в Воскресенский монастырь. Когда она там была, молния ударила в церковь; по счастью, Ее Императорское Величество стояла в приделе рядом с главной церковью. Она узнала об этом только по испугу своих придворных; однако при этом происшествии не было ни раненых, ни убитых.
Немного времени спустя она вернулась в Москву, куда мы также отправились из Люберец. Возвратившись в город, мы видели, как принцесса Курляндская поцеловала при всех руку императрице за позволение, которое она ей дала, выйти замуж за князя Георгия Хованского. Она поссорилась со своим первым женихом Петром Салтыковым, который, со своей стороны, тотчас же женился на княжне Солнцевой.
1 ноября этого года, в три часа пополудни, я была в покоях у Чоглоковой, когда ее муж, Сергей Салтыков, Лев Нарышкин и многие другие кавалеры нашего двора вышли из комнаты, чтобы пойти в покои камергера Шувалова, дабы поздравить его со днем его рождения, приходившимся в это число.
Мы с Чоглоковой и княжною Гагариной болтали все вместе, как вдруг в небольшой молельной, находившейся поблизости от комнаты, где мы были, послышался какой-то шум и показались двое из этих господ, которые нам сказали, что им нельзя было пройти через зал дворца, так как там загорелось.
Тотчас я пошла в свою комнату, и, проходя по одной передней, я увидела, что угловая балюстрада большого зала была в пламени. Это было в двадцати шагах от нашего флигеля; я вошла в свои комнаты и нашла их уже полными солдат и слуг, которые брали мебель и уносили все, что могли.
Чоглокова шла за мною следом, и так как ничего не оставалось делать в доме, как ждать, пока он загорится, то мы с Чоглоковой вышли, и, найдя у подъезда карету капельмейстера Арайи[85], который явился на концерт к великому князю, – его я сама предупредила, что дом горит, – мы сели с ней в эту карету, так как улица была покрыта грязью от постоянных дождей, шедших уже несколько дней, и мы смотрели оттуда как на пожар, так и на то, каким образом со всех сторон выносили мебель из дому.
Я увидала тогда странную вещь: это – удивительное количество крыс и мышей, которые спускались по лестнице гуськом, не слишком даже торопясь. Нельзя было оказать никакой помощи этому обширному деревянному дому за недостатком инструментов, и потому, что те немногие инструменты, которые имелись, находились как раз под залом, который горел.
Этот зал занимал приблизительно середину строений, которые его окружали, что могло составить две-три версты в окружности. Я вышла оттуда ровно в три часа, а в шесть не оставалось никакого следа от дома. Жар от огня стал так велик, что ни я, ни Чоглокова не были в состоянии его выносить, и мы велели карете отъехать в поле, на несколько сот шагов.
Наконец, Чоглоков пришел с великим князем и сказал нам, что императрица уезжает в свой дом в Покровское и что она приказала нам ехать в дом Чоглокова, находившийся на первом углу направо на Большой Слободской улице. Тотчас же мы туда отправились; в этом доме был зал посредине и по четыре комнаты с каждой стороны.
Хуже нашего едва ли можно было поместиться. Ветер гулял там по всем направлениям, двери и окна там наполовину сгнили, пол был со щелями в три-четыре пальца шириной; кроме того, насекомые там так и кишели; дети и слуги Чоглокова жили в нем в ту минуту, когда мы в него вошли, их оттуда выпроводили и поместили нас в этом ужасном доме, не имевшем почти мебели.
На другой день моего пребывания в этом приюте я узнала, что такое калмыцкий нос: маленькая девочка, которая была при мне, при моем пробуждении сказала мне, показывая на свой нос: «У меня тут орешек»; я пощупала ей нос и ничего там не нашла, но все утро это девочка только и повторяла, что у нее в носу орешек; это был ребенок лет четырех-пяти; никто не знал, что она хочет сказать этим своим орешком в носу; около полудня она, бегая, упала и стукнулась об угол стола, что заставило ее плакать, и, плача, она вытащила свой платок и высморкалась; когда она сморкалась, орешек выпал у нее из носу, что я видела сама, и тогда я поняла, что орешек, который не мог бы оставаться незамеченным ни в каком европейском носу, мог держаться в углублении калмыцкого носа, который уходит внутрь головы, между двумя толстыми щеками.
Наши пожитки и все, что нам было нужно, осталось в грязи перед сгоревшим дворцом, и нам их привозили в течение ночи и на следующий день. Чего мне было всего более жалко, так это моих книг. Я заканчивала тогда четвертый том «Словаря» Бейля[86]; я употребила на это чтение два года; каждые шесть месяцев я одолевала один том, поэтому можно представить себе, в каком одиночестве я проводила мою жизнь.
Наконец, мне их принесли. Между моими пожитками находились пожитки графини Шуваловой; Владиславова из любопытства показала мне юбки этой дамы, которые все были подбиты сзади кожей, потому что она не могла держать мочи – эта беда случилась с ней после ее первых родов – и запах от нее пропитал все юбки; я поскорее отослала их по принадлежности.
Императрица потеряла в этом пожаре все, что привезла в Москву из ее огромного гардероба. Я имела честь услышать от нее, что она лишилась четырех тысяч пар платьев и что из всех она жалеет только платье, сделанное из материи, которую я ей послала и которую я получила от матери.
Она потеряла тут еще другие ценные вещи, между прочим таз, осыпанный резными каменьями, который граф Румянцев купил в Константинополе и за который он заплатил 8 тысяч дукатов. Все эти вещи помещались в гардеробной, находившейся под залом, где начался пожар.
Этот зал служил аванзалом для большого дворцового зала; в десять часов утра истопники пришли топить этот аванзал; положив дрова в печь, они их зажгли, как обыкновенно; как только это было сделано, комната наполнилась дымом; они подумали, что он проходит через какие-нибудь незаметные скважины в печи, и стали замазывать скважины между изразцами глиной.
Так как дым увеличивался, они стали искать щелей в печи; не нашедши их, они поняли, что щели находятся между переборками комнаты. Переборки эти были только из дерева. Они пошли за водой и погасили огонь в печи; но дым увеличивался и перешел в переднюю, где был часовой из конногвардейцев; этот, боясь задохнуться и не смея двинуться со своего поста, разбил стекло в окне и стал кричать, но, так как никто не шел к нему на помощь и не слышал его, он выстрелил из ружья в окошко.
Этот выстрел был услышан на гауптвахте, находившейся напротив дворца; к нему прибежали и, войдя, нашли всюду густой дым, из которого вывели часового. Истопников арестовали, – они думали, что, не предупреждая никого, сами потушат огонь или же помешают дыму увеличиться: они добросовестно были заняты этим в течение пяти часов.
Этот пожар натолкнул на открытие, которое сделал Чоглоков. У великого князя в его покоях было много очень больших комодов; когда их вынесли из его комнаты, несколько открытых или плохо закрытых ящиков представили глазам зрителей то, чем они были наполнены.
Кто бы поверил, что эти ящики содержали не что иное, как громадное количество бутылок вина и крепких настоек; они служили погребом Его Императорскому Высочеству. Чоглоков рассказал мне об этом; я ему сказала, что не знала этого обстоятельства, и сказала правду: я ничего об этом не ведала, но видела очень часто и почти ежедневно великого князя пьяным.
После пожара мы оставались в доме Чоглоковых около шести недель, и так как, гуляя, мы проходили часто мимо деревянного дома, расположенного в саду близ Салтыковского моста, принадлежавшего императрице и называвшегося «архиерейским» домом, потому что императрица купила его у одного архиерея, то нам вздумалось просить императрицу, без ведома Чоглоковых, разрешить нам жить в этом доме, который, как нам казалось и как говорили, был более удобен для жилья, нежели тот, в котором мы находились.
Наконец, после многих хождений туда и сюда мы получили приказание переехать на житье в «архиерейский» дом. Это был очень старый деревянный дом, из которого не было никакого вида; он был построен на казенных подвалах и вследствие этого выше только что покинутого дома, имевшего всего один этаж.
Печи были так стары, что, когда их топили, насквозь был виден огонь, так много было щелей, и дым наполнял комнаты; у нас у всех болели от него голова и глаза. Мы рисковали в этом доме быть сожженными заживо; в нем была всего одна деревянная лестница, а окна были высоко.
И, действительно, в нем начинался в это время раза два или три пожар, пока мы в нем оставались, но его тушили. У меня тут очень заболело горло, с сильной лихорадкой. В тот день, как я захворала, Бретлах, который снова вернулся в Россию от Венского двора, должен был у нас ужинать, чтобы откланяться; он застал меня с красными и опухшими глазами; он подумал, что я плакала, и не ошибся.
Скука, нездоровье, телесное и душевное беспокойство моего положения нагнали на меня на весь день большую ипохондрию. Я провела его вдвоем с Чоглоковой; поджидая тех, кто не пришел, она каждую минуту говорила: «Вот как нас покидают». Ее муж обедал не дома и увез с собою всех. Несмотря на все обещания, данные нам Сергеем Салтыковым, улизнуть с этого обеда, он вернулся только с Чоглоковым. От всего этого я была зла, как собака.
Наконец, через несколько дней нам позволили ехать в Люберцы. Здесь мы считали себя в раю. Дом был совсем новый и довольно хорошо устроенный; в нем танцевали каждый вечер, и весь наш двор здесь собрался. Во время одного из этих балов мы видели, что великий князь был долго занят разговором на ухо с Чоглоковым, после чего Чоглоков казался опечаленным, задумчивым и более обыкновенного замкнутым и хмурым.
Сергей Салтыков, видя это, а также, что Чоглоков необычайно с ним холоден, подсел к девице Марфе Шафировой и постарался узнать через нее, что это могла быть за непривычная дружба у великого князя с Чоглоковым. Она ему сказала, что не знает, что такое, но она догадывается, что это могло бы быть, так как великий князь несколько раз ей говорил: «Сергей Салтыков с моей женою обманывают Чоглокова неслыханным образом, тот влюблен в великую княгиню, а она его терпеть не может.
Сергей Салтыков – наперсник Чоглокова; он его уверяет, что старается для него у моей жены, а вместо того старается у нее для себя самого, а та охотно выносит общество Сергея Салтыкова, который забавен; она пользуется им, чтобы делать с Чоглоковым что хочет, а в душе издевается над обоими; надо разуверить этого беднягу Чоглокова, мне его жаль, надо ему сказать правду, и тогда он увидит, кто из нас двоих ему настоящий друг: жена моя или я».
Как только Сергей Салтыков узнал об этом опасном разговоре и о неприятном положении, которое отсюда вытекало, он мне его передал, подсел к Чоглокову и спросил, что с ним. Чоглоков сначала вовсе не хотел объясняться и только вздыхал; потом стал горько жаловаться на то, как трудно находить верных друзей; наконец, Сергей Салтыков столько раз подходил к нему со всех сторон, что вырвал у него признание относительно разговора, который у него только что был с великим князем. Конечно, нельзя было ожидать того, что было между ними сказано, не зная этого заранее.
Его Императорское Высочество начал с того, что стал усиленно убеждать Чоглокова в дружбе, говоря ему, что лишь в крайних житейских обстоятельствах можно отличить истинных друзей от ложных; что для того, чтобы убедить его, Чоглокова, в искренности своей дружбы, он сейчас даст ему явное доказательство своей откровенности; он знает, без всякого сомнения, что Чоглоков влюблен в меня, что он не ставит ему этого в вину, – что я могу казаться ему достойной любви, что с сердцем не совладаешь, но что он должен его предупредить, что он плохо выбирает своих наперсников, что он простодушно думает, будто Сергей Салтыков его друг и что он у меня старается для него, между тем как тот старается только для самого себя и подозревает в нем своего соперника; что же меня касается, то я смеюсь над ними обоими, но, если он, Чоглоков, желает следовать его, великого князя, советам и довериться ему, тогда он увидит, что он ему единственный и настоящий друг.
Чоглоков очень благодарил великого князя за дружбу и за уверения в дружбе, и, в сущности, он принял все остальное за пустяки и бредни на свой счет. Легко поверить, что ни в каком случае он не придал значения тому наперснику, который и по положению, и по характеру был так же мало надежен, как и полезен.
Раз это было высказано, Сергею Салтыкову не стоило ни малейшего труда водворить мир и спокойствие в голове Чоглокова, который привык не дорожить и не придавать большого значения речам человека, не обладавшего никаким рассудком и прослывшего за такового.
Когда я узнала все это, признаюсь, я была сильно возмущена против великого князя; и, чтобы отбить у него охоту к подобным попыткам впредь, я дала ему почувствовать, что мне небезызвестно то, что происходило между ним и Чоглоковым. Он покраснел, не сказал ни слова, ушел, надулся на меня, и дело на том и остановилось.
Когда мы вернулись в Москву, нас перевели из «архиерейского» дома в покои того, который назывался Летним домом императрицы и уцелел от пожара. Императрица велела выстроить себе новые покои в течение шести недель; для этой цели брали и привозили бревна из Перовского дома, из дома графа Гендрикова и князей Грузинских. Наконец, она въехала в него около Нового года.
Императрица отпраздновала день 1 января 1754 года в этом дворце, и мы с великим князем имели честь обедать с ней публично под балдахином. За столом Ее Императорское Величество казалась очень веселой и разговорчивой. У подножия трона были расставлены столы для нескольких сотен особ первых классов. Во время обеда императрица спросила, что это сидит там за особа (она указала ее место), такая тощая, невзрачная и с журавлиной шеей, как она выразилась.
Ей сказали, что это Марфа Шафирова. Она расхохоталась и, обращаясь ко мне, сказала, что это напоминает ей русскую пословицу: шейка долга – на виселицу годна; я не могла удержаться от улыбки над этой императорской колкой насмешкой, которая не пропала даром и которую придворные повторяли из уст в уста, так что, встав из-за стола, я увидела, что уже несколько лиц о ней знали. Слышал ли это великий князь, я не знаю, но достоверно только то, что он ни словом об этом не заикнулся, я и не подумала с ним об этом заговорить.
Ни один год не изобиловал так пожарами, как 1753-й и 1754-й. Мне случалось неоднократно видеть из окон этих покоев Летнего дворца два, три, четыре и даже до пяти пожаров одновременно в различных местах Москвы. Во время Масленой императрица приказала, чтобы в этих новых покоях бывали разные балы и маскарады.
Во время одного из них я видела, что императрица имела длинный разговор с генеральшей Матюшкиной[87]. Эта последняя не хотела, чтобы ее сын женился на княжне Гагариной, моей фрейлине, но императрица убедила мать, и княжна Гагарина, которой тогда было уже верных 38 лет, получила разрешение выйти замуж за Дмитрия Матюшкина.
Она была этому очень рада, да и я также; это был брак по склонности; Матюшкин тогда был очень красив. Чоглокова совсем не переезжала к нам в летние покои: она осталась под разными предлогами со своими детьми у себя в доме, который был очень недалеко от двора. В действительности же дело было в том, что эта женщина, такая благонравная и так любившая своего мужа, воспылала страстью к князю Петру Репнину[88] и получила очень заметное отвращение к своему мужу.
Она думала, что не может быть счастлива без наперсницы, и я показалась ей самым надежным человеком; она показывала мне все письма, которые получала от своего возлюбленного; я хранила ее секрет очень верно, с мелочной точностью и осторожностью. Она виделась с князем в очень большом секрете; несмотря на то, супруг ее возымел некоторые подозрения; один конногвардейский офицер, Камынин, возбудил их в нем впервые.
Этот человек был олицетворением ревности и подозрения; это было у него в характере; он был старым знакомым Чоглокова; этот последний открылся Сергею Салтыкову, который постарался его успокоить; я отнюдь не говорила Сергею Салтыкову того, что об этом знала, боясь невольной иногда нескромности. Под конец и муж стал мне делать кое-какие намеки; я разыграла из себя дурочку и удивленную и промолчала.
В феврале месяце у меня появились признаки беременности. В самую Пасху во время службы Чоглоков захворал сухой коликой; ему давали сильных лекарств, но болезнь его только усиливалась.
На Святой неделе великий князь поехал кататься с кавалерами нашего двора верхом. Сергей Салтыков был в том числе; я оставалась дома, потому что меня боялись выпускать ввиду моего положения и ввиду того, что у меня было уже два выкидыша; я была одна в своей комнате, когда Чоглоков прислал просить меня пойти к нему; я пошла туда и застала его в постели; он стал сильно жаловаться мне на свою жену, сказал, что у нее свидания с князем Репниным, что он ходит к ней пешком, что на Масленой, в один из дней придворного бала, он пришел к ней одетый арлекином, что Камынин его выследил; словом, Бог знает, каких подробностей он мне не рассказал.
В минуту наибольшего возбуждения его пришла его жена; тогда он стал в моем присутствии осыпать ее упреками, говоря, что она покидает его больного. И он и она были люди очень подозрительные и ограниченные; я смертельно боялась, чтобы жена не подумала, что это я выдала ее во множестве подробностей, которые он привел ей относительно ее свиданий.
Жена, в свою очередь, сказала ему, что не было бы странным, если бы она наказала его за его поведение по отношению к ней; что ни он и никто другой не может, по крайней мере, упрекнуть ее в том, что она пренебрегала им до сих пор в чем бы то ни было; и свою речь она закончила словами, что ему не пристало жаловаться; и тот и другой обращались все время ко мне и брали меня судьей и посредником в том, что говорили.
Я молчала, боясь оскорбить того или другого, или обоих вместе, или же выдать себя. У меня горело лицо от страха; я была одна с ними. В самый разгар пререканий Владиславова пришла сказать мне, что императрица пожаловала в мои покои; я тотчас же туда побежала, Чоглокова вышла со мною, но вместо того, чтобы следовать за мной, она остановилась в одном коридоре, где была лестница, выходившая в сад; она там и уселась, как мне потом сказали. Что касается меня, то я вошла в мою комнату вся запыхавшаяся и действительно застала там императрицу.
Видя меня впопыхах и немного красной, она меня спросила, где я была. Я ей сказала, что пришла от Чоглокова, который болен, и что я побежала, чтобы вернуться возможно скорее, когда узнала, что она изволила ко мне пожаловать. Она не обратилась ко мне с другими вопросами, но мне показалось, что она задумалась над тем, что я сказала, и что это ей казалось странным; однако она продолжала разговаривать со мною; она не спросила, где великий князь, потому что ей было известно, что он выехал. Ни он, ни я во все царствование императрицы не смели ни выезжать в город, ни выходить из дому, не послав испросить у нее на это позволение.
Владиславова была в моей комнате; императрица несколько раз обращалась к ней, а потом ко мне, говорила о безразличных вещах и затем, пробыв без малого полчаса, ушла, объявив мне, что по случаю моей беременности она позволяет мне не являться 21 и 25 апреля.
Я была удивлена, что Чоглокова не последовала за мною; я спросила у Владиславовой, когда императрица ушла, что с тою приключилось; она мне сказала, что та уселась на лестнице, где плакала. Как только великий князь вернулся, я рассказала Сергею Салтыкову о том, что со мною случилось во время их прогулки: как Чоглоков меня позвал, что было сказано между мужем и женою, о моей боязни и визите, который императрица мне сделала.
Тогда он мне сказал: «Если это так, то я думаю, что императрица приходила посмотреть, что вы делаете в отсутствие вашего мужа, и, чтобы видели, что вы были совершенно одни и у себя и у Чоглокова, я пойду и захвачу всех моих товарищей так, как есть, с ног до головы в грязи, к Ивану Шувалову». Действительно, когда великий князь удалился, он ушел со всеми теми, кто ездил верхом с великим князем, к Ивану Шувалову, который имел помещение при дворе. Когда они туда пришли, сей последний стал расспрашивать их подробно о прогулке, и Сергей Салтыков сказал мне потом, что, по его вопросам, ему показалось, что он не ошибся.
С этого дня болезнь Чоглокова стала все ухудшаться; 21 апреля, в день моего рождения, доктора нашли, что нет надежды на выздоровление. Об этом сообщили императрице, которая приказала, по своему обыкновению, перевезти больного в его собственный дом, чтоб он не умер при дворе, потому что она боялась покойников.
Я была очень огорчена, как только узнала о состоянии, в котором Чоглоков находился. Он умирал как раз в то время, когда после многих лет усилий и труда удалось сделать его не только менее злым и зловредным, но когда он стал сговорчивым и с ним даже можно было справляться, изучив его характер.
Что касается жены, то она искренне меня любила в то время и из черствого и недоброжелательного Аргуса стала другом надежным и преданным. Чоглоков прожил в своем доме еще до 25 апреля, до дня коронации императрицы, в который он и скончался после полудня. Меня тотчас об этом уведомили: я посылала туда почти каждый час.
Я была поистине огорчена и очень плакала. Его жена тоже лежала в постели в последние дни болезни мужа; он был в одной стороне своего дома, она – в другой. Сергей Салтыков и Лев Нарышкин находились в комнате жены в минуту смерти ее мужа; окна комнаты были открыты, птица влетела в нее и села на карниз потолка, против постели Чоглоковой; тогда она, видя это, сказала: «Я убеждена, что мой муж только что отдал Богу душу; пошлите узнать, так ли это».
Пришли сказать, что он действительно умер. Она говорила, что эта птица была душа ее мужа; ей хотели доказать, что эта птица была обыкновенная птица, но не могли ее отыскать. Ей сказали, что она улетела, но, так как никто ее не видел, она осталась убеждена, что это была душа ее мужа, которая прилетела повидаться с ней.
Как только похороны Чоглокова были кончены, Чоглокова хотела побывать у меня; императрица, видя, что она переправляется через длинный Яузский мост, послала ей навстречу сказать, что она увольняет ее от должности при мне и чтобы она возвращалась домой. Ее Императорское Величество нашла неприличным, что, как вдова, она выехала так рано.
В тот же день она назначила Александра Ивановича Шувалова исполнять при великом князе должность покойного Чоглокова. А этот Александр Шувалов, не сам по себе, а по должности, которую он занимал, был грозою всего двора, города и всей империи: он был начальником Государственного инквизиционного суда, который звали тогда Тайной канцелярией. Его занятия, как говорили, вызвали у него род судорожного движения, которое делалось у него на всей правой стороне лица, от глаза до подбородка, каждый раз, как он был взволнован радостью, гневом, страхом или боязнью.
Удивительно, как выбрали этого человека со столь отвратительной гримасой, чтобы держать его постоянно лицом к лицу с молодой беременной женщиной; если бы у меня родился ребенок с таким несчастным тиком, я думаю, что императрица была бы этим очень разгневана; между тем это могло бы случиться, так как я видела его постоянно, всегда неохотно и большею частью с чувством невольного отвращения, причиняемого его личными свойствами, его родными и его должностью, которая, понятно, не могла увеличить удовольствия от его общества.
Но это было только слабым началом того блаженства, которое готовили нам и, главным образом, мне. На следующий день пришли мне сказать, что императрица снова назначит ко мне графиню Румянцеву. Я знала, что это был заклятый враг Сергея Салтыкова, что она недолюбливала также княжну Гагарину и что она очень повредила моей матери в глазах императрицы.
На сей раз, узнав это, я потеряла всякое терпение; я принялась горько плакать и сказала графу Александру Шувалову, что если ко мне приставят графиню Румянцеву, то я сочту это за очень большое несчастье для меня; что эта женщина прежде повредила моей матери, что она очернила ее во мнении императрицы, и что теперь она сделает то же самое и мне; что ее боялись, как чумы, когда она была у нас, и что много будет несчастных от такого распоряжения, если он не найдет средств отвратить его.
Он обещал мне похлопотать об этом и постарался успокоить меня, боясь особенно за мое положение.
Действительно, он отправился к императрице и, когда вернулся, сказал мне, что он надеется, что императрица не назначит ко мне графиню Румянцеву. В самом деле, я не слышала больше разговоров об этом, и все занялись только отъездом в Петербург. Было установлено, что мы проведем 29 дней в дороге, то есть, что мы будем проезжать ежедневно только по одной почтовой станции. Я умирала от страху, как бы Сергея Салтыкова и Льва Нарышкина не оставили в Москве; но не знаю, как это случилось, что соблаговолили записать их в нашу свиту.
Наконец, мы отправились десятого или одиннадцатого мая из московского дворца. Я была в карете с женою графа Александра Шувалова, с самой скучной кривлякой, какую только можно себе представить, с Владиславовой и с акушеркой, без которой, как полагали, невозможно было обойтись, потому что я была беременна; мне было до тошноты скучно в карете, и я то и дело плакала.
Наконец, княжна Гагарина, которая лично не любила графиню Шувалову из-за того, что ее дочь, бывшая замужем за Головкиным, двоюродным братом княжны, была довольно необходительна с родителями своего мужа, выбрала минуту, когда она могла подойти ко мне, чтобы сказать мне, что она старается расположить в мою пользу Владиславову, потому что и она сама, и все боятся, чтобы ипохондрия, бывшая у меня в моем положении, не повредила и мне, и ребенку, которого я носила.
Что касается Сергея Салтыкова, то он не смел ко мне ни близко, ни даже издали, из-за стеснения и постоянного присутствия Шуваловых, мужа и жены. Действительно, ей удалось уговорить Владиславову, которая согласилась по крайней мере на некоторое снисхождение, чтобы облегчить состояние вечного стеснения и принужденности, которое само и порождало эту ипохондрию, с какой я уже не в силах была справляться.
Дело шло ведь о таких пустяках, всего о нескольких минутах разговора; наконец это удалось. После двадцати девяти дней столь скучной езды мы приехали в Петербург, в Летний дворец. Великий князь возобновил там прежде всего свои концерты. Это несколько облегчало мне возможность разговаривать, но ипохондрия моя стала такова, что каждую минуту и по всякому поводу у меня постоянно навертывались слезы на глаза и тысячу опасений приходили мне в голову; одним словом, я не могла избавиться от мысли, что все клонится к удалению Сергея Салтыкова.
Мы поехали в Петергоф; я много там ходила, но, несмотря на это, мои огорчения меня там преследовали. В августе мы вернулись в город и снова заняли Летний дворец. Для меня было почти смертельным ударом, когда я узнала, что к моим родам готовили покои, примыкавшие к апартаментам императрицы и составлявшие часть этих последних.
Александр Шувалов повел меня смотреть их; я увидела две комнаты, такие же, как и все в Летнем дворце, скучные, с единственным выходом, плохо отделанные малиновой камкой, почти без мебели и без всяких удобств. Я увидела, что буду здесь в уединении, без какого бы то ни было общества, и глубоко несчастна. Я сказала об этом Сергею Салтыкову и княжне Гагариной, которые, хоть и не любили друг друга, но сходились в своей дружбе ко мне.
Они видели то же, что и я, но помочь этому было невозможно. Я должна была в среду перейти в эти покои, очень отдаленные от покоев великого князя. Во вторник вечером я легла и проснулась ночью с болями. Я разбудила Владиславову, которая послала за акушеркой, утверждавшей, что я скоро разрешусь. Послали разбудить великого князя, спавшего у себя в комнате, и графа Александра Шувалова. Этот послал к императрице, не замедлившей прийти около двух часов ночи.
Я очень страдала; наконец, около полудня следующего дня, 20 сентября, я разрешилась сыном. Как только его спеленали, императрица ввела своего духовника, который дал ребенку имя Павел, после чего тотчас же императрица велела акушерке взять ребенка и следовать за ней.
Я оставалась на родильной постели, а постель эта помещалась против двери, сквозь которую я видела свет; сзади меня было два больших окна, которые плохо затворялись, а направо и налево от этой постели – две двери, из которых одна выходила в мою уборную, а другая – в комнату Владиславовой.
Как только удалилась императрица, великий князь тоже пошел к себе, а также и Шуваловы, муж и жена, и я никого не видела ровно до трех часов. Я много потела; я просила Владиславову сменить мне белье, уложить меня в кровать; она мне сказала, что не смеет. Она посылала несколько раз за акушеркой, но та не приходила; я просила пить, но получила тот же ответ.
Наконец, после трех часов пришла графиня Шувалова, вся разодетая. Увидев, что я все еще лежу на том же месте, где она меня оставила, она вскрикнула и сказала, что так можно уморить меня. Это было очень утешительно для меня, уже заливавшейся слезами с той минуты, как я разрешилась, и особенно оттого, что я всеми покинута и лежу плохо и неудобно, после тяжелых и мучительных усилий, между плохо затворявшимися дверьми и окнами, причем никто не смел перенести меня на мою постель, которая была в двух шагах, а я сама не в силах была на нее перетащиться.
Шувалова тотчас же ушла, и, вероятно, она послала за акушеркой, потому что последняя явилась полчаса спустя и сказала нам, что императрица была так занята ребенком, что не отпускала ее ни на минуту. Обо мне и не думали. Это забвение или пренебрежение по меньшей мере не были лестны для меня; я в это время умирала от усталости и жажды; наконец, меня положили в мою постель, и я ни души больше не видала во весь день, и даже не посылали осведомиться обо мне.
Его Императорское Высочество со своей стороны только и делал, что пил с теми, кого находил, а императрица занималась ребенком.
В городе и в империи радость по случаю этого события была велика. Со следующего дня я начала чувствовать невыносимую ревматическую боль, начиная с бедра, вдоль ляжки и по всей левой ноге; эта боль мешала мне спать, и притом я схватила сильную лихорадку. Несмотря на это, на следующий день мне оказывали почти столько же внимания; я никого не видела, и никто не справлялся о моем здоровье; великий князь, однако, зашел в мою комнату на минуту и удалился, сказав, что не имеет времени оставаться.
Я то и дело плакала и стонала в своей постели, одна Владиславова была в моей комнате; в сущности, она меня жалела, но не могла этому помочь. Кроме того, я не любила, чтобы меня жалели, и не любила жаловаться; у меня была слишком гордая душа, и одна мысль быть несчастной казалась мне невыносимой. До тех пор я делала все, что могла, чтобы не казаться таковой.
Я могла бы видеть графа Александра Шувалова и его жену, но это были существа такие пошлые и такие скучные, что я всегда была в восторге, когда они отсутствовали.
На третий день пришли от императрицы спросить у Владиславовой от имени государыни, не осталась ли у меня в комнате мантилья из голубого атласа, которая была в тот день, когда я разрешилась, на Ее Императорском Величестве, так как было очень холодно в моей комнате. Владиславова пошла всюду искать эту мантилью и наконец нашла ее в углу моей уборной, где ее не заметили, потому что со времени моих родов редко входили в эту комнату; найдя ее, она тотчас ее отослала.
Эта мантилья, как мы узнали немного времени спустя, дала повод к довольно странному приключению. У императрицы не было определенного часа ни для сна, ни для вставанья, ни для обеда, ни для ужина, ни для одевания; после полудня в один из трех указанных дней она легла на канапе, куда велела положить матрац и подушки; лежа, она спросила эту мантилью, так как ей было холодно; ее стали всюду искать и не нашли, потому что она осталась у меня в комнате.
Тогда императрица приказала искать ее под подушками изголовья, думая, что ее там найдут; сестра Крузе, эта любимая камер-фрау императрицы, просунула руку под изголовье Ее Императорского Величества и вытащила ее, говоря, что мантильи под этим изголовьем нет, но что там есть пучок волос или что-то вроде этого, но она не знает, что это такое. Императрица тотчас встала с места и велела поднять матрац и подушки, и тогда увидели, не без удивления, бумагу, в которой были волосы, намотанные на какие-то коренья.
Тогда и женщины императрицы, и она сама стали говорить, что это, наверное, какие-нибудь чары или колдовство, и все стали делать догадки о том, кто бы мог иметь смелость положить этот сверток под изголовье императрицы.
Заподозрили одну из женщин, которую Ее Императорское Величество любила больше всех; ее звали Анной Дмитриевной Домашевой; но недавно эта женщина, овдовев, вышла во второй раз замуж за камердинера императрицы. Господа Шуваловы не любили этой женщины, которая была им враждебна, и по своей силе, и по доверию императрицы, которым она пользовалась с молодых лет, была очень способна сыграть с ними какую-нибудь штуку, которая сильно уменьшила бы их фавор.
Так как Шуваловы имели сторонников, то последние усмотрели в этом преступление. Императрица и сама по себе была к тому склонна, потому что верила в чары и колдовство. Вследствие этого она велела графу Александру Шувалову арестовать эту женщину, ее мужа и ее двоих сыновей, из которых один был гвардейским офицером, а другой – камер-пажем Муж через два дня после того, как был арестован, спросил бритву, чтобы побриться, и перерезал ею себе горло; а жена с детьми оставались долго под арестом, и она призналась, что, дабы продлить милость императрицы к ней, она употребила эти чары и что положила еще несколько крупинок четверговой соли в рюмку венгерского, которую подавала императрице.
Это дело закончили тем, что сослали и женщину, и ее детей в Москву; распустили потом слух, будто обморок, бывший с императрицей за несколько дней до моих родов, был вследствие напитков, которые эта женщина давала императрице; но на самом деле она никогда не давала ей ничего, кроме двух или трех крупинок четверговой соли, которые, конечно, не могли ей повредить; во всем этом могли быть достойны порицания только дерзость этой женщины и ее суеверие.
Наконец, великий князь, скучая по вечерам без моих фрейлин, за которыми он ухаживал, пришел предложить мне провести вечер у меня в комнате. Тогда он ухаживал как раз за самой некрасивой: это была графиня Елисавета Воронцова; на шестой день были крестины моего сына; он уже чуть не умер от молочницы.
Я могла узнавать о нем только украдкой, потому что спрашивать о его здоровье – значило бы сомневаться в заботе, которую имела о нем императрица, и это могло быть принято очень дурно. Она и без того взяла его в свою комнату, и, как только он кричал, она сама к нему подбегала, и заботами его буквально душили.
Его держали в чрезвычайно жаркой комнате, запеленавши во фланель и уложив в колыбель, обитую мехом черно-бурой лисицы; его покрывали стеганным на вате атласным одеялом и сверх этого клали еще другое, бархатное, розового цвета, подбитое мехом черно-бурой лисицы.
Я сама много раз после этого видела его уложенного таким образом: пот лил у него с лица и со всего тела, и это привело к тому, что когда он подрос, то от малейшего ветерка, который его касался, он простужался и хворал.
Кроме того, вокруг него было множество старых мамушек, которые бестолковым уходом, вовсе лишенным здравого смысла, приносили ему несравненно больше телесных и нравственных страданий, нежели пользы.
В самый день крестин императрица после обряда пришла в мою комнату и принесла мне на золотом блюде указ своему Кабинету выдать мне сто тысяч рублей; к этому она прибавила небольшой ларчик, который я открыла только тогда, когда она ушла. Эти деньги пришлись мне очень кстати, потому что у меня не было ни гроша и я была вся в долгу; ларчик же, когда я его открыла, не произвел на меня большого впечатления: там было очень бедное маленькое ожерелье с серьгами и двумя жалкими перстнями, которые мне совестно было бы подарить моим камер-фрау.
Во всем этом ларчике не было ни одного камня, который стоил бы сто рублей; ни работой, ни вкусом эти вещи тоже не блистали. Я промолчала и велела убрать императорский ларчик; вероятно, чувствовали явную ничтожность этого подарка, потому что граф Александр Шувалов пришел мне сказать, что ему приказано узнать от меня, как мне понравился ларчик; я ему ответила, что все, что я получала из рук Ее Императорского Величества, я привыкла считать бесценным для себя.
Он ушел с этим комплиментом очень веселый. Он впоследствии снова к этому вернулся, видя, что я никогда не надеваю это прекрасное ожерелье и особенно – жалкие серьги, и сказал, чтобы я их надевала; я ему ответила, что на празднества императрицы я привыкла надевать, что у меня есть лучшего, а это ожерелье и серьги не такого сорта.
Четыре или пять дней спустя после того, как мне принесли деньги, которые императрица мне пожаловала, барон Черкасов, ее кабинет-секретарь, велел попросить меня: чтобы я бога ради одолжила эти деньги Кабинету императрицы, потому что она требовала денег, а их не было ни гроша. Я отослала ему его деньги, и он возвратил мне их в январе месяце.
Великий князь, узнав о подарке, сделанном мне императрицей, пришел в страшную ярость оттого, что она ему ничего не дала. Он с запальчивостью сказал об этом графу Александру Шувалову. Этот последний пошел доложить об этом императрице, которая тотчас же послала великому князю такую же сумму, какую дала и мне; для этого и взяли у меня в долг мои деньги.
Надо правду сказать, Шуваловы были, вообще, люди крайне трусливые, и этим-то путем можно было ими управлять; но эти прекрасные качества тогда были еще не совсем открыты.
После крестин моего сына были празднества, балы, иллюминация и фейерверк при дворе. Что касается меня, то я все еще была в постели, больная и страдающая от сильной скуки; наконец, выбрали семнадцатый день после моих родов, чтобы объявить мне сразу две очень неприятные новости. Первая, что Сергей Салтыков был назначен отвезти известие о рождении моего сына в Швецию.
Вторая, что свадьба княжны Гагариной назначена на следующей неделе; это значило попросту сказать, что я буду немедленно разлучена с двумя лицами, которых я любила больше всех из тех, кто меня окружал. Я зарылась больше чем когда-либо в свою постель, где я только и делала, что горевала; чтобы не вставать с постели, я отговорилась усилением боли в ноге, мешавшей мне вставать; но на самом деле я не могла и не хотела никого видеть, потому что была в горе.
Во время моих родов у великого князя была тоже большая неприятность, потому что граф Александр Шувалов пришел ему сказать, что прежний охотник великого князя, Бастиан, которому императрица повелела несколько лет тому назад жениться на Шенк, моей прежней камер-юнгфере, донес ему, что от кого-то слышал, что Брессан хотел чем-то опоить великого князя.
А этот Бастиан был большой плут и пьяница, покучивавший время от времени с Его Императорским Высочеством; поссорившись с Брессаном, которого он считал в большей милости у великого князя, нежели был он сам, он вздумал сыграть с ним злую шутку. Великий князь любил их обоих. Бастиан был посажен в крепость; Брессан думал, что тоже туда угодит, но он отделался одним страхом. Охотник был выслан из России и отправлен в Голштинию со своею женою, а Брессан сохранил свое место, потому что он служил всем шпионом.
Сергей Салтыков после некоторых отсрочек, происшедших оттого, что императрица нечасто и неохотно подписывала бумаги, уехал; княжна Гагарина между тем вышла замуж в назначенный срок. Когда прошло 40 дней со времени моих родов, императрица, когда давали молитву, пришла вторично в мою комнату. Я встала с постели, чтобы ее принять; но она, видя меня такой слабой и такой исхудавшей, велела мне сидеть, пока ее духовник читал молитву.
Сына моего принесли в мою комнату: это было в первый раз, что я его увидела после его рождения. Я нашла его очень красивым, и его вид развеселил меня немного; но в ту самую минуту, как молитвы были закончены, императрица велела его унести и ушла. 1 ноября было назначено Ее Императорским Величеством для того, чтобы я принимала обычные поздравления после шести недель, прошедших со времени моих родов.
Для этого случая поставили очень богатую мебель в комнату рядом с моей, и там я сидела на бархатной розовой постели, вышитой серебром, и все подходили целовать мне руку. Императрица тоже пришла туда и от меня переехала в Зимний дворец, куда мы получили приказание последовать за нею дня два или три спустя.
Нас поместили в комнатах, которые занимала моя мать и которые, собственно говоря, принадлежали наполовину к дому Ягужинского[89] и наполовину к дому [графа Саввы Лукича] Рагузинского; другая половина этого последнего дома была занята Коллегией иностранных дел. В то время строили Зимний дворец со стороны большой площади. Я переехала из Летнего дворца в зимнее помещение с твердым намерением не выходить из комнаты до тех пор, пока не буду чувствовать себя в силах победить свою ипохондрию.
Я читала тогда «Историю Германии» и «Всеобщую историю» Вольтера. Затем я прочла в эту зиму столько русских книг, сколько могла достать, между прочим два огромных тома Барониуса[90], в русском переводе; потом я напала на «Дух законов» Монтескье, после чего прочла «Анналы» Тацита, сделавшие необыкновенный переворот в моей голове, чему, может быть, немало способствовало печальное расположение моего духа в это время.
Я стала видеть многие вещи в черном свете и искать в предметах, представлявшихся моему взору, причин глубоких и более основанных на интересах. Я собралась с силами, чтобы выйти на Рождество. Действительно, я присутствовала при богослужении, но в самой церкви меня охватила дрожь, и я почувствовала боли во всем теле, так что, вернувшись к себе, я разделась и улеглась в мою кровать, а это было не что иное, как кушетка, поставленная мной у заделанной двери, через которую, как мне казалось, не дуло, потому что, кроме подбитой сукном портьеры, перед ней стояли еще большие ширмы, но эта дверь, вероятно, наградила меня всеми флюсами, какие одолевали меня в эту зиму.
На второй день Рождества жар от лихорадки был так велик, что я бредила; когда я закрывала глаза, я видела перед собою лишь плохо нарисованные фигуры на изразцах печи, в которую упиралась моя кушетка, так как комната была маленькая и узкая.
Что касается моей спальной, то я почти вовсе туда не входила, потому что она была очень холодная от окон, выходивших с двух сторон на Неву, на восток и на север; вторая причина, прогонявшая меня оттуда, была близость покоев великого князя, где днем и отчасти ночью был всегда шум, приблизительно такой же, как в кордегардии; кроме того, так как он и все его окружающие много курили, то неприятные испарения и запах табаку давали себя здесь знать.
Итак, я находилась всю зиму в этой несчастной узкой комнатке, в которой было два окна и один простенок, что в общем могло составлять пространство от семи до восьми аршин в длину и аршина четыре в ширину, между тремя дверьми. Так начался 1755 год.
С Рождества до Поста были только празднества при дворе и в городе: это было все еще по случаю рождения моего сына. Все наперерыв друг перед другом спешили задавать возможно лучшие пиршества, балы, маскарады, иллюминации и фейерверки; я ни на одном не присутствовала под предлогом болезни.
К концу Масленой Сергей Салтыков вернулся из Швеции. Во время его отсутствия великий канцлер граф Бестужев все известия, какие он получал от него, и депеши графа Панина, в то время русского посланника в Швеции, посылал мне через Владиславову, которой передавал их ее зять, старший чиновник при великом канцлере, а я их отсылала тем же путем. Таким же образом я узнала еще, что, как только Сергей Салтыков вернется, решено послать его жить в Гамбург в качестве русского посланника на место князя Александра Голицына, которого назначили в армию.
Это новое распоряжение не уменьшило моего горя. Когда Сергей Салтыков вернулся, он послал мне сказать через Льва Нарышкина, чтобы я указала ему, если могу, средство меня видеть; я поговорила об этом с Владиславовой, которая согласилась на это свидание. Он должен был пройти к ней, а оттуда ко мне; я ждала его до трех часов утра, но он совсем не пришел; я смертельно волновалась по поводу того, что могло помешать ему прийти.
Я узнала на следующий день, что его увлек граф Роман Воронцов в ложу франкмасонов. Он уверял, что не мог выбраться оттуда, не возбудив подозрений. Но я так расспрашивала и выведывала у Льва Нарышкина, что мне стало ясно как день, что он не явился по недостатку рвения и внимания ко мне, без всякого уважения к тому, что я так долго страдала исключительно из-за моей привязанности к нему. Сам Лев Нарышкин, хоть и друг его, не очень-то или даже совсем не оправдывал его.
Правду сказать, я этим была очень оскорблена; я написала ему письмо, в котором горько жаловалась на его поступок. Он мне ответил и пришел ко мне; ему не трудно было меня успокоить, потому что я была к тому очень расположена. Он меня убедил показаться в обществе.
Я последовала его совету и появилась 10 февраля, в день рождения великого князя и накануне Поста. Я заказала себе для этого дня великолепное платье из голубого бархата, вышитое золотом. Так как в своем одиночестве я много и много размышляла, то я решила дать почувствовать тем, которые мне причинили столько различных огорчений, что от меня зависело, чтобы меня не оскорбляли безнаказанно, и что дурными поступками не приобретешь ни моей привязанности, ни моего одобрения.
Вследствие этого я не пренебрегала никаким случаем, когда могла бы выразить Шуваловым, насколько они расположили меня в свою пользу; я выказывала им глубокое презрение, я заставляла других замечать их злость, глупости, я высмеивала их всюду, где могла, всегда имела для них наготове какую-нибудь язвительную насмешку, которая затем облетала город и тешила злобу на их счет; словом, я им мстила всякими способами, какие могла придумать; в их присутствии я не упускала случая отличать тех, кого они не любили.
Так как было немало людей, которые их ненавидели, то у меня не было недостатка в поддержке. Графов Разумовских, которых я всегда любила, я больше чем когда-либо ласкала.
Я удвоила внимательность и вежливость по отношению ко всем, исключая Шуваловых. Одним словом, я держалась очень прямо, высоко несла голову, скорее, как глава очень большой партии, нежели как человек униженный и угнетенный. Шуваловы сначала не знали, на какой ноге плясать. Они держали совет и прибегли к придворным хитростям и интригам.
В это время появился в России некий Брокдорф[91], голштинский дворянин, которого раньше прогнали с границы России, куда он было ехал, тогдашние приближенные великого князя Брюммер и Берхгольц, потому что они знали его как человека с очень дурным характером и способного к интриге. Этот человек явился очень кстати для господ Шуваловых. Так как он имел ключ камергера великого князя как герцога Голштинского, то сей ключ дал ему право входа к Его Императорскому Высочеству, который, кроме того, был милостиво расположен ко всякому болвану, приезжавшему из этой страны.
Этот человек нашел доступ к графу Петру Шувалову[92] вот каким образом. Он познакомился в гостинице, где он стоял, с одним человеком, который не выходил из петербургских гостиниц, разве только для того, чтобы пойти к трем девицам-немкам, довольно пригожим, по имени Рейфенштейн; одна из этих девиц была на содержании у графа Петра Шувалова.
Человека, о котором идет речь, звали Браун; это был своего рода сводник по всяким делам, он ввел Брокдорфа к этим девицам; здесь он познакомился с графом Петром Шуваловым; тот начал усиленно заверять его в своей привязанности к великому князю и мало-помалу стал жаловаться на меня. Брокдорф при первом случае донес все это великому князю, и его настроили на то, чтобы, как он говорил, образумить его жену.
С этой целью Его Императорское Высочество однажды после обеда пришел ко мне в комнату и сказал мне, что я начинаю становиться невыносимо горда и что он сумеет меня образумить. Я его спросила, в чем состоит эта гордость? Он мне ответил, что я держусь очень прямо. Я его спросила: разве для того, чтобы ему понравиться, нужно гнуть спину, как рабы турецкого султана? Он рассердился и сказал мне, что он сумеет меня образумить.
Я спросила у него: «Каким образом?» Тогда он прислонился спиною к стене, вытащил наполовину свою шпагу и показал мне ее. Я его спросила, что это значит, не рассчитывает ли он драться со мною; что тогда и мне нужна шпага. Он вложил свою наполовину вынутую шпагу в ножны и сказал мне, что я стала ужасно зла. Я спросила его: «В чем?» Тогда он мне пробормотал: «Да по отношению к Шуваловым».
На это я отвечала, что это лишь в отместку и что он хорошо сделает, если не станет говорить о том, чего не знает и в чем ничего не смыслит. Он стал говорить: «Вот что значит не доверяться своим истинным друзьям, и выходит плохо. Если бы вы мне доверялись, то это пошло бы вам на пользу». Я сказала ему: «Да в чем доверяться?»
Тогда он стал говорить мне такие несуразные вещи, столь лишенные самого обыкновенного здравого смысла, что я, видя, что он просто-напросто заврался, дала ему говорить, не возражая ему, и воспользовалась перерывом, удобным, как мне показалось, чтобы посоветовать ему идти спать, ибо я видела ясно, что вино помутило ему разум и лишило его всякого признака здравого смысла. Он последовал моему совету и пошел спать.
От него уже тогда начало почти постоянно нести вином вместе с запахом курительного табаку, так что это бывало буквально невыносимо для тех, кто к нему приближался. В тот же вечер, когда я играла в карты, граф Александр Шувалов пришел мне объявить от имени императрицы, будто она запретила дамам употреблять в их наряде многие материи, которые были перечислены в объявлении.
Чтобы показать ему, как Его Императорское Высочество меня усмирил, я засмеялась ему в лицо и сказала ему, что он мог бы не утруждать себя сообщением мне этого объявления, потому что я никогда не надеваю ни одной из материй, которые не нравятся Ее Императорскому Величеству; что, впрочем, я не полагаю своего достоинства ни в красоте, ни в наряде, что, когда первая прошла, последний становится смешным, что остается только один характер.
Он выслушал это до конца, помаргивая правым глазом, как это было у него в привычке, и ушел со своей гримасой. Я обратила на это внимание тех, кто играл со мною, передразнив его, что заставило смеяться всю компанию.
Несколько дней спустя великий князь сказал мне, что он хочет просить у императрицы денег для своих голштинских дел, которые идут все хуже и хуже, и что советует ему это Брокдорф. Я хорошо поняла, что это была приманка, на которую его хотели поймать, чтобы заставить его надеяться на получение этих денег через посредство господ Шуваловых. Я ему сказала: «Нет ли возможности сделать иначе?»
Он мне ответил, что покажет мне, что по этому поводу ему предъявляют голштинцы. Он действительно так и сделал; просмотрев бумаги, которые он мне показал, я ему сказала, что, как мне кажется, он может обойтись без того, чтобы выпрашивать деньги у своей тетушки, которая, может быть, еще откажет, так как не прошло еще и шести месяцев с тех пор, как она дала ему сто тысяч; но он остался при своем мнении, а я – при своем. Что несомненно, так это то, что его долго обнадеживали, что у него будут деньги, но он ничего не получил.
После Пасхи мы отправились в Ораниенбаум. Перед отъездом императрица позволила мне повидать моего сына в третий раз с тех пор, как он родился. Надо было пройти через все покои Ее Императорского Величества, чтобы добраться до его комнаты. Я нашла его в удушливой жаре, как я это уже рассказывала. Приехав на дачу в Ораниенбаум, мы увидели там нечто необычайное.
Его Императорское Высочество, которому его голштинцы постоянно толковали о дефиците и которому все говорили, чтобы он сократил число этих непутных людей, которых притом он мог видать только тайком и урывками, взял да и решился вдруг выписать их целый отряд. Это было также дело рук злосчастного Брокдорфа, льстившего преобладающей страсти этого князя.
Шуваловым он дал понять, что, потворствуя ему этой игрушкой или погремушкой, они навсегда обеспечат себе его милость, что они займут его этим и могут быть на будущее время уверены в его полном одобрении всего того, что они со временем предпримут.
От императрицы, которая ненавидела Голштинию и все то, что оттуда исходило, и видела, как подобные военные погремушки погубили отца великого князя, герцога Карла-Фридриха, во мнении Петра I и всего русского общества, сначала, кажется, это скрыли или сказали ей, что это такой пустяк, что не стоило об этом и говорить, и что притом одно присутствие графа Александра Шувалова является уже достаточной уздой для того, чтобы это дело не имело никаких последствий. Сев на суда в Киле, этот отряд прибыл в Кронштадт, а оттуда перебрался в Ораниенбаум.
Великий князь, который при Чоглокове надевал голштинский мундир только в своей комнате и как бы украдкой, теперь уже не стал носить другого, кроме как на куртагах, хотя он был подполковником Преображенского полка и, кроме того, был в России шефом Кирасирского полка. По совету Брокдорфа великий князь держал в большом секрете от меня эту перевозку войск.
Признаюсь, когда я это узнала, я ужаснулась тому отвратительному впечатлению, которое этот поступок великого князя должен был произвести на русское общество и даже на ум императрицы, взгляды которой мне были прекрасно известны. Александр Шувалов с обычным подергиванием глаза смотрел, как этот отряд проходил мимо балкона в Ораниенбауме. Я была рядом с ним; в глубине души он не одобрял того, что он и его родня условились терпеть.
При Ораниенбаумском дворце стоял караул из Ингерманландского полка, который чередовался с Астраханским. Я узнала, что, видя, как проходят голштинские войска, солдаты сказали: «Эти проклятые немцы все проданы прусскому королю; это все предателей приводят в Россию». Вообще, общество было возмущено этим появлением; самые преданные пожимали плечами, самые умеренные находили это смешным и странным; в сущности, это было очень неосторожное ребячество.
Что меня касается, то я молчала, а когда мне об этом говорили, я высказывала свое мнение таким образом, чтобы увидели, что я этого ничуть не одобряю; я действительно смотрела на это дело, с какой стороны его ни поверни, как на в высшей степени вредное для блага великого князя, ибо при ближайшем рассмотрении какое же другое мнение можно было по этому поводу иметь? Одно его удовольствие не могло никогда вознаградить за тот вред, который эта затея должна была сделать ему в общественном мнении.
Его Императорское Высочество, в восхищении от своего отряда, поместился с ним в лагере, который для этого устроил, и только и делал, что занимался с ними военными учениями. Надо было их кормить, но об этом совсем не подумали; между тем дело было неотложное, и произошло несколько столкновений с гофмаршалом, который не был готов к такому требованию; наконец, он на это согласился, и камер-лакеи вместе с солдатами Ингерманландского полка, имевшими караул при дворце, были употреблены на то, чтобы носить из дворцовой кухни в лагерь пищу для вновь прибывших.
Этот лагерь был не особенно близко от дворца; ни тем, ни другим ничего не дали за их труд; можно себе представить, какое прекрасное впечатление должно было произвести столь мудрое и разумное распоряжение.
Солдаты Ингерманландского полка говорили: «Вот мы стали лакеями этих проклятых немцев». Дворцовые лакеи говорили: «Нас заставляют служить этому мужичью». Когда я увидела и узнала, что происходит, я твердо решила держаться как можно дальше от этой опасной ребяческой игры. Камергеры нашего двора, которые были женаты, имели при себе своих жен; это составляло довольно многочисленную компанию, кавалерам нечего было делать в голштинском лагере, из которого Его Императорское Высочество не выходил.
Таким образом, среди этой компании придворных и с нею я уходила гулять как можно чаще, но всегда в сторону, противоположную от лагеря, к которому мы не подходили ни издали, ни близко. Мне вздумалось тогда развести себе сад в Ораниенбауме, и так как я знала, что великий князь не даст мне для этого ни клочка земли, то я попросила князей Голицыных продать или уступить мне пространство во сто саженей невозделанной и давно брошенной земли, которая находилась у них совсем рядом с Ораниенбаумом; так как этот кусок земли принадлежал восьми или десяти членам их семьи, то они охотно мне его уступили, не получая от нее, впрочем, никакого дохода.
Я начала делать планы, как строить и сажать, и так как это была моя первая затея в смысле посадок и построек, то она приняла довольно обширные размеры. У меня был старый хирург, француз по имени Гюйон, который, видя это, говорил мне: «К чему это? Помяните мое слово: я вам предсказываю, что в один прекрасный день вы все это бросите». Его предсказание сбылось, но мне нужно было какое-либо развлечение, а это и было развлечением, которое могло развивать воображение.
Для посадки моего сада я сначала пользовалась услугами ораниенбаумского садовника, Ламберти; он находился на службе императрицы, когда она была еще цесаревной, в ее царскосельском имении, откуда она перевела его в Ораниенбаум. Он занимался предсказаниями, и, между прочим, предсказание, сделанное им императрице, сбылось.
Он ей предрек, что она взойдет на престол. Этот же человек сказал мне и повторял это столько раз, сколько мне было угодно его слушать, что я стану Российской самодержавной императрицей, что я увижу детей, внуков и правнуков и умру в глубокой старости, с лишком 80 лет от роду. Он сделал более того: он определил год моего восшествия на престол за шесть лет до того, как оно действительно произошло. Это был очень странный человек, говоривший с такою уверенностью, с которой невозможно было его сбить.
Он уверял, что императрица относится к нему с недоброжелательством за то, что он предсказал ей, что с ней случилось, и что она выслала его из Царского Села в Ораниенбаум, потому что боялась его, так как он не мог больше обещать ей трона. Кажется, в Троицын день нас вытащили из Ораниенбаума и заставили приехать в город. Приблизительно около этого времени прибыл в Россию английский посланник кавалер [сэр Чарльз Генбюри] Уильямс; в его свите находился граф, поляк, сын того, который примкнул к партии Карла XII, короля Шведского[93].
После краткого пребывания в городе мы вернулись в Ораниенбаум, где императрица приказала праздновать Петров день. Она не приехала туда сама, потому что не хотела праздновать первые именины моего сына Павла, приходившиеся в тот же день. Она осталась в Петергофе; там она села у окна, где, по-видимому, оставалась весь день, потому что все приехавшие в Ораниенбаум говорили, что видели ее у этого окна.
В Ораниенбаум наехало множество народа; танцевали в зале, который находится при входе в мой сад, потом там же ужинали; иностранные послы и посланники также приехали; помню, что английский посланник, кавалер Генбюри Уильямс, был за ужином моим соседом и что у нас с ним был разговор – столь же приятный, сколь и веселый; так как он был очень умен и образован и знал всю Европу, то с ним не трудно было разговаривать.
Я узнала потом, что ему так же было весело в этот вечер, как и мне, и что он отзывался обо мне с большой похвалой; в этом отношении я никогда не терпела недостатка со стороны тех голов или умов, которые подходили к моему уму, и так как в то время у меня было меньше завистников, то обо мне говорили вообще с довольно большой похвалой: меня считали умной, и множество лиц, знавших меня поближе, удостаивали меня своим доверием, полагались на меня, спрашивали моих советов и оставались довольны теми, которые я им давала.
Великий князь издавна звал меня madame la Ressource[94], и, как бы он ни был сердит и как бы ни дулся, но, если он находился в беде в каком-нибудь смысле, он, по принятому им обыкновению, бежал ко мне со всех ног, чтобы вырвать у меня мое мнение; как только он его получал, он удирал – опять со всех ног. Помню также, что на этом празднике в Петров день в Ораниенбауме, видя, как танцует граф Понятовский, я стала говорить кавалеру Уильямсу о его отце и о том зле, которое он причинил Петру I.
Английский посланник сказал мне много хорошего о сыне и подтвердил мне то, что я уже знала, а именно, что в то время его отец и семья его матери, Чарторыйские[95], составляли русскую партию в Польше и что они отправили этого сына в Россию, поручив его ему [Уильямсу], чтобы воспитать его в их чувствах к России, и что он надеется, что этот молодой человек сделает карьеру в России. Ему могло быть тогда 22–23 года.
Я ответила ему, что вообще я считаю Россию для иностранцев пробным камнем их достоинств и что тот, кто успевал в России, мог быть уверен в успехе во всей Европе. Это замечание я считала всегда безошибочным, ибо нигде, как в России, нет таких мастеров подмечать слабости, смешные стороны или недостатки иностранца; можно быть уверенным, что ему ничего не спустят, потому что, естественно, всякий русский в глубине души не любит ни одного иностранца.
Приблизительно в это время я узнала, что поведение Сергея Салтыкова было очень нескромно и в Швеции, и в Дрездене; и в той и в другой стране он, кроме того, ухаживал за всеми женщинами, которых встречал. Сначала я не хотела ничему верить, но под конец я слышала, как об этом со всех сторон говорили, так что даже друзьям его не удалось его оправдать.
В течение этого года я больше, чем когда-либо, сдружилась с Анной Никитичной Нарышкиной[96]. Лев, ее деверь, много этому содействовал; он был почти всегда третьим между нами, и его дурачествам не было конца; он нам говорил иногда: «Той из вас, которая будет лучше себя вести, я предназначаю одну драгоценную вещь, за которую вы меня поблагодарите». Ему не мешали говорить, и никто даже не любопытствовал спросить у него, что это была за драгоценность.
Осенью голштинские войска были отправлены обратно морем, и мы вернулись в город и заняли Летний дворец. В это время Лев Нарышкин заболел горячкой, в продолжение которой он писал мне письма; я очень хорошо видела, что письма эти были не его собственного сочинения. Я ему отвечала.
Он просил у меня в этих письмах то варенья, то других подобных пустяков, а потом благодарил меня за них. Эти письма были отлично написаны и очень веселые; он говорил, что пользуется рукою своего секретаря. Наконец, я узнала, что этим секретарем был граф Понятовский, который не выходил от него и втерся в дом Нарышкиных. Из Летнего дворца с наступлением зимы нас перевели в новый Зимний дворец, который императрица велела выстроить из дерева, где в настоящее время находится дом Чичериных.
Этот дворец занимал весь квартал до места, находившегося против дома графини Матюшкиной, который принадлежал тогда Наумову[97]. Мои окна были против этого дома, занятого фрейлинами. При входе туда я была особенно поражена высотою и величиною покоев, которые нам предназначали.
Четыре больших прихожих и две комнаты с кабинетом были приготовлены для меня и столько же для великого князя; мои покои были достаточно хорошо распределены, так что мне не приходилось страдать от близости комнат великого князя. В этом уже было большое преимущество. Граф Александр Шувалов заметил мое удовольствие и пошел тотчас же доложить императрице, что я очень хвалила красоту, величину и количество предназначенных мне покоев. Он мне это потом сказал с видом некоторого самодовольства, сопровождавшимся его обычным помаргиванием глаза и улыбкой.
В это время и еще долго спустя главной забавой великого князя в городе было необычайное количество игрушечных солдатиков из дерева, свинца, крахмала, воска, которых он расставлял на очень узких столах, занимавших целую комнату; между этими столами едва можно было проходить; он прибил узкие латунные полоски вдоль этих столов; к этим латунным полоскам были привязаны веревочки, и, когда их дергали, латунные полосы производили шум, который, по его мнению, воспроизводил ружейные залпы.
Он очень аккуратно праздновал придворные торжества, заставляя эти войска производить ружейные залпы; кроме того, каждый день сменялись караулы, то есть с каждого стола снимали тех солдатиков, которые должны были стоять на часах; он присутствовал на этом параде в мундире, в сапогах со шпорами, с офицерским значком и шарфом, и те из его слуг, которые были допущены к участию в этом прекрасном упражнении, были обязаны также там присутствовать.
К зиме этого года мне показалось, что я снова беременна; мне пустили кровь. У меня сделался флюс, или, вернее, как я думала, флюсы на обеих щеках; но после нескольких дней страдания у меня появились четыре коренных зуба по четырем концам челюстей.
Так как наши комнаты были очень обширны, великий князь устраивал каждую неделю по балу и по концерту: четверг был для бала, а вторник – для концерта. На них бывали только фрейлины и кавалеры нашего двора с их женами. Эти балы бывали интересны, смотря по лицам, которые на них бывали.
Я очень любила Нарышкиных, которые были общительнее других; в этом числе я считаю госпож Сенявину и Измайлову[98], сестер Нарышкиных, и жену старшего брата, о которой я уже упоминала. Лев Нарышкин, все такой же сумасбродный и на которого все смотрели, как на человека пустого, каким он и был в действительности, взял привычку перебегать постоянно из комнаты великого князя в мою, не останавливаясь нигде подолгу.
Чтобы войти ко мне, он принял обыкновение мяукать кошкой у двери моей комнаты, и, когда я ему отвечала, он входил. 17 декабря между шестью и семью часами вечера он таким образом доложил о себе у моей двери; я велела ему войти; он начал с того, что передал мне приветствия от своей невестки, причем сказал мне, что она не особенно здорова; потом он прибавил: «Но вы должны были бы ее навестить».
Я сказала: «Я охотно бы это сделала, но вы знаете, что я не могу выходить без позволения и что мне никогда не разрешат пойти к ней». Он мне ответил: «Я сведу вас туда». Я возразила ему: «В своем ли вы уме? Как можно идти с вами? Вас посадят в крепость, а мне за это Бог знает какая будет история». – «О! – сказал он. – Никто этого не узнает; мы примем свои меры». – «Как так?»
Тогда он мне сказал: «Я зайду за вами через час или два, великий князь будет ужинать (я уже давно под предлогом, что не ужинаю, оставалась в своей комнате), он проведет за столом часть ночи, встанет только, когда будет очень пьян, и пойдет спать». Он спал тогда большею частью у себя, со времени моих родов. «Для большей безопасности оденьтесь мужчиной, и мы пойдем вместе к Анне Никитичне». Это предприятие начинало меня соблазнять; я всегда была одна в своей комнате, со своими книгами, без всякого общества.
Наконец, по мере того как я разбирала с ним этот проект, сам по себе безрассудный и показавшийся мне таковым в первую минуту, я нашла его осуществимым и согласилась с целью доставить себе минуту развлечения и веселья. Он вышел; я позвала парикмахера-калмыка, который у меня служил, и велела ему принести мне один из моих мужских костюмов и все, что мне для этого было нужно, под тем предлогом, что мне надо было подарить его кому-то.
Этот малый имел привычку не разжимать рта, и нужно было больше труда, чтобы заставить его говорить, чем требуется для других, чтобы заставить их молчать; он быстро исполнил мое поручение и принес все, что мне было нужно. Под предлогом, что у меня болит голова, я пошла спать пораньше.
Как только Владиславова меня уложила и удалилась, я поднялась и оделась с головы до ног в мужской костюм; я подобрала волосы, как могла лучше; давно уже я имела эту привычку и хорошо в этом наловчилась. В назначенный час Лев Нарышкин пришел через покои великого князя и стал мяукать у моей двери, которую я ему отворила; мы вышли через маленькую переднюю в сени и сели в его карету, никем не замеченные, смеясь как сумасшедшие над нашей проделкой.
Лев жил со своим братом и женою его в том же доме, который занимала и их мать. Когда мы приехали в этот дом, там находилась Анна Никитична, ничего не подозревавшая; мы нашли там графа Понятовского; Лев представил меня как своего друга, которого просил принять ласково, и вечер прошел в самом сумасшедшем веселье, какое только можно себе вообразить. Пробыв полтора часа в гостях, я ушла и вернулась домой самым счастливым образом, не встретив ни души.
На другой день, в день рождения императрицы, на утреннем куртаге и вечером на балу, мы все, бывшие в секрете, не могли смотреть друг на друга, чтобы не расхохотаться при воспоминании о вчерашней шалости. Несколько дней спустя Лев предложил ответный визит, который должен был иметь место у меня; он таким же путем привел своих гостей в мою комнату, и так удачно, что никто этого не пронюхал. Так начался 1756 год.
Мы находили необыкновенное удовольствие в этих свиданиях украдкой. Не проходило недели, чтобы не было хоть одной, двух и до трех встреч, то у одних, то у других, и когда кто-нибудь из компании бывал болен, то непременно у него-то и собирались. Иногда во время представления, не говоря друг с другом, а известными условными знаками, хотя бы мы находились в разных ложах, а некоторые в креслах, но все мигом узнавали, где встретиться, и никогда не случалось у нас ошибки, только два раза мне пришлось возвращаться домой пешком, что было хорошей прогулкой.
В то время готовились к войне с прусским королем. Императрица в силу своего договора с Австрийским двором должна была выставить тридцать тысяч человек вспомогательного войска. Таково было мнение великого канцлера Бестужева, но Австрийский двор желал, чтобы Россия поддержала его всеми своими военными силами. Граф Эстергази, венский посол, хлопотал в этом направлении изо всех сил, где только мог, часто действуя различными путями.
Противную графу Бестужеву партию составляли вице-канцлер граф Воронцов и Шуваловы. Англия в то время вступала в союз с прусским королем, а Франция – с Австрией. Императрица Елисавета уже с этого времени начала часто хворать. Сначала не понимали, что с ней такое; приписывали это прекращению месячных.
Нередко видели Шуваловых опечаленными, очень озабоченными и усиленно ласкающими от времени до времени великого князя. Придворные передавали друг другу на ухо, что эти недомогания Ее Императорского Величества были более серьезны, чем думали; одни называли истерическими страданиями то, что другие называли обмороками, конвульсиями или нервными болями. Это продолжалось всю зиму 1755/1756 гг.
Наконец, весною мы узнали, что фельдмаршал Апраксин отправляется командовать армией, которая должна была вступить в Пруссию. Жена его пришла к нам проститься с нами вместе со своею младшею дочерью. Я стала говорить ей об опасениях, которые мне внушало состояние здоровья императрицы, и что мне очень жаль, что муж ее уезжает в такое время, когда, я думаю, нельзя слишком рассчитывать на Шуваловых, которых я считала своими личными врагами и которые были страшно злы на меня за то, что я предпочитаю им врагов их, а именно графов Разумовских.
Она передала все это своему мужу, который так же был доволен моим расположением к нему, как и граф Бестужев, который не любил Шуваловых и был в свойстве с Разумовскими, ибо сын его был женат на одной из их племянниц. Фельдмаршал Апраксин мог быть полезным посредником между всеми заинтересованными сторонами вследствие связи его дочери с графом Петром Шуваловым; утверждали, что эта связь существовала с ведома отца и матери.
Я отлично понимала, кроме того, и мне было ясно как день, что господа Шуваловы пользовались Брокдорфом больше, чем когда-либо, чтобы сколько возможно отдалить от меня великого князя. Несмотря на это, он в то время еще питал невольное доверие ко мне; он почти навсегда сохранил это доверие до странной степени и помимо своей воли; он сам его не замечал, не подозревал и не остерегался. Он был в это время в ссоре с графиней Воронцовой и влюблен в Теплову, племянницу Разумовских.
Когда он захотел свидеться с нею, он спросил моего совета о том, как убрать комнату, и показал мне, что, для того чтобы понравиться этой даме, он наполнил комнату ружьями, гренадерскими шапками, шпагами и перевязями, так что она имела вид уголка арсенала; я предоставила ему делать, как он хочет, и ушла; кроме этой дамы, ему приводили еще по вечерам, чтоб ужинать с ним, немецкую певичку, которую он содержал и которую звали Леонорой.
Поссорила великого князя с графиней Воронцовой принцесса Курляндская. По правде сказать, хорошенько не знаю, каким образом. Эта принцесса Курляндская играла тогда особую роль при дворе. Прежде всего, это была в то время девушка лет 30, маленькая, некрасивая и горбатая, как я уже об этом говорила; она сумела снискать себе покровительство духовника императрицы и нескольких старых камер-фрау Ее Императорского Величества, так что ей сходило с рук все, что она делала.
Она жила с фрейлинами Ее Императорского Величества. Они находились под надзором некоей госпожи Шмидт, жены придворного трубача. Эта Шмидт была финляндка по происхождению, необычайно толстая и массивная; притом бой-баба, всецело сохранившая простой и грубый тон своего первобытного положения.
Она, однако, играла роль при дворе и была под непосредственным покровительством старых немецких, финских и шведских камер-фрау императрицы, а следовательно, и гофмаршала Сиверса, который был сам финляндец и женат на дочери г-жи Крузе, сестры одной из первых любимиц, как я уже об этом говорила. Шмидт правила внутренней жизнью фрейлинского флигеля с большею строгостью, нежели умом, но никогда не появлялась при дворе.
В обществе принцесса Курляндская стояла во главе их, и Шмидт молча доверяла ей руководство ими при дворе. У себя в своем флигеле они помещались все в ряду комнат, примыкавшем с одной стороны к комнате Шмидт, а с другой – к комнате принцессы Курляндской: их жило по две, по три и по четыре в одной комнате, у каждой стояла ширма вокруг кровати, и все комнаты не имели другого хода, как из одной в другую.
Поэтому с первого взгляда казалось, что, благодаря такому устройству, покои фрейлин были недоступны, потому что туда можно было попасть, только проходя через комнату Шмидт или принцессы Курляндской. Но Шмидт часто болела расстройством желудка от всех тех жирных пирогов и других лакомств, которые ей посылали родители этих девиц; следовательно, оставался только выход через комнату принцессы Курляндской.
Здесь, как говорили злые языки, для того чтобы пройти в другие комнаты, надо было так или иначе заплатить пошлину за проход; что было в этом случае удостоверено, так это то, что принцесса Курляндская устраивала и расстраивала браки фрейлин императрицы, сговаривала их и отказывала за них в течение нескольких лет по собственному усмотрению, и я слышала от некоторых лиц, между прочим от Льва Нарышкина и от графа Бутурлина, историю с пошлиной, которую им, как они уверяли, приходилось платить, но не деньгами.
Интрига великого князя с Тепловой продолжалась до тех пор, пока мы не переехали на дачу. Здесь она прервалась, потому что Его Императорское Высочество находил, что эта женщина стала невыносима летом; лишенная возможности видеться с ним, она требовала, чтобы он писал ей по крайней мере раз или два в неделю, и, чтобы втянуть его в эту переписку, она начала с того, что написала ему письмо на четырех страницах.
Как только он его получил, он пришел ко мне в комнату с сильно взволнованным лицом, держа в руках письмо Тепловой, и сказал мне раздраженным и гневным тоном, и притом довольно громко: «Вообразите, она пишет мне письмо на целых четырех страницах и воображает, что я должен прочесть это, и больше того – отвечать на него, я, которому нужно идти на учения (он опять выписал свое голштинское войско), потом обедать, потом стрелять, потом смотреть репетицию оперы и балет, который в ней будут танцевать кадеты; я ей велю прямо сказать, что у меня нет времени, а если она рассердится, я рассорюсь с ней до зимы». Я ему ответила, что это, конечно, самый короткий путь.
Я полагаю, что черты, которые я привожу, характерны, и что поэтому они здесь уместны. Вот скрытая причина появления кадетов в Ораниенбауме. Весной 1756 года Шуваловы думали сделать очень ловкий политический ход, чтобы отвлечь великого князя от его голштинского войска, убедив императрицу дать Его Императорскому Высочеству командование над Сухопутным кадетским корпусом, единственным, который тогда существовал.
Под его начальство поставили близкого друга и доверенное лицо Ивана Ивановича Шувалова, Мельгунова[99]. Он был женат на одной из камер-юнгфер императрицы, немке и ее любимице. Таким образом господа Шуваловы имели в комнате великого князя одного из самых близких им людей, имевшего возможность говорить с ними ежечасно.
Под предлогом оперных балетов в Ораниенбауме привезли туда сотню кадетов, а с ними прибыли Мельгунов и самые близкие к нему офицеры, состоявшие в корпусе. Все они, сколько их было, могли служить удобными наблюдателями во вкусе Шуваловых; среди учителей, приехавших в Ораниенбаум с кадетами, находился их берейтор Циммерман[100], который считался самым лучшим в то время наездником в России.
Так как моя мнимая осенняя беременность исчезла, я вздумала брать настоящие уроки верховой езды у Циммермана, чтобы научиться хорошо управлять лошадью. Я сказала об этом великому князю, который ничего против этого не возразил.
Давно уже все прежние правила, введенные Чоглоковыми, были заброшены, забыты или игнорируемы Александром Шуваловым; впрочем, он сам не пользовался никаким, или очень ничтожным, уважением. Мы смеялись над ним, над его женой, дочерью, зятем чуть ли не в их присутствии; они подавали тому повод, потому что нельзя было себе представить более отвратительных и ничтожных фигур. Госпожа Шувалова получила от меня прозвище «соляного столпа».
Она была худа, мала ростом и застенчива; ее скупость проглядывала в ее одежде; юбки ее всегда были слишком узки и имели одним полотнищем меньше, чем полагалось и чем употребляли остальные дамы для своих юбок; ее дочь, графиня Головкина [Екатерина Александровна], была одета таким же образом; у них всегда были самые жалкие головные уборы и манжеты, в которых постоянно в чем-нибудь да проглядывало желание сберечь копейку. Хотя это были люди очень богатые и не стесненные в средствах, но они любили по природе все мелкое и узкое, истинное отражение их души.
Как только мне удалось брать уроки верховой езды по всем правилам, я снова отдалась со страстью этому упражнению. Я вставала в 6 часов утра, одевалась по-мужски и шла в мой сад; там я распорядилась отвести себе площадку на открытом воздухе, которая служила мне манежем.
Я делала такие быстрые успехи, что часто Циммерман со средины этого манежа подбегал ко мне со слезами на глазах и целовал мне сапог в порыве восторга, с которым не мог совладать; иногда он в восхищении говорил: «Никогда в жизни у меня не было ученика, который делал бы мне столько чести и достиг бы таких успехов в такой короткий срок». На этих уроках присутствовали только мой старый хирург Гюйон, одна камер-фрау и несколько слуг.
Так как я занималась с большим прилежанием на этих уроках, которые брала каждое утро, кроме воскресенья, то Циммерман вознаградил меня за труд серебряными шпорами, которые он дал мне по манежным правилам. По прошествии трех недель я прошла все манежные школы, и к осени Циммерман выписал мне скаковую лошадь, после чего хотел дать мне стремена; но накануне дня, назначенного для езды на этой лошади, мы получили приказание вернуться в город, и дело было отложено до будущей весны. Этим же летом граф Понятовский съездил в Польшу и вернулся оттуда с кредитивом посланника польского короля.
Перед отъездом он приехал в Ораниенбаум, чтобы проститься с нами. Его сопровождал граф Горн[101], которого Шведский король [Адольф-Фридрих], под тем предлогом, что он должен был отвезти в Петербург извещение о смерти своей матери, моей бабушки, перевел в Россию, чтобы спасти его от преследований французской партии, иначе называемой «партией шляп», против русской, носившей название «партии шапок».
Эти преследования так разрослись в Швеции во время сейма 1756 года, что почти все вожаки русской партии были в этом году казнены отсечением головы; граф Горн говорил мне сам, что если бы он не приехал в Петербург, то, наверное, был бы в этом же числе. Граф Понятовский и граф Горн провели двое суток в Ораниенбауме.
В первый день великий князь обошелся с ними очень любезно, но на второй день они ему надоели, потому что он был всецело занят мыслью о свадьбе одного егеря, куда он хотел идти на попойку, и, когда он увидел, что графы Понятовский и Горн остаются, он их бросил, и мне пришлось их занимать и угощать. После обеда я повела оставшуюся у меня компанию, не очень многочисленную, посмотреть внутренние покои великого князя и мои.
Когда мы пришли в мой кабинет, моя маленькая болонка прибежала к нам навстречу и стала сильно лаять на графа Горна, но когда она увидела графа Понятовского, то я думала, что она сойдет с ума от радости. Так как кабинет мой был очень мал, то, кроме Льва Нарышкина, его невестки и меня, никто этого не заметил, но граф Горн понял, в чем дело, и, когда я проходила через комнаты, чтобы вернуться в зал, граф Горн дернул графа Понятовского за рукав и сказал: «Друг мой, нет ничего более предательского, чем маленькая болонка; первая вещь, которую я делал с любимыми мною женщинами, заключалась в том, что дарил им болонку, и через нее-то я всегда узнавал, пользовался ли у них кто-нибудь большим расположением, чем я.
Это правило верно и непреложно. Вы видите, собака чуть не съела меня, тогда как не знала, что делать от радости, когда увидела вас, ибо нет сомнения, что она не в первый раз вас здесь видит».
Граф Понятовский стал уверять, что все это его фантазия, но не мог его разубедить. Граф Горн ответил ему только: «Не бойтесь ничего, вы имеете дело со скромным человеком». На следующий день они уехали. Этот граф Горн говорил, что когда ему случалось влюбляться, то всегда в трех женщин сразу. Это он показал нам на деле на наших глазах в Петербурге, где ухаживал за тремя фрейлинами императрицы зараз.
Граф Понятовский уехал два дня спустя к себе на родину. Во время его отсутствия английский посланник, кавалер Уильямс, велел мне передать через Льва Нарышкина, что великий канцлер граф Бестужев ведет интригу, чтобы помешать этому назначению графа Понятовского, и чрез его-то, Уильямса, посредство он и сделал попытку отговорить графа Брюля[102], в то время министра и любимца Польского короля, от этого назначения, но что он, Уильямс, и не подумал исполнить это поручение, хотя и не отказался от него из боязни, чтобы великий канцлер не поручил этого кому-нибудь другому, кто мог бы с большей точностью исполнить возложенное на него и тем повредить его другу, желавшему прежде всего вернуться в Россию.
Кавалер Уильямс подозревал, что граф Бестужев, который уже давно держал всех польско-саксонских посланников в своем распоряжении, хотел добиться назначения на это место кого-нибудь из самых доверенных своих людей. Несмотря на это, граф Понятовский получил это место и вернулся к зиме в качестве польского посланника, а саксонская миссия осталась под непосредственным управлением графа Бестужева.
За несколько времени до нашего отъезда из Ораниенбаума к нам приехали князь и княгиня Голицыны вместе с Бецким. Они ехали за границу для поправления здоровья, в чем особенно нуждался Бецкой, которому надо было рассеяться после тяжелого горя, тяготившего его со времени кончины принцессы Гессен-Гомбургской, урожденной княжны Трубецкой, матери княгини Голицыной, которая родилась от первого брака принцессы Гессенской с Валашским господарем, князем Кантемиром.
Так как княгиня Голицына и Бецкой были мои старые знакомые, я постаралась принять их в Ораниенбауме как можно лучше; мы много гуляли, потом я села с княгиней Голицыной в кабриолет, в котором сама правила, и мы поехали кататься в окрестности Ораниенбаума. Дорогой княгиня Голицына, личность довольно странная и очень ограниченная, завела со мной разговор, в котором дала мне понять, что считает меня сердитой на нее.
Я ей сказала, что нисколько и что не знаю, из-за чего могла бы на нее сердиться, так как не из-за чего было спорить. На это она мне сказала, что боялась, что граф Понятовский наговорил мне на нее. Я почти остолбенела при этих словах и возразила ей, что она, конечно, бредила, и что он был не в состоянии вредить ей здесь и в моих глазах, так как он давно уехал и так как я знаю его только по имени и как иностранца, и что я не знаю, с чего она все это взяла.
Вернувшись к себе, я позвала Льва Нарышкина и передала ему этот разговор, который показался мне столь же глупым, сколь дерзким и нескромным; на это он мне сказал, что княгиня Голицына в течение прошедшей зимы все силы употребила, чтобы привлечь к себе графа Понятовского, что он, из вежливости и чтобы не обидеть ее, оказал ей некоторое внимание, что она была с ним чрезвычайно любезна, а он, понятно, не слишком ей отвечал, потому что она была стара, дурна, глупа и безрассудна, почти даже сумасбродна; она же, видя, что он не отвечает на ее желания, вероятно, возымела подозрение оттого, что он был всегда со Львом и с его невесткой и у них.
Во время краткого пребывания княгини Голицыной в Ораниенбауме у меня была страшная ссора с великим князем из-за моих фрейлин. Я заметила, что они, все либо наперсницы, либо любовницы великого князя, во многих случаях пренебрегают своим долгом, а иногда также уважением и почтением, какое они мне были обязаны оказывать.
Я пошла как-то после обеда на их половину и стала упрекать их за их поведение, напоминая им об их долге и о том, что они были обязаны мне оказывать, и сказала, что, если они будут продолжать, я пожалуюсь императрице. Некоторые всполошились, другие рассердились, иные расплакались, но, как только я ушла, они поспешили немедленно пересказать великому князю, что произошло в их комнате. Его Императорское Высочество взбесился и тотчас же прибежал ко мне.
Войдя, он начал с того, что сказал мне, что нет больше возможности жить со мною, что с каждым днем я становлюсь более гордой и высокомерной, что я требую почтения и уважения от фрейлин и отравляю им жизнь, что они целый день заливаются слезами, что это были девицы благородные, а что я обращаюсь с ними, как с прислугой, и что, если я пожалуюсь на них императрице, он станет жаловаться на меня, на мою гордость, на мою заносчивость, на мою злость, и бог весть, чего он тут мне наговорил.
Я слушала его тоже не без волнения и ответила ему, что он может говорить обо мне что угодно, что если дело будет доведено до его тетушки, то она легко рассудит, не благоразумнее ли выгнать всех этих девиц дрянного поведения, которые своими сплетнями ссорят племянника с племянницей, и что, конечно, Ее Императорскому Величеству, дабы водворить мир и согласие между ним и мною, и, чтобы ей не докучали нашими ссорами, нельзя будет принять иное решение, кроме этого, и что она непременно это сделает.
Тут он понизил тон и вообразил, так как был очень подозрителен, что я больше знаю о намерениях императрицы по отношению к этим девицам, чем показываю, и что их действительно могут прогнать из-за этой истории, и стал мне говорить: «Скажите же мне, разве вы что-нибудь знаете об этом? Разве об этом говорят?» Я ему ответила, что если дело дойдет до того, чтобы доложить его императрице, то я не сомневаюсь, что она расправится с ним самым решительным образом. Тогда он стал ходить по комнате большими шагами в задумчивости, смягчился, затем ушел и дулся только наполовину.
В тот же вечер я передала той из этих девиц, которая показалась мне самой разумной, слово в слово ту сцену, которую выдержала из-за их глупых сплетен, что заставило их остерегаться, дабы не доводить дело до той крайности, жертвами которой они могли бы стать. Осенью мы вернулись в город.
Немного времени спустя кавалер Уильямс отправился в отпуск в Англию. Он не достиг своей цели в России: на следующий день после своей аудиенции у императрицы он предложил союзный договор между Россией и Англией; граф Бестужев получил приказание и полномочие заключить этот договор, и, действительно, договор был подписан великим канцлером и послом, который не помнил себя от радости по случаю своего успеха, а на другой же день граф Бестужев сообщил ему нотой о присоединении России к конвенции, подписанной в Версале между Францией и Австрией.
Это как громом поразило английского посла, который был проведен и обманут в этом деле великим канцлером, или казалось, что был обманут, но граф Бестужев сам уже не волен был тогда делать то, что хотел.
Его противники начинали уже брать верх над ним, а они интриговали, или, вернее, перед ними интриговали, чтобы увлечь их во франко-австрийскую партию, к чему они были очень склонны – Шуваловы, а особенно Иван Иванович, любивший до безумия Францию и все, что оттуда шло, в чем их поддерживал вице-канцлер граф Воронцов, которому Людовик XV меблировал за эту услугу дом, который он только что выстроил в Петербурге, старой мебелью, начинавшей надоедать его фаворитке, маркизе Помпадур, которая продала ее по этому случаю с выгодой королю, своему любовнику.
Вице-канцлер, кроме выгоды, имел еще другое побуждение, а именно унизить своего соперника по влиянию, графа Бестужева, и завладеть его местом.
Что касается Петра Шувалова, он мечтал получить монополию на продажу табака в России, чтобы продавать его во Францию. К концу года граф Понятовский вернулся в Петербург в качестве посланника Польского короля. В эту зиму, когда начался 1757 год, образ жизни у нас был тот же, что и в прошедшую: те же концерты, те же балы, те же кружки.
Я заметила вскоре после нашего возвращения в город, где я ближе стала присматриваться к вещам, что Брокдорф своими интригами все больше входит в доверие великого князя; ему помогало в этом большое количество голштинских офицеров, которых Его Императорское Высочество оставил по его побуждению в течение этой зимы в Петербурге. Число тех, которые были постоянно вместе с великим князем и около него, достигало по крайней мере двух десятков, не считая пары голштинских солдат, которые несли в его комнате службу рассыльных, камер-лакеев и употреблялись на все руки.
В сущности, все служили шпионами Брокдорфу и компании. Я караулила в течение этой зимы удобную минуту, чтобы серьезно поговорить с великим князем и искренно сказать ему мое мнение о том, что его окружает, и об интригах, которые я видела.
Случай представился, и я его не упустила. Великий князь сам пришел ко мне однажды сказать, будто ему представляли, что было безусловно необходимо послать тайный приказ в Голштинию, дабы арестовать одного из первых по своей должности и влиянию лиц в стране, некоего Элендсгейма[103], мещанина по происхождению, но по своим познаниям и способностям достигшего своего места. На это я спросила, какие имеются жалобы на этого человека и что он такое сделал, за что он решился приказать его арестовать.
На это он мне ответил: «Видите ли, говорят, что его подозревают в лихоимстве». Я спросила: «Кто его обвинители?» На это он с полной уверенностью сказал мне: «О, обвинители, их нет, ибо все там его боятся и уважают; оттого-то и нужно, чтобы я приказал его арестовать, а как только он будет арестован, меня уверяют, что их найдется довольно и даже с избытком».
Я ужаснулась тому, что он сказал, и возразила ему: «Но если так приниматься за дело, то не будет больше невинных на свете. Достаточно одного завистника, который распустит в обществе неясный слух, какой ему угодно будет, по которому арестуют кого вздумается, говоря: обвинители и преступления найдутся после; вам советуют поступать, невзирая на вашу справедливость, на манер «Barbarie, mon ami»[104], как поется в песне. Кто дает вам такие плохие советы, позвольте вас спросить?» Мой великий князь немного сконфузился от моего вопроса и сказал мне: «Ну, вы тоже всегда хотите быть умнее других».
Тогда я ему ответила, что я говорю не для того, чтобы умничать, а потому, что ненавижу несправедливость и не думаю, чтобы он так или иначе захотел с легким сердцем сделать несправедливость. Он принялся ходить крупными шагами по моей комнате, потом ушел, более взволнованный, чем сердитый.
Немного времени спустя он вернулся и сказал мне: «Пойдемте ко мне, Брокдорф скажет вам о деле Элендсгейма, и вы увидите и убедитесь, что надо, чтобы я приказал его арестовать». Я ему ответила: «Отлично, я пойду за вами и выслушаю, что он скажет, коли вам это угодно».
Действительно, я нашла Брокдорфа в комнате великого князя, который ему сказал: «Говорите с великой княгиней». Брокдорф, немного смущенный, поклонился великому князю и сказал: «Так как Ваше Императорское Высочество мне приказывает, я буду говорить с великой княгиней…» Тут он сделал паузу и затем сказал: «Это дело, которое требует, чтобы его вели с большой тайной и осторожностью…» Я слушала. «Вся Голштиния полна слухом о лихоимстве и вымогательстве Элендсгейма; правда, нет обвинителей, потому что его боятся, но, когда его арестуют, можно будет иметь их сколько угодно».
Я потребовала у него подробностей об этом лихоимстве и вымогательстве и узнала, что никакого казнокрадства тут не могло быть, так как у него на руках не было денег великого князя, а лихоимством считали то, что так как он стоял во главе департамента юстиции, то во всяком судебном деле всегда бывает один истец, который жалуется на несправедливость и говорит, что противная сторона выиграла только потому, что щедро заплатила судьям.
Но сколько ни выставлял Брокдорф напоказ все свое красноречие и свои познания, он меня не убедил; я продолжала утверждать Брокдорфу в присутствии великого князя, что стараются склонить Его Императорское Высочество на вопиющую несправедливость, убеждая его послать приказ, дабы велеть арестовать человека, против которого не существует ни формальной жалобы, ни формального обвинения.
Я сказала Брокдорфу, что таким манером великий князь может и его засадить в тюрьму каждую минуту и также сказать, что преступления и обвинения придут после, и что в судебных делах нетрудно понять, что тот, кто теряет процесс, всегда кричит, что его обидели.
Я прибавила, что великий князь должен остерегаться больше, чем кто-либо, таких дел, ибо ценою собственного опыта уже научился тому, что могут сделать преследование и ненависть партии; прошло не более двух лет с тех пор, как, по моему ходатайству, Его Императорское Высочество велел выпустить Гольмера, которого держали в течение шести или восьми лет в тюрьме затем, чтобы заставить его дать отчет в делах, которые велись во время опеки над великим князем и во время управления его опекуна, наследного шведского принца, при котором Гольмер состоял и за которым последовал в Швецию, откуда он даже вернулся лишь тогда, когда великий князь подписал и отправил по всей форме одобрение и свидетельство в пользу всего, что было сделано во время его несовершеннолетия; несмотря на то, однако, побудили великого князя арестовать Гольмера и назначить комиссию для расследования того, что было сделано во время управления шведского принца; эта комиссия действовала вначале с большою энергией, открыв свободное поле доносчикам, и, однако, не найдя таковых, впала в летаргию за недостатком пищи; а между тем в это время Гольмер томился в тесной тюрьме, куда не разрешали доступа ни его жене, ни его детям, ни его друзьям, ни его родственникам, и в конце концов вся страна стала роптать на несправедливость и на тиранию, к каким прибегли в этом деле, которое действительно было вопиющим и которое бы еще не закончилось так рано, если бы я не посоветовала великому князю разрубить гордиев узел, отправив приказ выпустить Гольмера и упразднить комиссию, которая, кроме того, стоила немало денег и без того очень пустой казне великого князя в его наследственной земле.
Но хоть я и привела этот разительный пример, великий князь, я думаю, слушал меня, мечтая о другом, а Брокдорф, с очерствевшим от злобы сердцем, ума очень ограниченного и упрямый, как чурбан, не мешал мне говорить, не имея других доводов; но, когда я вышла, он сказал великому князю, что все, что я говорила, вытекало лишь из того принципа, какой мне внушало желание властвовать, что я не одобряю никаких мер, относительно которых не давала совета, что я ничего не понимаю в делах, что женщины всегда хотят во все вмешиваться и что они портят все, чего касаются, что в особенности действия решительные им не под силу; наконец, он столько наговорил и наделал, что восторжествовал над моим мнением, и великий князь, убежденный им, велел составить и подписать приказ, который был отправлен, чтобы арестовать Элендсгейма.
Некто Цейц, секретарь великого князя, состоявший при Пехлине и зять акушерки, служившей мне, уведомил меня об этом; партия Пехлина вообще не одобряла этой насильственной и неуместной меры, посредством которой Брокдорф заставлял трепетать и их, и всю Голштинию. Как только я узнала, что происки Брокдорфа в деле столь несправедливом взяли верх надо мною и над всем тем, что я могла представить великому князю, я приняла твердое решение дать вполне почувствовать Брокдорфу мое негодование.
Я сказала Цейцу и велела сказать Пехлину, что с этой минуты я смотрю на Брокдорфа, как на чуму, от которой надо бежать и которую следует удалить от великого князя, если бы это было возможно; что я лично употреблю все усилия, какие только могу, для этого. Действительно, я старалась показать при всяком случае, как публично, так и частным образом, презрение и отвращение, которые мне внушило поведение этого человека; не было тех насмешек, какими бы я его не осыпала, и я отнюдь ни от кого не скрывала, когда представлялся к тому случай, что я думаю на его счет. Лев Нарышкин и другие придворные молодые люди помогали мне в этом.
Когда Брокдорф проходил по комнате, все кричали ему вслед: «Баба-птица, баба-птица!» – это было его прозвище; птица эта была самая отвратительная, какую только знали, и как человек Брокдорф был точно так же омерзителен своею внешностью, как и внутренними качествами. Он был высок, с длинной шеей и тупою плоской головой; притом он был рыжий и носил парик на проволоке; глаза у него были маленькие и впалые, почти без ресниц и без бровей; углы рта опускались к подбородку, что придавало ему всегда жалобный и недовольный вид.
Относительно его внутренних качеств я сошлюсь на то, что уже сказала; но прибавлю еще, что он был так порочен, что он брал деньги со всех, кто хотел ему давать, и, чтобы его августейший государь со временем ничего не нашел сказать по поводу его взяток, видя, что тот постоянно нуждается, он убедил его делать то же самое и доставлял ему таким образом столько денег, сколько мог, продавая голштинские ордена и титулы тем, кто хотел за них платить, или заставляя великого князя просить и хлопотать в разных присутственных местах империи и в Сенате о всевозможных делах, часто несправедливых, иногда даже тягостных для империи, как монополии и другие привилегии, которые никогда не прошли бы иначе, потому что они противоречили законам Петра I.
Сверх того, Брокдорф вовлекал великого князя более, чем когда-либо, в пьянство и в кутежи, окружив его сбродом авантюристов и людей, добытых из кордегардии и из кабаков, как из Германии, так и из Петербурга, людей без стыда и совести, которые только и делали, что ели, пили, курили и болтали грубый вздор.
Видя, что, несмотря на все, что я говорила и делала против Брокдорфа, чтобы уменьшить его влияние, он все-таки держится у великого князя и более, чем когда-либо, в милости, я решила сказать графу Александру Шувалову, что я думаю об этом человеке, прибавив к этому, что я считаю этого человека одним из самых опасных существ, каких только можно приставить к молодому принцу, наследнику великой империи, и что, по совести, я принуждена поговорить с ним об этом по секрету, дабы он мог предупредить императрицу или принять те меры, которые найдет подходящими.
Он спросил, может ли он на меня сослаться; я сказала ему: «Да», и, если бы императрица спросила меня сама, я бы не стала стесняться и сказала, что знаю и вижу. Граф Александр Шувалов помаргивал своим глазом, слушая меня очень серьезно, но он был не из тех людей, чтобы действовать, не посоветовавшись со своим братом Петром и со своим двоюродным братом Иваном; долго он ничего мне не говорил, потом он мне дал понять, что возможно, что императрица будет со мной говорить.
В это время, в одно прекрасное утро великий князь вошел подпрыгивая в мою комнату, а его секретарь Цейц бежал за ним с бумагой в руке. Великий князь сказал мне: «Посмотрите на этого черта: я слишком много выпил вчера, и сегодня еще голова идет у меня кругом, а он вот принес мне целый лист бумаги, и это еще только список дел, которые он хочет, чтобы я закончил, он преследует меня даже в вашей комнате».
Цейц мне сказал: «Все, что я держу тут, зависит только от простого «да» или «нет», и дела-то всего на четверть часа». Я сказала: «Ну, посмотрим, может быть, вы с этим скорее справитесь, нежели думаете». Цейц принялся читать, и, по мере того как он читал, я говорила: «да» или «нет». Это понравилось великому князю, а Цейц ему сказал: «Вот, Ваше Высочество, если бы вы согласились два раза в неделю так делать, то ваши дела не останавливались бы.
Это все пустяки, но надо дать им ход, и великая княгиня покончила с этим шестью «да» и приблизительно столькими же «нет». С этого дня Его Императорское Высочество придумал посылать ко мне Цейца каждый раз, как тому нужно было спрашивать «да» или «нет».
Через несколько времени я сказала ему, чтобы он дал мне подписанный приказ о том, что я могу решать и чего не могу решать без его приказа, что он и сделал. Только Пехлин, Цейц, великий князь и я знали об этом распоряжении, от которого Пехлин и Цейц были в восторге: когда надо было подписывать, великий князь подписывал то, что я постановляла.
Дело Элендсгейма осталось в руках Брокдорфа. Но так как Элендсгейм был арестован, Брокдорф не спешил с окончанием, ибо приблизительно все, что он хотел сделать, было – удалить его от дел и показать там свое влияние на своего государя.
Я воспользовалась однажды удобным случаем или благоприятным моментом, чтобы сказать великому князю, что, так как он находит ведение дел Голштинии таким скучным и считает это для себя бременем, а между тем должен был бы смотреть на это как на образец того, что ему придется со временем делать, когда Российская империя достанется ему в удел, я думаю, что он должен смотреть на этот момент, как на тяжесть, еще более ужасную; на это он мне снова повторил то, что говорил много раз, а именно, что он чувствует, что не рожден для России; что ни он не подходит вовсе для русских, ни русские для него, и что он убежден, что погибнет в России.
Я сказала ему на это то же, что говорила раньше много раз, то есть, что он не должен поддаваться этой фатальной идее, но стараться изо всех сил о том, чтобы заставить каждого в России любить его и просить императрицу дать ему возможность ознакомиться с делами империи. Я даже побудила его испросить позволения присутствовать в конференции[105], которая заступала у императрицы место совета.
Действительно, он говорил об этом Шуваловым, которые склонили императрицу допускать его в эту конференцию всякий раз, когда она там сама будет присутствовать; это значило то же самое, как если бы сказали, что он не будет туда допущен, ибо она приходила туда с ним раза два-три, и больше ни она, ни он туда не являлись.
Советы, какие я давала великому князю, вообще были благие и полезные, но тот, кто советует, может советовать только по своему разуму и по своей манере смотреть на вещи и за них приниматься; а главным недостатком моих советов великому князю было то, что его манера действовать и приступать к делу была совершенно отлична от моей, и, по мере того как мы становились старше, она делалась все заметнее.
Я старалась во всем приближаться всегда как можно больше к правде, а он с каждым днем от нее удалялся до тех пор, пока не стал отъявленным лжецом. Так как способ, благодаря которому он им сделался, довольно странный, то я сейчас его приведу; может быть, он разъяснит направление человеческого ума в этом случае и тем может послужить к предупреждению или к исправлению этого порока в какой-нибудь личности, которая возымеет склонность ему предаться.
Первая ложь, какую великий князь выдумал, заключалась в том, что он, дабы придать себе цены в глазах иной молодой женщины или девицы, рассчитывая на ее неведение, рассказывал ей, будто бы, когда он еще находился у своего отца в Голштинии, его отец поставил его [великого князя] во главе небольшого отряда своей стражи и послал взять шайку цыган, бродившую в окрестностях Киля и совершавшую, по его словам, страшные разбои.
Об этих последних он рассказывал в подробностях так же, как и о хитростях, которые он употребил, чтобы их преследовать, чтобы их окружить, чтобы дать им одно или несколько сражений, в которых, по его уверению, он проявил чудеса ловкости и мужества, после чего он их взял и привел в Киль.
Вначале он имел осторожность рассказывать все это лишь людям, которые ничего о нем не знали; мало-помалу он набрался смелости воспроизводить свою выдумку перед теми, на скромность которых он достаточно рассчитывал, чтобы не быть изобличенным ими во лжи, но, когда он вздумал приводить свой рассказ при мне, я у него спросила, за сколько лет до смерти его отца это происходило. Тогда, не колеблясь, он мне ответил: «Года за три или четыре». – «Ну, – сказала я, – вы-таки очень молодым начали совершать подвиги, потому что за три или за четыре года до смерти герцога, отца вашего, вам было всего 6 или 7 лет, так как вы остались после него одиннадцати лет под опекой моего дяди, шведского наследного принца.
И что меня равно удивляет, – сказала я, – так это то, как ваш отец, имея только вас единственным сыном и при вашем постоянно слабом здоровье, какое, говорят, было у вас в детстве, послал вас сражаться с разбойниками, да еще в шести-семилетнем возрасте».
Великий князь ужасно рассердился на меня за то, что я ему только что сказала, и стал говорить, что я хочу заставить его прослыть лгуном перед всеми и что я подрываю к нему доверие. Я возразила ему, что это не я, а календарь подрывает доверие к тому, что он рассказывает, что я предоставляю ему самому судить, есть ли какая-нибудь человеческая возможность посылать маленького шести– семилетнего ребенка, единственного сына и наследного принца, всю надежду своего отца, ловить цыган.
Он замолчал, и я тоже, и он очень долго дулся на меня, но, когда он забыл мои возражения, он все-таки продолжал даже в моем присутствии рассказывать эту басню, которую он до бесконечности разнообразил.
Он впоследствии выдумал другую, гораздо более постыдную и вредную для него, которую я приведу в свое время; мне было бы невозможно в настоящее время пересказать все бредни, какие он часто выдумывал и выдавал за факты и в которых не было и тени правды; достаточно, мне кажется, и этого образчика.
В один из четвергов к концу Масленой, когда у нас был бал, я уселась между невесткой Льва Нарышкина и ее сестрой Сенявиной, и мы смотрели, как танцует менуэт Марина Осиповна Закревская, фрейлина императрицы, племянница графов Разумовских; она тогда была ловка и легка, и говорили, что граф Горн в нее сильно влюблен; но так как он был всегда влюблен в трех женщин сразу, то он ухаживал также за графиней Марией Романовной Воронцовой и за Анной Алексеевной Хитрово, тоже фрейлиной Ее Императорского Величества.
Мы нашли, что первая танцует хорошо и довольно мила собой; она танцевала со Львом Нарышкиным. По этому поводу его невестка и сестра рассказали мне, что его мать поговаривает о том, чтобы женить Льва Нарышкина на девице Хитрово, племяннице Шуваловых по матери, сестре Петра и Александра, выданной замуж за отца девицы Хитрово; этот последний так часто приходил в дом к Нарышкиным и так старался, что мать Льва Нарышкина вбила себе этот брак в голову.
Ни Сенявиной, ни ее невестке вовсе не было дела до родства с Шуваловыми, которых они не любили, как я уже раньше это сказала; что касается Льва, он и не знал, что мать думает его женить; он был влюблен в графиню Марию Воронцову, о которой я только что упоминала.
Услышав это, я сказала Сенявиной и Нарышкиной, что нельзя допускать этого брака, который устраивала его мать, с девицей Хитрово, а ее никто терпеть не мог, потому что она была интриганка, сплетница и пустая крикунья, и что, для того чтобы покончить с подобными планами, надо дать Льву в жены кого-нибудь в нашем духе, и для этого выбрать вышеупомянутую племянницу графов Разумовских, которые, впрочем, были в дружбе и свойстве с домом Нарышкиных; граф Кирилл Разумовский, кроме того, был очень любим этими двумя дамами и всегда бывал у них в доме, когда они не бывали у него.
Эти две дамы очень одобрили мое мнение; на следующий день, так как был маскарад при дворе, я обратилась к фельдмаршалу Разумовскому, который тогда был малороссийским гетманом, и прямо сказала ему, что он очень нехорошо делает, что упускает для своей племянницы такую партию, как Лев Нарышкин, что мать хочет женить его на девице Хитрово, но что Сенявина, его невестка Нарышкина и я, мы согласились на том, что его племянница будет более подходящей партией, и чтобы он, не теряя времени, пошел сделать это предложение заинтересованным сторонам.
Фельдмаршалу полюбился наш план, он сказал о нем своему тогдашнему фактотуму Теплову[106], который тотчас же пошел сказать об этом графу Разумовскому-старшему, тот согласился; на следующий же день Теплов отправился к петербургскому архиепископу купить за пятьдесят рублей позволение или разрешение [на брак]. Получив его, фельдмаршал Разумовский и его жена отправились к своей тетке, матери Льва, и там повели дело так хорошо, что заставили мать согласиться на то, что она не хотела.
Они приехали очень кстати, потому что в этот самый день она должна была дать слово Хитрово. Сделав это, фельдмаршал Разумовский, Сенявина и Нарышкина, ее золовка, принялись за Льва и убедили его жениться на той, о которой он даже и не думал. Он согласился на это, хотя любил другую, но та была почти помолвлена с графом Бутурлиным; а до девицы Хитрово ему не было никакого дела.
Получив это согласие, фельдмаршал призвал к себе свою племянницу; она нашла брак слишком выгодным, чтобы от него отказываться. На другой день, в воскресенье, оба графа Разумовских просили у императрицы ее соизволения на этот брак, которое она тотчас и дала.
Шуваловы были удивлены способом, каким провели Хитрово и их самих, так как узнали об этом только после того, как было получено согласие императрицы. Раз дело было сделано, идти назад было нельзя; таким образом Лев, который был влюблен в одну девицу и которому мать сватала другую, женился на третьей, о которой ни он, ни кто другой три дня тому назад не думали.
Этот брак Льва Нарышкина сдружил меня более, чем когда-либо, с графами Разумовскими, которые действительно желали мне добра за то, что я доставила такую хорошую и блестящую партию их племяннице, и не были также недовольны тем, что одержали верх над Шуваловыми, а эти последние не могли даже на то пожаловаться и были принуждены скрывать на то свою досаду; к тому же это был еще лишний знак внимания, который я по отношению к ним проявила.
Любовные делишки великого князя с Тепловой хромали на обе ноги: одним из главных препятствий к этим шашням была та трудность, с какой они могли видеться; это было всегда украдкой и стесняло Его Императорское Высочество, который так же не любил встречать затруднения, как отвечать на письма, которые он получал. К концу Масленой эти любовные похождения начали становиться делом партий.
Принцесса Курляндская однажды уведомила меня, что граф Роман Воронцов, отец двух девиц, находившихся при дворе, и который, кстати сказать, был противен великому князю так же, как и своим пятерым детям, держал неумеренные речи насчет великого князя, и что он между прочим говорил, что, если бы он этого пожелал, он сумел бы положить конец ненависти, какую великий князь к нему питал, и обратить ее в милость; что для этой цели ему стоит только дать обед Брокдорфу, напоить его английским пивом и при уходе положить ему в карман шесть бутылок для Его Императорского Высочества, и что тогда он и его младшая дочь станут первыми матадорами милости у великого князя.
Так как я заметила на балу в этот самый вечер, как много шептались между собой Его Императорское Высочество и графиня Мария Воронцова, старшая дочь графа Романа, и так как эта семья была действительно связана с Шуваловыми, у которых Брокдорф был всегда очень желанным гостем, я без удовольствия смотрела на то, что девица Елисавета Воронцова снова всплывает наверх; чтобы сделать лишнюю помеху, я передала великому князю слова отца, о которых я только что упоминала; он чуть не пришел в ярость и спросил меня в сильном гневе, откуда я знаю эти слова.
Долго я не хотела этого говорить, но он мне сказал, что так как я не могу никого назвать, то он предполагает, что это я сама выдумала эту историю, чтобы повредить отцу и дочерям. Напрасно я ему говорила, что никогда в жизни не занималась такими сочинениями; я была принуждена под конец назвать ему принцессу Курляндскую.
Он мне сказал, что тотчас он напишет ей записку, чтобы узнать, правду ли я говорю, и что если будет малейшая разница между тем, что она ему ответит, и тем, что я ему только что сказала, то он пожалуется императрице на наши интриги и ложь. После этого он вышел из моей комнаты; из опасения оттого, что принцесса Курляндская ему ответит, и боясь, чтобы она не сказала надвое, я написала ей следующую записку: «Ради Бога, скажите чистую и сущую правду про то, что у вас спросят».
Мою записку снесли ей тотчас же, и она пришла вовремя, потому что опередила записку великого князя. Принцесса Курляндская ответила Его Императорскому Высочеству правдиво, и он нашел, что я не солгала. Это еще на некоторое время удержало его от связи с двумя дочерьми человека, который имел так мало уважения к нему и которого он к тому же не любил.
Но дабы устроить еще помеху, Лев Нарышкин убедил фельдмаршала Разумовского раз или два в неделю приглашать к себе потихоньку вечером великого князя; это была почти «partie carrе́e»[107], потому что там были только фельдмаршал, Марья Павловна Нарышкина, великий князь, Теплова и Лев Нарышкин. Это продолжалось часть поста и дало повод к другой затее.
Дом фельдмаршала был тогда деревянный; в покоях фельдмаршала собирался народ, и так как и она и он любили играть, то у них всегда была игра. Фельдмаршал ходил взад и вперед и в своих покоях имел свой кружок, когда не приезжал туда великий князь. Но так как фельдмаршал много раз бывал у меня в моем маленьком тайном кружке, он захотел, чтобы этот кружок собрался у него, и для этого нам было предназначено то, что он называл своим эрмитажем, который состоял из двух-трех комнат в первом этаже.
Все прятались друг от друга, потому что мы не смели выходить, как я уже говорила, без позволения; а благодаря этому распоряжению, было три или четыре кружка в доме, и фельдмаршал ходил от одного к другому, и только мой кружок знал все, что происходило в доме, между тем как другие не знали, что мы там находимся.
К весне умер Пехлин, министр великого князя по голштинским делам; великий канцлер граф Бестужев, предвидя его смерть, велел посоветовать мне просить у великого князя за некоего Штамбке, которого выписали и который заменил Пехлина. Великий князь дал ему подписанный приказ работать вместе со мною, что он и делал. Благодаря этому распоряжению я могла свободно сноситься с графом Бестужевым, который доверял Штамбке.
В начале весны мы поехали в Ораниенбаум. Здесь образ жизни был тот же, что и в прошлые годы, с тою только разницею, что число голштинского войска и авантюристов, которые занимали там офицерские места, увеличивалось из года в год, и так как для такого количества не могли найти квартиру в ораниенбаумской деревушке, где вначале было всего двадцать восемь изб, то располагали эти войска лагерем, и число их никогда не превышало 1300 человек.
Офицеры обедали и ужинали при дворе. Но так как число придворных дам и жен кавалеров не превышало пятнадцати-шестнадцати, и так как Его Императорское Высочество страстно любил большие ужины, которые он часто задавал и в лагере, и во всех уголках и закоулках Ораниенбаума, то он допускал к этим ужинам не только певиц и танцовщиц своей оперы, но множество мещанок весьма дурного общества, которых ему привозили из Петербурга… Как только я узнала, что певицы и проч. будут допущены к этим ужинам, я стала воздерживаться бывать там вначале под предлогом, что я пью воды, и большею частью я ела у себя с двумя-тремя лицами.
Потом я сказала великому князю, что я боюсь, чтобы императрица не нашла дурным, если я появлюсь в таком смешанном обществе; и действительно, я там никогда не показывалась, когда я знала, что там оказывается широкое гостеприимство, вследствие чего, когда великий князь хотел, чтобы я там присутствовала, туда допускались только придворные дамы. На маскарадах, задававшихся великим князем в Ораниенбауме, я являлась всегда очень просто одетой, без брильянтов и уборов.
Это произвело отличное впечатление на императрицу, которая не любила и не одобряла этих ораниенбаумских празднеств, где ужины превращались в настоящие вакханалии, но, однако, она их терпела или, по крайней мере, не запрещала. Я узнала, что Ее Императорское Величество говорила: «Эти праздники доставляют великой княгине так же мало удовольствия, как мне, она приходит на них так просто одетая, как только может, и никогда не ужинает со всем сбродом, какой там бывает».
Я занималась тогда в Ораниенбауме разбивкой того, что называют там моим садом, и посадками в нем; остальное время я делала прогулки пешком, верхом или в кабриолете, и, когда я бывала у себя в комнате, я читала.
В июле месяце мы узнали, что Мемель[108] добровольно сдался русским войскам 24 июня. А в августе месяце получили известие о сражении при Гросс-Егерсдорфе, выигранном русской армией 19 августа. В день молебствия я дала большой обед в моем саду великому князю и всему, что только было наиболее значительного в Ораниенбауме; на нем великий князь и вся компания казались столь же веселыми, сколь и довольными.
Это уменьшило на время огорчение, испытываемое великим князем от войны, только что разыгравшейся между Россией и Прусским королем, к которому он с детства имел особенную склонность, вовсе не странную сначала и выродившуюся в безумие впоследствии.
Тогдашняя всеобщая радость от успехов русского оружия заставляла его скрывать то, что было в глубине души, а именно, что он с сожалением смотрел, как терпело поражение прусское войско, которое между тем он считал непобедимым. Я велела дать в этот день жареного быка ораниенбаумским каменщикам и рабочим.
Несколько дней спустя после этого обеда мы вернулись в город, где заняли Летний дворец. Здесь граф Александр Шувалов пришел однажды вечером сказать мне, что императрица находится в комнате у его жены и что она велела мне сказать, чтобы я пришла туда поговорить с ней, как я хотела прошлую зиму.
Я отправилась тотчас же в покои графа и графини Шуваловых, находившиеся в конце моих покоев. Я нашла там императрицу совсем одну. После того как я поцеловала ей руку, а она поцеловала меня, по своему обыкновению, она удостоила меня сказать, что, узнав, что я хочу с ней говорить, она пришла сегодня, чтобы узнать, чего я от нее хочу.
А тогда уже прошло с лишком восемь месяцев со времени разговора, который я имела с Александром Шуваловым по поводу Брокдорфа. Я ответила Ее Императорскому Величеству, что прошлой зимой, видя поведение Брокдорфа, я сочла необходимым поговорить об этом с графом Александром Шуваловым, дабы он мог предупредить об этом Ее Императорское Величество; что он спросил меня, может ли он на меня сослаться, и что я ему сказала, что если Ее Императорское Величество этого пожелает, то я повторю ей самой все, что я сказала, и все, что знаю.
Тут я рассказала ей историю Элендсгейма, как она происходила; она, казалось, слушала меня очень холодно, потом стала расспрашивать у меня подробности о частной жизни великого князя, о его приближенных. Я ей сказала вполне правдиво все, что я об этом знала, и, когда сообщила ей о голштинских делах некоторые подробности, показавшие ей, что я их достаточно знаю, она мне сказала: «Вы, кажется, хорошо осведомлены об этой стране». Я возразила ей простодушно, что это не было трудно, так как великий князь приказал мне ознакомиться с нею.
Я видела по лицу императрицы, что это признание произвело неприятное впечатление на нее, и вообще она показалась мне очень странно сдержанной во время всего этого разговора, в котором она заставляла меня говорить, и для этого меня расспрашивала, а сама не говорила почти ни слова, так что эта беседа показалась мне, скорее, своего рода допросом с ее стороны, чем конфиденциальным разговором.
Наконец, она меня отпустила так же холодно, как и встретила, и я была очень недовольна моей аудиенцией, которую Александр Шувалов посоветовал мне держать в большом секрете, что я ему обещала; да и нечем тут было похвастаться. Вернувшись к себе, я приписала холодность императрицы антипатии, которую, как меня давно уже осведомили, Шуваловы внушили ей против меня. Впоследствии увидят гнусное употребление, если смею так выразиться, которое убедили ее сделать из этого разговора между нею и мною.
Спустя некоторое время мы узнали, что фельдмаршал Апраксин вместо того, чтобы воспользоваться своими успехами после взятия Мемеля и выигранного под Гросс-Егерсдорфом сражения и идти вперед, отступал с такою поспешностью, что это отступление походило на бегство, потому что он бросал и сжигал свой экипаж и заклепывал пушки. Никто ничего не понимал в этих действиях; даже его друзья не знали, как его оправдывать, и через это самое стали искать скрытых намерений.
Хотя я и сама точно не знаю, чему приписать поспешное и непонятное отступление фельдмаршала, так как никогда больше его не видела, однако я думаю, что причина этого могла быть в том, что он получал от своей дочери, княгини Куракиной[109], все еще находившейся, из политики, а не по склонности, в связи с Петром Шуваловым, от своего зятя, князя Куракина, от своих друзей и родственников довольно точные известия о здоровье императрицы, которое становилось все хуже и хуже; тогда почти у всех начало появляться убеждение, что у нее бывают очень сильные конвульсии, регулярно каждый месяц, что эти конвульсии заметно ослабляют ее организм, что после каждой конвульсии она находится в течение двух, трех и четырех дней в состоянии такой слабости и такого истощения всех способностей, какие походят на летаргию, что в это время нельзя ни говорить с ней, ни о чем бы то ни было беседовать.
Фельдмаршал Апраксин, считая, может быть, опасность более крайней, нежели она была на самом деле, находил несвоевременным углубляться дальше в пределы Пруссии, но счел долгом отступить, чтобы приблизиться к границам России, под предлогом недостатка съестных припасов, предвидя, что в случае, если последует кончина императрицы, эта война сейчас же окончится. Трудно было оправдать поступок фельдмаршала Апраксина, но таковы могли быть его виды, тем более что он считал себя нужным в России, как я это говорила, упоминая о его отъезде.
Граф Бестужев прислал сказать мне через Штамбке, какой оборот принимает поведение фельдмаршала Апраксина, на которое императорский и французский послы громко жаловались; он просил меня написать фельдмаршалу по дружбе и присоединить к его убеждениям свои, дабы заставить его повернуть с дороги и положить конец бегству, которому враги его придавали оборот гнусный и пагубный. Действительно, я написала фельдмаршалу Апраксину письмо, в котором я предупреждала его о дурных слухах в Петербурге и о том, что его друзья находятся в большом затруднении, как оправдать поспешность его отступления, прося его повернуть с дороги и исполнить приказания, которые он имел от правительства.
Великий канцлер граф Бестужев послал ему это письмо. Фельдмаршал Апраксин не ответил мне; между тем отправился из Петербурга и явился откланяться к нам главный директор строений императрицы генерал [Виллим Виллимович] Фермор; нам сказали, что он ехал, чтобы занять место в армии; он некогда был генерал-квартирмейстером у фельдмаршала Миниха[110]. Первым делом генерал Фермор потребовал, чтобы дали ему под начальство его чиновников или смотрителей над строениями, бригадиров [Гавриила Андреевича] Рязанова и [Михаила Ивановича] Мордвинова, и с ними он уехал в армию.
Это были военные, которые раньше ничего не делали, как заключали контракты на постройки. Как только он туда приехал, ему велели принять командование вместо фельдмаршала Апраксина, который был отозван; а когда он возвращался, он нашел в Четырех-Руках распоряжение остановиться там и ждать приказаний императрицы.
Долго пришлось их ждать, потому что его друзья, его дочь и Петр Шувалов делали все на свете и действовали всевозможными средствами, чтобы утишить гнев императрицы, разжигаемый Воронцовыми, графом Бутурлиным, Иваном Шуваловым и другими, которых побуждали послы Версальского и Венского дворов начать процесс против Апраксина. Наконец, назначили следователей, чтобы рассмотреть дело. После первого допроса у фельдмаршала Апраксина сделался апоплексический удар, от которого он умер приблизительно через сутки.
В этом процессе был бы, наверное, также замешан генерал [Юрий (Георгий) Григорьевич] Ливен; он был другом и поверенным фельдмаршала Апраксина; мне пришлось бы испытать лишнее огорчение, потому что Ливен был ко мне искренно привязан; но, какую бы дружбу я ни питала к Ливену и Апраксину, я могу поклясться, что я совершенно не знала причины их поведения и самого поведения, хотя и старались распустить слух, что это в угоду великому князю и мне они отступали, вместо того чтобы идти вперед.
Ливен иногда давал довольно странные доказательства своей ко мне привязанности; между прочим, однажды, когда посол Венского двора граф Эстергази давал маскарад, на котором присутствовали императрица и весь двор, Ливен, видя, как я проходила по комнате, где он находился, сказал своему соседу, которым был в ту минуту граф Понятовский: «Вот женщина, из-за которой порядочный человек мог бы вынести без сожаления несколько ударов кнута». Этот анекдот я узнала от самого графа Понятовского, впоследствии короля Польского.
Как только генерал Фермор принял командование, он поспешил выполнить свои инструкции, в которых было точно указано, чтобы наступать, ибо, несмотря на суровое время года, он занял Кенигсберг, который выслал ему депутатов 18 января 1758 года.
В эту зиму я вдруг заметила большую перемену в поведении Льва Нарышкина. Он начинал становиться невежливым и грубым: он только нехотя приходил ко мне и говорил вещи, которые показывали, что ему вбивали в голову недоброжелательство по отношению ко мне, его невестке, сестре, графу Понятовскому и всем тем, кто был ко мне привязан.
Я узнала, что он почти всегда был у Ивана Шувалова, и я легко догадывалась, что его отвращают от меня, чтобы меня наказать за то, что я ему помешала жениться на девице Хитрово, и что, конечно, так постараются, что доведут его до болтовни, которая может стать мне вредной.
Его невестка, его сестра, его брат были так же рассержены на него, как и я; и буквально он вел себя как безумный и оскорблял нас, как только мог, без причины, и это в то время, когда я меблировала на свой счет дом, где он должен был жить, когда женится. Все обвиняли его в неблагодарности, а он говорил, что у него не корыстная душа; словом, у него не было причин жаловаться никоим образом; ясно было видно, что он служил орудием тем, кто им завладел. Он более, чем когда-либо, аккуратно являлся на поклон к великому князю, которого он забавлял так, как мог, и все более и более склонял его к тому, что, как он знал, я порицала; он простирал невежливость иногда до того, что когда я с ним разговаривала, то он мне не отвечал. В настоящее время я не знаю, какая муха его укусила, между тем как я буквально осыпала его благодеяниями и изъявлениями дружбы так же, как и его семью, с тех пор как я их знала.
Я думаю, что он старался ласкать великого князя также по советам господ Шуваловых, которые ему говорили, что эта милость будет для него всегда прочнее моей, потому что я на дурном счету у императрицы и у великого князя, что ни та, ни другой меня не любит, и что он повредит своей карьере, если не отстанет от меня… что, как только императрица умрет, великий князь заточит меня в монастырь, и тому подобные вещи, которые говорили Шуваловы и которые были мне переданы. Кроме того, ему посулили орден Св. Анны как знак милости великого князя по отношению к нему.
С помощью этих рассуждений и обещаний добивались от этой слабой и бесхарактерной головы всех маленьких измен, каких хотели, и его заставили зайти так далеко и даже дальше, чем желали, хотя от времени до времени у него бывали порывы раскаяния. Как потом увидят, тогда он старался, как только мог, удалять великого князя от меня, так что последний дулся на меня почти непрерывно и связался снова с графиней Елисаветой Воронцовой.
К весне этого года распространился слух, что принц Карл Саксонский, сын Польского короля Августа III, приедет в Петербург. Это не доставило удовольствия великому князю по разным причинам, из которых первой была та, что он боялся, чтобы этот приезд не был увеличением стеснения для него, так как он не любил, чтобы образ жизни, который он себе устроил, был бы хоть сколько-нибудь расстроен; вторая причина заключалась в том, что Саксонский дом был на стороне, противной королю Прусскому.
Третьей причиной могло быть еще то, что он боялся потерять в сравнении: это значило по меньшей мере быть очень скромным, потому что этот бедный Саксонский принц ничего собой не представлял и не имел никакого образования; кроме охоты и танцев, он ничего не знал, и он сам мне говорил, что за всю его жизнь у него не было в руках книги, кроме молитвенника, которым его снабдила королева, его мать, государыня, отличавшаяся большим ханжеством.
Принц Карл Саксонский приехал действительно 5 апреля этого года в Петербург, где его встретили с большим парадом и с большим наружным великолепием и блеском. Его свита была очень многочисленна: его сопровождали множество поляков и саксонцев, между которыми был один из Любомирских, один из Потоцких, коронный писарь, граф Ржевуский[111], которого звали «красивым», двое князей Сулковских, один граф Сапега, граф Броницкий, впоследствии великий гетман, граф Эйнзидель и много других, имена которых не приходят мне сейчас на память.
С ними был своего рода помощник воспитателя, по имени Лашиналь, который руководил его поведением и перепиской. Принца Саксонского поместили в доме камергера Ивана Шувалова, который был только что отделан и в который домохозяин вложил весь свой вкус, несмотря на то, что дом был устроен без вкуса и довольно плохо, но, впрочем, очень богато.
В нем было много картин, но большею частию – копии; одну комнату отделали чинаровым деревом, но так как чинара не блестит, то ее покрыли лаком, и через это комната стала желтой, но очень неприятного желтого цвета; отсюда вышло то, что ее сочли некрасивой, и, чтобы этому пособить, ее покрыли очень тяжелой и богатой деревянной резьбой, которую посеребрили. Снаружи этот дом, большой сам по себе, походил своими украшениями на манжетки из алансонского кружева, так много было на нем резьбы.
Граф Иван Чернышев назначен был состоять при Саксонском принце Карле, и содержание его, и услуги шли насчет двора, и ему прислуживали придворные люди. В ночь накануне дня приезда принца Карла я почувствовала такую сильную колику с таким поносом, что мне пришлось больше 30 раз ходить на судно; несмотря на это и на охватившую меня лихорадку, я на следующий день оделась, чтобы принять саксонского принца.
Его привели к императрице около двух часов пополудни, а по выходе от нее его привели ко мне, куда через минуту после него должен был войти великий князь. Для этого поставили у одной и той же стены три кресла: среднее было для меня, правое от меня – для великого князя и левое – для саксонского принца. Я вела разговор, так как великий князь не хотел почти говорить, да и принц Карл не был разговорчив.
Наконец, через семь-восемь минут разговора принц Карл встал, чтобы представить нам свою огромную свиту; с ним было, кажется, больше двадцати человек, к которым присоединились в этот день посланники: польский и саксонский, которые состояли при Русском дворе, со своими чиновниками. После получасовой беседы принц ушел, а я разделась, чтобы лечь в кровать, где оставалась три-четыре дня в очень сильной лихорадке, после которой у меня снова появились признаки беременности.
В конце апреля мы поехали в Ораниенбаум. До нашего отъезда мы узнали, что принц Карл Саксонский отправляется добровольцем в русскую армию. Прежде чем ехать в армию, он ездил с императрицей в Петергоф, и его чествовали там и в городе. Мы не были на этих празднествах, но оставались у себя на даче, где он с нами простился и уехал 4 июля.
Так как великий князь был почти всегда очень сердит на меня и я не знала этому другой причины, кроме той, что я неласково принимала ни Брокдорфа, ни графиню Елисавету Воронцову, которая снова становилась любимой султаншей, то я вздумала дать в честь Его Императорского Высочества праздник в моем ораниенбаумском саду, дабы смягчить его дурное настроение, если сделать это было возможно.
Всякое празднество всегда было приятно Его Императорскому Высочеству. Для этого я велела выстроить в одном уединенном месте лесочка итальянскому архитектору, который тогда у меня был, Антонио Ринальди, большую колесницу, на которую могли бы поместить оркестр в шестьдесят человек музыкантов и певцов. Я велела сочинить стихи придворному итальянскому поэту, а музыку – капельмейстеру Арайе.
В саду, на главной аллее, поставили иллюминованную декорацию с занавесом, против которой накрыли столы для ужина. 17 июня под вечер Его Императорское Высочество со всеми, кто был в Ораниенбауме, и со множеством зрителей, приехавших из Кронштадта и из Петербурга, отправились в сад, который нашли иллюминованным; сели за стол, и после первого блюда поднялся занавес, который скрывал главную аллею, и увидели приближающийся издалека подвижной оркестр, который везли штук двадцать быков, убранных гирляндами, и окружали столько танцоров и танцовщиц, сколько я могла найти. Аллея была иллюминована, и так ярко, что различали предметы.
Когда колесница остановилась, то, игрою случая, луна очутилась как раз над колесницей, что произвело восхитительный эффект и что очень удивило все общество; погода была, кроме того, превосходнейшая. Все выскочили из-за стола, чтобы ближе насладиться красотой симфонии и зрелища. Когда она окончилась, занавес опустили и все снова сели за стол и принялись за второе блюдо.
Когда его заканчивали, послышались трубы и литавры и вышел скоморох, выкрикивая: «Милостивые государи и милостивые государыни, заходите, заходите ко мне, вы найдете в моих лавочках даровую лотерею». С двух сторон декорации с занавесом поднялись два маленьких занавеса, и увидели две ярко освещенные лавочки, в одной из которых раздавались бесплатно лотерейные номера для фарфора, находившегося в ней, а в другой – для цветов, лент, вееров, гребенок, кошельков, перчаток, темляков и тому подобных безделок в этом роде.
Когда лавки были опустошены, мы пошли есть сладкое, после чего стали танцевать до шести часов утра. На этот раз никакая интрига, ни злоба не выдержали перед моим праздником, и Его Императорское Высочество и все были в восхищении от него и то и дело хвалили великую княгиню и ее праздник; правда, что я ничего не пожалела: вино мое нашли чудным, ужин – отличнейшим; все было на мой собственный счет, и праздник стоил мне от десяти до пятнадцати тысяч; заметьте, что я имела всего тридцать тысяч в год.
Но этот праздник чуть не стоил мне гораздо дороже: утром 17 июля я поехала в кабриолете с Нарышкиной, чтобы посмотреть приготовления; когда я пожелала выйти из кабриолета и была уже на подножке, лошадь тронула, и я упала на землю на колени; а я была уже на четвертом или на пятом месяце беременности; но я и виду не показала и оставалась последней на празднике, занимаясь с гостями. Между тем я очень боялась выкидыша; однако со мною ничего не случилось, и я отделалась страхом.
Великий князь, все его окружающие, все его голштинцы и даже самые злые мои враги в течение нескольких дней не переставали восхвалять меня и мой праздник, так как не было ни друга, ни недруга, который не унес бы какой-нибудь тряпки на память обо мне; и так как на этом празднике, который был маскарадом, было множество народа из всех слоев общества, и общество в саду было смешанное, и, между прочим, находилось много женщин, которые обыкновенно не появлялись совсем при дворе и в моем присутствии, то все хвастались моими подарками и выставляли их, хотя, в сущности, они были неважными, потому что, я думаю, не было ни одного дороже ста рублей, но их получили от меня, и всем было приятно сказать: «Это у меня от Ее Императорского Высочества, великой княгини; она сама доброта, она всем сделала подарки; она прелестна; она смотрела на меня с веселым любезным видом; она находила удовольствие заставлять нас танцевать, угощаться, гулять; она рассаживала тех, у кого не было места; она хотела, чтобы все видели то, на что было посмотреть; она была весела», – словом, в этот день у меня нашли качества, которых за мною не знали, и я обезоружила своих врагов. Это и было моею целью; но это было не надолго, как увидят впоследствии.
После этого праздника Лев Нарышкин стал снова у меня бывать. Однажды, желая войти в мой кабинет, я застала его там нахально развалившимся на канапе, которое там находилось, и распевающим бессмысленную песню. Видя это, я вышла, захлопнула за собою дверь и тотчас же пошла за его невесткой; я ей сказала, что надо взять хороший пучок розог и высечь ими этого мужчину, который уже давно так дерзко ведет себя с нами, чтобы научить его уважать нас.
Его невестка охотно на это согласилась, и тотчас же мы велели принести хороших розог, обвязанных крапивой; мы заставили пойти с нами одну вдову, которая была при мне среди моих женщин, по имени Татьяна Юрьевна, и мы все трое отправились в мой кабинет, где застали Льва Нарышкина на том же месте распевающим во все горло свою песню.
Когда он нас увидел, он хотел удрать от нас, но мы так отстегали его нашими крапивными розгами, что у него ноги, руки и лицо настолько распухли в течение двух-трех дней, что он не мог поехать с нами на следующий день в Петергоф на куртаг, а был принужден оставаться у себя.
Он отнюдь не стал также хвастаться тем, что с ним случилось, потому что мы его уверили, что при малейшей невежливости или по малейшему поводу, каким он вызовет наши жалобы на него, мы повторим ту же операцию, видя, что нет никакого другого средства справиться с ним. Все это понималось как чистая шутка, без злобы, но наш мужчина достаточно это почувствовал, чтобы запомнить это, и не подвергался этому впредь, в той степени по крайней мере, в какой он делал это до сих пор.
В августе месяце мы узнали в Ораниенбауме, что 14 августа было дано сражение при Цорндорфе – одно из самых кровопролитных за этот век, потому что каждая из сторон насчитывала более двадцати тысяч человек убитыми и пропавшими. Наши потери в офицерах были значительны и превосходили 1200.
Нам объявили об этом сражении как о выигранном, но на ухо говорили друг другу, что с обеих сторон потери были равные, что в течение трех дней ни одна из двух армий не смела приписать себе выигрыша сражения, что, наконец, на третий день Прусский король велел служить молебствие в своем лагере, а генерал Фермор – на поле сражения.
Горе императрицы и уныние всего города было велико, когда узнали все подробности этого кровавого дня, где многие потеряли своих близких друзей и знакомых; долго слышны были одни сожаления об этом дне; много генералов было убито, ранено или взято в плен. Наконец было признано, что генерал Фермор вел дело совсем не по-военному и без всякого искусства. Войско его ненавидело и не имело к нему никакого доверия.
Двор его отозвал и назначил генерала графа Петра Салтыкова, чтобы отправиться в Пруссию командовать армией вместо генерала Фермора. Для этого выписали графа Салтыкова из Украины, где он имел команду, а пока отдали командование армией генералу Фролову-Багрееву, но с секретным предписанием ничего не делать без генерал-лейтенантов графа Румянцева и князя Александра Голицына, шурина Румянцева.
Последнего обвинили в том, что когда он был на небольшом расстоянии от поля сражения с корпусом в десять тысяч человек на высотах, откуда он слышал канонаду, то от него зависело сделать ее более решительной, наступая с тылу прусской армии, в то время как она была в схватке с нашей.
Граф Румянцев этого не сделал, и, когда его шурин, князь Голицын, пришел после сражения к нему в лагерь и рассказал ему о бойне, которая была, он очень дурно его принял, наговорил ему грубостей и не захотел его видеть после этого, обходясь с ним, как с трусом, каковым князь Голицын не был, и вся армия была более убеждена в неустрашимости последнего, нежели в храбрости графа Румянцева, несмотря на его теперешнюю славу и победы.
Императрица находилась в начале сентября в Царском Селе, где 8 числа, в день Рождества Богородицы, пошла пешком из дворца в приходскую церковь, находящуюся в двух шагах от Северных ворот, чтобы слушать обедню. Едва обедня началась, как императрица почувствовала себя нехорошо, вышла из церкви, спустилась с маленького крыльца, находящегося наискосок от дворца, и, дойдя до выступа на углу церкви, упала на траву без чувств, среди толпы, или, вернее, окруженная толпой народа, пришедшего на праздник со всех окрестных сел слушать обедню.
Никто из свиты императрицы не последовал за ней, когда она вышла из церкви, но вскоре предупрежденные дамы ее свиты и наиболее доверенные ее побежали к ней на помощь и нашли ее без движения и без сознания среди народа, который смотрел на нее и не смел подойти.
Императрица была очень рослая и полная и не могла упасть разом, не причинив себе сильной боли самим падением. Ее покрыли белым платком и пошли за докторами и хирургом; этот последний пришел первым и нашел, что самое неотложное – это пустить ей кровь тут же, на земле, среди и в присутствии всего этого народа, но она не пришла в себя.
Доктор долго собирался, будучи сам болен и не имея возможности ходить. Принуждены были принести его в кресле; это был покойный Кондоиди[112], грек родом, а хирург – [Виллим] Фузадье, француз-эмигрант. Наконец, принесли из дворца ширмы и канапе, на которое ее поместили; лекарствами и уходом ее слегка привели в чувство; но, открыв глаза, она никого не узнала и спросила совсем почти невнятно, где она. Все это длилось более двух часов, после чего решили снести Ее Императорское Величество на канапе во дворец.
Можно себе вообразить, каково было уныние всех тех, кто состоял при дворе. Гласность события еще увеличивала его печаль: до сих пор держали болезнь императрицы в большом секрете, а с этой минуты случай этот стал публичным.
На следующий день утром я узнала все обстоятельства этого несчастного случая из записки, присланной мне графом Понятовским. Я сейчас же пошла сказать это великому князю, который ничего не знал, потому что от нас всегда тщательнейшим образом скрывали все вообще и в частности еще то, что лично касалось императрицы; но было в обычае каждое воскресенье, когда мы не были в одном и том же месте с Ее Императорским Величеством, посылать одного из кавалеров нашего двора, чтобы осведомляться о состоянии здоровья императрицы.
Мы не преминули сделать это на следующее воскресенье и узнали, что в течение нескольких дней императрица не могла свободно владеть языком и что она еще не могла говорить без затруднения; говорили, что во время обморока она прикусила себе язык.
Все это заставляло предполагать, что эта слабость происходила больше от конвульсий, нежели от обморока. В конце сентября мы вернулись в город. Так как я становилась тяжелой от своей беременности, то я больше не появлялась в обществе, считая, что я ближе к родам, нежели была на самом деле.
Это было скучно для великого князя, потому что, когда я появлялась в обществе, он очень часто сказывался нездоровым, чтобы оставаться у себя, и так как императрица появлялась тоже редко, то и выезжали на мне со всеми куртагами, придворными праздниками и балами, а когда я не бывала там, то приставали к Его Императорскому Высочеству, чтобы он туда отправлялся, дабы кто-нибудь нес обязанности по представительству.
А потому Его Императорское Высочество сердился на мою беременность и вздумал сказать однажды у себя, в присутствии Льва Нарышкина и некоторых других: «Бог знает, откуда моя жена берет свою беременность; я не слишком-то знаю, мой ли это ребенок и должен ли я его принять на свой счет». Лев Нарышкин прибежал ко мне и передал мне эти слова прямо с пылу.
Я, понятно, испугалась таких речей и сказала ему: «Вы все ветреники; потребуйте от него клятвы, что он не спал со своею женою, и скажите, что если он даст эту клятву, то вы сообщите об этом Александру Шувалову, как великому инквизитору империи». Лев Нарышкин пошел действительно к Его Императорскому Высочеству и потребовал у него этой клятвы, на что получил в ответ: «Убирайтесь к черту и не говорите мне больше об этом».
Эти слова великого князя, сказанные так неосторожно, очень меня рассердили, и я с тех пор увидала, что на мой выбор предоставлялись три дороги, одинаково трудные: во-первых, делить участь Его Императорского Высочества, как она может сложиться; во-вторых, подвергаться ежечасно тому, что ему угодно будет затеять за или против меня; в-третьих, избрать путь, независимый от всяких событий.
Но, говоря яснее, дело шло о том, чтобы погибнуть с ним или через него, или же спасать себя, детей и, может быть, государство от той гибели, опасность которой заставляли предвидеть все нравственные и физические качества этого государя.
Эта последняя доля показалась мне самой надежной, и я решила по мере сил продолжать подавать великому князю все советы, какие могу придумать для его блага, но никогда не упорствовать до того, чтобы его сердить, как раньше, когда он их не слушался; открывать ему глаза на его действительные интересы каждый раз, как случай к тому представится, и в остальное время замкнуться в очень угрюмое молчание, наблюдая, с другой стороны, в обществе мои интересы так, чтобы оно видело во мне, при случае, спасителя государства.
В октябре месяце я получила от великого канцлера графа Бестужева извещение, что Польский король только что прислал графу Понятовскому отзывную грамоту. У графа Бестужева был из-за этого большой спор с графом Брюлем и Саксонским кабинетом, и он сердился на то, что с ними не посоветовались, как прежде, об этом пункте.
Он узнал наконец, что это вице-канцлер граф Воронцов и Иван Шувалов обделали все это дело через Прассе, саксонского резидента. Этот Прассе казался часто осведомленным о множестве подробностей, так что удивлялись, откуда он их знает. Несколько лет спустя этот источник открылся: он был очень тайным и скромным любовником жены вице-канцлера графа Воронцова, графини Анны Карловны, урожденной Скавронской, которая была очень дружна с женою церемониймейстера Самарина, и у этой-то женщины графиня видала Прассе.
Канцлер Бестужев велел подать себе эти отзывные грамоты, посланные графу Понятовскому, и вернул их в Саксонию, под предлогом несоблюдения формальностей. В ночь с 8 на 9 декабря я начала чувствовать боли перед родами. Я послала уведомить об этом великого князя через Владиславову, также и графа Александра Шувалова, дабы он мог предупредить императрицу.
Через несколько времени великий князь вошел в мою комнату, одетый в свой голштинский мундир, в сапогах и шпорах, с шарфом вокруг пояса и с громадной шпагой на боку; он был в полном параде; было около двух с половиной часов ночи. Очень удивленная этим одеянием, я спросила его о причине столь изысканного наряда.
На это он мне ответил, что только в нужде узнаются истинные друзья, что в этом одеянии он готов поступать согласно своему долгу, что долг голштинского офицера – защищать по присяге герцогский дом против всех своих врагов, и так как мне нехорошо, то он поспешил ко мне на помощь.
Можно было бы сказать, что он шутит, но вовсе нет: то, что он говорил, было очень серьезно; я легко догадалась, что он пьян, и посоветовала ему идти спать, чтобы, когда императрица придет, она не имела двойного неудовольствия видеть его пьяным и вооруженным с головы до ног, в голштинском мундире, который, как я знала, она ненавидела.
Мне стоило большого труда заставить его уйти, однако, и Владиславова и я, мы его убедили с помощью акушерки, которая уверяла, что я еще не рожу так скоро. Наконец, он ушел, и императрица пожаловала.
Она спросила, где великий князь; ей ответили, что он только что вышел и не преминет возвратиться. Так как она увидала, что боли замедлялись, и так как акушерка сказала, что это может длиться еще несколько часов, то она вернулась в свои покои, а я легла в постель, где и заснула до следующего дня; когда встала, по обыкновению, чувствуя время от времени боли, после которых я целыми часами ничего не чувствовала.
К ужину я проголодалась и велела принести себе ужин; акушерка сидела близ меня, и, видя, что я ем с алчным аппетитом, она мне сказала: «Кушайте, кушайте, этот ужин принесет нам счастье». Действительно, поужинав, я встала из-за стола, и в ту самую минуту, как встала, у меня сделалась такая боль, что я громко вскрикнула.
Акушерка и Владиславова подхватили меня под руки и уложили меня на родильную постель; послали за великим князем и за императрицей. Едва они вошли в мою комнату, как я разрешилась 9 декабря между 10 и 11 часами вечера дочерью[113], которой я просила императрицу разрешить дать ее имя; но она решила, что она будет носить имя старшей сестры Ее Императорского Величества, герцогини Голштинской, Анны Петровны, матери великого князя.
Этот последний, казалось, был очень доволен рождением этого ребенка; он по этому случаю устроил у себя большое веселье, велел устроить то же и в Голштинии, и принимал все поздравления, которые ему по этому случаю приносили, с изъявлениями удовольствия.
На шестой день императрица была восприемницей этого ребенка и принесла мне приказ Кабинета выдать мне шестьдесят тысяч рублей. Она послала столько же великому князю, что немало увеличило его удовольствие.
После крестин начались празднества. Давались, как говорят, прекраснейшие, я не видала ни одного; я была в моей постели одинешенька, и не было ни единой души со мной, кроме Владиславовой, потому что, как только я родила, не только императрица в этот раз, как и в прошлый, унесла ребенка в свои покои, но также под предлогом отдыха, который мне был нужен, меня оставили покинутой, как какую-то несчастную, и никто ни ногой не вступал в мою комнату и не осведомлялся и не велел осведомляться, как я себя чувствую.
Как и в первый раз, я очень страдала от этой заброшенности. На этот раз я приняла всевозможные предосторожности против сквозняков и неудобств помещения, и, как только я разрешилась, я встала и легла на свою постель, и так как никто не смел приходить ко мне, разве только украдкой, то и в этом отношении у меня не было недостатка предусмотрительности.
Моя кровать выступала приблизительно до половины довольно длинной комнаты, налево от кровати был черный ход, выходящий как бы в гардеробную, служившую также передней и очень заставленную ширмами и сундуками; от моей кровати до этой двери я велела поставить громадные ширмы, которые скрывали очень миленький кабинет, какой я только могла придумать ввиду этого помещения и обстоятельств.
В этом кабинете были канапе, зеркала, переносные столики и несколько стульев. Когда занавес моей кровати был с этой стороны спущен, ничего не было видно; когда же он был отдернут – видно было и кабинет, и тех, кто в нем находились; те, кто входил в комнату, видели только большие ширмы; когда спрашивали, что за ширмами, говорили – судно; но судно было в самой ширме, и никому не было любопытно на него взглянуть, да и можно было бы его показать, не проникая еще в кабинет, который прикрывали эти ширмы.
1 января 1759 года придворные празднества окончились очень большим фейерверком между балом и ужином; так как я все еще лежала, то и не появлялась при дворе. Перед фейерверком граф Петр Шувалов вздумал подойти к моим дверям, чтобы передать мне план фейерверка.
Незадолго перед тем, как его стали пускать, Владиславова сказала ему, что я сплю, но что она, однако, пойдет посмотреть; я не спала, это была неправда, но только я была в постели, и у меня была моя обычная маленькая компания, которую составляли, как и прежде, Нарышкина, Сенявина, Измайлова и граф Понятовский. Последний со времени своего отозвания сказывался больным, но приходил ко мне, а дамы эти любили меня достаточно, чтобы предпочесть мое общество балам и праздникам.
Владиславова не знала точно, кто у меня, но у нее был слишком хороший нюх, чтобы не подозревать, что кто-то есть; я сказала ей, что рано ложусь спать от скуки, и она уже больше не входила.
После прихода графа Петра Шувалова она постучалась в дверь, я задернула занавес со стороны ширм и сказала ей, чтобы она вошла; она вошла и передала мне поручение графа Петра Шувалова; я велела ей впустить его.
Она пошла за ним, а в это время мои гости за ширмами помирали со смеху от крайней необычайности этой сцены, когда я собиралась принять визит графа Петра Шувалова, который мог бы поклясться, что застал меня одну, в моей постели, между тем как всего один занавес отделял мою маленькую и очень веселую компанию от этого лица, столь важного тогда, оракула двора и пользовавшегося в высокой степени доверием императрицы.
Наконец, он вошел, принес мне свой план фейерверка; он был тогда генерал-фельдцейхмейстером. Я начала с того, что стала извиняться, что заставила его ждать, говоря, что я только что проснулась; я немного протирала себе глаза, говоря, что я еще совсем заспанная. Я лгала, чтобы не выдать Владиславову, после чего я завела с ним довольно длинный разговор и даже до того, что мне показалось, что он очень спешит уйти, чтоб не заставлять ждать императрицу начала фейерверка.
Тогда я его отпустила, он вышел, и я снова отдернула занавес; моей компании от смеху захотелось есть и пить. Я им сказала: «Отлично, у вас будет, что есть и пить; между тем как вы составляете мою компанию, справедливо, чтобы в угоду мне вы не померли бы у меня от голоду и жажды». Я снова закрыла занавес и позвонила. Владиславова пришла, я ей сказала, чтоб она велела принести мне ужинать, что я умираю от голоду и чтоб было по крайней мере шесть вкусных блюд.
Когда ужин был готов, мне его принесли; я велела поставить все у моей кровати и сказала служителям, чтоб они ушли. Тогда находившиеся за ширмой гости набросились как голодные на еду, какая нашлась; веселье увеличивало аппетит. Признаюсь, этот вечер был одним из самых шальных и самых веселых, какие я провела в своей жизни. Когда проглотили ужин, я велела унести остатки так же, как мне его принесли. Я думаю только, что моя прислуга была немного удивлена моим аппетитом. К концу придворного ужина моя компания удалилась, также очень довольная своим вечером.
Граф Понятовский для выхода брал обыкновенно с собою белокурый парик и плащ, и, когда часовые спрашивали его: «Кто идет?», он называл себя: «Музыкант великого князя». Этот парик очень нас смешил в тот вечер. На этот раз после шести недель мне давали молитву в малой церкви императрицы, но, кроме графа Александра Шувалова, никто при этом не присутствовал.
К концу Масленой, когда все городские праздники закончились, при дворе было три свадьбы: свадьба графа Александра Строганова с графиней Анной Воронцовой[114], дочерью вице-канцлера, была первой, а два дня спустя – свадьба Льва Нарышкина с девицей Закревской, в тот же день, как и свадьба графа Бутурлина с графиней Марией Воронцовой.
Эти три девицы были фрейлинами императрицы. По поводу этих трех свадеб держали при дворе пари гетман Кирилл Разумовский и датский посланник граф Остен, кто из троих новобрачных будет раньше всех рогоносцем, и оказалось, что выиграли пари те, кто держал за Строганова, молодая супруга которого казалась тогда самой некрасивой, самой невинной и наиболее ребенком.
Канун дня свадьбы Льва Нарышкина и графа Бутурлина был днем несчастного события. Давно уже передавали друг другу на ухо, что кредит великого канцлера графа Бестужева пошатывался, что его враги брали верх. Он потерял своего друга, генерала Апраксина.
Граф Разумовский-старший долго его поддерживал, но с преобладанием фавора Шуваловых он больше ни во что почти не вмешивался, разве только испрашивал, когда представлялся к тому случай, какую-нибудь маленькую милость для своих друзей или родственников. Шуваловых и Михаила Воронцова возбуждали еще в их ненависти к великому канцлеру послы австрийский, граф [Николай] Эстергази, и французский, маркиз [Пауль] де Лопиталь.
Этот последний считал графа Бестужева более склонным к союзу с Англией, нежели с Францией. Австрийский посол замышлял против Бестужева, потому что Бестужев хотел, чтобы Россия держалась своего союзного договора с Венским двором и оказывала бы помощь Марии-Терезии, но не хотел, чтоб она действовала в качестве первой воюющей стороны против Прусского короля.
Граф Бестужев думал, как патриот, и им нелегко было вертеть, тогда как Михаил Воронцов и Иван Шувалов были до такой степени в руках у обоих послов, что за две недели до того, как впал в немилость великий канцлер граф Бестужев, французский посол маркиз де Лопиталь отправился к вице-канцлеру графу Воронцову с депешей в руках и сказал: «Граф, вот депеша моего двора, которую я получил и в которой сказано, что если через две недели великий канцлер не будет отставлен вами от должности, то я должен буду обратиться к нему и вести дела только с ним».
Тогда вице-канцлер разгорелся и отправился к Ивану Шувалову, и императрице представили, что слава ее страдает от влияния графа Бестужева в Европе. Она приказала собрать в тот же вечер конференцию и призвать туда великого канцлера. Последний велел сказать, что он болен; тогда назвали эту болезнь неповиновением и послали сказать, чтобы он пришел без промедления.
Он пришел, и его арестовали в полном собрании конференции, сложили с него все должности, лишили всех чинов и орденов, между тем как ни единая душа не могла обстоятельно изложить, за какие преступления или злодеяния так всего лишали первое лицо в империи, и его отправили к себе под домашний арест.
Так как это было подготовлено, то вызвали отряд гвардейских гренадеров; эти последние, идя вдоль Мойки, где у графов Александра и Петра Шуваловых были свои дома, говорили: «Слава Богу, мы арестуем этих проклятых Шуваловых, которые только и делают, что выдумывают монополии»; но, увидев, что дело идет о графе Бестужеве, солдаты выказали неудовольствие по этому поводу, говоря: «Это не он, это другие давят народ».
Хотя Бестужева арестовали в самом дворце, где мы занимали флигель, и не очень далеко от наших покоев, в этот вечер мы ничего не узнали: так заботились скрывать от нас все, что делалось.
На следующий день, в воскресенье, одеваясь, я получила от Льва Нарышкина записку, которую посылал мне граф Понятовский этим путем, очень давно уже не внушавшим ничего, кроме подозрения. Эта записка начиналась словами: «Человек никогда не остается без помощи; пользуюсь этим путем, чтобы предупредить вас, что вчера вечером граф Бестужев был арестован и лишен чинов и должностей, и с ним вместе арестованы ваш ювелир Бернарди, Елагин и Ададуров».
Я так и остолбенела, читая эти строки, и, прочтя их, сказала себе, что нельзя обманывать себя тем, будто это дело не касается меня ближе, чем кажется. А чтобы понять это, нужен комментарий. Бернарди был итальянский торговец золотыми вещами, который был неглуп и которому его ремесло давало доступ во все дома. Думаю, что не было ни одного дома, который не был бы ему чем-нибудь обязан и которому он не оказал бы той или другой мелкой услуги.
Так как он постоянно бывал везде, то все друг для друга давали ему какие-нибудь поручения; словечко в записке, посланной через Бернарди, достигало скорее и вернее, нежели через прислугу. Таким образом, арест Бернарди интриговал целый город, потому что он ото всех имел поручения, от меня так же, как и от других. Елагин был тот прежний адъютант обер-егермейстера графа Разумовского, на которого была возложена опека над Бекетовым; он остался преданным дому Разумовских, а через них и графу Бестужеву; он стал другом графа Понятовского.
Это был человек надежный и честный; кто раз приобретал его любовь, тот нелегко ее терял; он всегда изъявлял усердие и заметное ко мне предпочтение. Ададуров был прежде моим учителем русского языка и остался очень ко мне привязанным; это я рекомендовала его графу Бестужеву, который начал выказывать ему доверие всего два или три года и который не любил его прежде, потому что он был раньше привержен к генерал-прокурору, князю Никите Юрьевичу Трубецкому, врагу Бестужева.
После прочтения этой записки и сделанных мною размышлений множество мыслей, одни неприятнее и грустнее других, пришли мне на ум. С ножом в сердце, так сказать, я оделась и пошла к обедне, где мне показалось, что большая часть из тех, кого я видела, имели такую же вытянутую физиономию, как и я. Никто ни о чем не говорил со мною во весь день, и как будто никто не знал о событии; я тоже ни слова не говорила.
Великий князь никогда не любил графа Бестужева; он мне показался довольно веселым в этот день, но держался, хотя без принужденности, однако довольно далеко от меня. Вечером надо было идти на свадьбу. Я снова оделась и присутствовала при венчании графа Бутурлина и Льва Нарышкина, на ужине и на балу.
Во время бала я подошла к маршалу свадьбы князю Никите Трубецкому, и, под предлогом рассматривания лент его маршальского жезла, я сказала ему вполголоса: «Что же это за чудеса? Нашли вы больше преступлений, чем преступников, или у вас больше преступников, нежели преступлений». На это он мне сказал: «Мы сделали то, что нам велели, но что касается преступлений, то их еще ищут. До сих пор открытия неудачны».
По окончании разговора с ним я пошла поговорить с фельдмаршалом Бутурлиным, который мне сказал: «Бестужев арестован, но в настоящее время мы ищем причину, почему это сделано». Так говорили оба главных следователя, назначенных императрицей, чтобы с графом Александром Шуваловым производить допрос арестованных. Я увидала на этом балу издали Штамбке и нашла, что у него страдальческий и унылый вид.
Императрица не появилась ни на одной из этих свадеб: ни в церкви, ни на банкете. На следующий день Штамбке пришел ко мне и сказал мне, что ему только что передали записку от графа Бестужева, который наказывал ему сказать мне, чтобы я не имела никаких опасений относительно того, что я знала, что он успел все бросить в огонь и что он сообщит ему тем же путем о допросах, которые ему будут делать.
Я спросила у Штамбке, какой этот путь? Он мне сказал, что трубач-охотник передал ему эту записку, и было условлено, что впредь будут класть между кирпичами недалеко от дома графа Бестужева в указанном месте все, что захотят друг другу сообщить. Я велела Штамбке очень остерегаться, чтобы эта опасная переписка не открылась, но, хотя он мне казался сам в большой тревоге, тем не менее он и граф Понятовский продолжали переписку. Как только Штамбке вышел, я позвала Владиславову и велела ей пойти к ее зятю Пуговишникову[115] и передать ему записку, которую я ему написала.
В этой записке были только слова: «Вам нечего бояться, успели все сжечь». Это его успокоило, потому что, по-видимому, со времени ареста великого канцлера он должен был быть ни жив ни мертв, и вот по какому поводу, и что такое было то, что граф Бестужев успел сжечь. Болезненное состояние и частые конвульсии императрицы заставляли всех обращать взоры на будущее; граф Бестужев, и по своему месту и по своим умственным способностям, не был, конечно, одним из тех, кто об этом подумал последний.
Он знал антипатию, которую давно внушили великому князю против него; он был весьма сведущ относительно слабых способностей этого принца, рожденного наследником стольких корон. Естественно, этот государственный муж, как и всякий другой, возымел желание удержаться на своем месте; уже несколько лет он видел, что я освобождаюсь от тех предубеждений, которые мне против него внушили; к тому же он смотрел на меня лично, как на единственного, может быть, человека, на котором можно было в то время основать надежды общества в ту минуту, когда императрицы не станет.
Это и подобные размышления заставили его составить план, по которому со смерти императрицы великий князь будет объявлен императором по праву, а в то же время я буду объявлена его соучастницей в управлении, что все должностные лица останутся, а ему дадут звание подполковника в четырех гвардейских полках и председательство в трех государственных коллегиях: в Коллегии иностранных дел, военной и адмиралтейской. Отсюда видно, что его претензии были чрезмерны.
Проект этого манифеста он мне прислал, написанный рукою Пуговишникова, через графа Понятовского, с которым я условилась ответить ему устно, что я благодарю его за его добрые насчет меня намерения, но что я смотрю на эту вещь, как на трудно исполнимую. Он заставил написать и переписать свой проект несколько раз, изменял его, пополнял, сокращал; казалось, он был им очень занят.
По правде говоря, я смотрела на его проект, как на пустую болтовню и на удочку, которую этот старик мне закидывал, чтобы приобрести себе все более и более мою привязанность; но на эту удочку я не клюнула, потому что я считала ее вредной для государства, которое терзалось бы от всякой домашней ссоры между мною и не любившим меня моим супругом.
Но так как я не видела еще наличности самого факта, то я не хотела противоречить старику с характером упрямым и цельным, когда он вобьет себе что-нибудь в голову. Этот-то свой проект он и успел сжечь, о чем он меня предупредил, чтобы успокоить тех, которые о нем знали.
Между тем мой камердинер Шкурин пришел мне сказать, что капитан, который находится на карауле при графе Бестужеве, был всегда ему другом и каждое воскресенье, уходя с караула при дворе, обедал у него; тогда я ему сказала, что если дела были таковы и он мог на него рассчитывать, то пусть он постарается у него выведать, пойдет ли он на какие-нибудь сношения со своим арестантом.
Это становилось тем более необходимым, что граф Бестужев сообщил Штамбке своим путем, что надо предупредить Бернарди, чтобы он говорил чистую правду на своем допросе и сообщил ему то, что у него будут спрашивать.
Когда я увидела, что Шкурин берется охотно найти какое-нибудь средство, чтобы добраться до графа Бестужева, я ему сказала, чтобы он постарался также найти сообщение с Бернарди, посмотреть, нельзя ли подкупить сержанта или какого-нибудь солдата, который караулил Бернарди в его квартире.
В тот же день, к вечеру Шкурин сказал мне, что Бернарди находится под стражей у некоего сержанта гвардии, по имени Колышкин[116], с которым он на следующий же день повидается; но что он посылал к своему другу капитану, который был у графа Бестужева, чтобы спросить его, может ли он его видеть, и тот велел ему сказать, что, если он хочет с ним говорить, пусть приходит к нему, но что один из его подчиненных, которого он также знал и который был ему родственником, велел ему сказать не ходить туда, потому что, если он туда придет, капитан велит его арестовать и тем выслужится на его счет, чем он хвастался с глазу на глаз.
Поэтому Шкурин перестал посылать капитану, своему мнимому другу. Зато Колышкин, за которого я приказала приняться от моего имени, сказал Бернарди все, что желали; да он и должен был говорить только одну правду, на что и тот и другой охотно пошли.
Через несколько дней, однажды утром очень рано Штамбке пришел в мою комнату, очень бледный, расстроенный, и сказал мне, что его переписка и переписка графа Понятовского с графом Бестужевым была открыта; что маленький трубач-охотник арестован и что по всему видно, что их последние письма имели несчастие попасть в руки карауливших графа Бестужева, что он сам ожидает ежеминутно быть, по крайней мере, высланным, если не арестованным, и что он пришел ко мне, чтобы мне это сказать и проститься со мною. То, что он мне сказал, не ободрило меня; я утешала его, как могла, и отправила, не подозревая, что его визит ко мне только увеличит, если это было возможно, всяческие неудовольствия против меня, и что меня будут избегать, как лицо, может быть, подозрительное для правительства.
Однако я была глубоко убеждена в душе, что против правительства я ни в чем не могла себя упрекать. Общество вообще, за исключением Михаила Воронцова и Ивана Шувалова и двух послов, венского и версальского, и тех, которых они могли в чем угодно уверить, все во всем Петербурге – от мала до велика – были убеждены, что граф Бестужев невинен, что над ним не тяготело ни злодеяние, ни преступление; знали, что на следующий день после вечера, когда он был арестован, в комнате Ивана Шувалова работали над манифестом; что Волков[117], который был прежде старшим чиновником графа Бестужева и который убежал от него в 1755 году, а потом, побродив по лесам, снова дал себя схватить и который в настоящую минуту был старшим секретарем конференции, должен был написать этот акт; его хотели напечатать, чтобы ознакомить общество с причинами, которые принудили императрицу поступить с великим канцлером графом Бестужевым так, как она сделала.
И вот это тайное совещание, ломая себе голову в поисках за преступлениями, согласилось сказать, что Бестужев был так наказан за преступление в оскорблении Ее Величества и за то, что он, Бестужев, старался посеять раздор между Ее Императорским Величеством и Их Императорскими Высочествами.
Без расследования и суда хотели на следующий же день после ареста отправить его в одно из его имений, отняв у него все остальные земли. Но нашлись такие, которые сказали, что было уже слишком ссылать кого-либо без вины и суда, и что по крайней мере надо поискать преступлений в надежде их найти; и что, найдут ли их, или нет, но надо было подвергнуть арестанта, лишенного неизвестно за что его должностей, чинов и орденов, суду следователей.
А этими следователями были, как я уже говорила, фельдмаршал Бутурлин, генерал-прокурор князь Трубецкой, генерал, граф Александр Шувалов и Волков, в качестве секретаря. Первое, что господа следователи сделали, – это то, что предписали через Коллегию иностранных дел послам, посланникам и русским чиновникам при иностранных дворах прислать копии депеш, которые им писал граф Бестужев с тех пор, как он был во главе дел. Это было сделано для того, чтобы найти преступления в его депешах. Говорили, что он писал только то, что хотел, и вещи, противоречащие приказаниям и воле императрицы.
Но так как Ее Императорское Величество ничего не писала и не подписывала, то трудно было поступать против ее приказаний; что же касается устных повелений, то Ее Императорское Величество совсем не была в состоянии давать их великому канцлеру, который годами не имел случая ее видеть; а устные повеления через третье лицо, строго говоря, могли быть плохо поняты и подвергнуться тому, что их так же плохо передадут, как плохо примут и поймут.
Но из всего этого ничего не вышло, кроме приказа, о котором я упоминала, потому что, я думаю, что никто из чиновников не дал себе труда просмотреть свой архив за двадцать лет и переписать его, чтобы выискать преступления того, инструкциям и указаниям коего эти самые чиновники следовали, и таким образом могли оказаться замешанными, при всем их усердии, в том, что могли бы найти в них предосудительного.
Кроме того, одна пересылка таких архивов должна была ввести казну в значительные расходы, и по прибытии их в Петербург было бы, чем истощить терпение, в течение нескольких лет, многих лиц, чтобы найти и откопать в них то, что в них, может быть, вовсе и не было. Отправленный приказ никогда не был исполнен.
Само дело надоело, и его закончили через год манифестом, который начали сочинять на следующий день после того, как великий канцлер был арестован. После обеда в тот день, когда Штамбке приходил ко мне, императрица велела сказать великому князю, чтобы он отослал Штамбке в Голштинию, потому что открыты его сношения с графом Бестужевым, и что он заслуживал бы быть арестованным, но что из уважения к Его Императорскому Высочеству его, как министра, оставляли на свободе, с условием, чтобы он тотчас же был выслан.
Штамбке был немедленно отправлен, и с его отъездом закончилось мое руководство голштинскими делами. Дали понять великому князю, что императрице было неугодно, чтобы я в них вмешивалась, а Его Императорское Высочество был и сам к тому довольно склонен. Я не помню хорошо, кого он взял тогда на место Штамбке, но думаю, что это был некий Вольф.
Министерство императрицы потребовало в это время формально у Польского короля отозвания графа Понятовского, записка которого к графу Бестужеву была найдена; записка, правда, очень невинная, но все-таки адресованная к мнимому государственному преступнику. Как только я узнала о высылке Штамбке и об отозвании графа Понятовского, я уже не ждала ничего хорошего, и вот что я сделала.
Я позвала моего камердинера Шкурина и велела ему собрать все мои счетоводные книги и все, что могло вообще иметь вид какой-нибудь бумаги между моими вещами, и принести их мне. Он исполнил мое приказание с усердием и в точности. Когда все было в моей комнате, я его отослала. Когда он вышел, я бросила все книги и бумаги в огонь, и, увидав их наполовину сгоревшими, я позвала снова Шкурина и сказала ему: «Смотрите, будьте свидетелем, что все мои счета и бумаги сожжены, для того чтобы, если вас когда-нибудь спросят, где они, вы могли бы поклясться, что вы видели, как я тут сама их жгла».
Он поблагодарил меня за заботу о нем и сказал мне, что произошла очень странная перемена в карауле при арестантах. Со времени открытия переписки Штамбке с графом Бестужевым заставляли строже караулить этого последнего и для этого взяли от Бернарди сержанта Колышкина и поместили его в комнате и при особе бывшего великого канцлера.
Когда Колышкин увидал это, он попросил, чтобы дали ему часть верных ему солдат, которых он имел, когда был на карауле при Бернарди. Итак, человек самый надежный и умный, какого мы со Шкуриным имели, оказался введенным в комнату графа Бестужева и не потерявшим тоже всякого сообщения с Бернарди. Тем временем допросы графа Бестужева шли своим путем; Колышкин открылся Бестужеву, как человек, вполне мне преданный, и действительно он оказал ему тысячу услуг.
Он был так же, как и я, глубоко убежден, что великий канцлер не виновен и был жертвой сильной интриги; общество было убеждено в том же. Великого князя, как я видела, напугали и внушили ему подозрения, что мне будто бы была небезызвестна переписка Штамбке с государственным узником.
Я видела, что Его Императорское Высочество не смеет почти со мною разговаривать и избегает заходить в мою комнату, где я на этот раз была одна-одинешенька, не видя ни души; я сама избегала звать к себе кого-нибудь, из страха подвергнуть их какому-нибудь несчастью или неприятности; при дворе, из боязни, чтобы не стали меня избегать, я воздерживалась подходить ко всем тем, от кого, по моему предположению, я могла бы ожидать, что это станется.
В последние дни Масленой должна была быть русская комедия в придворном театре; граф Понятовский велел меня просить прийти, потому что начинали распускать слух о том, что собираются меня отослать, мешать мне появляться, и, почем я знаю, что еще и что каждый раз, как я не появлялась на спектакле или при дворе, все были заняты тем, чтобы узнать тому причину, может быть, столько же из любопытства, сколько и из участия, которое во мне принимали.
Я знала, что русская комедия – одна из вещей, которые Его Императорское Высочество всего меньше любил, и что уже один разговор о том, чтобы туда идти, ему очень не нравился; но на этот раз великий князь присоединял к своему отвращению к национальной комедии другой мотив и маленький личный интерес, а именно: он еще не видался с графиней Елисаветой Воронцовой у себя, но так как она находилась в передней с другими фрейлинами, то там Его Императорское Высочество и вел разговоры с ней или играл с ней в карты.
Если я отправлялась в комедию, то девицы эти были принуждены следовать туда за мною, что расстраивало Его Императорское Высочество, которому не оставалось бы другого средства, как пойти напиться к себе в покои. Не принимая во внимание этих обстоятельств, так как я дала слово ехать в этот день в комедию, я велела сказать графу Александру Шувалову распорядиться насчет моих карет, ибо я намеревалась ехать в этот день в комедию.
Граф Шувалов пришел ко мне и сказал, что мое намерение ехать в русскую комедию не доставляет удовольствия великому князю. Я ему ответила, что так как я не составляю общества Его Императорского Высочества, то я думаю, что ему должно быть безразлично, буду ли я одна в моей комнате или в моей ложе на спектакле. Он ушел, помаргивая глазом, как всегда делал, когда был чем-нибудь взволнован.
Несколько времени спустя великий князь пришел в мою комнату; он был в ужасном гневе, кричал, как орел, говоря, что я нахожу удовольствие в том, чтобы нарочно бесить его, что я вздумала ехать в комедию, потому что знала, что он не любит этих спектаклей; я возразила ему, что он напрасно их не любит; он мне сказал, что запретит подать мою карету; я ему ответила, что пойду пешком, и что я не могу взять в толк, какое он находит удовольствие в том, чтобы заставлять меня умирать со скуки одну в моей комнате, где у меня только и общества, что моя собака да мой попугай.
После того, как мы долго проспорили и оба крупно поговорили, он ушел более рассерженный, чем когда-либо, а я продолжала упорствовать в своем намерении идти в комедию.
К часу спектакля я послала спросить у графа Шувалова, готовы ли кареты; он пришел ко мне и сказал, что великий князь запретил подавать мне карету; тогда я окончательно рассердилась и сказала, что пойду пешком и что если дамам и кавалерам запретят сопровождать меня, то пойду совсем одна, и что, кроме того, на письме пожалуюсь императрице и на великого князя, и на него.
Он мне сказал: «А что вы ей скажете?» – «Я ей передам, – возразила я, – как со мною обходятся, а что вы, для того чтобы доставить великому князю свидание с моими фрейлинами, поощряете его в намерении помешать мне ехать на спектакль, где я могу иметь счастье видеть Ее Императорское Величество; кроме того, я ее попрошу отослать меня к моей матери, потому что мне свыше сил наскучила роль, которую я играю; одна, брошенная в своей комнате, ненавидимая великим князем и не любимая императрицей, я желаю только отдыха и никому не хочу быть в тягость и делать несчастными тех, кто мне близок, а в особенности моих бедных слуг, из которых уже столько было сослано, потому что я им желала добра или делала добро; знайте же, что я сейчас же напишу императрице и посмотрю, как вы сами не снесете этого письма императрице».
Мой Шувалов испугался взятого мною решительного тона; он вышел, а я села писать свое письмо императрице по-русски и сделала его, насколько могла, более трогательным.
Я начала с того, что благодарила ее за все милости и благодеяния, какими она меня осыпала с моего приезда в Россию, говоря, что, к несчастию, события доказали, что я их не заслужила, потому что только навлекла на себя ненависть великого князя и явную немилость Ее Императорского Величества; что, видя свое несчастие и то, что я сохну со скуки в моей комнате, где меня лишают даже самого невинного времяпрепровождения, я ее убедительно прошу положить конец моим несчастиям, отослав меня к моим родным таким способом, какой она найдет подходящим, что так как я не вижу своих детей, хотя и живу с ними в одном доме, то для меня становится безразличным, быть ли в том же месте, где и они, или в нескольких стах верст от них; что я знаю, что она окружает их заботами, которые превосходят те, какие мои слабые способности позволили бы мне им оказывать, что я осмеливаюсь просить ее продолжать их и что в этом уповании я проведу остаток дней у моих родных, молясь Богу за нее, за великого князя, за детей и за всех тех, кто мне сделал добро или зло, но что мое здоровье доведено горем до такого состояния, что я должна сделать все возможное, чтобы, по крайней мере, спасти свою жизнь, и что для этого я обращаюсь к ней с просьбой позволить мне поехать на воды, а оттуда – к моим родным.
Написав это письмо, я велела позвать графа Шувалова, который, входя, сказал мне, что требуемые мною кареты готовы; я ему сказала, вручая мое письмо императрице, что он может передать дамам и кавалерам, которые не желали бы ехать со мною в комедию, что я их освобождаю от обязанности сопровождать меня. Граф Шувалов, помаргивая глазом, принял мое письмо; но, так как оно было адресовано императрице, он был вынужден его взять.
Он также передал мои слова фрейлинам и кавалерам, и Его Императорское Высочество сам решил, кому ехать со мной и кому остаться с ним.
Я прошла через переднюю, где нашла Его Императорское Высочество, усевшегося в уголке с графиней Елисаветой Воронцовой и занятого игрою в карты с ней. Он встал, и она также, когда меня увидел, чего он обыкновенно не делал; на эту церемонию я ответила очень глубоким реверансом и прошла своею дорогой.
Я отправилась в комедию, куда императрица не приехала в этот день; думаю, что ей помешало мое письмо. По возвращении с комедии граф Шувалов сказал мне, что Ее Императорское Величество велела передать мне, что сама поговорит со мною.
По-видимому, граф Шувалов доложил и о моем письме, и об ответе императрицы великому князю, потому что, хотя он с того дня больше ни ногой не ступил в мою комнату, однако он сделал все, что мог, чтобы присутствовать при объяснении, которое императрица должна была иметь со мною, и не сочли возможным отказать ему в этом.
Пока это происходило, я спокойно сидела в своих комнатах.
Я была глубоко убеждена, что если и имели намерение отослать меня или желание меня этим запугать, то только что сделанный мною шаг совершенно расстраивал этот проект Шуваловых, который, впрочем, должен был встретить всего больше сопротивления в уме самой императрицы, вовсе не склонной к такого рода крайним мерам; кроме того, она еще помнила о старинных раздорах в своей семье и, конечно, не желала бы видеть повторение их в ее время; против меня мог быть только один пункт, заключавшийся в том, что ее племянничек не казался мне достойнейшим любви среди мужчин, точно так же как и я не казалась ему достойнейшей любви среди женщин.
Насчет своего племянника императрица была совершенно того же мнения, что и я; она так хорошо его знала, что уже много лет не могла пробыть с ним нигде и четверти часа, чтобы не почувствовать отвращения, гнева или огорчения, и, когда дело его касалось, она в своей комнате не иначе говорила о нем, как заливаясь горькими слезами над несчастием иметь такого наследника или же проявляя свое к нему презрение и часто называя его именами, которых он более чем заслуживал.
Доказательства этому были у меня в руках, так как я нашла между ее бумагами две собственноручные записки императрицы, не знаю, к кому именно, но из которых одна, по-видимому, адресована была Ивану Шувалову, а другая – графу Разумовскому, где она проклинала своего племянника и посылала его к черту.
В одной из них было такое выражение: «Проклятый мой племянник сегодня так мне досадил, как нельзя более»; а в другой она говорила: «Племянник мой урод, черт его возьми». Впрочем, решение мое было принято, и я смотрела на мою высылку или невысылку очень философски; я нашлась бы в любом положении, в которое Провидению угодно было бы меня поставить, и тогда не была бы лишена помощи, которую дают ум и талант каждому по мере его природных способностей; я чувствовала в себе мужество подыматься и спускаться, но так, чтобы мое сердце и душа при этом не превозносились и не возгордились, или, в обратном направлении, не испытали ни падения, ни унижения.
Я знала, что я человек и тем самым существо ограниченное и неспособное к совершенству; мои намерения были всегда честны и чисты; если я с самого начала поняла, что любить мужа, который не был достоин любви и вовсе не старался ее заслужить, вещь трудная, если не невозможная, то, по крайней мере, я оказала ему и его интересам самую искреннюю привязанность, какую друг и даже слуга может оказать своему другу или господину; мои советы были всегда самыми лучшими, какие я могла придумать для его блага; если он им не следовал, не я была в том виновата, а его собственный рассудок, который не был ни здрав, ни трезв.
Когда я приехала в Россию и затем в первые годы нашей брачной жизни, сердце мое было бы открыто великому князю: стоило лишь ему пожелать хоть немного сносно обращаться со мною; вполне естественно, что, когда я увидела, что из всех возможных предметов его внимания я была тем, которому Его Императорское Высочество оказывал его меньше всего, именно потому, что я была его женой, я не нашла этого положения ни приятным, ни по вкусу, и оно мне надоедало и, может быть, огорчало меня. Это последнее чувство, чувство горя, я подавляла в себе гораздо сильнее, чем все остальные; природная гордость моей души и ее закал делали для меня невыносимой мысль, что я могу быть несчастна.
Я говорила себе: «Счастие и несчастие – в сердце и в душе каждого человека. Если ты переживаешь несчастие, становись выше его и сделай так, чтобы твое счастие не зависело ни от какого события». С таким-то душевным складом я родилась, будучи при этом одарена очень большой чувствительностью и внешностью по меньшей мере очень интересною, которая без помощи искусственных средств и прикрас нравилась с первого же взгляда; ум мой по природе был настолько примирительного свойства, что никогда никто не мог пробыть со мною и четверти часа, чтобы не почувствовать себя в разговоре непринужденным и не беседовать со мною так, как будто он уже давно со мною знаком.
По природе снисходительная, я без труда привлекала к себе доверие всех, имевших со мною дело, потому что всякий чувствовал, что побуждениями, которым я охотнее всего следовала, были самая строгая честность и добрая воля.
Я осмелюсь утверждать относительно себя, если только мне будет позволено употребить это выражение, что я была честным и благородным рыцарем, с умом несравненно более мужским, нежели женским; но в то же время внешним образом я ничем не походила на мужчину; в соединении с мужским умом и характером во мне находили все приятные качества женщины, достойной любви; да простят мне это выражение, во имя искренности признания, к которому побуждает меня мое самолюбие, не прикрываясь ложной скромностью.
Впрочем, это сочинение должно само по себе доказать то, что я говорю о своем уме, сердце и характере.
Я только что сказала о том, что я нравилась, следовательно, половина пути к искушению была уже налицо, и в подобном случае от сущности человеческой природы зависит, чтобы не было недостатка и в другой, ибо искушать и быть искушаемым очень близко одно к другому, и, несмотря на самые лучшие правила морали, запечатленные в голове, когда в них вмешивается чувствительность, как только она проявится, оказываешься уже бесконечно дальше, чем думаешь, и я еще до сих пор не знаю, как можно помешать этому случиться.
Возвращаюсь к моему рассказу. На следующий день после этой комедии я сказалась больной и не вышла, спокойно ожидая решения Ее Императорского Величества на свою смиренную просьбу. Только на первой неделе Поста я нашла нужным говеть, для того чтобы видели мою приверженность к православной вере.
На второй или на третьей неделе меня постигло новое жгучее горе. Встав однажды утром, я была предупреждена моими людьми, что граф Александр Шувалов велел позвать Владиславову. Это мне показалось довольно странным; я с беспокойством ждала, когда она вернется, но напрасно.
Около часу дня граф Александр Шувалов пришел мне сказать, что императрица нашла нужным удалить ее от меня; я залилась слезами и ответила ему, что, конечно, Ее Императорское Величество вольна брать от меня и назначать ко мне кого ей угодно, но что мне тяжело все более и более убеждаться в том, что все близкие мне люди становятся жертвами немилости Ее Императорского Величества, и, чтобы было меньше несчастных, я молю его и заклинаю упросить Ее Императорское Величество отослать меня к моим родным, покончить поскорее с положением, до которого я доведена и в котором делаю только несчастных.
Я, кроме того, уверяла его, что Владиславова ни в коем случае не пригодна к тому, чтобы дать какое-либо разъяснение в чем бы то ни было, потому что ни она, ни кто-либо другой не пользуется моим полным доверием. Граф Шувалов хотел говорить, но, видя мои рыдания, он сам принялся плакать вместе со мною и сказал мне, что императрица сама поговорит со мною об этом; я просила его ускорить эту минуту, что он мне и обещал.
Тогда я пошла рассказать моим людям, что случилось, и сказала им, что если ко мне приставят на место Владиславовой какую-нибудь дуэнью, которая мне не понравится, то пусть она приготовится к самому дурному обращению с моей стороны, какое можно только себе представить, включая и побои, и просила их передать это кому вздумается, чтобы отбить у всех тех, кого захотят назначить ко мне, охоту и готовность принять это место, так как я устала страдать и вижу, что моя кротость и терпение ни к чему не ведут, а только все более и более вредят всему, что меня касается; вследствие этого я намерена совершенно переменить свое поведение.
Мои люди не преминули пересказать то, что я хотела; вечером того дня, в который я много плакала и очень мало ела, когда я ходила взад и вперед по комнате, достаточно взволнованная и телом и душой, я увидела, что в мою комнату, где я, как всегда, была в полном одиночестве, вошла одна из моих камер-юнгфер, Екатерина Ивановна Шаргородская.
Она плача и с большим чувством сказала мне: «Мы все боимся, как бы вы не изнемогли от того состояния, в каком мы вас видим; позвольте мне пойти сегодня к моему дяде, духовнику императрицы и вашему; я с ним поговорю, передам ему все, что вы мне прикажете, и обещаю вам, что он сумеет так поговорить с императрицей, что вы этим будете довольны».
Видя ее доброе расположение, я ей рассказала по всей правде о положении вещей, о том, что я написала императрице, и обо всем остальном. Она пошла к своему дяде и, поговорив с ним и расположив его в мою пользу, вернулась около 11 часов сказать мне, что ее дядя, духовник, советует мне сказаться больной в эту ночь и просить, чтобы меня исповедали, а для этого велеть позвать его, дабы он мог передать императрице все, что он услышит из собственных моих уст.
Я вполне одобрила эту мысль, обещала привести ее в исполнение и отослала ее, благодаря ее и ее дядю за привязанность, которую они мне выказали. Буквально, я между двумя и тремя часами утра позвонила; одна из моих женщин вошла; я ей сказала, что я так плохо себя чувствую, что хочу исповедоваться.
Вместо духовника прибежал ко мне граф Александр Шувалов, которому я слабым и прерывающимся голосом повторила свою просьбу позвать моего духовника. Он послал за докторами; им я сказала, что мне нужна духовная помощь, что я задыхаюсь; один пощупал мне пульс и сказал, что он слаб; я говорила, что душа моя в опасности, а что моему телу врачи больше не нужны.
Наконец, духовник пришел, и нас оставили одних. Я усадила его рядом со своей постелью, и мы по крайней мере полтора часа проговорили с ним.
Я ему подробно рассказала о прошедшем и настоящем положении вещей, о поведении великого князя по отношению ко мне и о моем – по отношению к Его Императорскому Высочеству, о ненависти Шуваловых и как они навлекают на меня немилость Ее Императорского Величества, наконец, о постоянных ссылках или увольнениях нескольких моих людей, и в особенности тех, которые больше всего ко мне привязывались, и о положении вещей в настоящее время вследствие всего происшедшего, положении, заставившем меня написать императрице письмо с просьбою отослать меня.
Я его просила доставить мне скорей ответ на мою просьбу.
Я нашла его исполненным доброжелательства по отношению ко мне и менее глупым, чем о нем говорили. Он сказал мне, что мое письмо производит и произведет желанное впечатление, что я должна настаивать на том, чтоб меня отослали, и что, наверное, меня не отошлют, потому что нечем будет оправдать эту ссылку в глазах общества, внимание которого обращено на меня.
Он согласился, что со мной поступают жестоко, и что императрица, избрав меня в очень нежном возрасте, оставила меня на произвол моих врагов, и что она гораздо лучше сделала бы, если бы прогнала моих соперниц, а особенно Елисавету Воронцову, и сдерживала своих фаворитов, ставших пиявками народа при помощи всех монополий, которые гг. Шуваловы изобретают каждый день и которые, кроме того, заставляют всех громко роптать на несправедливость; доказательство тому – дело графа Бестужева, в невинности которого все общество убеждено.
Он закончил эту беседу, сказав, что сейчас же отправится к императрице, будет дожидаться ее пробуждения, чтобы с нею поговорить и ускорить разговор, который она мне обещала и который должен иметь решающее значение, и что я хорошо сделаю, если останусь в постели; он обещал сказать [императрице], что горе и страдание могут меня убить, если не прибегнуть к немедленным средствам помощи и не вывести меня так или иначе из состояния полного одиночества и заброшенности, в котором я нахожусь.
Он сдержал слово и представил императрице мое состояние в таких убедительных и сильных красках, что Ее Императорское Величество позвала графа Александра Шувалова и приказала ему узнать, буду ли я в состоянии прийти поговорить с ней в следующую ночь. Граф Шувалов пришел мне это передать; я сказала ему, что ввиду этого соберу весь остаток моих сил.
Когда я к вечеру вставала с постели, Александр Шувалов пришел мне сказать, что после полуночи он придет за мною, чтобы сопровождать меня в покои императрицы. Духовник через свою племянницу также велел мне передать, что дела принимают довольно хороший оборот и что императрица будет говорить со мною в тот же вечер. Итак, я оделась к десяти часам вечера, легла совсем одетая на канапе и заснула.
Около половины второго ночи граф Александр Шувалов вошел в мою комнату и сказал мне, что императрица требует меня к себе. Я встала и пошла за ним: мы прошли через передние, где никого не было. Подходя к двери в галерею, я увидела, что великий князь прошел в противоположную дверь, направляясь, как и я, к Ее Императорскому Величеству.
Со дня комедии я его не видела; даже когда я сказалась больной с опасностью жизни, он не пришел ко мне и не прислал спросить, как я себя чувствую. Я после того узнала, что в этот самый день он обещал Елисавете Воронцовой жениться на ней, если я умру, и что оба очень радовались моему состоянию.
Наконец, дойдя до покоев Ее Императорского Величества, где застала великого князя, как только я увидела императрицу, я бросилась перед ней на колени и стала со слезами и очень настойчиво просить ее отослать меня к моим родным. Императрица захотела поднять меня, но я оставалась у ее ног. Она показалась мне более печальной, нежели гневной, и сказала мне со слезами на глазах: «Как, вы хотите, чтобы я вас отослала? Не забудьте, что у вас есть дети».
Я ей ответила: «Мои дети в ваших руках, и лучше этого ничего для них не может быть; я надеюсь, что вы их не покинете». Тогда она мне возразила: «Но как объяснить обществу причину этой отсылки?» Я ответила: «Ваше Императорское Величество скажете, если найдете нужным, о причинах, по которым я навлекла на себя вашу немилость и ненависть великого князя».
Императрица мне сказала: «Чем же вы будете жить у ваших родных?» Я ответила: «Тем, чем жила прежде, до того, как вы удостоили взять меня». Она мне на это возразила: «Ваша мать находится в бегах, она была вынуждена покинуть свою родину и уехала в Париж». На это я сказала: «Я это знаю, ее считают слишком преданной интересам России, и король Прусский стал ее преследовать».
Императрица вторично велела мне встать, что я и сделала, и немного отошла от меня в задумчивости. Комната, в которой мы находились, была длинная и имела три окна, между которыми стояли два стола с золотыми туалетными принадлежностями императрицы; в комнате были только она, великий князь, Александр Шувалов и я; против окон стояли широкие ширмы, перед которыми поставили канапе.
Я заподозрила сначала, что за этими ширмами находится, наверное, Иван Шувалов, а может быть, также и граф Петр Шувалов, его двоюродный брат; я узнала впоследствии, что я отчасти отгадала верно и что Иван Шувалов там находился. Я стала около туалетного стола, ближайшего к двери, через которую я вошла, и заметила, что в золотом тазу на туалете лежали сложенные письма.
Императрица снова подошла ко мне и сказала: «Бог мне свидетель, как я плакала, когда при вашем приезде в Россию вы были при смерти больны, и, если бы я вас не любила, я вас не удержала бы здесь». Эти слова означали, по-моему, извинение за то, что я сказала, что подверглась ее немилости. Я на это ответила, благодаря Ее Императорское Величество за все милости и доброту, которые она мне выказала и тогда и теперь, говоря, что воспоминание о них никогда не изгладится из моей памяти и что я всегда буду смотреть, как на величайшее несчастье, на то, что подверглась ее немилости.
Тогда она подошла ко мне еще ближе и сказала мне: «Вы чрезвычайно горды. Вспомните, что в Летнем дворце я подошла к вам однажды и спросила вас, не болит ли у вас шея, потому что я увидела, что вы мне едва кланяетесь и что вы из гордости поклонились мне только кивком головы». Я ей сказала: «Боже мой, Ваше Императорское Величество, как вы можете думать, что я хотела выказать гордость перед вами?
Клянусь вам, что мне никогда в голову не приходило, что этот вопрос, сделанный вами четыре года тому назад, мог относиться к чему-либо подобному». На это она сказала: «Вы воображаете, что никого нет умнее вас». Я ей ответила: «Если бы я имела эту уверенность, ничто больше не могло бы меня в этом разуверить, как мое настоящее положение и даже этот самый разговор, потому что я вижу, что я по глупости до сих пор не поняла того, что вам угодно было мне сказать четыре года тому назад».
Великий князь, между тем как императрица разговаривала со мной, шептался с графом Александром Шуваловым. Она это заметила и пошла к ним; они оба стояли почти посреди комнаты. Я не слишком хорошо слышала, что говорилось между ними; они не очень громко говорили, а комната была большая; под конец я услышала, как великий князь сказал, повышая голос: «Она ужасно злая и очень упрямая».
Тогда я увидала, что дело шло обо мне, и, обращаясь к великому князю, сказала ему: «Если вы обо мне говорите, то я очень рада сказать вам в присутствии Ее Императорского Величества, что действительно я зла на тех, кто вам советует делать мне несправедливости, и что я стала упрямой с тех пор, как вижу, что мои угождения ни к чему другому не ведут, как к вашей ненависти».
Он стал говорить императрице: «Ваше Императорское Величество, видите сами, какая она злая, по тому, что она говорит». Но на императрицу, которая была гораздо умнее великого князя, мои слова произвели другое впечатление.
Я ясно видела, что, по мере того как разговор подвигается, хотя ей и присоветовали или она сама приняла решение выказывать мне строгость, ее настроение смягчалось постепенно, помимо ее решений. Она обратилась, однако, к нему и сказала: «О, вы не знаете всего, что она мне сказала о ваших советчиках и против Брокдорфа по поводу человека, которого вы велели арестовать».
Это должно было показаться великому князю форменной изменой с моей стороны; он не знал ни слова о моем разговоре с императрицей в Летнем дворце и увидел, что его Брокдорф, который стал ему так мил и дорог, обвинен в глазах императрицы, да еще мною; это значило больше, чем когда-либо, нас поссорить и, может быть, сделать нас непримиримыми и лишить меня навсегда доверия великого князя.
Я почти остолбенела, услышав, как императрица рассказывает в моем присутствии то, что я ей сказала и думала сказать для блага ее племянника, и как она обращает это в смертоносное оружие против меня.
Великий князь, очень удивленный этим сообщением, сказал: «А, вот так анекдот, которого я не знал; он хорош и доказывает ее злость». Я думала про себя: «Бог знает, чью злость он доказывает». От Брокдорфа императрица неожиданно перескочила к сношениям между Штамбке и графом Бестужевым, которые были открыты, и сказала мне: «Сами посудите, как можно его извинить за то, что он имеет сношения с государственным узником».
Так как в этом деле мое имя не появлялось и о нем не упоминалось, я промолчала, принимая это за слова, ко мне не относящиеся. Здесь императрица подошла ко мне и сказала: «Вы вмешиваетесь во многие вещи, которые вас не касаются; я не посмела бы делать того же во времена императрицы Анны. Как, например, вы посмели посылать приказания фельдмаршалу Апраксину?» Я ей ответила: «Я! Никогда мне и в голову не приходило посылать ему приказания». – «Как, – сказала она, – вы можете отрицать, что ему писали? Ваши письма тут, в этом тазу».
Она показала мне на них пальцем: «Вам запрещено писать». Тогда я ей сказала: «Правда, что я нарушила запрет, и прошу в этом прощения, но так как мои письма тут, то эти три письма могут доказать Вашему Императорскому Величеству, что я никогда не посылала ему приказаний, но что в одном из них я писала, что говорят об его поведении». Здесь она меня прервала и спросила: «А почему вы это ему писали?»
Я ей ответила: «Просто потому, что я принимала участие в фельдмаршале, которого очень любила; я просила его следовать вашим приказаниям; остальные два письма содержат только одно поздравление с рождением сына, а другое – пожелания на Новый год». На это она мне сказала: «Бестужев говорит, что было много других».
Я ответила: «Если Бестужев это говорит, то он лжет». – «Ну так, – сказала она, – если он лжет на вас, я велю его пытать». Она думала этим напугать меня; я ей ответила, что в ее полной власти делать то, что она находит нужным, но что я все-таки написала Апраксину только эти три письма. Она замолчала и, казалось, соображала. Я привожу самые резкие черты этого разговора, которые остались у меня в памяти, но я не могу вспомнить всего, что говорилось в течение полутора часов, пока он продолжался.
Императрица ходила взад и вперед по комнате, то обращаясь ко мне, то к своему племянничку, а еще чаще – к графу Александру Шувалову, с которым великий князь большею частью говорил, между тем как императрица говорила со мною. Я уже сказала, что заметила в Ее Императорском Величестве меньше гнева, чем озабоченности.
Что же касается великого князя, то он проявил во время этого разговора много желчи, неприязни и даже раздражения против меня; он старался, как только мог, раздражить императрицу против меня; но так как он принялся за это глупо и проявил больше горячности, нежели справедливости, то он не достиг своей цели, и ум и проницательность императрицы стали на мою сторону.
Она слушала с особенным вниманием и некоторого рода невольным одобрением мои твердые и уверенные ответы на выходившие из границ речи моего супруга, по которым было ясно как день, что он стремится к тому, чтобы очистить мое место, дабы поставить на него, если это возможно, свою настоящую любовницу.
Но это могло быть не по вкусу императрице и даже, может быть, не в расчетах господ Шуваловых подпасть под власть графов Воронцовых, но это соображение превышало мыслительные способности Его Императорского Высочества, который верил всегда всему, чего желал, и отстранял всякую мысль, противную той, какая над ним господствовала.
И он так постарался, что императрица подошла ко мне и сказала мне вполголоса: «Мне надо будет многое вам еще сказать; но я не могу говорить, потому что не хочу вас ссорить еще больше», а глазами и головой она мне показала, что это было из-за присутствия остальных.
Я, видя этот знак задушевного доброжелательства, который она мне давала в таком критическом положении, была сердечно тронута и сказала ей также очень тихо: «И я также не могу говорить, хотя мне чрезвычайно хочется открыть вам свое сердце и душу». Я увидела, что то, что я ей сказала, произвело на нее очень сильное и благоприятное впечатление.
У нее показались на глазах слезы, и, чтобы скрыть, что она взволнована и до какой степени, она нас отпустила, говоря, что очень поздно, и, действительно, было около трех часов утра. Великий князь вышел первым, я последовала за ним; в ту минуту граф Александр Шувалов хотел пройти в дверь за мною, императрица позвала его, и он остался у нее. Великий князь ходил всегда очень большими шагами, я не спешила на этот раз идти за ним; он вернулся в свои покои, я – в свои.
Я начала раздеваться, чтобы ложиться, когда услышала стук в дверь, через которую я вернулась. Я спросила, кто там. Граф Александр Шувалов сказал мне, что это он и просит ему открыть, что я сделала. Он сказал, чтобы я удалила моих женщин; они вышли, тогда он мне сообщил, что императрица позвала его и, поговорив с ним некоторое время, поручила ему передать мне свой поклон и просить меня не огорчаться, и что у нее будет второй разговор со мною одной.
Я низко поклонилась графу Шувалову и сказала, чтобы он передал Ее Императорскому Величеству мое глубочайшее почтение и поблагодарил ее за ее доброту ко мне, которая возвращает меня к жизни, что я буду ждать этого второго разговора с живейшим нетерпением и что я прошу его ускорить эту минуту. Он мне сказал, чтобы я не говорила об этом ни единой душе, и именно великому князю, и что императрица с сожалением видит, что он так раздражен против меня.
Я обещала. Я думала: если недовольны тем, что он раздражен против меня, то к чему сердить его еще больше, рассказывая ему разговор в Летнем дворце по поводу людей, которые его развращали. Однако этот неожиданный возврат задушевности и доверия императрицы доставил мне большое удовольствие.
На следующий день я просила племянницу духовника поблагодарить ее дядю за отменную услугу, которую он мне только что оказал, устроив мне этот разговор с императрицей. Она вернулась от своего дяди и сообщила мне, что духовник знает, что императрица сказала о своем племяннике, что он дурак, но что великая княгиня очень умна.
Эти слова дошли до меня с нескольких сторон, и говорили, что Ее Императорское Величество то и дело хвалит своим близким мои способности, прибавляя часто: «Она любит правду и справедливость; это очень умная женщина, но мой племянник – дурак».
Я заперлась в моих покоях, как и прежде, под предлогом нездоровья. Я помню, что тогда читала пять первых томов «Истории путешествий» с картой на столе, что меня развлекало и обогащало знаниями. Когда я уставала от этого чтения, перелистывала первые тома Энциклопедии[118]; и я ждала дня, когда Ее Императорскому Величеству угодно будет допустить меня до вторичного разговора. Время от времени я возобновляла просьбу об этом графу Шувалову, говоря ему, что мне очень бы хотелось, чтобы судьба моя была наконец решена.
Что касается великого князя, то я не слышала больше о нем никакого разговора; я знала только, что он ждет с нетерпением моей отсылки и что он наверное рассчитывает жениться вторым браком на Елисавете Воронцовой: она приходила уже в его покои и разыгрывала хозяйку.
По-видимому, ее дядя, вице-канцлер граф Воронцов, который был лицемером, каких свет не производил, узнал планы своего брата, может быть, вернее – своих племянников[119], которые были тогда еще детьми, так как самому старшему было всего двадцать лет или около того, и боялся, чтобы его только что усилившееся влияние не пострадало у императрицы, а потому добился поручения отговорить меня от моей просьбы об отсылке, ибо вот что случилось.
В одно прекрасное утро пришли мне доложить, что вице-канцлер граф Михаил Воронцов просит разрешения поговорить со мною от имени императрицы. Очень удивленная этим необычайным посольством и хотя еще не одетая, я приняла господина вице-канцлера. Он начал с того, что поцеловал мне руку и пожал ее с большим чувством, затем вытер себе глаза, с которых скатилось несколько слез.
Так как я тогда была немного предубеждена против него, то я без большого доверия отнеслась к этому предисловию, которое должно было выказать его усердие, но не мешала ему делать то, на что смотрела, как на кривлянье. Я просила его сесть; он был немного запыхавшись, что происходило оттого, что у него было нечто вроде зоба, которым он страдал.
Он сел со мною и сказал мне, что императрица поручила ему поговорить со мною и убедить меня не настаивать на моей отсылке, что Ее Императорское Величество приказала ему даже просить меня со своей стороны отказаться от этой мысли, на которую она никогда не согласится, и что он лично просит меня и заклинает дать ему слово больше никогда об этом не говорить; что этот план поистине огорчает императрицу и всех порядочных людей, к числу которых, как он заверял меня, он принадлежит.
Я ему ответила, что нет ничего, чего бы я охотно не сделала, чтобы угодить Ее Императорскому Величеству и порядочным людям, но что я думаю, что моя жизнь и здоровье в опасности от того образа жизни, которому я подвергаюсь; что я делаю только несчастных, что постоянно ссылают и отсылают всех, кто ко мне приближается; что великого князя ожесточают против меня до ненависти; что он, впрочем, никогда меня не любил; что Ее Императорское Величество тоже оказывает почти постоянно знаки своей немилости, и что, видя, что я в тягость всем, и умирая сама со скуки и горя, я просила отослать меня, для того чтобы освободить всех от особы, которая всем в тягость и сама погибает от горя и скуки.
Он стал говорить мне о моих детях; я ему сказала, что их не вижу и что с тех пор, как брала молитву, я еще не видела моей младшей [т. е. дочери] и не могла их видеть без особого разрешения императрицы, в двух комнатах от которой они были помещены, так как их комнаты составляют часть ее покоев; что я отнюдь не сомневаюсь, что она очень о них заботится, но что, будучи лишенной удовольствия их видеть, мне безразлично: быть в ста шагах или в ста верстах от них.
Он мне сказал, что у императрицы будет второй разговор со мною, и прибавил, что было бы очень желательно, чтобы императрица сблизилась со мной. Я ему ответила, прося ускорить этот второй разговор, что я, со своей стороны, не упущу ничего, что могло бы облегчить исполнение ее желания.
Он оставался у меня больше часу и говорил долго и о множестве вещей.
Я заметила, что повышение его влияния придало его разговору и манере держаться какую-то заносчивость, которой не было у него прежде, когда я его видела наряду со множеством других людей, и, когда он, недовольный императрицей, делами и теми, которые пользуются милостью и доверием Ее Императорского Величества, он мне сказал однажды при дворе, видя, что императрица очень долго разговаривает с послом императрицы-королевы Венгрии и Богемии, между тем как он и я и все до смерти устали стоять: «Хотите побиться об заклад, что она только мелет вздор».
Я ответила ему, смеясь: «Боже мой, что вы такое говорите!» Он мне возразил по-русски следующими очень характерными словами: «Она от природы фадайзница»[120].
Наконец он ушел, уверяя меня в своем усердии, и простился со мною, поцеловав мне снова руку. На этот раз я должна была быть уверенной, что меня не отошлют, так как меня просили даже не говорить об этом. Но я находила нужным не выходить и продолжать оставаться у себя в комнате, как будто я ждала решения моей судьбы только от второго разговора, который я должна была иметь с императрицей.
Этого разговора я ждала долго. Помню, что 21 апреля, в день моего рождения, я не вышла. Императрица велела мне сказать в час своего обеда через Александра Шувалова, что она пьет за мое здоровье; я велела ее благодарить за то, что ей угодно было вспомнить обо мне в этот день, как я говорила, моего несчастного рождения, который я проклинала бы, если бы не получила в тот же день святого крещения.
Когда великий князь узнал, что императрица посылала ко мне в этот день с таким поручением, он вздумал прислать сказать мне то же самое; когда пришли передать мне его приветствие, я встала и с очень глубоким реверансом выговорила мою благодарность. После праздников по случаю дня моего рождения и коронования императрицы, между которыми был промежуток в четыре дня, я все еще не выходила из своей комнаты, пока граф Понятовский не довел до моего сведения, что французский посол маркиз де Лопиталь очень хвалит меня за мое твердое поведение и говорит, что это решение не выходить из моих покоев может обратиться только в мою пользу.
Тогда, принимая эти слова за коварную похвалу врага, я решила делать обратное тому, что он хвалит, и в одно воскресенье, когда этого менее всего ожидали, я оделась и вышла из моих внутренних покоев. В ту минуту, когда я выходила в комнату, где находились дамы и кавалеры, я заметила их удивление и изумление при виде меня; через несколько минут после моего появления пришел великий князь; я видела и его удивление, написанное на его лице, и так как я разговаривала со всей компанией, то он вмешался в разговор и обратился ко мне с несколькими словами, на которые я вежливо ответила.
В это время (17 апреля) принц Карл Саксонский вторично приехал в Петербург. Великий князь довольно пренебрежительно принял его, когда он был впервые в России; но на этот раз великий князь считал себя вправе не соблюдать с ним никаких границ, и вот почему. В русской армии не было секретом, что при Цорндорфском сражении принц Карл Саксонский бежал одним из первых.
Говорили даже, что он продолжал это бегство безостановочно до Ландсберга; а Его Императорское Высочество, услышав это, решил, что так как принц Саксонский отъявленный трус, то он не будет с ним говорить, и не хотел иметь с ним дела.
Этому, по-видимому, немало содействовала принцесса Курляндская, дочь Бирона, о которой я часто имела случай говорить; тогда начинали потихоньку говорить, что был план сделать герцогом Курляндии принца Карла Саксонского, и это очень раздражало принцессу Курляндскую, отца которой все еще держали в Ярославле.
Она сообщила свою злобу великому князю, на которого она сохранила некоторого рода влияние. Эта принцесса была тогда в третий раз невестой барона Александра Черкасова[121], за которого действительно вышла замуж в следующую зиму.
Наконец, за несколько дней перед тем, как ехать в деревню, граф Александр Шувалов пришел мне сказать от имени императрицы, что я должна просить через него императрицу [о разрешении] навестить сегодня днем моих детей, и что тогда, по выходе от них, у меня будет второе свидание с императрицей, столь давно обещанное. Я сделала, что мне велели, и в присутствии многих лиц я сказала графу Шувалову, чтоб он испросил мне у Ее Императорского Величества разрешение видеть моих детей.
Он ушел и когда вернулся, то сказал мне, что я могу пойти к детям в три часа. Я очень аккуратно туда отправилась; я оставалась у своих детей до тех пор, пока граф Александр Шувалов не пришел сказать мне, что императрицу можно видеть. Я пошла к ней; я застала ее совсем одну, и на этот раз в комнате не было ширм; следовательно, и она и я, мы могли говорить на свободе.
Я начала с того, что поблагодарила ее за это свидание, на которое она соизволила, сказав, что уже одно очень милостивое обещание, которое ей было угодно сделать, возвратило меня к жизни. На это она мне сказала: «Я требую, чтоб вы мне сказали правду на все, что я у вас спрошу».
Я ответила ей, чтобы ее уверить, что она услышит из моих уст только сущую правду и что я ничего не желаю лучшего, как открыть ей свое сердце безо всякой утайки. Тогда она меня снова спросила, действительно ли было только три письма, написанных Апраксину; я ей поклялась в этом с величайшей искренностью, как это и было на самом деле. Затем она стала у меня расспрашивать подробности об образе жизни великого князя[122]…
ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА
Графу Станиславу Августу Понятовскому[123]
2 августа 1762 г.Я отправлю немедленно графа Кейзерлинга [русского посланника в Варшаве] послом в Польшу, чтобы сделать вас королем, по кончине теперешнего, и, если ему не удастся это по отношению к вам, я желаю, чтобы им стал князь Адам[124].
Все умы еще в брожении. Я вас прошу воздержаться от поездки сюда, из страха усилить его. Уже шесть месяцев, как замышлялось мое восшествие на престол. Петр III потерял ту незначительную долю рассудка, какую имел. Он во всем шел напролом; он хотел сломить гвардию, для этого он вел ее в поход; он заменил бы ее своими голштинскими войсками, которые должны были оставаться в городе.
Он хотел переменить веру, жениться на Л. В. [Елисавете Воронцовой], а меня заключить в тюрьму. В день празднования мира, нанеся мне публично оскорбления за столом, он приказал вечером арестовать меня. Мой дядя, принц Георг[125], заставил отменить этот приказ.
С этого дня я стала вслушиваться в предложения, которые делались мне со времени смерти императрицы. План состоял в том, чтобы схватить его в его комнате и заключить, как принцессу Анну и ее детей. Он уехал в Ораниенбаум. Мы были уверены в большом числе капитанов гвардейских полков.
Узел секрета находился в руках трех братьев Орловых; Остен [датский посланник в России] вспомнил, что видел старшего, следовавшего всюду за мною и делавшего тысячу безумств. Его страсть ко мне была всем известна, и все им делалось с этой целью. Это – люди необычайно решительные и, служа в гвардии, очень любимые большинством солдат. Я очень многим обязана этим людям; весь Петербург тому свидетель.
Умы гвардейцев были подготовлены, и под конец в тайну было посвящено от 30 до 40 офицеров и около 10 000 солдат. Не нашлось ни одного предателя в течение трех недель, так как было четыре отдельные партии, начальники которых созывались на совещания, а главная тайна находилась в руках этих троих братьев; Панин хотел, чтоб это совершилось в пользу моего сына, но они ни за что не хотели согласиться на это.
Я была в Петергофе. Петр III жил и пьянствовал в Ораниенбауме. Согласились на случай предательства не ждать его возвращения, но собрать гвардейцев и провозгласить меня. Рвение ко мне вызвало то же, что произвела бы измена. В войсках 27-го распространился слух, что я арестована. Солдаты волнуются; один из наших офицеров успокаивает их. Один солдат приходит к капитану Пассеку[126], главарю одной из партий, и говорит ему, что я погибла.
Он уверяет его, что имеет обо мне известия. Солдат, все продолжая тревожиться за меня, идет к другому офицеру и говорит ему то же самое. Этот не был посвящен в тайну; испуганный тем, что офицер отослал солдата, не арестовав его, он идет к майору, а этот последний послал арестовать Пассека. И вот весь полк в движении.
В эту же ночь послали рапорт в Ораниенбаум. И вот тревога между нашими заговорщиками. Они решают прежде всего послать второго брата Орлова ко мне, чтобы привезти меня в город, а два другие идут всюду извещать, что я скоро буду. Гетман[127], Волконский [Михаил Никитич], Панин знали тайну.
Я спокойно спала в Петергофе, в 6 часов утра, 28-го. День прошел очень тревожно для меня, так как я знала все приготовления. Входит в мою комнату Алексей Орлов и говорит мне с большим спокойствием: «Пора вам вставать; все готово для того, чтобы вас провозгласить». Я спросила у него подробности; он сказал мне: «Пассек арестован».
Я не медлила более, оделась как можно скорее, не делая туалета, и села в карету, которую он подал. Другой офицер под видом лакея находился при ее дверцах; третий выехал навстречу ко мне в нескольких верстах от Петергофа. В пяти верстах от города я встретила старшего Орлова с князем Барятинским-младшим [Федором Сергеевичем]; последний уступил мне свое место в одноколке, потому что мои лошади выбились из сил, и мы отправились в Измайловский полк; там было всего двенадцать человек и один барабанщик, который забил тревогу.
Сбегаются солдаты, обнимают меня, целуют мне ноги, руки, платье, называют меня своей спасительницей.
Двое привели под руки священника с крестом; вот они начинают приносить мне присягу. Окончив ее, меня просят сесть в карету; священник с крестом идет впереди; мы отправляемся в Семеновский полк; последний вышел к нам навстречу к криками vivat. Мы поехали в Казанскую церковь, где я вышла.
Приходит Преображенский полк, крича vivat и говорят мне: «Мы просим прощения за то, что явились последними; наши офицеры задержали нас, но вот четверых из них мы приводим к вам арестованными, чтобы показать вам наше усердие. Мы желали того же, чего желали наши братья».
Приезжает конная гвардия; она была в диком восторге, которому я никогда не видела ничего подобного, плакала, кричала об освобождении отечества. Эта сцена происходила между садом гетмана и Казанской. Конная гвардия была в полном составе, во главе с офицерами.
Я знала, что дядю моего, которому Петр III дал этот полк, они страшно ненавидели, поэтому я послала к нему пеших гвардейцев, чтобы просить его оставаться дома, из боязни за его особу. Не тут-то было: его полк отрядил, чтоб его арестовать; дом его разграбили, а с ним обошлись грубо.
Я отправилась в новый Зимний дворец, где Синод и Сенат были в сборе. Тут наскоро составили манифест и присягу. Оттуда я спустилась и обошла пешком войска, которых было более 14 000 человек гвардии и полевых полков. Едва увидали меня, как поднялись радостные крики, которые повторялись бесчисленной толпой.
Я отправилась в старый Зимний дворец, чтобы принять необходимые меры и закончить дело. Там мы совещались и решили отправиться, со мною во главе, в Петергоф, где Петр III должен был обедать. По всем большим дорогам были расставлены пикеты, и время от времени к нам приводили лазутчиков.
Я послала адмирала Талызина [Ивана Лукьяновича] в Кронштадт. Прибыл канцлер Воронцов, посланный для того, чтобы упрекнуть меня за мой отъезд; его повели в церковь для принесения присяги. Приезжают князь Трубецкой [Никита Юрьевич] и граф Шувалов[Александр Иванович], также из Петергофа, чтобы удержать верность войск и убить меня; их повели приносить присягу безо всякого сопротивления.
Разослав всех наших курьеров и взяв все меры предосторожности с нашей стороны, около 10 часов вечера я оделась в гвардейский мундир и приказала объявить меня полковником – это вызвало неописуемые крики радости. Я села верхом; мы оставили лишь немного человек от каждого полка для охраны моего сына, оставшегося в городе. Таким образом, я выступила во главе войск, и мы всю ночь шли в Петергоф. Когда мы подошли к небольшому монастырю на этой дороге, является вице-канцлер Голицын [Александр Михайлович] с очень льстивым письмом от Петра III.
Я не сказала, что когда я выступила из города, ко мне явились три гвардейских солдата, посланные из Петергофа, распространять манифест среди народа, говоря: «Возьми, вот что дал нам Петр III, мы отдаем это тебе и радуемся, что могли присоединиться к нашим братьям».
За первым письмом пришло второе; его доставил генерал Михаил Измайлов, который бросился к моим ногам и сказал мне: «Считаете ли вы меня за честного человека?» Я ему сказала, что да. «Ну так, – сказал он, – приятно быть заодно с умными людьми. Император предлагает отречься. Я вам доставлю его после его совершенно добровольного отречения. Я без труда избавлю мое отечество от гражданской войны».
Я возложила на него это поручение; он отправился его исполнять. Петр III отрекся в Ораниенбауме безо всякого принуждения, окруженный 1590 голштинцами, и прибыл с Елисаветой Воронцовой, Гудовичем[128] и Измайловым в Петергоф, где, для охраны его особы, я дала ему шесть офицеров и несколько солдат. Так как это было [уже] 29-е число, день Петра и Павла, в полдень, то нужно было пообедать.
В то время как готовился обед для такой массы народу, солдаты вообразили, что Петр III был привезен князем Трубецким, фельдмаршалом, и что последний старался примирить нас друг с другом. И вот они поручают всем проходящим, и, между прочим, гетману, Орловым и нескольким другим [передать мне], что уже три часа, как они меня не видели, что они умирают со страху, как бы этот старый плут Трубецкой не обманул меня, «устроив притворное примирение между твоим мужем и тобою, как бы не погубили тебя, а одновременно и нас, но мы его в клочья разорвем».
Вот их выражения. Я пошла к Трубецкому и сказала ему: «Прошу вас, сядьте в карету, между тем как я обойду пешком эти войска».
Я ему сказала то, что происходило. Он уехал в город, сильно перепуганный, а меня приняли с неслыханными восклицаниями; после того я послала, под начальством Алексея Орлова, в сопровождении четырех офицеров и отряда смирных и избранных людей, низложенного императора за 25 верст от Петергофа, в местечко, называемое Ропша, очень уединенное и очень приятное, на то время, пока готовили хорошие и приличные комнаты в Шлиссельбурге и пока не успели расставить лошадей для него на подставу. Но Господь Бог расположил иначе.
Страх вызвал у него понос, который продолжался три дня и прошел на четвертый; он чрезмерно напился в этот день, так как имел все, что хотел, кроме свободы. (Попросил он у меня, впрочем, только свою любовницу, собаку, негра и скрипку; но, боясь произвести скандал и усилить брожение среди людей, которые его караулили, я ему послала только три последние вещи.)
Его схватил приступ геморроидальных колик вместе с приливами крови к мозгу; он был два дня в этом состоянии, за которым последовала страшная слабость, и, несмотря на усиленную помощь докторов, он испустил дух, потребовав [перед тем] лютеранского священника.
Я опасалась, не отравили ли его офицеры. Я велела его вскрыть; но вполне удостоверено, что не нашли ни малейшего следа [отравы]; он имел совершенно здоровый желудок, но умер он от воспаления в кишках и апоплексического удара. Его сердце было необычайно мало и совсем сморщено.
После его отъезда из Петергофа мне советовали отправиться прямо в город. Я предвидела, что войска будут этим встревожены. Я велела распространить об этом слух, под тем предлогом, чтобы узнать, в котором часу приблизительно, после трех утомительных дней, они были бы в состоянии двинуться в путь. Они сказали: «Около 10 часов вечера, но пусть и она пойдет с нами».
Итак, я отправилась с ними, и на полдороги я удалилась на дачу Куракина, где я бросилась, совсем одетая, в постель. Один офицер снял с меня сапоги. Я проспала два с половиной часа, и затем мы снова пустились в путь. От Екатериненгофа я опять села на лошадь, во главе Преображенского полка, впереди шел один гусарский полк, затем мой конвой, состоявший из конной гвардии; за ним следовал, непосредственно передо мною, весь мой двор. За мною шли гвардейские полки по их старшинству и три полевых полка.
В город я въехала при бесчисленных криках радости, и так ехала до Летнего дворца, где меня ждали двор, Синод, мой сын и все то, что является ко двору. Я пошла к обедне; затем отслужили молебен; потом пришли меня поздравлять. Я почти не пила, не ела и не спала с 6 часов утра в пятницу до полудня в воскресенье; вечером я легла и заснула.
В полночь, только что я заснула, капитан Пассек входит в мою комнату и будит меня, говоря: «Наши люди страшно пьяны; один гусар, находившийся в таком же состоянии, прошел перед ними и закричал им: «К оружию! 30 000 пруссаков идут, хотят отнять у нас нашу матушку». Тут они взялись за оружие и идут сюда, чтобы узнать о состоянии вашего здоровья, говоря, что три часа они не видели вас и что они пойдут спокойно домой, лишь бы увидеть, что вы благополучны. Они не слушают ни своих начальников, ни даже Орловых». И вот я снова на ногах, и, чтобы не тревожить мою дворцовую стражу, которая состояла из одного батальона, я пошла к ним и сообщила им причину, почему я выхожу в такой час. Я села в свою карету с двумя офицерами и отправилась к ним; я сказала им, что я здорова, чтоб они шли спать и дали мне также покой, что я только что легла, не спавши три ночи, и что я желаю, чтоб они слушались впредь своих офицеров.
Они ответили мне, что у них подняли тревогу с этими проклятыми пруссаками, что они все хотят умереть за меня. Я им сказала: «Ну, спасибо вам, но идите спать». На это они мне пожелали спокойной ночи и доброго здоровья, и пошли, как ягнята, домой, и все оборачивались на мою карету, уходя. На следующий день они прислали просить у меня извинения и очень сожалели, что разбудили меня, говоря: «Если каждый из нас будет хотеть постоянно видеть ее, мы повредим ее здоровью и ее делам».
Потребовалась бы целая книга, чтобы описать поведение каждого из начальствующих лиц. Орловы блистали своим искусством управлять умами, осторожною смелостью в больших и мелких подробностях, присутствием духа и авторитетом, который это поведение им доставило. У них много здравого смысла, благородного мужества.
Они патриоты до энтузиазма и очень честные люди, страстно привязанные ко мне, и друзья, какими никогда еще не был никто из братьев; их пятеро, но здесь только трое было. Капитан Пассек отличался стойкостью, которую он проявил, оставаясь двенадцать часов под арестом, тогда как солдаты отворяли ему окна и двери, дабы не вызвать тревоги до моего прибытия в его полк, и в ежеминутном ожидании, что его повезут для допроса в Ораниенбаум: об этом приказ пришел уже после меня.
Княгиня Дашкова, младшая сестра Елисаветы Воронцовой, хотя и очень желает приписать себе всю честь, так как была знакома с некоторыми из главарей, не была в чести вследствие своего родства и своего девятнадцатилетнего возраста, и не внушала никому доверия; хотя она уверяет, что все ко мне проходило через ее руки, однако все лица имели сношения со мною в течение шести месяцев прежде, чем она узнала только их имена.
Правда, она очень умна, но с большим тщеславием она соединяет взбалмошный характер и очень нелюбима нашими главарями; только ветреные люди сообщили ей о том, что знали сами, но это были лишь мелкие подробности. И. И. Шувалов, самый низкий и самый подлый из людей, говорят, написал, тем не менее, Вольтеру, что девятнадцатилетняя женщина переменила правительство этой империи; выведите, пожалуйста, из заблуждения этого великого писателя.
Приходилось скрывать от княгини пути, которыми другие сносились со мной еще за пять месяцев до того, как она что-либо узнала, а за четыре последних недели ей сообщали так мало, как только могли. Твердость характера князя Барятинского, который скрывал от своего любимого брата, адъютанта бывшего императора, эту тайну, потому что тот был бы доверенным не опасным, но бесполезным, заслуживает похвалы.
В конной гвардии один офицер, по имени Хитрово, 22-х лет, и один унтер-офицер, 17-ти, по имени Потемкин, всем руководили со сметливостью, мужеством и расторопностью.
Вот приблизительно наша история. Все делалось, признаюсь вам, под моим ближайшим руководством, и в конце я охладила пыл, потому что отъезд на дачу мешал исполнению [предприятия], а все более чем созрело за две недели до того. Когда бывший император узнал о мятеже в городе, молодые женщины, из которых он составил свою свиту, помешали ему последовать совету старого фельдмаршала Миниха[129], который советовал ему броситься в Кронштадт или удалиться с небольшим числом людей к армии, и, когда он отправился на галере в Кронштадт, город был уже в наших руках, благодаря исполнительности адмирала Талызина, приказавшего обезоружить генерала Девьера[130], который был уже там от имении императора, когда первый туда приехал.
Один портовый офицер, по собственному побуждению, пригрозил этому несчастному государю, что будет стрелять боевыми снарядами по галере. Наконец, Господь Бог привел все к концу, предопределенному Им, и все это представляется скорее чудом, чем делом, предусмотренным и заранее подготовленным, ибо совпадение стольких счастливых случайностей не может произойти без воли Божией.
Я получила ваше письмо… Правильная переписка была бы подвержена тысяче неудобств, а я должна соблюдать двадцать тысяч предосторожностей и у меня нет времени писать опасные billets-doux[131].
Я очень стеснена… Я не могу рассказать вам все это, но это правда.
Я сделаю все для вас и вашей семьи, будьте в этом твердо уверены.
Я должна соблюдать тысячу приличий и тысячу предосторожностей, и вместе с тем чувствую все бремя правления.
Знайте, что все проистекло из ненависти к иностранцам; что Петр III сам слывет за такового.
Прощайте, бывают на свете положения [очень] странные.
9 августа 1762 г.Я могу вам сказать лишь правду: я подвергаюсь тысяче опасностей, благодаря этой переписке. Ваше последнее письмо, на которое я отвечаю, чуть не было перехвачено. Меня не выпускают из виду. Я отнюдь не должна быть в подозрении; нужно идти прямо; я не могу вам писать; оставайтесь в покое. Рассказать все внутренние тайны – было бы нескромностью; наконец, я не могу.
Не мучьте вы себя; я поддержу вашу семью. Я не могу отпустить Волконского; у вас будет Кейзерлинг, который будет служить вам как нельзя лучше. Я приму во внимание все ваши указания. Впрочем, я совсем не хочу вводить вас в заблуждение; меня заставят проделать еще много странных вещей, и все это естественнейшим в мире образом.
Если я соглашусь на это, меня будут боготворить; если нет, – право, я не знаю, что тогда произойдет. Могу вам сказать, что все это лишь чрезмерная ко мне любовь их, которая начинает быть мне в тягость. Они смертельно боятся, чтобы со мною не случилось малейшего пустяка. Я не могу выйти из моей комнаты без радостных восклицаний. Одним словом, это энтузиазм, напоминающий собою энтузиазм времен Кромвеля. […]
Вольтеру[132]
Петербург, 29 декабря 1766 – 9 января 1767 г.М. г. Я только что получила ваше письмо от 22 декабря, в котором вы решительно даете мне место среди небесных светил. Я не знаю, стоят ли эти места того, чтобы их домогаться, но я, во всяком случае, нисколько не желала бы находиться в числе всего того, чему человечество поклонялось столь долго.
В самом деле, как бы ни было крошечно чувство самолюбия, но едва ли можно желать видеть себя в положении, равном с тем, которое принадлежит разным луковицам, кошкам, телятам, ослиным шкурам, быкам, змеям, крокодилам, животным всякого рода и пр., и пр. Ввиду такого перечисления благотворимых предметов, где тот человек, который решится мечтать о воздвигаемых ему храмах?
А потому, прошу вас, оставьте меня на земле; тут, по крайней мере, я буду в состоянии получать письма ваши и ваших друзей, Дидро и д’Аламбера[133], тут, по крайней мере, я могу быть свидетельницей того участия, с которым вы относитесь ко всему, что служит к просвещению нашего века.
Горе преследователям! Они вполне достойны быть сопричислены к такого рода божествам. Вот где их истинное место.
Впрочем, м. г., будьте уверены, что всякое ваше одобрение служит мне весьма сильным поощрением. […]
Москва, 15–26 марта [1767 г.]М. г. Я получила ваше письмо от 27-го февраля, в котором вы советуете мне совершить чудо, изменив климат моей страны. В былое время город, из которого я вам пишу, был весьма привычен видеть разного рода чудеса, или, вернее сказать, благодушные жители его чаще всего были согласны принимать самые обыкновенные вещи за проявление чудодейственных сил.
В предисловии к Стоглавому собору царя Ивана Васильевича я читала, что, когда царь свершил свое публичное покаяние, случилось такого рода чудо: ровно в полдень появилось солнце, и лучи его ударяли прямо на него и на головы всех собравшихся духовных лиц. Заметьте, что после открытой исповеди, сделанной громогласно, государь этот кончил тем, что стал упрекать в самых разных выражениях духовенство за его распутство, заклиная при этом весь собор непременно исправить его самого и направить на путь истинный также всех духовных его служителей.
Теперь все изменилось. Петр Великий сочинил столько разных формальностей, необходимых для констатирования какого-либо чуда, а Святейший синод следует им с такой неукоснительной точностью, что я, право, боюсь представить на его суд до вашего приезда то, что вам угодно поручить мне. Впрочем, со своей стороны, я сделаю все, что будет только в моей власти, чтобы доставить Петербургу возможность дышать лучшим воздухом.
Вот уже три года как заняты там осушением окружающих его болот посредством каналов, – срубкою сосновых лесов, густо покрывающих его каждую часть, и уже в настоящее время существуют три большие участка земли, населенные колонистами, там, где в былое время ни один человек не мог ступить ногой, не оказавшись по пояс в воде; прошлой осенью жители засеяли эти поля впервые рожью.
Так как вы довольно живо интересуетесь, как мне кажется, тем, что я делаю, то прилагаю к настоящему письму возможно менее плохой перевод на французский язык моего Манифеста, подписанный мною в прошлом году 14-го декабря[134] и появившийся в голландских газетах в столь жестоко искаженном виде, что в нем едва ли можно было добраться до смысла. В русском тексте эта вещь весьма ценная и удачная, благодаря богатству фактов и силе выражения нашего языка.
Тем труднее было ее переводить. В июне месяце начнутся заседания этого великого собрания, которые выяснят нам, что нужно, а затем будет преступлено к выработке законов, за которые, я надеюсь, будущее человечество не наградит нас порицанием. А пока, до наступления этого времени, я собираюсь объехать различные провинции, лежащие вдоль по течению Волги, и тогда, когда вы, может быть, всего менее ожидаете, вы получите от меня письмо, датированное из какого-нибудь отдаленного уголка Азии.
И там, как и везде, я буду неизменно полна глубокого уважения и почтения к владельцу замка в Ферне[135].
ЕкатеринаКазань, 18–20 мая [1767 г.]Я предвещала вам, что вы получите письмо из какого-нибудь дальнего азиатского угла, – исполняю свое обещание теперь. […]
Эти законы, о которых уже так много говорят теперь[136], в конце концов, еще совсем не выработаны. И кто в состоянии ответить теперь, что они окажутся действительно хороши и разумны? В сущности, только потомству, а не нам, будет под силу решить этот вопрос. Вообразите себе только то, прошу вас, что назначение их – служить и Азии, и Европе: а какая существует там разница в климатах, людях, обычаях, – даже в самих идеях!..
Наконец-то я в Азии; я ужасно хотела видеть ее своими собственными глазами. В городе, здесь население состоит из двадцати различных народностей, совсем не похожих друг на друга. А между тем необходимо сшить такое платье, которое оказалось бы пригодно всем.
Общие принципы еще могут найтись; но зато частности? И какие еще частности! Я чуть не сказала: приходится целый мир создавать, объединять, сохранять. Я, конечно, не совладею с этим делом, тем более что и так у меня дела по горло.
А если все это не удастся, какой ужасный вид тщеславия и хвастовства (и Бог знает еще чего?) примут все эти лохмотья моих писем, которые я нахожу цитированными в последнем печатном издании, в глазах людей беспристрастных и моих врагов? […]
В заключение, примите, м. г., свидетельство моего глубокого уважения за все доказательства вашего дружеского ко мне расположения; но, при этом, если только возможно, предохраните мои каракули от появления в печати.
ЕкатеринаПетербург, 7—18 октября 1769 г.М. г., если вы скажете, что я надоедлива со своими письмами, то будете совершенно правы; но пеняйте за это сами на себя. Вы неоднократно выражали желание получить известие о поражении Мустафы; ну, так знайте же, этот победоносный турецкий император потерял теперь всю свою Молдавию. Яссы взяты; визирь в страшном смятении бежал за Дунай. Вот что привез мне курьер сегодня, поутру, и что заставит, наконец, умолкнуть и «Gazette de Paris», и «Courrier d’Avignon», и папского нунция, пишущего в «Gazette de Pologne».
Прощайте, будьте здоровы и уверены, что я глубоко ценю вашу дружбу.
ЕкатеринаПетербург, 2—13 декабря [1769 г.]М. г., мы не только не изгнаны из Молдавии и Хотина, как то печатает «Gazette de France», но несколько дней тому назад я получила известие о взятии Галаца, крепости на Дунае, во время которого, по словам пленников, были убиты сераскир и паша. Но что совершенно верно, так это то, что между пленными находится молдавский князь Маврокордато.
Три дня спустя наша легкая кавалерия привезла из Бухареста, столицы Валахии, князя господаря, его брата и сына в Яссы, к генерал-лейтенанту Стоффельну, начальнику порта. Все эти господа проведут свой карнавал не в Венеции, а в Петербурге. Бухарест занят теперь моими войсками. Теперь у турок нет ни одного места в Молдавии по сю сторону Дуная.
Пишу вам все эти подробности, чтоб вы могли судить о положении вещей, не имеющем, право, ничего печального для тех, кому угодно интересоваться моими делами.
Думаю, что мой флот в Гибралтаре, если еще не прошел его: вы это узнаете скорее меня. Бог да сохранит Мустафу! Он так хорошо ведет свои дела, что я не хотела бы, чтобы с ним случилось несчастье. Его друзья, его связи, все тому способствуют; его правительство так любимо подданными, что жители Галаца присоединились к нашим войскам во время его осады, чтобы броситься на несчастный остаток турецкого корпуса, только что их покинувшего и бежавшего со всех ног.
Вот, что я хотела вам сказать в ответ на ваше письмо от 28-го ноября, полное дружбы. Прошу вас сохранить ко мне ваши чувства, которыми так дорожу, и быть уверенным в моих.
Екатерина22 июля – 2 августа [1770 г.]Милостивый государь, я писала вам дней десять назад, что граф Румянцев[137] разбил крымского хана, соединившегося со значительным турецким отрядом, что у них отняли палатки, артиллерию и т. д., на маленькой речке, называемой Ларга; имею удовольствие сообщить вам сегодня, что вчера вечером курьер графа привез мне известие, что в тот самый день, когда я вам писала (21-го июля), мое войско одержало полную победу над войском Мустафы, командуемым визирем Али-Беем, начальником янычар, и семью или восемью пашами; они были разбиты в своих укреплениях; их артиллерия, в количестве ста тридцати пушек, их лагерь, багажи, всевозможный провиант попали в наши руки.
Их потеря значительна; наша же так мала, что я боюсь говорить о ней, чтобы она не показалась баснословной. Однако сражение длилось пять часов.
Граф Румянцев, которого я только что произвела в фельдмаршалы за эту победу, сообщает мне, что, как древние римляне, мои солдаты никогда не спрашивают, многочислен ли неприятель, но только: где он? На этот раз турки были в числе ста пятидесяти тысяч, укрепившихся на возвышенностях, омываемых Кагулом, ручейком в двадцати пяти верстах от Дуная, и имея за спиною Измаил.
Но мои новости этим не ограничиваются: я знаю из верных источников, хотя и не прямым путем, что мой флот разбил флот турецкий близ Napoli de Romanie и рассеял те из неприятельских кораблей, которые не удалось ему потопить.
Осада Бендер открылась еще 21-го июля. Князь Прозоровский[138] овладел громадной добычей из скота всякого рода, между Очаковым и Бендерами. Мой азовский флот растет в величине и надеждах, перед самым носом господина Мустафы.
Я ничего не могу вам сказать о Браилове, кроме того, что это старый замок, на берегу Дуная, взятый генералом Ренном в самый день сражения при Пруте, в 1711 г.
От самих греков зависит воскресить Грецию. Я сделала все, что могла, чтобы украсить географические карты сообщением Коринфа с Москвою. Не знаю, что из этого выйдет.
Чтобы посмешить вас, скажу, что султан прибегал к содействию пророков, колдунов, прорицателей и помешанных, считающихся святыми у мусульман. Они ему предсказали, что 21-е будет днем особенно счастливым для Оттоманской империи. Сейчас же Его Высочество отправил курьера к визирю, чтобы приказать ему назначить на этот день переправу через Дунай и вообще воспользоваться счастливым созвездием. Увидим, обратят ли несчастия на путь истинный монарха и не разочаруют ли они его в обманщиках и лгунах.
Ваши любезные греки во многих случаях являли доказательства их древнего мужества, и они далеко не лишены ума.
Прощайте, милостивый государь; будьте здоровы, не лишайте меня вашей дружбы и будьте уверены в моей.
ЕкатеринаПетербург, 31 августа —11 сентября [1770 г.]Милостивый государь, хотя на этот раз я не могу сообщить вам, в ответ на ваше письмо от 11-го августа, каких бы то ни было военных событий, но надеюсь не помешать вашему выздоровлению, сказав вам, что после взятия Измаила буржакские и белгородские татары отделились от Порты. Они послали уполномоченных к двум генералам моей армии для капитуляции и отдались под протекторат России.
Они дали заложников и поклялись на Коране не помогать более ни туркам, ни крымскому хану и не признавать хана, если он не примет тех же условий, т. е. мирно жить под протекторатом России и отделиться от Порты. Неизвестно, что сделалось с этим ханом. По-видимому, однако, если не он, то бо́льшая часть его подданных примут эти условия.
Татары, с самого начала этой войны, считали ее несправедливой; им не на что было жаловаться; прерванная торговля с Украиной причиняла им потерю, более действительную, чем они могли ожидать выгод от грабежей.
Мусульмане говорят, что два последних сражения стоят им сорока тысяч человек. Это ужасно, я согласна; но когда дело идет об ударах, то лучше их давать, чем получать.
Теперь я не посмею спросить вас, довольны ли вы, так как, какую бы вы ни питали ко мне дружбу, но я уверена, что вы не можете равнодушно смотреть на несчастия стольких людей. Надеюсь, однако, что эта же дружба утешит вас во всех несчастиях турок; вы сделаетесь терпимы и человечны, и уже более не будет противоречия в ваших чувствах. Невозможно, чтобы вы любили врагов искусств.
Сохраните мне, пожалуйста, вашу дружбу и будьте уверены, что я ее очень ценю.
P. S. Я должна вам упомянуть еще об одном новом явлении: большое количество турецких дезертиров является к нашему войску. Говорят, что никогда еще не бывало этому примера. Эти дезертиры уверяют, что у нас с ними лучше обходятся, чем у них.
ЕкатеринаПетербург, 16–27 сентября [1770 г.]Милостивый государь, как много должна я сегодня вам сообщить! Не знаю, с чего и начать.
Мой флот, под командою не моих адмиралов, а графа Алексея Орлова[139], разбил неприятельский флот, сжег полностью его в Чесменской гавани, древнем Клазомене. Три дня тому назад я получила об этом прямое известие. Около ста судов всевозможных родов были обращены в пепел. Не смею выговорить количество погибших мусульман: их насчитывают до двадцати тысяч.
Общий военный совет положил предел разъединению двух адмиралов, отдав командование генералу войск сухопутных, находившемуся на этом флоте и который к тому же был старший по службе. Это решение было единодушно всеми одобрено. Я всегда говорила, что герои рождаются для великих событий.
Турецкий флот преследовался от Румынского Наполи, где он выдержал два нападения, до Scio. Граф Орлов знал, что из Константинополя отправлено подкрепление, и, желая предупредить его соединение, он напал на врага, не теряя времени. Приехав в канал Scio, он увидел, что соединение уже совершилось.
С девятью линейными кораблями он очутился в присутствии шестнадцати оттоманских: число фрегатов и других судов было еще более неравномерно. Он не колебался, и вообще расположение умов было таково, что все решили победить или умереть. Сражение началось. Граф Орлов держался в центре; адмирал Спиридов, имевший на своем корабле графа Федора Орлова, командовал авангардом; контр-адмирал Эльфинстон – арьергардом.
Турки были расположены так, что одно из их крыльев упиралось в каменистый остров, а другое – на мели, так что они не могли быть обогнуты.
В продолжение нескольких часов огонь был ужасен с обеих сторон; корабли так близко подошли друг к другу, что ружейная стрельба присоединилась к пушечной. Корабль генерала Спиридова боролся с тремя военными кораблями и одной турецкой шебекой. Несмотря на это, он зацепил капитан-пашу, имевшего девяносто пушек, и набросал туда столько гранат и горючих материалов, что корабль загорелся; огонь перешел на наш корабль, и оба взлетели на воздух в ту минуту, как адмирал Спиридов с графом Федором Орловым и около девяноста людей экипажа спустились с него.
Граф Алексей, увидев в разгаре сражения, что адмиральские корабли взлетели на воздух, подумал, что брат его погиб. Он почувствовал тогда, что он не более, как человек, и лишился чувств; но минуту спустя, придя в себя, он приказал поднять паруса и с своим кораблем бросился на врагов. В минуту победы офицер принес ему известие, что его брат и адмирал живы. Он говорит, что не может описать, что почувствовал в эту минуту, самую счастливую в его жизни. Остальной турецкий флот в беспорядке бросился в Чесменский порт.
Следующий день прошел в приготовлении брандеров[140] и в стрельбе по врагу в порту, на которую тот отвечал. Но ночью брандеры были пущены и так хорошо сделали свое дело, что менее чем в шесть часов турецкий флот был совсем уничтожен. Говорят, что вода и суша дрожали от количества неприятельских судов, взлетающих на воздух. Это чувствовалось до Смирны, находящейся в двенадцати лье от Чесмы.
Во время пожара наши вытащили из порта турецкий корабль с шестьюдесятью пушками, находившийся под ветром и поэтому уцелевший. Они также захватили батарею, оставленную турками.
Война – скверная вещь. Граф Орлов мне пишет, что на другой день после пожара флота он с ужасом увидел, что вода в Чесменском порту, который не очень велик, была совсем красная, – так много погибло в ней турок.
Это письмо будет ответом на ваше от 26 августа, в котором ваши опасения на наш счет уже начали рассеиваться. Надеюсь, что теперь их более уже нет. Мне кажется, что дела мои идут довольно хорошо. Что же касается до взятия Константинополя, то я полагаю его столь близким. Однако, как говорят, не надо ни в чем отчаиваться. Я начинаю думать, что это всего более зависит от самого Мустафы. До сих пор он так вел себя, что если еще будет держаться того упрямства, которое его друзья внушают ему, то может навлечь на свою империю большие опасности. Он забыл свою роль зачинщика.
Прощайте, милостивый государь, будьте здоровы. Если выигранные сражения могут вам нравиться, вы должны быть нами довольны. Верьте моему к вам уважению и почтению.
Екатерина7—18 октября [1770 г.]Милостивый государь, за приездом принца Генриха Прусского в Петербург последовало взятие Бендер, о чем и объявляю вам. То и другое помешало мне отвечать на ваши три письма, которые я получила одно вслед за другим. По слухам, граф Орлов завладел Лемносом. Вот, мы окончательно в стране сказок: боюсь, чтобы со временем сама эта война не показалась сказочной.
Если мамамучи не заключит мира этой зимой, то не знаю, что с ним будет в будущем году. Еще немного того счастья, примеры которого мы видели, – и история турок может дать будущим векам новые сюжеты для трагедий.
Вы, пожалуй, скажете, что, начиная с успехов этой кампании, я сильно подняла тон, но дело в том, что с тех пор, как счастье привалило ко мне, Европа находит у меня много ума. Однако в сорок лет ни ум наш, ни красота далеко не увеличиваются перед Господом Богом.
Я с вами совершенно согласна, что вскоре мне пора будет отправляться изучать греческий язык в какой-нибудь университет, пока переводят Гомера на русский; все-таки, это кое-что для начала. Обстоятельства нам покажут, надо ли будет идти далее. Умы турок склоняются на нашу сторону; они говорят, что их султан безрассуден, подвергая империю стольким несчастиям; что совет его друзей окажется гибельным для мусульман.
Прощайте, будьте здоровы и молите за нас Бога.
ЕкатеринаПетербург, 3—14 августа [1771 г.][…] Согласитесь, что эта война заставила блистать наших воинов. Граф Алексей Орлов продолжает совершать достойные подвиги: он послал восемьдесят шесть пленных алжирцев и салетинцев великому Мальтийскому мастеру, прося его променять их в Алжире на христианских рабов. Уже давно ни один рыцарь св. Иоанна Иерусалимского не освобождал столько христиан из рук неверных.
Читали ли вы его же письмо к европейским консулам в Смирне, которые обратились к нему с просьбою пощадить этот город после поражения турецкого флота? Вы мне говорите о сделанной им отправке турецкого корабля, на котором были мебель, прислуга и т. д. паши; вот как это было.
Несколько дней после Чесменского морского сражения казначей Порты возвращался из Каира на корабле с женами, детьми и всем имуществом и отправлялся в Константинополь; в дороге он получил ложное известие, что турецкий флот разбил наш; он поторопился высадиться на берег, чтобы первым привезти это известие султану. В то время как он скакал в Стамбул, один из наших кораблей привел его судно к графу Орлову, строго воспретившему: никому не входить в комнату женщин и ничего не трогать из груза. Он велел привести к себе самую меньшую дочь турка, девочку лет шести, подарил ей бриллиантовое кольцо и несколько мехов и отправил со своей семьей и всем их добром в Константинополь.
Все это говорилось в газетах. Но вот о чем до сих пор умалчивалось: случилось графу Румянцеву послать офицера в лагерь визиря; его повели сначала к помощнику визиря, который, после первых приветствий, спросил его: «Есть ли кто-нибудь из графов Орловых в войске?» Офицер отвечал, что нет. Турок с живостью спросил его: «Где же они?» Майор отвечал, что двое служили на флоте, а трое остальных были в Петербурге.
«Знайте же, – возразил турок, – что я чту их имя и что мы все поражены тем, что видим. Их великодушие проявилось особенно в отношении меня. Я тот самый турок, который обязан графу Орлову сохранением своих жен, детей и всего имущества. Я никогда не буду в состоянии отблагодарить их; но если в течение моей жизни я могу оказать им услугу, то сочту это за большое счастье». Он прибавил еще много других уверений и, между прочим, сказал, что визирю известна его благодарность, и что он одобряет ее. Он говорил все это со слезами на глазах. […]
Подданные моего соседа, императора китайского, завели торговлю с моими, как только он уничтожил некоторые несправедливые притеснительные меры. Они уже обменяли разных вещей миллиона на три рублей, в первые четыре месяца по открытии торговли.
Царские фабрики моего соседа заняты приготовлением для меня ковров, между тем как он сам требует от нас хлеба и ягнят. […]
Мне очень интересно посмотреть работы ваших часовщиков; если бы вы устроили колонию их в Астрахани, то я бы нашла предлог съездить к вам. Что же касается Астрахани, я вам скажу, что климат Таганрога гораздо лучше и здоровее, чем в Астрахани. Все, возвращающиеся оттуда, говорят, что нельзя достаточно похвалить этот город, о котором я вам расскажу анекдот, подражая старухе из Кандида.
Петр Великий, взяв Азов, захотел устроить порт на море и выбрал Таганрог. Порт был выстроен. Затем он колебался, построить ли Петербург на Балтийском море, или сделать город из Таганрога. Наконец, обстоятельства заставили его выбрать Балтийское море. Мы не выиграли относительно климата: там почти нет зимы, между тем как наша слишком длинная.
Кельты, расхваливающие гений Мустафы, хвалят ли так же его храбрые подвиги? В течение этой войны не знаю ни одного такого подвига, кроме того, что он велел отрубить головы нескольким визирям, и не мог сдержать Константинопольскую чернь, осыпавшую ударами, на его глазах, посланников великих держав, в то время как мой был заперт в Семи Башнях[141]. […]
Екатерина22 июля—2 августа [1771 г.]Милостивый государь, я не сумею лучше ответить на два ваши письма, от 19 июня и 6 июля, как сообщив вам, что в первых числах июля моим войском сдались Тамань и три небольших городка: Темрук, Ахай и Альтон, находящиеся на большом острове, образующем другую сторону пролива Азовского моря в Черном море. Этому примеру последовали двести тысяч татар, живущих как на этих островах, так и на суше.
Адмирал Синявин [Алексей Наумович], вышедший из канала с своей флотилией, пустился для забавы в погоню за четырнадцатью неприятельскими судами; однако туман спас их от его когтей.
Не правда ли, что явилось много материалов для поправления и исправления географических карт? Во время этой войны приходилось упоминать о местностях, о которых прежде и не слыхивали и которые географы считали пустынными. Не правда ли также, что мы завоевываем за четверых? Вы мне скажете, что не надо много ума, чтобы завладеть покинутыми городами. Вот, быть может, причина, мешающая мне быть невыносимо гордой, как вы говорите.
Кстати, о гордости: мне хочется вам откровенно высказаться по этому поводу. Эта война была для меня чрезвычайно удачна, что меня, разумеется, очень радовало; я говорила: «Россия сделается известной, благодаря ей; все увидят, что это народ неутомимый; что у него есть люди высокого достоинства, со всеми качествами, образующими героев; увидят, что она не нуждается в средствах и что она может защищаться и энергично воевать, когда на нее несправедливо нападают».
Полная этих мыслей, я совсем не думала об Екатерине, которая в сорок два года не может вырасти ни физически, ни умственно, но, по естественному ходу всех вещей, должна остаться тем, чем она есть. Идут ее дела хорошо, она говорит: тем лучше; если бы они пошли хуже, она употребила бы все свои способности, чтобы направить их на возможно лучшую дорогу.
Вот в чем заключается мое честолюбие, и у меня нет другого; все, что я вам сказала, совершенная правда. Пойду дальше: скажу вам, что для сбережения человеческой крови я искренно желаю мира; но до мира еще далеко, хотя турки и сильно желают его, но по другим причинам. Этот народ не умеет заключать его.
Точно так же я желаю умиротворения безрассудных раздоров Польши. Там я имею дело с взбалмошными головами, из которых каждая, вместо того чтобы способствовать общему миру, препятствует ему из-за каприза и легкомыслия.
Мой посланник напечатал объяснение, которое бы должно раскрыть им глаза; но можно быть уверенным, что они скорее согласятся подвергнуть себя последней крайности, чем решатся поступить умно и прилично. Декартовские вихри[142] существовали только в Польше. Там каждая голова есть вихрь, беспрестанно вертящийся вокруг самого себя; только случай останавливает его, но никак не разум и не рассудок. […]
Хотя мы уже ведем войну три года, но строимся, и все остальное идет, как во время мира. Уже два года не было введено ни одного нового налога; на войну теперь идет свой положенный оклад; будучи раз определен, он совсем не стесняет других частей. Если мы возьмем еще одну или две Каффы, то война будет оплачена.
Я буду собой довольна всякий раз, как получу ваше одобрение. Несколько недель тому назад я тоже перечитывала свой Наказ к Своду, полагая, что мир ближе, чем он есть, и нашла, что была права. Сознаюсь, что этот Свод, для которого еще готовится много материала, а другой уже готов, наделает мне много хлопот, прежде чем достигнет той степени совершенства, на которой я желаю его видеть. […]
P. S. Я уже готовилась запечатать это письмо, когда получила ваше, от 10 июля, в котором вы мне описываете приключение с моим Наказом во Франции. Я знаю об этом анекдоте и даже с прибавлением, вследствие приказа герцога Шуазеля. Признаюсь, что я много смеялась, читая это в газетах, и нашла, что я достаточно отмщена.
Пожар, случившийся в Петербурге, по отчетам полиции, уничтожил всего сто сорок домов, между которыми было около двадцати каменных; все остальные были только деревянные лачужки. Сильный ветер разнес пламя и головешки во все стороны, отчего пожар возобновился на другой день и принял сверхъестественный вид; но, несомненно, что сильный ветер и чрезмерный жар произвели все это зло; все будет восстановлено.
У нас строят гораздо скорее, чем в других странах Европы. В 1762 г. был пожар вдвое сильнее этого, уничтоживший большой квартал из деревянных домов; менее чем в три года он был построен из камня.
Екатерина4—15 сентября [1771 г.]Милостивый государь, вы меня спрашиваете, правда ли, что в то самое время, как мои войска входили в Перекоп, на Дунае было дело, неблагоприятное для турок. Я вам отвечу, что на Дунае в это лето произошло всего одно сражение, в котором генерал-лейтенант князь Репнин рубил с своим отрядом турецкий корпус, приблизившийся, после получения от коменданта Джурджи сдачи этой крепости, почти так же, как Лаутербург перешел к австрийцам, когда г. де Ноайль командовал французским войском после смерти императора Карла VI.
Так как князь Репнин заболел, то генерал-лейтенант Эссен хотел снова взять Джурджу; но приступ его был отброшен.
Однако, чтобы ни говорили газеты, Бухарест все еще в наших руках, со всеми береговыми крепостями Дуная – от Джурджи до Черного моря.
Я нисколько не завидую подвигам вашего отечества, которые вы мне описываете. Если прекрасные руки красавицы танцовщицы парижской оперы и комическая опера, составляющая восхищение вселенной, утешают Францию в уничтожении ее парламентов и в новых налогах после восьмилетнего мира, то надо согласиться, что они оказали правительству существенные услуги. Но когда эти налоги соберутся, то пополнятся ли сундуки короля и освободится ли государство от дальнейшей уплаты?
Вы говорите мне, что ваш флот приготовляется плавать от Парижа в Сен-Клу; вот вам новость за новость. Мой пришел из Азова в Каффу. В Константинополе очень огорчены потерей Крыма; для развлечения надо бы им послать комическую оперу и марионеток из польских бунтовщиков, вместо толпы французских офицеров, которые посылаются на гибель. Все любители зрелищ из моего войска могут смотреть драмы г. Сумарокова, в Тобольске, где много весьма хороших актеров.
Прощайте, милостивый государь, будем сражаться со злыми, не желающими оставаться в покое, и побьем их, так как они того желают. Любите меня и будьте здоровы.
Екатерина22 октября—2 ноября [1774 г.]С удовольствием, м. г., я удовлетворю вашу любознательность по отношению к Пугачеву; это будет мне тем удобнее сделать, что вот уже месяц, как он схвачен или, выражаясь вернее, связан и скручен своими собственными же людьми в необитаемой степи между Волгой и Яиком, куда он был загнан посланными против него со всех сторон войсками.
Лишенные припасов и средств для продовольствия, товарищи его, возмущенные сверх того еще жестокостями, им творимыми, и в надежде заслужить прощение, выдали его коменданту Яицкой крепости, который и отправил его оттуда в Симбирск к генералу графу Панину. В настоящее время он в дороге, на пути к Москве.
Когда его привели к графу Панину, он совершенно наивно признался, на первом же допросе, что он – донской казак, назвал место своего рождения, сказал, что женат на дочери донского казака, что у него трое детей, что во время этих смут он женился вторично на другой, что братья и племянники его служат в первой армии, что он сам в ней служил, участвовал в двух первых походах против Порты и пр., и пр.
Так как у генерала Панина в войске немало донских казаков и так как войска этой национальности ни разу не клевали на крючок этого разбойника, то все сказанное было тотчас же проверено через земляков Пугачева. Хотя он не знает ни читать, ни писать, но, как человек, он крайне смел и решителен. До сих пор нет ни малейших данных предполагать, чтоб он был орудием какой-либо державы или чтобы он следовал чьему-либо вдохновению. Приходится предполагать, что г. Пугачев сам хозяин-разбойник, а не лакей какой-нибудь живой души.
После Тамерлана, я думаю, едва ли найдется кто-либо другой, кто более истребил рода человеческого. Во-первых, он вешал без пощады и всякого суда всех лиц дворянского рода: мужчин, женщин и детей, всех офицеров, всех солдат, какие ему только попадали в руки; ни единое местечко, по которому он прошел, не избегло расправы его; он грабил и опустошал даже те места, которые, чтобы избегнуть его жестокостей, пытались заслужить его расположение добрым приемом: никто не был у него безопасен от разбоя, насилия и убийства.
Но что покажет вам хорошо, как далеко может обольщаться человек, – это то, что он осмеливается еще питать кое-какие надежды. Он воображает, что ввиду его отваги я могу его помиловать и что свои прошлые преступления он мог бы загладить своими будущими услугами. Рассуждение его могло бы оказаться правильным, и я могла бы простить его, если б содеянное им оскорбляло меня одну; но дело это – дело, затрагивающее государство, у которого свои законы. […]
Светлейшему князю Г. А. Потемкину-Таврическому[143]
Господин генерал-поручик и кавалер. Вы, я чаю, столь упражнены глазеньем на Силистрию[144], что Вам некогда письма читать. Я хотя и по сю пору не знаю, преуспела ли Ваша бомбардирада, но, тем не менее, я уверена, что все то, чего Вы сами предприемлете, ничему иному приписать не должно, как горячему Вашему усердию ко мне персонально и вообще к любезному Отечеству, которого службу Вы любите.
Но как с моей стороны я весьма желаю ревностных, храбрых, умных и искусных людей сохранить, то Вас прошу попусту не даваться в опасности. Вы, читав сие письмо, может статься, сделаете вопрос, к чему оно писано? На сие Вам имею ответствовать: к тому, чтоб Вы имели подтверждение моего образа мысли об Вас, ибо я всегда к Вам весьма доброжелательна.
Декабря 4 числа 1773 г.
ЕкатеринаСкажите и бригадиру Павлу Потемкину[145] спасибо за то, что он хорошо турок принял, когда они пришли за тем, чтоб у Вас батарею испортить на острову.
Чистосердечная исповедь
21 февраля 1774 г.Марья Чоглокова, видя, что за девять лет [супружества] обстоятельства остались теми же, какими были до свадьбы, и будучи от покойной государыни часто бранена, что не старается их переменить, не нашла иного способа, как обеим сторонам сделать предложение, чтобы выбрали по своей воле из тех, кого она предложит.
Одна сторона выбрала вдову Грот, которая ныне за арт[иллерии] генер[ал]-пору[чиком] Миллером, а другая – Сер[гея] Салтыкова, больше из-за видимой его склонности и по уговору мамы, которая видела в том великую необходимость.
По прошествии двух лет С[ергея] С[алтыкова] послали посланником, ибо он себя нескромно вел, а Марья Чоглокова уже не была в силах удержать его при дворе. По прошествии года и великой скорби приехал нынешний кор[оль] Пол[ьский], которого совершенно не заметили, но добрые люди своими пустыми подозрениями заставили догадаться, что он есть на свете, что глаза его отменной красоты и что он их обращал (хотя так близорук, что далее носа не видит) чаще в одну сторону, нежели в другую. Сей был любезен и любим от 1755 до 1761.
Но трехлетняя отлучка, то есть с 1758, и старания кн[язя] Гр[игория] Григорьевича[Орлова], которого опять-таки добрые люди заставили приметить, переменили образ мыслей. Сей бы век остался, если б сам не скучал. Я сие узнала в самый день его отъезда на конгресс из Царского Села и просто сделала заключение, что о том узнав, уже доверия иметь не смогу – мысль, которая жестоко меня мучила и заставила сделать из дешперации[146] кое-какой выбор, во время которого и даже до нынешнего месяца я более грустила, нежели сказать могу, и иногда, более тогда, когда другие люди бывают довольные, всякое приласканье во мне слезы возбуждало, так что я думаю, что от рождения своего я столько не плакала, как сии полтора года.
Сначала я думала, что привыкну, но что далее, то хуже, ибо с другой стороны месяца по три дуться стали, и признаться надобно, что никогда так довольна не была, как когда осердится и в покое оставит, а ласка его меня плакать принуждала.
Потом приехал некто богатырь. Сей богатырь по заслугам своим и по всегдашней ласке прелестен был так, что услыхав о его приезде, сразу говорить стали, что ему тут поселиться, а того не знали, что мы письмецом сюда призвали его неприметно, однако же с таким внутренним намерением, чтоб не вовсе слепо по приезде его поступать, но разбирать, есть ли в нем склонность, о которой мне Брюсша сказывала и которую давно многие подозревали, то есть та, которую я желаю, чтоб он имел.
Ну, госп[один] Богатырь, после сей исповеди могу ли я надеяться получить отпущение грехов своих. Изволишь видеть, что не пятнадцать, но третья доля из сих: первого поневоле да четвертого из дешперации, думаю, на счет легкомыслия поставить никак не можно; о трех прочих, если точно разберешь, Бог видит, что не от распутства, к которому никакой склонности не имею, и если б я в участь получила смолоду мужа, которого бы любить могла, я бы вечно к нему не переменилась.
Беда та, что сердце мое не хочет быть ни на часу без любви. Сказывают, такие пороки людские покрыть стараются, будто сие происходит от добросердечия, но статься может, что подобная диспозиция сердца более есть порок, нежели добродетель. Но напрасно я сие к тебе пишу, ибо после того взлюбишь или не захочешь в армию ехать, боясь, чтоб я тебя позабыла. Но, право, не думаю, чтоб такую глупость сделала, и если хочешь на век меня к себе привязать, то покажи мне столько же дружбы, как и любви, а наипаче люби и говори правду.
[Середина апреля 1774]Голубчик, при сем посылаю к Вам письмо к графу Алек[сею] Гр[игорьевичу] Орлову. Если в орфографии есть ошибка, то прошу, поправя, где надобно, ко мне возвратить. Тем, коим не нравится пожалованье господ Демидовых в советники Берг-коллегии[147], в которой части они, однако, сознания имеют довольные и с пользою могут быть употреблены, в ответ можно сказать, что Сенат часто откупщиков жалует по произволению своему в чины.
Итак, чаю, и мне можно, по власти моей, жаловать разоренных людей, от коих (порядочным управлением заводов) торговле и казенным доходам принесена немалая и долголетняя прибыль, и оне, чаю, не хуже будут дурака генеральского господина Бильштейна, за которого весь город старался. Но у нас любят все брать с лихой стороны, а я на сие привыкла плевать и давно знаю, что те ошибаются, кои думают, что на весь свет угодить можно, потому что намерения их суть беспорочны.
Юла моя дорогая, не прогневайся, что заочно написала того, чего Вы мне не дали договорить или б не выслушали, если б были со мною. Всякому человеку свойственно искать свое оправданье, окроме паче меня, которая подвержена ежечасно бесчисленным от людей умных и глупых попрекам и критикам. И так, когда уши мои сим набиты, тогда и мой ум около того же вертится, и мысли мои не столь веселы, как были бы с природою, если б на всех угодить могла. […]
[Конец апреля 1774 г.]Какая тебе нужда сказать, что жив не останется тот, кто место твое займет. Похоже ли на дело, чтоб ты страхом захотел приневолить сердце? Самый мерзкий способ сей непохож вовсе на твой образ мысли, в котором нигде лихо не обитает. А тут бы одна амбиция, а не любовь действовала. Но вычерни сии строки и истреби о том и мысли, ибо все это пустошь.
Похоже на сказку, что у мужика жена плакала, когда муж на стену повесил топор, что сорвется и убьет дитятю, которого на свете не было и быть не могло, ибо им по сто лет было. Не печалься. Скорее, ты мною скучишь, нежели я. Как бы то ни было, я привещлива и постоянного сложения, и привычка и дружба более и более любовь во мне подкрепляют. Vous ne Vous rendrе́s pas justice, quoique Vous soyе́s un bonbon de profession. Vous êtes excessivement aimable[148].
Признаться надобно, что и в самом твоем опасении есть нежность. Но опасаться тебе причины никакой нету. Равного тебе нету. Я с дураком пальцы обожгла[149]. И к тому я жестоко опасалась, чтобы привычка к нему не сделала мне из двух одно: или навек бессчастна, или же не укротила мой век.
А если б еще год остался и ты б не приехал, или б при приезде я б тебя не нашла, как желалось, я б, статься могло, чтоб привыкла, и привычка взяла бы место, тебе по склонности изготовленное. Теперь читай в душе и сердце моем. Я всячески тебе чистосердечно их открываю, и если ты сие не чувствуешь и не видишь, то не достоин будешь той великой страсти, которую произвел во мне за пожданье. Право, крупно тебя люблю.
Сам смотри. Да просим покорно нам платить такой же монетою, а то весьма много слез и грусти внутренной и наружной будет. Мы же, когда ото всей души любим, жестоко нежны бываем. Изволь нежность нашу удовольствовать нежностью же, а ничем иным. Вот Вам письмецо не короткое. Будет ли Вам так приятно читать, как мне писать было, не ведаю.
[18 августа 1774 г.]Позволь доложить, друг милый и любезный, что я весьма помню о тебе. А сей час, окончив тричасовое слушанье дел, хотела послать спросить. А понеже не более десяти часов, то пред тем опасалась, что разбудят тебя. И так не за что гневаться, но в свете есть люди, кои любят находить другим людям вины тогда, когда надлежало им сказать спасибо за нежную атенцию всякого рода.
Сударка, я тебя люблю, как душу.
[Конец августа 1774 г.]Заготовила я теперь к графу Петру Панину письмо в ответ на его от 19 числа и посылаю к нему реестр тех, кои отличились при Казанском деле и коих награждаю деревнями, как Вы то здесь усмотрите из приложенного письма. А впредь, как офицеров наградить, кои противу бунтовщиков? Крестьян не достанет, хотя достойны.
Пришла мне на ум следующая идея: в банк Дворянский орденская немалая сумма в проценты идет[150]. Я из процентов велю противу орденских классов производить им пенсии. Как Вам кажется? […]
[Конец августа 1774 г.]Я думаю, что прямой злодейский тракт [Пугачева] на Царицын, где, забрав артиллерию, как слух уже о его намерении был, пойдет на Кубань. А по сим известиям или сказкам десяти саратовских казаков, он намерен на Дон идти, который от Царицына в 60 верстах, и, следовательно, уже сие бы было обратный ему путь. И если сие сбудется, то он столкнется с Пушкиным[151], и тут его свяжут, нежели ингде. Защищенье Керенска показывает, как сие легко противу толпищи черни. […]
[Ноябрь 1777 г.]Указ я прочла и вижу, что полки командированы, куда приказала. О больных ничего не ведаю, а впредь, что до меня дойдет, Вам сообщу. Намерения теперь иного нет, как только смотреть, что турки предпримут, ибо о трактовании с ними теперь полномочия у Стахиева. В случае же войны иного делать нечего, как оборонительно бить турков в Крыму или где покажутся. Буде же продлится до другой кампании, то уже на Очаков, чаю, приготовить действие должно будет. Хорошо бы и Бендеры, но Очаков по реке нужнее. […]
[Январь 1781 г.]Сравнивать прилично не ради трусости, но ради честности, что, имея обязательства, нарушить оные бесчестно. Трактат же равной дружбы[152] не есть безвестное дело по тому правилу, что всякая держава старается со всякой державой жить дружно, когда не в войне. Войну же не вчинять без причин и без нужды.
Я ни от кого из держав зависима быть не желаю. Венский двор весьма может хвалиться, что я сравниваю с двадцатилетним союзником тогда, когда десять лет назад оный двор отказался ото всякой связи с нами в нужное для нас время и всякую пакость чинил во время оное.
Что слабеешь, о том от сердца жалею и не знаю, чему приписать. Ужо сама посмотрю тебя. Прощай, мой любезный друг. Проект трактата, который ты читал, представлен Кобенцелем. Наш контртрактат заготовляется.
[1781 г.]Прочтя сей проект[153], я нашла, что оный составлен по правилам всех монополистов, то есть – захватить все в свои руки, несмотря на разорение вещей и людей, из того доследуемое. В начале моего царствования я нашла, что вся Россия по частям роздана подобным компаниям.
И хотя я девятнадцать лет стараюсь сей корень истребить, но вижу, что еще не успеваю, ибо отрыжки (авось-либо удастся) сим проектом оказываются. Буде сам его не издерешь, то возврати его сочинителям с тем, чтоб и вперед о том и подобном не заикались.
30 сентября 1782 г.С сегодняшними твоими именинами поздравляю тебя от всего сердца. Сожалею, что не праздную их обще с тобою. Желаю тебе, тем не меньше, всякого добра, наипаче же – здоровья. Об моей к тебе дружбе всегдашней прошу нимало не сомневаться, равномерно и я на твою ко мне привязанность считаю более, нежели на каменных стен.
Письмо твое от 19 сентября из Херсона до моих рук доставлено. Неблистающее описание состояния Очакова, которое ты из Кинбурна усмотрел, совершенно соответствует попечению той империи об общем и частном добре, к которой по сю пору принадлежит. Как сему городишке нос подымать противу молодого Херсонского Колосса!
С удовольствием планы нового укрепления Кинбурна приму и выполнение оного готова подкрепить всякими способами. Петр Первый, принуждая натуру, в Балтических своих заведениях и строениях имел более препятствий, нежели мы в Херсоне. Но буде бы он оных не завел, то мы б многих лишились способностей, кои употребили для самого Херсона. Для тамошнего строения флота, как охтинских плотников, так и олончан, я приказала приискать, и по партиям отправим.
А сколько сыщутся, тебе сообщу. По письмам Веселицкого из Петровской крепости, я почитаю, что скоро после отправления твоего письма ты с ханом имел свидание. Батыр-Гирей и Арслан-Гирей исчезнут, яко воск от лица огня, так и они, и их партизаны, и покровители – от добрых твоих распоряжений. Что татары подгоняют свой скот под наши крепости, смею сказать, что я первая была, которая сие видела с удовольствием и к тому еще до войны поощряла всегда предписанием ласкового обхождения, и, не препятствуя, как в старину делывали. […]
[Конец ноября 1782 г.]Чаю, не оспоришь, буде генерал-кригскомиссара Дурнова вмещу в число Александровских кавалеров. Что же касается до мужа твоей племянницы, то прошу тебя отложить сие прошение до другого дня, а наипаче к праздникам всякие просьбы за неделю, а еще лучше – за две, доставить к моему сведению, дабы мысли время имели бродить, аки брага. Я, увидясь с тобою, объясню тебе мои мысли дружественно и дружески, car, m’amour, je je n’en ai point d’autres pour toi[154].
Из Царского Села. Мая 4 числа, 1783 г.По получении последнего твоего письма от 22 апреля из Дубровны я так крепко занемогла болью в щеке и жаром, что принуждена была, лежа на постели, кровь пустить. Но как круто занемогла, так поспешно паки оправилась, и вся сила болезни миновалась коликою в третьи сутки. И выздоровела Царица и без лекарства, похоже, как в сказке «О Февее»[155] написано.
Я уже писала к тебе, что от Цесаря ко мне два письма были, кои уже опять иным тоном. Я на него никак не надеюсь, а вредить не станет. На внутренних и внешних бурбонцев я нимало не смотрю, а думаю, что война неизбежна. Время у нас отменно хорошо и тепло, и, по тому судя, думаю, что и подножный корм у вас поспевает. В Малороссии сделано теперь распоряжение о платеже податей по душам. Таковые не худо делать и в местах Полтавского и Миргородского полков, кои приписаны к Новороссийской губернии, не касаясь новых поселений, которым даются льготные годы. […]
Мая 5 числа, 1783 г.Голубчик мой князь, сейчас получила твое письмо из Кричева и из оного и прочих депеш усмотрела, что хан отказался от ханства. И о том жалеть нечего, только прикажи с ним обходиться ласково и со почтением, приличным владетелю, и отдать то, что ему назначено, ибо прочее о нем расположение не переменяю. […]
[Июнь 1785 г.]По полученному сегодня репорту от Якобия[156], китайцы закрыли торг на Кяхте с пушечною пальбою, что приписывать надлежит за некоторый род объявления войны. Сие подтверждает и сказание китайского купца. Я думаю, что не излишне будет: 1. Собрать Братских казаков и оных распределить, где Вам пособнее окажется по ту сторону Байкала.
Как их подкрепить, о сем помышлять. Подумать об обороне Нерчинских заводов. Каменногорскую крепость приводить на первый случай в лучшее оборонительное состояние, равномерно и Колыванские пограничные места. А как все сие распорядить и снабдить войсками на первый случай, о сем, подумавши, прошу мне представить скорее.
[После 29 июля 1785 г.]Турки в Грузии явно действуют – лезгинскими лапами вынимают из огня каштаны. Сие есть опровержение мирного трактата, который уже нарушен в Молдавии и Валахии. Противу сего всякие слабые меры действительны быть не могут. Тут не слова, но действие нужно, нужно, нужно, чтоб сохранить честь, славу и государства и пользу Государя.
Друг мой, князь Григорий Александрович. Когда из Москвы к тебе я сбиралась писать, тогда твои письма от 22 июня из Кременчуга так были засунуты, что я их, спеша, найти никак не могла. Наконец, здесь, в Твери, куда я приехала вчера, я уже их открыла. Извини меня, мой друг, в такой неисправности.
Теперь на оные имею ответствовать: во-первых, расположение умов и духов в Кременчуге по отъезде моем мне весьма приятно, а твои собственные чувства и мысли тем наипаче милы мне, что я тебя и службу твою, исходящие из чистого усердия, весьма, весьма люблю, и сам ты бесценный. Сие я говорю и думаю ежедневно.
Мы до Москвы и до здешнего места доехали здоровы, и дожди за нами следовали так, что ни от пыли, ни от жаров мы не имели никакого беспокойствия. Тебе казалось в Кременчуге без нас пусто, а мы без тебя во всей дороге, а наипаче на Москве, как без рук.
В Петров день на Москве, в Успенском соборе Платона[157] провозгласили мы митрополитом и нашили ему на белый клобук крест бриллиантовый в пол-аршина в длину и поперек, и он во все время был, как павлин Кременчугский.
При великих жарах, кои у вас на полудни, прошу тебя всепокорно, сотвори милость: побереги свое здоровье ради Бога и ради нас и будь столь доволен мною, как я тобою. Прощай, друг мой, Бог с тобою. После обеда еду ночевать в Торжок.
Тверь. 6 июля 1787 г.За четыре эскадрона регулярных казаков благодарствую. Ей-богу, ты молодец редкий, всем проповедую.
Друг мой, князь Григорий Александрович. Письмо твое от 1 августа я получила третьего дня. Я с неделю сюда приехала в город, и, пока Вы в Кременчуге праздновали мое благополучное возвращение, я праздновала здесь день Преображения, слушала обедню в полковой церкви, обедала с офицерами и пила за здоровье подполковников обще с подкомандующими. Причем не оставила и говорить о том, что я едучи видела и как старший отличается, аки генерал-губернатор.
Я здорова, и все те, кои со мною приехали. Здесь с моего приезда, то есть месяц целый, все дожди идут, и, кроме одного дня, мы теплую погоду ниже издали здесь не видали. Облака непрестанно самые густые, и погода пасмурная. Такова Санкт-Петербургская каникула. Я почти живу в Эрмитаже и там погоду оставляю быть погодою.
Желаю тебе счастливого успеха в сеянии лесов и сажании садов. Сделав сие, дашь тем местам точно то, чего им недостает, уменьшением зноя солнечного, и притянешь дожди. О прииске ключей также внимала я с удовольствием. […]
По письмам Цареградским видно, что турки пошаливают. Кажется, будто англичане хотят воспользоваться французским недостатком в деньгах и для того замешались крепко в голландские дела. […]
Августа 12 числа 1787 г. из города Святого Петра, что на берегах невских и который ужасно как хорош, но в дурном весьма климате построен.
24 августа 1787 г.[…] Итак, мысли мои единственно обращены к ополчению, и я начала со вчерашнего вечера в уме сравнивать состояние мое теперь, в 1787 г., с тем, в котором находилась при объявлении войны в ноябре 1768 года. Тогда мы войну ожидали чрез год, полки были по всей империи по квартерам, глубокая осень на дворе, приготовления никакие не начаты, доходы гораздо менее теперешнего, татары на носу и кочевья степных до Тору и Бахмута; в январе они въехали в Елисаветградский округ.
План войны был составлен так, что оборона обращена была в наступление. Две армии были посланы. Одна служила к обороне империи, пока другая шла к Хотину. Когда Молдавия и подунайские места заняты были в первой и второй кампании, тогда вторая взяла Бендер и заняли Крым. Флот наряжен был в Средиземное море и малый корпус в Грузию.
Теперь граница наша по Бугу и по Кубани. Херсон построен. Крым – область империи и знатный флот в Севастополе. Корпуса войск в Тавриде, армии знатные уже на самой границе, и они посильнее, нежели были армии оборонительная и наступательная 1768 года. Дай Боже, чтоб за деньгами не стало, в чем всячески теперь стараться буду и надеюсь иметь успех.
Я ведаю, что весьма желательно было, чтоб мира еще года два протянуть можно было, дабы крепости Херсонская и Севастопольская поспеть могли, такожды и армия, и флот приходить могли в то состояние, в котором желалось их видеть. Но что же делать, если пузырь лопнул прежде времени.
Я помню, что при самом заключении мира Кайнарджийского мудрецы сомневались о ратификации визирской и султанской, а потом лжепредсказания от них были, что не протянется далее двух лет, а вместо того четверто на десятое лето началось было. Если войну турки объявили, то, чаю, флот в Очакове оставили, чтоб построенных кораблей в Херсоне не пропускать в Севастополь. Буде же сие не сделали, то, чаю, на будущий год в Днепровское устье на якоря стать им не так легко будет, как нынешний.
Надеюсь на твое горячее попечение, что Севастопольскую гавань и флот сохранишь невредимо, чрез зиму флот в гавани всегда в опасности. Правда, что Севастополь не Чесма. Признаюсь, что меня одно только страшит, то есть язва. Для самого Бога я тебя прошу – возьми в свои три губернии, в армии и во флоте всевозможные меры заблаговременно, чтоб зло сие паки к нам не вкралось слабостью.
Я знаю, что и в самом Цареграде язвы теперь не слыхать, но как они у них никогда не пресекаются, то войски оныя с собою развозят. Пришли ко мне (и то для меня единой) план, как ты думаешь войну вести, чтоб я знала и потому могла размерить по твоему же мнению тебя. В прошлом, 1786-м, тебе рескрипт дан, и уведоми меня о всем подробно, дабы я всякого бреда могла всегда заблаговременно здесь унимать и пресечь поступки и возможности.
Кажется, французы теперь имеют добрый повод туркам отказать всякую подмогу, понеже против их домогательства о сохранении мира война объявлена. Посмотрим, что Цесарь сделает. Он по трактату обязан чрез три месяца войну объявить туркам.
Пруссаки и шведы – поддувальщики, но первый, чаю, диверсию не сделает, а последний едва ли может, разве гишпанцы деньги дадут, что почти невероятно. И чужими деньгами воевать – много сделаешь? К графу Салтыкову писано, чтоб ехал в армию. Прощай, мой друг, будь здоров. У нас все здорово, а в моей голове война бродит, как молодое пиво в бочке. […]
Настоящая причина войны есть и пребудет та, что туркам хочется переделать трактаты: первый – Кайнарджийский, второй – конвенцию о Крыме, третий – коммерческий. Быть может, что тотчас по объявлении войны они стараться будут обратить все дело в негоциацию. Они поступали равным образом в 1768. Но буде мой министр в Семибашни посажен, как тогда, то им по тому же и примеру ответствовать надлежит, что достоинство двора Российского не дозволяет подавать слух никаким мирным предложениям, дондеже министр сей державы не возвращен ей.
Еще пришло мне на мысль, кой час подтверждение о войне получу, отправить повеление к Штакельбергу[158], чтоб он начал негоциацию с поляками о союзе. Буде заподлинно война объявлена, то необходимо будет в Военном Совете посадить людей, дабы многим зажимать рта и иметь кому говорить за пользу дел. И для того думаю посадить во оном графа Вал[ентина] Пушкина, ген[ерала] Ник[олая] Салтыкова, гр[афа] Брюса, гр[афа] Воронцова, гр[афа] Шувалова, Стрекалова и Завадовского. Сии последние знают все производство прошедшей войны. Генерал-прокурора выписываю от Вод Царицынских. Иных же, окроме вышеописанных, я никого здесь не имею и не знаю.
Друг мой, князь Григорий Александрович. Собственноручное твое письмо от 2 августа я сего утра получила, из которого я усмотрела подтверждение молдавских известий об объявлении войны. Благодарю тебя весьма, что ты предо мною не скрыл опасное положение, в котором находишься.
И Бог от человека не более требует, как в его возможности. Но русский Бог всегда был и есть, и будет велик, я несомненную надежду полагаю на Бога Всемогущего и надеюсь на испытанное твое усердие, что, колико можешь, все способы своего ума употребишь ко истреблению зла и препятствий родов разных. С моей же стороны, не пропущу ни единого случая подать помощи везде тут, где оная от меня потребна будет.
Рекрутский набор с пятисот двух уже от меня приказан, и прибавлять двойное число в оставшие полки в России велю и всячески тебя прошу и впредь с тою же доверенностью ко мне отписать о настоящем положении дел. Я знаю, что в трудных и опасных случаях унывать не должно, и пребываю, как и всегда, к тебе дружно и доброжелательно.
Августа 29 числа 1787 г.
ЕкатеринаДруг мой любезный, князь Григорий Александрович. Услыша, что сегодня из канцелярии Вашей отправляют к Вам курьера, то спешу тебе сказать, что после трехнедельного несказанного о твоем здоровье беспокойства, в которых ниоткуда я не получала ни строки, наконец, сегодня привезли ко мне твои письма от 13, 15 и 16 сентября, и то пред самою оперою, так что и порядочно оных прочесть не успела, не то чтобы успеть еще сего вечера на них ответствовать.
Ради Бога, ради меня, береги свое драгоценное для меня здоровье. Я все это время была ни жива ни мертва оттого, что не имела известий. Молю Бога, чтоб Вам удалось спасти Кинбурн. Пока его турки осаждают, не знаю почему, мне кажется, что Александр Васильевич Суворов в обмен возьмет у них Очаков. С первым и нарочным курьером предоставляю себе ответствовать на Ваши письма.
Прощайте, будьте здоровы, и когда Вам самим нельзя, то прикажите кому писать вместо Вас, дабы я имела от Вас известия еженедельно.
Сентября 23, 1787 г.
С Вашими именинами Вас от всего сердца поздравляю.
24 сентября 1787 г.Что Кинбурн осажден неприятелем и уже тогда четверо суток выдержал канонаду и бомбардираду, я усмотрела из твоего собственноручного письма. Дай Боже его не потерять, ибо всякая потеря неприятна. Но положим так – то для того не унывать, а стараться как ни на есть отмстить и брать реванш. Империя останется империею и без Кинбурна.
Того ли мы брали и потеряли? Всего лучше, что Бог вливает бодрость в наших солдат тамо, да и здесь не уныли. А публика лжет в свою пользу и города берет, и морские бои, и баталии складывает, и Царьград бомбардирует Войновичем. Я слышу все сие с молчанием и у себя на уме думаю: был бы мой князь здоров, то все будет благополучно и поправлено, если б где и вырвалось чего неприятное.
Что ты велел дать вино и мясо осажденным, это очень хорошо. Помоги Бог генерал-майору Реку, да и коменданту Тунцельману. Усердие Александра Васильевича Суворова, которое ты так живо описываешь, меня весьма обрадовало. Ты знаешь, что ничем так на меня не можно угодить, как отдавая справедливость трудам, рвению и способности. Хорошо бы для Крыма и Херсона, если б спасти можно было Кинбурн. От флота теперь ждать известия.
[…]
На тот год флот большой велю вооружить, как для Архипелага, так и для Балтики, а французы скажут, что хотят. Я не привыкла учреждать свои дела и поступки инако, как сходственно интереса моей империи и дел моих, и потому и державы – друг и недруг, как угодно им будет.
Молю Бога, чтоб тебе дал силы и здоровье и унял ипохондрию. Как ты все сам делаешь, то и тебе покоя нет. Для чего не берешь к себе генерала, который бы имел мелкий детайль. Скажи, кто тебе надобен, я пришлю. На то даются фельдмаршалу генералы полные, чтоб один из них занялся мелочью, а главнокомандующий тем не замучен был.
Что не проронишь, того я уверена, но во всяком случае не унывай и береги свои силы. Бог тебе поможет и не оставит, а царь тебе друг и подкрепитель. И ведомо, как ты пишешь и по твоим словам, «проклятое оборонительное состояние», и я его не люблю. Старайся его скорее оборотить в наступательное. Тогда тебе, да и всем, легче будет.
И больных тогда будет менее, не все на одном месте будут. Написав ко мне семь страниц, да и много иного, дивишься, что ослабел! Когда увидишь, что отъехать тебе можно будет, то приезжай к нам, я очень рада буду тебя видеть всегда.
По издании Манифеста об объявлении войны великий князь и великая княгиня писали ко мне, просясь: он – в армию волонтером, по примеру 1783 г., а она – чтоб с ним ехать. Я им ответствовала отклонительно: к ней, ссылаясь на письмо к нему, а к нему – описывая затруднительное и оборонительное настоящее состояние, поздней осенью и заботами, в коих оба фельдмаршала [Потемкин и Румянцев] находятся и коих умножают еще болезни и дороговизны, и неурожай в пропитании, хваля, впрочем, его намерение.
На сие письмо я получила еще письмо от него с вторительною просьбою, на которое я отвечала, что превосходные причины, описанные в первом моем письме, принуждают меня ему отсоветовать нынешний год отъезд волонтером в армию. После сего письма оба были весьма довольны остаться, расславляя только, что ехать хотели. […]
16 октября 1787 г.Друг мой, князь Григорий Александрович. Вчерашний день к вечеру привез ко мне подполковник Баур твои письма от 8 октября из Елисаветграда, из коих я усмотрела жаркое и отчаянное дело, от турков предпринятое на Кинбурн. Слава Богу, что оно обратилось так для нас благополучно усердием и храбростью Александра Васильевича Суворова и ему подчиненных войск. Сожалею весьма, что он и храбрый генерал-майор Рек ранены.
Я сему еще бы более радовалась, но признаюсь, что меня несказанно обеспокоивает твоя продолжительная болезнь и частые и сильные пароксизмы. Завтра, однако, назначила быть благодарственному молебствию за одержанную первую победу. Важность сего дела в нынешнее время довольно понимательна, но думаю, что ту сторону (а сие думаю про себя) не можно почитать за обеспеченную, дондеже Очаков не будет в наших руках.
Гарнизон сей крепости теперь, кажется, против прежнего поуменьшился; хорошо бы было, если б остаточный разбежался, как Хотинский и иные турецкие в прошедшую войну, чего я от сердца желаю.
Я удивляюсь тебе, как ты в болезни переехал и еще намерен предпринимать путь в Херсон и Кинбурн. Для Бога, береги свое здоровье: ты сам знаешь, сколько оно мне нужно. Дай Боже, чтоб вооружение на Лимане имело бы полный успех и чтоб все корабельные и эскадренные командиры столько отличились, как командир галеры «Десна». Что ты мало хлеба сыскал в Польше, о том сожалительно. Сказывают, будто в Молдавии много хлеба, не придется ли войско туда вести ради пропитания?
Буде французы, кои вели атаку под Кинбурн, с турками были на берегу, то, вероятно, что убиты. Буде из французов попадет кто в полон, то прошу прямо отправить к Кашкину в Сибирь, в северную, дабы у них отбить охоту ездить учить и наставить турков.
Я рассудила написать к генералу Суворову письмо, которое здесь прилагаю, и если находишь, что сие письмо его и войски тамошние обрадует и не излишне, то прошу оное переслать по надписи. Также приказала я послать к тебе для генерала Река крест Егорьевский третьей степени. Еще посылаю к тебе шесть егорьевских крестов, дабы розданы были достойнейшим. Всему войску, в деле бывшем, жалую по рублю на нижние чины и по два – на унтер-офицеры.
Еще получишь несколько медалей на егорьевских лентах для рядовых, хваленных Суворовым. Ему же самому думаю дать либо деньги – тысяч десяток, либо вещь, буде ты чего лучше не придумаешь или с первым курьером ко мне свое мнение не напишешь, чего прошу, однако, чтоб ты учинил всякий раз, когда увидишь, что польза дел того требует.
[…] Французские каверзы по двадцатипятилетним опытам мне довольно известны. Но ныне спознали мы и английские, ибо не мы одни, но вся Европа уверена, что посол английский и посланник прусский Порту склонили на объявление войны. Теперь оба сии дворы от сего поступка отпираются. Питт и Кармартен[159] клялись, что не давали о сем приказаний, и сами почти признали, что подозревают на самого короля и Ганноверское министерство.
В «Альтоновской» газете нашла я странный артикул, который я в иное время поставила бы за ложь, но ныне оный привлек мое внимание. Тут написано из Ливорно, что к английским консулам в Средиземном море писал посол Энсли[160], чтоб все английские вооруженные и военные суда, кои покажутся в портах, где английские консулы, прислали к нему. Я сей артикул послала к графу Воронцову, дабы его доставил до сведения Английского министерства, дабы узнать от них, как судят о таком поступке их посла, и если осталась в них хотя крошка доброго намерения, то не возьмут ли намерения отозвать такого человека, на которого вся Европа говорит, что он огонь раскладывал, а они сами говорят, что он то делал без их ведома, – следовательно, им ослушник. Левантская же компания английская, сказывают, что весьма жалуется на Энсли и его мздоимства и корыстолюбие.
Если английские министры желание имеют войти с нами в дружбу и доверенность, то, по крайней мере, не могут себя ласкать, чтоб мы дали доверенности тем (или тому), кои нам тайно и явно враждуют. Они же никогда и ни в какое время ни на какой союз с нами согласиться не хотели в течение 25 лет. Франция, конечно и бесспорно, находится в слабом состоянии и ищет нашего союза, но колико можно долее себя менажировать. С Франциею и с Англиею без союза нам будет полезнее иногда, нежели самый союз, тот или другой, – понеже союз навлечет единого злодея более. Но в случае, если бы пришло решиться на союз с той или другой державою, то таковой союз должен быть распоряжен с постановлениями, сходными с нашими интересами, а не по дуде и прихотям той или иной нации; еще менее – по их предписаниям.
Я сама того мнения, что войну сию укоротить должно, колико возможно. Я почитаю, что укрощение Ее много зависит от Ваших, дай Боже, успехов. Вы столь благоразумно вели двухмесячную оборону, что враг имени христианского и нарушитель мира, приготовясь коварно и лукаво долгое время к войне и объявя ее внезапно, хотя начал тотчас действовать наступательно, не выиграл, однако нигде ни пяди.
Буде Вам Бог поможет, как я надеюсь, в нынешних Ваших предприятиях, то тем самым откроется дорога к мирному трактованию и миру. Но к сему не одна наша, но и неприятельская склонность нужна. Теперь они еще горды и надуты своею спесиею и чужим наущением, а визирь, спасая свою голову, будет сутенировать, колико ему можно, им начатое. Но по смене его скорее достигнем.
Я же от мира никогда не прочь, но Вы сами знаете, что возвращение Тавриды и уничтожение всех трактатов и заключение новых – турецкий был предмет, которого не токмо на конференции предлагали, но и в свое объявление войны не постыдились вносить. Французскому двору сказано, что мы от мира не прочь и всегда готовы, когда только сходственно достоинствам империи, слушать мирные предложения. Шаузель [Гуфье][161] пишет к Сегюру[162], что он старается привлечь паки доверенность турок.
За величайшее несчастие почитать бы можно, если б хлеба не было у нас. Сие несчастие велико во время мира, а еще более, конечно, в военное время, и тогда облегчило бы таковое внутреннее состояние и то, чтоб армию ввести в неприятельскую землю и тамо достать оный. Дабы же дороговизну для солдат облегчить и им доставить мясо, советую Вам на мой собственный счет закупить в Украине или где за удобнее найдете – тысяч на сто рублей или более – баранов и быков, и оными производить порции солдатам по стольку раз в неделю, как за благо рассудите.
Буде никакой надежды к миру чрез зиму не будет, то, как рано возможно, весной отправим отселе флот. Нужно, чтоб оному от Англии не было препятствия, конечно; но, когда мои двадцать кораблей пройдут Гибралтарский залив, тогда, признаюсь, что бы и лестно, и полезно быть могло, чтоб авангард его была эскадра французская, и арьергард оной же нации, а наши бы корабли составляли Кордарме и так бы действовали и шли кончить войну, проходя проливы.
За сию услугу и заслужа грехи, французам бы дать можно участие в Египте, а англичане нам в сем не подмогут, а захотят нас вмешать в свои глупые и бестолковые германские дела, где не вижу ни чести, ни барыша, а пришлось бы бороться за чужие интересы. Ныне же боремся, по крайней мере, за свои собственные, и тут, кто мне поможет, тот и товарищ. Касательно же наших торгов с Англиею, тут себе руки связывать не должно.
Прощай, мой друг, вот тебе мои мысли.
Ноября 6 числа, 1787 г.Король Шведский поехал в Копенгаген и в Берлин. Знатно, он у французов ушел, а поехал достать на место французских субсидий – прусских или английских. Странно будет, если Англия ему даст деньги противу датчан.
Il faut avouer que l’Europe est un salmigondis singulier bien dans ce moment[163].
Они, как хотят, лишь бы Бог дал нам с честью выпутываться из хлопот. […]
Друг мой, князь Григорий Александрович. Тебе известно, с чем Нассау сюда приехал, и, приехавши, я его выслушала. Вскоре потом Сегюр послал курьера во Францию, которого он и Нассау нетерпеливо ждали. Сей курьер на сих днях и действительно возвратился, и Сегюр после того имел конференцию с вице-канцлером, в которой искал своему разговору дать вид такой, будто я ищу со Франциею установить союз и чтоб для того отселе посланы были полномочия во Францию, чтоб о том деле тамо трактовать, а не здесь.
Нассау же просил, чтоб я его к себе допустила, и, пришед, мне сказал, что он в крайней откровенности и с глубоким огорчением долженствует мне сказать, что Французский двор его во всем здесь сказанном совершенно desavouepoвyeт и что оный двор с Лондонским в негосиации находится, чего он от меня не скроет.
Сколько во всех сих или предыдущих разговорах правды или коварства, оставляю тебе самому разбирать: но о том нимало не сомневаюсь, что то и другое – более со стороны двора, нежели Нассау и Сегюра. Первый теперь едет к тебе, ибо более здесь остаться не хочет. И если поступит сходственно желанию его двора, то будет искать тебя отвратить ото всякого предприятия противу турок, к которым, кажется, наклонность как Французского, так и Английского министерства и двора, равносильна в нынешнее время.
Гордое и надменное письмо лорда Кармартена к здешнему политичному щенку Фрезеру к тебе послано. Отчет подобной никакой двор у другого требовать не властен. Они же нам взамен ничего не предлагают, да и посла своего бешеного нам в сатисфакцию не отзывают: одним словом, и тот, и другой двор поступают равно коварно и огорчительно тогда, когда они от нас никогда не видали огорчения или каверзы против себя, и мы их во всяком случае менажировали.
О неудачном предприятии на Белград со стороны цесарской Вам, чаю, уже известно. Лучшее в сем случае есть то, что сей поступок обнаружил намерение цесаря пред светом и что за сим уже неизбежно война воспоследует у него с турками.
Я тобою, мой друг, во всем была бы чрезвычайно довольна, если б ты мог себя принудить чаще ко мне писать и непременно отправить еженедельно курьера. Сей бы успокоил не токмо мой дух, сберег бы мое здоровье от излишних беспокойств и отвратил бы не одну тысячу неудобств. В сей час ровно месяц, как от Вас не имею ни строки. Из каждой губернии, окромя имени моего носящей, получаю известия дважды в месяц, а от Вас и из армии – ни строки, хотя сей пункт есть тот, на который вся мысль и хотение устремлены. C’est me faire mourir de mille morts, mais pas d’une[164].
Вы ничем живее не можете мне казать привязанность и благодарность, как писать ко мне чаще, а писать из месяц в месяц, как ныне, – сие есть самый суровый поступок, от которого я страдаю ежечасно и который может иметь самые злые и неожидаемые и нежелаемые от Вас следствия.
Прощайте, Бог с Вами.
Декабря 30 числа, 1787 г.С Новым годом Вас поздравляю.
11 января 1788 г.Друг мой, князь Григорий Александрович. Письма твои от 25 декабря и от 3 января до моих рук доставлены. Из первого с удовольствием усматриваю, что ты с оскорблением принял мысли, будто бы в твоих мыслях колебленность место иметь могла, чего и я не полагала.
Прусский двор менажируем, но, на его вражеское поведение при разрыве в Цареграде смотря, немного доброго от него ожидать нам. При сем посылаю тебе примечания о польском плане. Что ты был болен, возвратясь из Херсона, о том весьма жалею; и я несколько похворала, но теперь оправилась. Здесь в один день и оттепель, и от двадцати до двадцати пяти градусов мороза.
Что твои заботы велики, о том нимало не сомневаюсь, но тебя, мой свет, станет на все большие и малые заботы. Я дух и душевные силы моего ученика знаю и ведаю, что его на все достанет. Однако будь уверен, что я тебя весьма благодарю за твои многочисленные труды и попечения. Я знаю, что они истекают из горячей твоей любви и усердия ко мне и к общему делу.
Пожалуй, отпиши ко мне, что у тебя пропало судов в прошедшую осень, чтоб я могла различить всеместное вранье от истины, и в каком состоянии теперь эскадра Севастопольская и Днепровская? Дай Бог тебе здоровья в таких трудных заботах. Будь уверен, что хотя заочно, но мысленно всегда с тобою и вхожу во все твои беспокойства по чистосердечной моей к тебе дружбе. И то весьма понимаю, что будущие успехи много зависят от нынешних приготовлений и попечений. Помоги тебе Всевышний во всем и везде.
Если тебе удастся переманить запорожцев, то сделаешь еще дело доброе, если их поселишь в Тамани, je crois que c’est vraiment leur place[165]. […] Что пишешь об окончании укрепления Кинбурна, об оборонительном состоянии Херсона и о заготовлении осады Очаковской, – все сие служит к моему успокоению и удовольствию. Предприятия татарские авось-либо против прежних нынешний раз послабее будут, а если где и чего напакостят, то и сие вероятно, что будет немного значущее и им дорого станет.
Друг мой, князь Григорий Александрович. Из письма твоего от 15 февраля вижу я, что при несовершенном здоровье твоем ты принужден по причине болезни твоей канцелярии все сам писать; а как и Попов очень болен, то пришло мне на ум прислать к тебе на время твоего старого правителя канцелярии Турчанинова; если иного нет, то, по крайней мере, он проворен, как сам знаешь. Употреби его либо возврати его обратно, как тебе угодно.
Пока у вас реки вскрываются и грязи, у нас еще зима глубокая, лед толстый, и снег ежедневно умножается. Добрым твоим распоряжением сия война с турками есть первая еще, в которой татары в Россию не ворвались никуда. Происшествия Хотинские суть третья петада, по моему счету, которую цесарцы сделали. Послу со всякою благопристойностью сказано, что мы имя цесаря без его дозволения или согласия не употребляем никогда и для того на сии польские вести мало полагаемся, ибо оттудова часто приходят ложные и непристойные.
Касательно польских дел – в скором времени пошлются приказания, кои изготовляются для начатия соглашения; выгоды им обещаны будут; если сим привяжем поляков и они нам будут верны, то сие будет первый пример в истории постоянства их. Если кто из них (исключительно пьяного Радзивилла[166] и гетмана Огинского[167], которого неблагодарность я уже испытала) войти хочет в мою службу, то не отрекусь его принять, наипаче же гетмана графа Броницкого, жену которого я от сердца люблю и знаю, что она меня любит и памятует, что она русская.
Храбрость же его известна. Также воеводу Русского Потоцкого[168] охотно приму, понеже он честный человек и в нынешнее время поступает сходственно совершенно с нашим желанием. Впрочем, поляков принять в армию и сделать их шефами подлежит рассмотрению личному, ибо ветреность, индисциплина или расстройство и дух мятежа у них царствуют.
Оной же вводить к нам, наипаче же в армии и корпуса, ни ты, ни я и никто, имея рассудок, желать не может, но всячески стараемся оные отдалить от службы, колико можно. В прочем, стараться буду, чтобы соглашение о союзе не замедлилось, дабы нация занята была.
Что рекруты собраны поздно, сему причиною отдаленность мест и образ и время, когда объявлена война. Я о сем сведала в конце августа, а в первых числах сентября первый набор приказан был, который, я думала по первым известиям, достаточен. Вскоре же потом и второй последовал. Дай Боже, чтоб болезни прекратились.
Если роты сделать сильнее, то и денег, и людей более надобно. Вы знаете, что последний набор был со ста душ. Деньгами же стараемся быть исправны, налогов же наложить теперь не время, ибо хлебу недорода, и так недоимок немалое число.
Отгон скота в семи верстах от Очакова донцами и верными запорожцами и прогон турецкой партии я усмотрела с тем удовольствием, которое чувствую при малейшем успехе наших войск. […]
Признаться должно, что мореходство наше еще слабо и люди непривычны и к оному мало склонны. Авось-либо в нынешнюю войну лучше притравлены будут. Морские командиры нужны паче иных. На Кингсбергена не считаю, понеже разные связи его вяжут доныне. Дела в Голландии не кончены. Принц Оранский старается сделаться владетелем, жена его собирает под рукою себе партию, а патриоты паки усиливаются. Надо ждать весны, что там покажет.
Прощай, мой друг, будь здоров. Бог с тобою. Я здорова.
Февраля 26 числа, 1788 г.
27 мая 1788 г.Друг мой любезный, князь Григорий Александрович. Вчерашний день, когда я сбиралась ответствовать обстоятельно на твое письмо от 10 сего месяца, тогда приехал Рибопьер[169] с его отправлением от 19 мая. Исправное и подробное твое описание состояния дел и действий, также отправление курьеров чаще прежнего служит к моему удовольствию и спокойствию душевному.
Я вижу из твоих писем вообще разумные твои распоряжения, что все уже в движении и что во всех случаях и везде соответствуешь в полной мере моей к тебе доверенности и моему выбору. Продолжай, мой друг, как начал. Я надеюсь, что Бог благословит твою ревность и усердие ко мне и к общему делу и увенчает твои предприятия успехами. А во мне, будь уверен, – имеешь верного друга.
От фельдмаршала Румянцева давным-давно я писем не имею и не ведаю, что он делает, а только о сем знаю чрез письма его, которые ты ко мне присылаешь. Уже скажет, я чаю, что смерть матери его погрузила в такую печаль, что писать не мог.
Мичману Глези и полковнику Платову Владимирские кресты даны в крестины великой княжны Екатерины. Мне Рибопьер сказал, что ты Пауля Жонеса[170] весьма ласково принял, чему я тем паче радуюсь, что он несколько опасался, что он тебе не понравится. Но я его уверила, что с усердьем и ревностью тебе весьма легко угодить можно и что ты его приезд ожидаешь нетерпеливо, с чем и поехал.
И вслед за ним для подкрепления его в добрых расположениях я к нему послала оригинальное письмо Симолина[171], тогда полученное, в котором прописано было, как ты домогался Пауля Жонеса достать, что служить могло ему доказательством, как ты к нему расположен и об нем думаешь.
На оставление Крыма, воля твоя, согласиться не могу. Об нем идет война; если сие гнездо оставить, тогда и Севастополь, и все труды, и заведения пропадут, и паки восстановятся набеги татарские на внутренние провинции, и Кавказский корпус от тебя отрезан будет, и мы в завоевании Тавриды паки упражнены будем, и не будем знать, куда девать военные суда, кои ни во Днепре, ни в Азовском море не будут иметь убежища.
Ради Бога, не пущайся на сии мысли, коих мне понять трудно и мне кажутся неудобными, понеже лишают нас многих приобретенных миром и войною выгоды и пользы. Когда кто сидит на коне, тогда сойдет ли с оного, чтоб держаться за хвост? Впрочем, будь благонадежен, что мысли и действия твои, основанные на усердии, ревности и любви ко мне и к государству, каков бы успех ни был, тебе всеконечно в вину не причту.
В Польшу давно курьер послан и с проектом трактата, и думаю, что сие дело уже в полном действии. Универсал о созыве Сейма уже в получении здесь. Граф Чернышев сюда возвратился.
Из письма твоего от 19 мая вижу, что ты получил мое извещение о рождении моей внуки Екатерины. При сем случае родители Ее оказались против прежнего ко мне гораздо ласковее, понеже почитают некоторым образом, что я матери спасла живот, ибо жизнь Ее была два часа с половиною в немалой опасности от единого ласкательства и трусости окружающих ее врачей, и, видя сие, ко времени и кстати удалось мне дать добрый совет, чем дело благополучно кончилось, и теперь она здорова, а он [великий князь Павел Петрович] собирается к вам в армию, на что я согласилась, и думает отселе выехать двадцатого июня, то есть после шести недель чрез день, буде шведские дела его не задержат. Буде же полуумный король шведский начнет войну с нами, то великий князь останется здесь, и я графа Пушкина назначу командиром армии против шведов, а Брюс[172] – бесись, как хочет: как мне дураку, который неудачу имел, где был, вверить такую важную в теперешнее время часть.
Шведские дела теперь в самом кризисе. Что по оным делается и делалось – усмотришь из сообщаемых тебе с сим курьером бумаг. О вооружениях наших для Средиземного моря, о которых всем дворам сообщено и, следовательно, и шведскому, король шведский притворяется, будто принимает, что то все против него, и в Карлскроне делает заподлинно великое вооружение.
Команду сего флота дал своему брату, поехал теперь в Карлскрону выводить корабли на рейд, а пред тем собрал Сенат и оному объявил, что как Россия против него вооружается и его всячески к войне провоцирует (к сему прибавил лжей и клеветы на нас и на своего министра Нолькена), то он должен готовиться к войне же. Все сенаторы хвалили его бдение. Выехавши из Сената, приказал галеры вооружить и его гвардии и еще шести полкам готовиться к переправе в Финляндию, куда, возвратясь из Карлскроны, сам отправиться намерение имеет.
Подозревают, что Порта ему дала денег на сие вооружение. Пока король сии распоряжения делал, его министр призвал датского министра и ему говорил, что, видя российское вооружение, он должен вооружиться, и что надеется на их дружбу, что ему сие не почтут в недружбу. С сими вестьми курьер приехал от Разумовского. К сему разговору Оксеншерны[173] с датским министром и от сего последнего сюда сообщенного теперь возьмем повод к объяснению: вице-канцлер скажет Нолькену, а Разумовский в Стокгольме Оксеншерну, как ты увидишь из бумаг, и может быть, что дело кончится тем, что король, приехавши в Финляндию, со мною обошлется, как обыкновенно, комплиментом и своею демонстрациею будет доволен.
Но буде вздумает воевать, то стараться будем обороняться, а что с кого-нибудь получил денег, о том сомнения нет. Средиземную эскадру теперь выводят на рейд, такожде войска отчасти уже посажены на суда. Датские и английские транспортные к нам явились с тем только, чтоб имели наш флаг. Сей им я дозволила, и о том и спора нет. Посмотрим, будут ли шведы сему флоту препятствовать выйти из Балтики или нет, и получили ли на то денег. Все сие в скором времени откроется.
Что греки у тебя весьма храбро поступают – сему радуюсь, а что наших наука погубила, быть легко может. Турки кажутся в немалом замешательстве. Странно, что чужестранные у тебя захотели лучше гусарский наряд, нежели иной, а с сим нарядом пошли в передовую конницу. Александр Васильевич Суворов сделает, как я вижу, контрвизит Очакову. Бог да поможет вам.
Кто, мой друг, тебе сказывал, будто император мне и чрез своего посла вице-канцлеру жаловался на несодействие твоей армии, тот совершенно солгал. О сем ни единого слова ни я, ни вице-канцлер ни в какое время не слыхали ни прямо, ни стороною. Впрочем, кому известно столько, как мне самой, – с открытия войны сколько ты трудов имел: флот чинил и строил, формировал снова пехоту и конницу, собрал в голодное время магазины, снабдил артиллерию волами и лошадьми, охранял границу, так что во всю зиму ни кота не пропускал. (NB. Сему еще примеру не было, и сему же я многократно дивилась) и Кинбурн предохранил.
[…]
26 июня 1788 г.Друг мой любезный. Сего утра я получила чрез графа Апраксина твои письма, коими меня уведомляешь, что Всевышний даровал нам победу, что флот капитан-паши гребною флотилиею разбит; шесть кораблей линейных сожжены, два посажены на мель, а тридцать судов разбитых спаслись под своею крепостию; что капитан-пашинский и вице-адмиральский корабли истреблены и более трех тысяч в плен нам попались, и что батареи генерала Суворова много вреда сделали неприятелю.
Сему я весьма обрадовалась. Великая милость Божия, что дозволил чудесно гребными судами победить военные корабли. Ты получишь рескрипт, в котором написаны награждения. Нассау даю три тысячи душ, Алексиано – шестьсот, и кресты посланы. Тебя, моего друга, благодарю за твои труды и попечения, и да поможет тебе сам Бог. С нетерпением будем ждать подробностей всего сего, и прошу всем сказать от меня величайшее спасибо. […]
Друг мой, князь Григорий Александрович. Письма твои от 17 ноября вчерашний день я получила и из оных вижу, что у вас снег и стужа, как и здесь. Что Вы людей стараетесь одевать и обувать по-зимнему, то весьма похваляю. О взятии Березани усмотрела с удовольствием. Молю Бога, чтоб и Очаков скорее сдался. Кажется теперь, когда флот турецкий уехал, уже им ждать нечего.
Пленному, в Березани взятому двубунчужному Осман-паше, жалую свободу и всем тем, кому ты обещал. Прикажи его с честью отпустить. Из Царяграда друзья капитан-паши домогаются из плена нашего освободить какого-то турецкого корабельного капитана, как увидишь из рескрипта, о том к тебе писанного.
[…]
Ненависть противу нас в Польше восстала великая. И горячая любовь, напротив, – к Его Королевскому Прусскому Величеству. Сия, чаю, продлится, дондеже соизволит вводить свои непобедимые войска в Польшу и добрую часть оной займет. Я же не то чтоб сему препятствовать, и подумать не смею, чтоб Его Королевскому Прусскому Величеству мыслями, словами или делом можно было в чем поперечить. Его Всевысочайшей воле вся вселенная покориться должна.
Ты мне повторяешь совет, чтоб я скорее помирилась с шведским королем, употребя Его Королевское Прусское Величество, чтоб он убедил того к миру. Но если бы Его Королевскому Прусскому Величеству сие угодно было, то бы соизволил Шведского не допустить до войны.
Ты можешь быть уверен, что сколько я ни стараюсь сблизиться к сему всемогущему диктатору, но лишь бы я молвила что б то ни было, то заверно уничтожится мое хотение, а предпишутся мне самые легонькие кондиции, как, например: отдача Финляндии, а может быть, и Лифляндии – Швеции; Белоруссии – Польше, а по Самаре-реке – туркам. Я если сие не приму, то войну иметь могу. Штиль их, сверх того, столь груб, да и глуп, что и сему еще примеру не бывало, и турецкий – самый мягкий в рассуждении их.
Я Всемогущим Богом клянусь, что все возможное делаю, чтоб сносить все то, что эти дворы, наипаче же всемогущий прусский, делают. Но он так надулся, что если лоб не расшибет, то не вижу возможности без посрамления на все его хотения согласиться: он же доныне сам не ведает, чего хочет, либо не хочет.
Теперь английский король умирает, и если он околеет, то авось-либо удастся с его сыном (который Фокса[174] и патриотической английской партии доныне слушался, а не ганноверцев) установить лад. Я ведаю, что лиге немецкой очень не нравились поступки прусские в Дании.
Позволь сказать, что я начинаю думать, что нам всего лучше не иметь никаких союзов, нежели переметаться то туды, то сюды, как камыш во время бури. Сверх того, военное время не есть период для сведения связи. Я ко мщению несклонна, но что чести моей и империи и интересам ее существенным противно, то ей и вредно: провинции за провинциею не отдам; законы себе предписать – кто даст – они дойдут до посрамления, ибо никому подобное никогда еще не удавалось, они позабыли себя и с кем дело имеют. В том и надежду дураки кладут, что мы уступчивы будем!
Возьми Очаков и сделай мир с турками. Тогда увидишь, как осядутся, как снег на степи после оттепели, да поползут, как вода по отлогим местам. Прощай, Бог с тобою. Будь здоров и благополучен. О Максимовиче[175] жалею очень.
Ноября 27, 1788 г.
16 декабря 1788 г.За ушки взяв обеими руками, мысленно тебя целую, друг мой сердечный, князь Григорий Александрович, за присланную с полковником Бауром весть о взятии Очакова. Все люди вообще чрезвычайно сим счастливым происшествием обрадованы. Я же почитаю, что оно много послужит к генеральной развязке дел. Слава Богу, а тебе хвалу отдаю и весьма тебя благодарю за сие важное для империи приобретение в теперешних обстоятельствах.
С величайшим признанием принимаю рвение и усердие предводимых Вами войск от вышнего до нижних чинов. Жалею весьма об убитых храбрых мужах; болезни и раны раненых мне чувствительны, желаю и Бога молю об излечении их. Всем прошу сказать от меня признание мое и спасибо. Жадно ожидаю от тебя донесения о подробностях, чтоб щедрою рукою воздать кому следует по справедливости. Труды армии в суровую зиму представить себе могу, и для того не в зачет надлежит ей выдать полугодовое жалованье из экстраординарной суммы. […]
[Конец апреля 1789 г.]Когда мне скажешь, какие недостатки во флоте, тогда поправить приказания дать можно будет.
Касательно артиллерии скажу, что теперь весьма трудно в ней сделать перемену, ибо, не знав куда чего повезешь, в нужде здесь не сыщу, в чем иногда крайность быть может. Я в прошедшее лето видела таковые обстоятельства, что, когда об них вздумаю, так волосы дыбом станут. Тогда писать к тебе некогда и ждать от тебя, что нужно, за собою потянуть может великие неудобности, а мимо тебя никто не осмелится за чего взяться. Бога для, на теперешний случай и когда так близко возле столицы театр войны, оставь вещи как есть. Теперь ли время завода и перемен частей.
Награждение я тебе с радостью уделю. Но от сего, любя меня, теперь откажись. Если б в мирное время ты б разделил Военную коллегию, как мой проект был, на столько департаментов, как служба требовала, то бы и артиллерия тут же давно входила. Ты знаешь мое к тебе расположение. Мне об ней говорить нечего. Доверенность равно велика, но необходимость переменить не могу.
Друг мой сердечный, князь Григорий Александрович. Сегодня разменяют в Вереле ратификации мирные со шведом, и сей курьер отправляется к тебе, чтоб тебе сообщить сюда присланные, по-моему, постыдные декларации, размененные в Рейхенбахе. Касательно до нас предписываю тебе непременно отнюдь не посылать никого на их глупый конгресс в Бухарест, а постарайся заключить свой особенный для нас мир с турками, в силу тебе данной и мною подписанной инструкции.
Пруссак паки заговаривает полякам, чтоб ему уступили Данциг и Торун, сей раз на наш счет лаская их, им отдает Белоруссию и Киев. Он всесветный распорядитель чужого. Гольцу[176] сделан будет учтивый ответ, ничего не значущий, на его сообщение о Рейхенбахской негосиации. Прощай, мой друг, Бог с тобою.
Августа 9 числа, 1790 г.Одну лапу мы из грязи вытащили. Как вытащим другую, то пропоем Аллилуйя. […]
Друг мой любезный, князь Григорий Александрович. Чрез сии строки ответствую на письма твои от 3, 16 и 18 августа. Касательно несчастной потери части флотилии[177], о коей упоминаешь, вот каково мое было поведение в сем деле: кой час Турчанинов ко мне приехал с сим известием, я более старалась умалять несчастье и поправить как ни на есть, дабы неприятелю не дать время учинить нам наивящий вред. И для того приложила всевозможное попечение к поднятию духа у тех, кои унывать бы могли.
Здесь же выбрать было не из много излишних людей, но вообще действовано с наличными, и для того я писала к Нассау, который просил, чтоб я его велела судить военным судом, что он уже в моем уме судим, понеже я помню, в скольких битвах победил врагов империи; что нет генерала, с коим не могло случиться несчастье на войне, но что вреднее унынья ничего нет; что в несчастии одном дух твердости видно.
Тут ему сказано было, чтоб он собрал, чего собрать можно, чтоб истинную потерю описал и прислал, и все, что надлежало делать и взыскать, и, наконец, сими распоряжениями дело в месяц до того паки доведено было, что шведский гребной флот паки заперт был, и в таком положении, что весь пропасть мог, чего немало и помогло к миру.
Что ты сей мир принял с великой радостью, о сем нимало не сомневаюсь, зная усердие твое и любовь ко мне и к общему делу. Ласкательно для меня из твоих уст слышать, что ты оный приписуешь моей неустрашимой твердости. Как инако быть Императрице Всероссийской, имея шестнадцать тысяч верст за спиною и видя добрую волю и рвение народное к сей войне.
Теперь что нас Бог благословил сим миром, уверяю тебя, что ничего не пропущу, чтоб с сей стороны нас и вперед обеспечить, и доброе уже начало к сему уже проложено. От короля шведского сюда едет генерал Стединг[178], а я посылаю фон дер Палена[179] на первый случай.
Я уверена, что ты со своей стороны не пропустишь случай, полезный к заключению мира: неужто султан и турки не видят, что шведы их покинули, что пруссаки, обещав им трактатом нас и Венский двор атаковать в прошедшую весну, им чисто солгали? С них же требовать будут денег за издержки, что вооружились. Чего дураки ждать могут? Лучше мира от нас не достанут, как мы им даем, а послушают короля прусского – век мира не достанут, понеже его жадности конца не будет. Я думаю, ежели ты все сие к ним своим штилем напишешь, ты им глаза откроешь.
У вас жары и засуха, и реки без воды, а у нас с мая месяца как дожди пошли, так и доныне нет дня без дождя, и во все лето самое несносное время было, и мы руки не согрели. С неслыханной скоростью ты перескакал из Очакова в Бендеры. Мудрено ли ослабеть после такой скачки? Рекомендованных от тебя, а именно – твоего достойного корнета и графа Безбородка, о которых просишь, – будь уверен, не оставлю без оказания милости и отличия. За присланную ко мне прекрасную табакерку и за хороший весьма ковер благодарствую. То и другое весьма мне нравится, и, следовательно, сдержи слово: ты обещался быть весел, ежели понравятся, а я люблю, чтоб ты был весел.
Празднование шведского мира здесь я назначила в осьмой день сентября и стараться буду, сколько смысл есть, изворотиться. Но часто, мой друг, чувствую, что во многих случаях хотелось бы с тобою говорить четверть часа. Игельстрома пошлю с полками, финскую войну отслужившими, в Лифляндию. Что болезни у вас в людях умножаются, о сем очень жалею. Несказанно сколько больных было и здесь с весны.
Касательно до фельдмаршала Румянцева и его пребывания под разными выдумками в Молдавии, я думаю, что всего лучше послать ему сказать, что легко случиться может, что турки его вывезут к себе скоро, ежели он не уедет заранее. А ежели сие не поможет, то послать к нему конвой, который бы его, сберегая, выпроводил. Но воистину, ради службы прежней сберегаю, колико можно, из одной благодарности и памятую заслуги его персоны, а предки мои инако бы поступили.
Булгаков[180] уже должен теперь быть в Варшаве. Мир со шведами тамо, так, как везде, порасстроил злостные умы. Увидим, какие меры возьмут, а ежели тебе Бог поможет турок уговаривать, то наивяще враги уймутся. Прощай, мой друг, Христос с тобою.
Завтра, в день святого Александра Невского, кавалеры перенесут мощи его в соборную того монастыря церковь и ее освятят в моем присутствии. И стол кавалерский будет в монастыре, а за другим с великою княгинею будет духовенство и прочие пять классов, как бывало при покойной императрице Елисавете Петровне. Пребываю с непременным доброжелательством.
Августа 29 числа, 1790 г.Завтра, даст Бог здоровья, при столе в Невском монастыре будут петь со всеми инструментами «Тебе, Бога, хвалим», что ты ко мне прислал. Новгородскому и Петербургскому митрополиту я в знак моего признания при строении церкви сегодня вручила панагию с изумрудами, гораздо хорошую. […]
Позабыла я тебе, мой друг, в сегодняшнем письме сказать, что ко мне прислана из Голландии от купца в подарок выкраденная из Архива французских дел военных книга: «Описание, французскими инженерами деланное, турецких набережных мест». Планов, однако же, и карт по сю пору нет. Она довольно любопытна, и для того ее к тебе посылаю в подарок. Авось-либо в чем ни на есть тебе пригодится. Прощай, Бог с тобою.
Августа 29 числа, 1790 г.
Друг мой сердечный, князь Григорий Александрович. Письма твои от 15 августа до моих рук доставлены, из которых усмотрела пересылки твои с визирем, и что он словесно тебе сказать велел, что ему беда, и что ты ответствовал, почитая все то за обман. Но о чем я всекрайне сожалею и что меня жестоко беспокоит – есть твоя болезнь и что ты ко мне о том пишешь, что не в силах себя чувствуешь оную выдержать. Я Бога прошу, чтоб от тебя отвратил сию скорбь, а меня избавил от такого удара, о котором и думать не могу без крайнего огорчения.
О разогнании турецкого флота здесь узнали с великою радостью, но у меня все твоя болезнь на уме.
Смерть Принца Виртембергского[181] причинила великой княгине немалую печаль. Прикажи ко мне писать кому почаще о себе. Означение полномочных усмотрела из твоего письма. Все это хорошо, а худо то только, что ты болен. Молю Бога о твоем выздоровлении. Прощай, Христос с тобою.
Августа 28 дня, 1791 г.
Платон Александрович[182] тебе кланяется, и сам пишет к тебе.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Коронация императрицы Екатерины Второй[183]
В приложении № 80-му «Санкт-Петербургских ведомостей» за 1762 год была напечатана корреспонденция «Из Москвы от 24-го сентября» о происшедшей в 22-й день сентября коронации, миропомазании и причащении императрицы Екатерины ІІ-й Алексеевны. К корреспонденции этой было приложено сообщение о порядке, в котором происходило священнодействие в Большом Успенском соборе.
По приближении к церковным соборным дверям Ее Императорского Величества, весь церковный синклит, а именно: более двадцати архиереев, множественное число архимандритов и прочих духовных чиноначальствующих встретили, где преосвященный архиепископ новогородский поднес крест к целованию, а преосвященный митрополит московский окропил святою водою путь Ее Величества.
И таким образом в предшествии всего духовенства Ее Величество препровождена была к царским вратам, где учиня троекратное поклонение, приложиться изволила к святым иконам, и потом взойти на трон великолепно в церкви устроенной, и сесть на престоле императорском. Тем временем псалом Давидов «Милость и суд воспою Тебе, Господи» пет был клиром.
По сем церковное действие коронования началось преосвященным архиепископом новогородским со всем освященным собором. И когда Ее Императорское Величество, по принятии на Себя порфиры (которую на Ней так как и орден святого апостола Андрея оправили обер-гофмейстерина графиня Анна Карловна Воронцова и гофмейстерина Елена Александровна Нарышкина) Сама возложить на Себя корону изволила, то в тот момент пушечная пальба на Красной площади произведена была, и полки, стоящие по всему городу Кремлю, учинили троекратным беглым огнем первую салютацию.
А предстоящее все на троне принесли свое всеподданнейшее поздравление Ее Императорскому Величеству. И действие коронования окончалось приветствием от всего Отечества Российского, тем же преосвященным Димитрием, архиепископом новогородским. Ее Императорское Величество в продолжение литургии на том же троне стоять изволила во всем императорском одеянии, им Ее на главе корону и держа в правой руке скипетр, а в левой державу, которые при совершении некоторого только священнодействия евхаристии отлагать изволила, и отдавать держателям на троне, в том же порядке предстоящим.
По пропетии каноника, два преосвященных архиерея повестили Ее Императорскому Величеству о наступающем миропомазании. Тогда Ее Императорское Величество, сняв с себя корону, и как оную, так скипетр и державу препоручить соизволила держателям оных, которые ей и предшествовали к алтарю; а Сама с благоговением приступить соизволила к миропомазанию, которое преосвященный новогородский и совершил.
В то время во всем городе колокольный звон начался, и вторая учинена была пушечная и беглым огнем от полков пальба: а потом вошед Своею только Особою в царские врата и, приступя к престолу Господню, из потира приобщиться изволила Святых Тайн по царскому обыкновению, и принесши Всевышнему благодарение, выйти из алтаря и вступить на прежних Царей Российских церковное место, им Ее на главе корону и держав скипетр и державу в руках Своих, где и остаться изволила до конца божественной литургии.
Между тем вся процессия в прежний порядок постановилась, и Ее Императорское Величество в порфире и короне, держа скипетр и державу в руках своих, намерение восприяла, по обычаю древнему, предкам Своим поклониться в Архангельском соборе, и святым мощам приложиться в Благовещенском, куда из Успенского собора и шествовать процессиею изволила. В сей момент можно было видеть нелицемерное сердце, мысль и дух обнаженные народа бесчисленного, который, достигши желаемого, увидел свою Всемилостивейшую Государыню коронованную уже в порфире и короне».
Корреспонденция эта стала народным достоянием и, будучи прочитана с понятным любопытством, всюду породила в то время, как порождает и теперь, суждения и толки при обсуждении помещенных в ней слов: «а потом вошед Своею только Особою в царские врата и, приступя к престолу Господню, из потира приобщиться изволила Святых Тайн по царскому обыкновению». Вывод из народившихся по этому предмету пересудов и толкований последовал следующий: императрица самовольно вошла в алтарь, самовольно взяла в руки потир и самовольно приобщилась из него Святых Тайн, и этими действиями нарушила 44-е правило Лаодикийского вселенского собора, коим установлено воспрещение входить женщинам в алтарь, и пункт Инструкции благоч., не дозволяющий прикасаться к священным сосудам никому, кроме священнослужителей.
Иные, более начитанные толкователи, находя в главе 66-й Номоканона сказание: «Мирстии во святой алтарь да не входят, ни мужие, ни жены, по 69-му правилу еже в Трулле. Инокиня же входит и пометает, по 50-му правилу святого Никифора Цареградского, приведенному по редакции Арменопула, в коей пояснено: «Достоит инокиням в монастырех своих входити во святой алтарь, и вжигати свещи и кандила и украшати храм»; другие, отыскав в статьях VI-го вселенского собора в Лаодикии правило 69-е, дозволяющее царям входить в алтарь, усвоивали и за царицами право пользования этим преимуществом, но не находя нигде разрешения не то, что царицам, но и царям брать потир с престола в руки и лично самим приобщиться из оного Святых Тайн по царскому обыкновению, недоумевали, склоняясь к убеждению, что упомянутое в корреспонденции событие ничем оправдано быть не может.
Всем этим недоумениям не было бы места, если бы своевременно были опубликованы, во-первых, «Чин церковный, который во время Высочайшей Ее Императорского Величества коронации до Собственного Ее Императорского Величества ведения принадлежит»[184], составленный Святейшим Правительствующим Синодом, прочтенный им сентября 19-го дня 1762 года по печатному тексту и получивший резолюцию «Делать по сему», и, во-вторых, «Журнал порядка церемонии о коронации 1762 года», сохранившийся в архиве Правительствующего Сената.
Чин коронации, принадлежащий до собственного ведения миропомазуемой Персоны, 762 года
Когда Ее Императорское Величество собственной Своею Всевысочайшею Особою к рундуку соборной великой церкви изволит приближаться, тогда первый из архиереев един поднесет благословящий крест к целованию, а другий покропит Ее Величество священною водою.
Вшедши в церковь, Ее Императорское Величество первее пред царскими враты трикратное Господеви поклонение сотворит, и к святым местным иконам приложится; а потом идти на уготованный под балдахином у западных дверей среди церкви трон, и сесть на Императорском Своем месте изволит.
По учинении к Ее Императорскому Величеству от первенствующего архиерея вопроса, о исповедании православные веры, поднесет тот же архиерей пред лице Ее Величества растворенную книгу, держа оную на руках своих, – и Ее Величество по книге гласно прочитать изволит святой Символ.
По прочтении Евангелия, приемлет един первый архиерей с стола, близ стоящего с Императорскими знамениями, порфиру, или императорскую мантию, и возложит на Ее Императорское Величество; а по возложении мантии на Ее Императорское Величество протодиакон: «Господу помолимся», лик: «Господи помилуй». И Великая Государыня Императрица преклонит главу; а первенствующий архиерей, осеня верх главы Ее Императорского Величества крестообразно, и, положа руку на Высочайшую Ее Величества главу, глаголет молитву.
По прочтении той, а по ней и другой молитв, Ее Императорское Величество изволит указать подать императорскую корону, которую канцлер подает первенствующему архиерею, а оный подносит Ее Величеству на подушке.
Ту корону Ее Величество, приняв от архиерея с подушки, изволит возложить на свою главу; при чем архиерей говорит молитву: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь». И по ней Ее Императорскому Величеству пристойную к тому высочайшему действию речь.
А по молитве и речи Ее Императорское Величество изволит повелеть подать скипетр и державу, которые от того же архиереа, на подушках поднесенные, приимет, – скипетр в правую, а державу в левую руку, архиерей при том паки говорит: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь», и к Ее Императорскому Величеству приличную речь. И как та речь окончится, то Ее Императорское Величество на Своем императорском троне сесть изволит.
После оного, когда протодиакон возгласит весь Ее Императорского Величества полный титул и воскликнет Ее Величеству многолетие, а певчие будут петь многая лета, и начнется звон во вся колокола, и первая из пушек и мелкого ружья пальба, – между пением как духовные, так и мирские чины от своих мест троекратным поклонением Ее Императорское Величество поздравят.
А по пропетии многолетия и по престании звона и пальбы, Великая Государыня Императрица, встав с престола, и отдав скипетр и державу предстоящим, прочтет по книге следующую к Богу молитву:
«Господи, Боже мой, Царю царствующих и Господи господствующих, сохранивши мя невредиму от всех скорбей и напастей, ныне же и царствовати над преславным сим народом оправдавый, исповедую неисчетное ко мне Твое милосердие, и благодаря Величеству Твоему поклоняюся.
Ты же, Владыко и Господи мой, настави мя в деле, на не же послал мя еси, вразуми и управи мя в великом служении сем, даждь и смиренно моему премудрость, предстоящую престолом Твоим. Буди сердце мое в руку Твоею, еже вся устроити к пользе врученных мне людей и к славе Твоей, яко да и в день суда Твоего непостыдное воздам Тебе слово. Милостию и щедротами Единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом во веки. Аминь».
По прочтении от Ее Величества молитвы, архиерей возгласит: «Мир всем»; лик: «И духови твоему». Протодиакон: «Паки и паки, преклонше колена, Господу помолимся». И все предстоящие преклонят колена, – Ее Величество изволит прямо стоять, – и архиерей преклонит колена, читает от лица всего народа молитву.
По прочтении оной молитвы учинено быть имеет Ее Императорскому Величеству краткое поздравление, а по нем поют певчие: «Тебе Бога хвалим», – и по звоне начнется святая литургия.
Во время литургии Ее Императорское Величество изволит с Себя корону снимать в надлежащея времена, – а именно:
1. Во время чтения святого Евангелия, которое по прочтении принесется к Ее Величеству, и Ее Величество соизволит ту Евангельскую книгу целовать.
2. В большей выход со Святыми Дары.
3. На словах Христовых: «приимите ядите», даже до окончания «Достойно».
4. Во чтении молитвы Господни: «Отче наш».
5. На словах «Святая святым».
И изволит Ее Императорское Величество на том же Своем троне пробыть и святую литургию слушать даже до миропомазания и Святых Таин причастия.
Когда начинают петь киноник, тогда от трона до царских дверей, для шествия Ее Императорского Величества к святому миропомазанию и причащению Святых Таин, постилается бархат, а близ самых царских дверей, сверх бархата, золотая парча.
И после пения киноника и по причастии внутрь алтаря священнослужащих архиереев, архимандритов и проч., когда отворены будут двери царские, тогда пошлются из алтаря два архиереа, последующим им по обе стороны протодиаконом, возвестить Ее Императорскому Величеству время царского миропомазания.
И подшед оные к Ее Императорскому Величеству возвестят следующим образом: «Благочестивейшая Великая Государыня. Наша Императрица и Самодержица Всероссийская, Вашего Императорского Величества миропомазания и Святых Божественных Таин приобщения приближися время: того ради да благоволит Ваше Императорское Величество шествовать с Ее великия соборные церкви к царским дверям».
И Ее Величество изволит, сошед с трона, шествовать прямо к царским дверям, со славою провождаема от определенных к тому персон, и изволит стать у дверей тех, на златом постланном ковре, и отдает регалии носящим. А первый архиерей из нарочного к тому делу драгого сосуда омоча драгоценный к тому устроенный сучец во святое миро, помажет Ее Величество на челе, на очах, на ноздрях, на устах, на ушесех, на раме, на персех, и по обою сторону на руках, глаголя: «Печать дара Святого Духа»; а другий архиерей места помазанные чистою хлопчатою бумагою отирает.
А по совершены миропомазания имеет быть великой звон, и другая из пушек и мелкого ружья пальба.
По том Ее Величество архиерейскою рукою введется внутрь алтаря, и стоя пред святою трапезою на златом ковре, приимет от первого архиерея Святых Таин, Тела и Крове Господни причастие, по чину царскому, то есть как причащаются священнослужители: особь от Тела и особь от Крове Христовы: а по том другой архиерей поднесет Ее Величеству антидор и вино; а третий архиерей же Ее Величеству уст и рук омовению послужит.
По причастии же Святых Таин Ее Императорское Величество, вышед из алтаря, и приняв регалии попрежнему, изволит шествовать к церковному Своему Императорскому месту, что у южных дверей, и тамо пребудет до окончания святые литургии.
По окончании литургии будет Ее Императорское Величество покланяема и поздравляема от духовных и всех чинов благочинно. И изволит Ее Величество шествовать из церкви провождаема всеми первейшими чинами как и в церковь.
Егда изволит Ее Императорское Величество выступить из церкви, тогда надлежит быть третией пальбе, подобно первым, и большому звону во вся колокола в соборех и во всех монастырех и приходских церквах до вечерни. И тако кончится церковная церемония.
А в собор Архангельский, в который Ее Императорское Величество из Успенского шествовать изволит, отправится архиерей и встретит Ее Величество со крестом при соборе на паперти и, поднесши крест к целованию, предъидет пред Ее Величеством в церковь со крестом.
И по вступлении Ее Величества в церковь протодиакон чтет ектению.
По том возглас, и отпуск, и многолитие, и поют певцы «Многа лета» трижды.
Тем временем Ее Императорское Величество изволит приложиться к святым иконам и к мощам святого царевича Димитрия, и потом поклониться гробам Предков Своих.
И изволит Ее Величество со славою шествовать в собор Благовещения Пресвятая Богородицы.
У того собора встретит Ее Величество на паперти с крестом архиерей же и, поднесши крест к целованию, предъидет пред Ее Величеством, – и прочтется от протодиакона ектения, и от архиерея отпуск, и многолетие, – якоже и в Архангельском соборе.
Из того собора изволит Ее Императорское Величество со славою шествовать к Красному крыльцу и в дом Свой Императорский с миром».
Документ, хранящийся в архиве Правительствующого Сената, заключается в следующем:
«Ее Императорскому Величеству Всемилостивейшей Государыне всеподданнейшее приношение.
22-го числа сего сентября, в 9-м часу пополуночи, Императорские регалии из сенатских апартаментов принесены будут в Аудиенс-Камору и поставятся под балдахином, где носящие оные ожидают входа Вашего Императорского Величества.
Когда же Ваше Императорское Величество Своею Августейшею Императорскою Особою к восприятию шествия во Аудиенс-Камору прибыть и во оной под балдахином в креслах сесть изволите, тогда к поднятию регалий дан будет чрез трубы и литавры сигнал и, по поднятии регалий, начнется поход к соборной церкви.
Во оной процессии по сторонам Вашего Императорского Величества, уступая немного позади, идти имеют господа асистенты: генерал-фельдмаршалы, граф Алексей Петрович Бестужев и граф Кирила Григорьевич Разумовской.
Шлейф Вашего Императорского Величества нести имеют старшие камергеры, а наконец поддерживать будет обер-камергер.
Когда Ваше Императорское Величество собственною Своею Всевысочайшею Особою к той церкви приближится изволите, тогда первый архиерей поднесет благословящий крест к целованию, а другой покропит святою водою».
(За сим следует почти буквальное повторение церковного действия коронации, миропомазания и причащения Святых Таин в том самом порядке, как назначено в «Чине церковном».)
«По совершении Божия службы Ваше Императорское Величество в короне императорской и мантии, со скипетром и державою в руках, соизволите шествовать в прежнем порядке в северные двери околь Ивановской колокольни к соборной церкви Архистратига Михаила, при которой в дверях встретит архиерей со крестом. И во оном соборе соизволите приложася к святым иконам и мощам святого царевича Димитрия, и, отдав поклон гробам предков своих, в таком же порядке шествовать изволите до Благовещенского собора, где такожде пред дверьми встретит архиерей со крестом. И в оном соборе, приложась ко святым иконам, изволите путь восприять в апартаменты Вашего Императорского Величества.
«И по прибытии Вашего Императорского Величества поднесет Вашему Императорскому Величеству генерал-фельдмаршал граф Алексей Григорьевич Разумовской, на золотом блюде, золотая и серебреные медали и жетоны, из которых Ваше Императорское Величество соизволите пожаловать Его Императорскому Высочеству Всероссийскому Наследнику, Вселюбезнейшему Вашего Императорского Величества Сыну, Благоверному Государю Цесаревичу и Великому Князю Павлу Петровичу золотых и серебреных медалей и жетонов, от каждого сорта, по одной, и потом все бывшие в чинах, проходя в Грановитую палату, там Ваше Императорское Величество ожидают. И Ваше Императорское Величество в тех апартаментах присутствовать соизволите, покамест в Грановитой палате все к столу будет приуготовлено.
«А между тем не соизволите ли Ваше Императорское Величество, для такой от Бога дарованной общенародной радости, кого пожаловать кавалериями, и повелеть объявить кого в какие чины, или протчим награждением пожаловать изволите.
«Когда же в Грановитой палате все уже к этому приуготовлено и Вашему Императорскому Величеству от верховного маршала о том донесено будет, тогда Ваше Императорское Величество в Грановитую шествовать, и прибыв туда на изготовленном на троне Ваше Императорское Величество престоле сесть соизволите, и тогда президенты Коллегии, Желябужской и Кнутов, принесут, на двух золотых блюдах, золотые и серебреные медали, которые генерал-фельдмаршал граф Алексей Григорьевич Разумовской поднесет Вашему Императорскому Величеству, а Ваше Императорское Величество из оных изволите Сама, взяв, пожаловать генералом-фельдмаршалом, генералу-адмиралу, канцлеру, генералом-аншефом, тайным и действительным советникам, Вашей Императорского Величества обер-гофмейстерине и гофмейстерине, статс-дамам, фрейлинам и первых трех классов дамам, по одной золотой и серебреной медали и по одному золотому и серебреному жетону; а прочим как мужеского так и женского пола, в той палате обретающимся персонам, раздавать будет помянутой же генерал-фельдмаршал и кавалер граф Алексей Григорьевич Разумовской.
В большой короне и тяжелой мантии соизволите быть токмо в первой день, а прочие дни Высочайшей коронации в меньшей короне и легкой мантии.
Таково поднесено Ее Императорскому Величеству генерал-фельдмаршалом и кавалером князь Никитою Юрьевичем Трубецким 17-го сентября 1762 года».Рассказ графа H. И. Панина о восшествии императрицы Екатерины Второй на престол[185]
События, относящиеся к восшествию Екатерины II на престол, известны из многих источников; некоторые из главных участников в этих событиях, некоторые очевидцы их, имевшие возможность близко знать положение дел, наконец сама государыня в большом письме к князю Понятовскому, оставили любопытные сведения о достопамятных июньских днях 1762 года. Взаимному сличению этих известий и критике их положены прочные основы в ХХV томе известного и почтенного труда С. И. Соловьева. Тем более представляется странным, что лица, писавшие у нас об этих событиях, не обратили должного внимания на одно из замечательнейших повествований о перевороте 1762 года, обнародованное в Германии почти сорок лет тому назад: мы разумеем записку о низложении Петра III-го, составленную на французском языке бароном А. Ф. фон Ассебургом со слов графа Никиты Ивановича Панина. Она напечатана в книге: Denkwürdigkeiten des Freiherrn Achatz Ferdinand v. d. Asseburg. Ans den in dessen Nachlass gefundenen handschriftlichen Papieren bearbeitet von einem ehemahls in diplomatischen Anstellungen verwendeten Staatsmanne. Mit einem Vorworte von K. A. Varhhagen von Ense. Berlin. 1842.
Барон фон Ассебург состоял с 1765 по 1768 год датским посланником в Петербурге и находился в дружеских отношениях с графом Н. И. Паниным, с которым сблизился еще в конце предшествующего десятилетия, когда оба они занимали дипломатические посты при Стокгольмском дворе. Живучи в России, Ассебург собрал из уст Панина те сведения, которые изложены в его записке. До сих пор не выяснилось вполне, кто был главным виновником переворота, возведшего на Русский престол Екатерину II: по рассказу княгини Дашковой выходит, что дело устроилось преимущественно благодаря ее участию; по свидетельству самой Екатерины в письме ее к князю Станиславу Понятовскому, переворот был совершен преимущественно братьями Орловыми. В изложении событий 1762 года С. И. Соловьев виделил роль каждого из главных деятелей переворота, и в числе их, кроме названных выше лиц, указал в особенности на графа Никиту Ивановича Папина. Собственный рассказ графа Панина излагается в записке Ассебурга, и притом рассказ откровенно переданный, без сомнения, между четырех глаз, без всякой утайки и вместе с тем без похвальбы со стороны рассказчика. Этого достаточно, чтобы показать всю историческую важность печатаемой записки.
Л. MайковЗаписка о воцарении Екатерины Второй
Неудовольствие против Петра III было всеобщее. Елисавету оплакивали еще прежде ее смерти[186], а когда она скончалась, общая печаль до того всеми овладела, что довольно было взглянуть друг на друга, и слезы лились у всех из глаз.
Государыня эта была очень умна от природы, но столь мало образована, что недостатком образования выделялась даже среди женщин. Но вместе с тем она отличалась благочестием, праводушием и добротою. Она всем желала добра и делала его сколько могла при своей беспечности и том ограниченном участии в общественных делах, какое предоставляли ей любимцы ее.
Итак, она пользовалась любовью; а потому неудивительно, что общество, видя в Петре III человека жестокого (не по природе, a в силу того убеждения, будто воин не должен поддаваться состраданию), человека трусливого, ненадежного… с горем узнало о кончине столь доброй государыни, какова была Елисавета, и о восшествии на престол ее преемника, столь недостойного занять оный.
Неудовольствие против него росло со дня на день. Он пренебрегал делами и советами людей, которые всего менее того заслуживали. Он говорил во всеуслышание, что такой-то и такой-то из людей, состоявших при кабинете Елисаветы, помогали ему доставлять королю Прусскому сведения обо всем, что здесь делалось в наибольшей тайне, хотя именно эти лица никогда не позволяли себе такой измены и держались совсем противоположного образа мыслей. Напал он он также и на господина Панина, и вот каким образом.
Приблизительно за сутки до кончины Елисаветы, когда она была уже в беспамятстве и агонии, у постели ее находился Петр вместе с врачом государыни и с Паниным, которому было разрешено входить в комнату умирающей. Петр сказал врачу: «Лишь бы только скончалась Государыня, вы увидите, как я расправлюсь с датчанами.
Я выступлю против господина де Сен-Жермена; он станет воевать со мною на французский манер, а я – на прусский», и т. д. Окончив эту речь, обращенную ко врачу, Петр повернулся к Панину и спросил его: «А что ты думаешь о том, что я сейчас говорил?» Панин отвечал: «Государь, я не понял, в чем дело; я думал о горестном положении императрицы». – «А вот дай срок, – воскликнул Петр, и затем, показав рукой на умирающую, прибавил: Скоро я тебе ототкну уши и научу получше слушать».
Петр изнурял солдат и мучил дурным обращением. Случалось, что на ежедневных ученьях солдаты падали от изнеможения, и Петр приказывал их убирать, а на их место ставить других. Все его любимцы были глупцы или изменники. Вместе с ними он предавался самой грубой невоздержности.
Его любимица, девица Воронцова, была некрасива, глупа, скучна и неприятна. Петр III думал, что приличие требует, чтоб у него была любимица. Говорил он только по-немецки и хотел, чтобы все знали этот язык; по-русски он говорил редко и всегда дурно. Он хотел все изменять, все переделывать. Голштиния, как ни мала она в сравнении с обширною Российскою империей, казалась ему и больше ее, и богаче, и достойнее его любви.
Все отшатнулись от него, все негодовали на него; едва он воцарился, как все стали желать другого повелителя. Неудовольствие в особенности распространилось между солдатами, и гвардия громко роптала на него. За несколько недель до переворота Панин вынужден был вступить с ними в объяснение и обещал перемену, лишь бы воспрепятствовать немедленному взрыву раздражения.
Знал ли о том Петр или нет, только он действовал по-прежнему, что и побудило Панина за четыре недели до переворота озаботиться предоставлением престола другому лицу без пролития крови и не причиняя несчастия многим лицам.
Обдумывая это намерение, Панин чувствовал необходимость привлечь к своему замыслу еще двух лиц, именно – гетмана графа Разумовского и генерал-аншефа князя Волконского. Первый из них находился неотлучно при Петре; он был командир одного из гвардейских полков и человек решительный. Другой пользовался доверием в армии; он – человек храбрый и осторожный.
Панин желал произвести решительное действие в тот день, когда Петр прибудет в столицу, чтобы присутствовать при выступлении гвардии в поход на соединение с армией, что должно было последовать в исходе июня. Панину необходимо было предупредить гетмана о своих соображениях, чтобы тот поддержал Петра в намерении присутствовать при выступлении гвардии из Петербурга. Он опасался, как бы Петр не раздумал приехать.
В среду (за два дня до переворота) Панин сообщил свой замысел гетману и князю Волконскому. Оба они склонились на его предложения, и исполнение задуманного было отложено до времени выступления гвардии. Уже четыре капитана императорской гвардии были посвящены в тайну, и вместе четыре роты, состоявшие под их командою. То были те самые солдаты, которые, за несколько недель пред сим, выражали открытое неудовольствие против Петра.
Один из них, Пассек, был, по приказу Петра, арестован вечером на другой день после того, как Панин объяснялся с гетманом и князем Волконским. Об этом уведомил Панина Григорий Орлов, офицер того же гвардейского полка, в доме княгини Дашковой; а вечером того же дня Орлов подтвердил свое сообщение, объяснив, что Пассек арестован по причине выраженного его ротою неудовольствия. Наступило чрезвычайное смущение; казалось, тайна раскрывалась или была близка к тому, в случае если станут допрашивать Пассека.
Приходилось или ускорить дело, или подвергнуться большим опасностям. Панин отправил в Петергоф, где находилась императрица, наемную карету в шесть лошадей для того, чтобы не дать возникнуть толкам, которые бы начались непременно, если бы Государыня поехала в придворном экипаже. Он вызвал к себе Алексея Орлова, также гвардейского офицера, посвященного в тайну, и приказал ему предупредить четырех капитанов своего полка, сторонников Екатерины, чтобы они были к завтрашнему утру наготове со всеми людьми, на случай смуты.
Окончив это, Орлов должен был поспешить, как только мог, в Петергоф – предупредить императрицу о случившемся с Пассеком и сказать ей, чтоб она тотчас уезжала из Петергофа в карете, присланной от Шкуриной, ее доверенной камер-юнгферы, а по приезде в Петербург, ехала бы в казармы кавалергардского полка для принятая от него присяги, оттуда отправилась бы в полки Измайловский, Преображенский и Семеновский и во главе этих четырех полков явилась бы в новый дворец, остановившись на пути у Казанского собора, чтобы там дождаться великого князя, которого Панин привезет к ней, как только узнает о ее прибытии и о том, что гвардия ее признала.
В тоже время Панин известил обо всем происшедшем Разумовского и Волконского и затем ушел от княгини Дашковой и отправился к великому князю в летний дворец[187]. Он даже лег в постель подле кровати великого князя, чтобы не возбудить никакого подозрения в прислуге (при Панине постоянно находился один из флигель-адъютантов императора[188], без сомнения для наблюдения за ним; ныне этот офицер состоит при особе великого князя и ведет себя хорошо), и приказал камердинеру разбудить в случае, если кто его спросит. По его расчету, Алексей Орлов в четыре часа должен был быть в Петергофе, а государыня после пяти часов утра – в Петербурге.
Каждая минута была дорога и каждая рассчитана. Панин, хотя и лег в постель, как ни в чем не бывало, однако был в сильнейшей тревоге; удача или полнейший неуспех могли обнаружиться ежеминутно. Пробило пять часов, и никакого известия не приходило; пробило и шесть, а все нет известия. Алексей Орлов пал духом: вместо того, чтоб ехать тотчас же в Петергоф, он в четыре часа утра еще раз явился к княгине Дашковой узнать – не последовало ли какой перемены в решении, и уехал, наконец, только тогда, когда княгиня приказала ему немедленно отправиться в путь для предупреждения обо всем императрицы.
Ее Величество приехала в столицу около шести часов, проследовала по пути, начертанному для нее Паниным, приняла от гвардии присягу в верности и в восемь часов утра прибыла к Казанскому собору в сопровождении всех четырех полков, в полном вооружении, но полуодетых. Панин в приготовленной на улице карете привез великого князя в собор, а оттуда Ее Величество проследовала в новый дворец.
Там состоялся первый манифест. Вокруг дворца собрали все четыре полка, которые и принесли тогда присягу государыне, законным порядком. Затем императрица велела Синоду и Сенату собраться в деревянном дворце[189], и сама туда отправилась с великим князем; в церкви этого дворца Сенат, Синод и все вельможи, бывшие на лицо, присягнули ей.
По окончании этого обряда сделаны были необходимые распоряжения, дабы упрочить произведенную перемену. По всем дорогам, ведущим к Петербургу, расставлены караулы. Известили о случившемся и расположили в свою пользу Нарвского коменданта; гарнизон этой крепости усилен одним из четырех полевых полков, которые находились поблизости и шли на соединение с армией. От этих полков была принята присяга.
Все вельможи были собраны в деревянный дворец, с них взята присяга, и все они пожалованы сенаторами (вот почему в настоящее время в России так многочислен состав Сената); их держали в беспрерывном сборе во дворце под предлогом подписи разных подлежащих обнародованию распоряжений. Во главе их поставлен был Неплюев: великого князя поместили в комнате соседней с тою, в которой собрались Сенат и Синод.
Было уже поздно, когда спохватились, что нужно упрочить за собою Кронштадт, который Петр легко мог выбрать местом своего убежища, что действительно и случилось. Туда послан был около полудня адмирал Талызин, как бы по поручению адмиралтейства. Ему предшествовал адъютант, который, как только вступил на берег, был отведен к генералу Девиеру, посланному в Кронштадт Петром III с тою же целью, с какою императрица отправила туда Талызина.
Потребовав к себе адъютанта, Девиер спросил его, зачем он сюда явился, зачем едет адмирал, что происходит в Петербурге, нет ли там беспорядков и пр.? Спокойный вид офицера обманул Девиера, который вообразил себе, что при отъезде офицера из Петербурга там все еще было спокойно, и что этот офицер, равно как и адмирал, ни о чем не знают.
Два часа спустя, прибыл на шлюпке Талызин и сошел на берег в гавани, где, по заведенному обычаю, находились для отдания ему чести капитан над портом и матросы. Талызин тотчас же узнал о прибытии генерала Девиера и об аресте своего адъютанта; пока он говорил о том с капитаном, он увидел, что к нему идет Девиер.
Он мог опасаться, что его постигнет та же участь, как и его адъютанта, если б он не принял немедленного решения. Талызин предъявил капитану над портом указ государыни и велел в свою очередь арестовать Девиера в ту самую минуту, как тот приблизился к ним. Дело устроилось без затруднений; гарнизон признал Екатерину, и когда, наконец, в два часа ночи, Петр появился пред Кронштадтом на гребной шлюпке, его приветствовали объявлением, что нет другой власти, кроме власти императрицы, и что, если он не поспешит удалиться, то по шлюпке будет открыт огонь.
В то время, как в Кронштадте происходило вышеизложенное, Петр послал в Петербург канцлера графа Воронцова сообщить императрице, что он удивляется тому, что там делается, и приглашает ее возвратиться к повиновению ему, императору. Канцлер увидел площадь пред дворцом занятою войсками, уже признавшими Екатерину.
Он честно и благородно выполнил данное ему поручение, но изложенное им требование было отвергнуто, а самому ему не дозволено возвратиться в Петергоф. Он просил позволения, которое и было ему дано, написать Петру и сообщить о неуспехе возложенного на него поручения.
Он показал письмо, которое было написано очень хорошо и кончалось заявлением, что, исполнив свой долг в отношении государя, он, наконец, подчинился народной воле и принес присягу в верности государыне, вступившей ныне на Российский престол. По отсылке письма граф Воронцов отправился в церковь для принесения присяги императрице.
Все шло отлично, но нужно было овладеть особою бывшего императора. Казалось слишком опасным предоставлять ему свободу: он имел тысячу средств скрыться, и всякий другой человек, порешительнее его, сумел бы это сделать.
Все эти распоряжения занимали государыню в течение всей пятницы и утра субботы; наконец, в полдень той же субботы, она выступила из Петербурга по направлению к Петергофу, во главе войск, которые признали ее и к которым присоединились полки, находившиеся по повелению императора в походе.
Панин должен был сопровождать государыню, и потому великого князя вверили попечению Сената, а именно – Неплюева, которому приказано было всякия полчаса отправлять в Петергоф курьера c известиями обо всем, что делается в столице[190]. Каждый из сенаторов должен был подписывать эти рапорты, и потому их всех держали в сборе и таким образом всех без изъятая привлекли к делу Екатерины.
По дороге из Петербурга в Петергоф часто встречались голштинские гусары, которых Петр высылал, чтобы выследить движения государыни, – о чем он уже имел сведения; их всех захватывали, равно как и всех лиц, которые находились при Петре и покинули его в ночь его поездки в Кронштадт.
В числе этих лиц был вице-канцлер князь Голицын, посланный Петром к Екатерине с письмом, в котором император отдавал себя в ее волю. Голицын в открытом поле принес присягу Екатерине; на половине пути, в продолжение которого не раз приходилось делать остановки, чтобы дать отдых войскам, курьер привез известие об отплытии Петра в Кронштадт. А так как об экспедиции Талызина не было еще никаких известий, то и боялись, как бы Петр, найдя доступ в Кронштадт прегражденным, не вздумал направиться водою же в Петербург и не явился бы к народу.
В виду этого опасения было решено, чтобы Панин верхом, в сопровождении двадцатичетырех кавалергардов, вернулся в столицу, следуя при том все время вдоль левого берега Невы, чтоб иметь возможность наблюдать за каждым проходящим судном. Невдалеке от города он заметил одно судно, которое постоянно держалось противоположного берега. Он крикнул плывшим на нем, чтобы судно перешло к другому берегу.
Какой-то человек, по-видимому, встал на судне и отвечал, что он не смеет приблизиться. Ответом усилилось подозрение; но когда этого человека разглядели пояснее, то он оказался талызинским адьютантом. Он сообщил, что Петр пытался было войти в Кронштадт, но не был принят, а что посланный генерал Девиер арестован.
Панин беспрепятственно вступил в город. Там все было спокойно. Между тем Екатерина прибыла в Петергоф, откуда и отправила Петру ответ на его письмо, присланное с вице-канцлером Голицыным. Екатерина потребовала от Петра формального акта отречения от престола, каковое и было им написано собственноручно. Она указала ему самые выражения, которые следовало употребить. Петр написал акт своею рукою и был препровожден из Ораниенбаума в Петергоф в одной карете с своею любимицею Воронцовой и еще с двумя другими лицами.
Панин возвратился в Петергоф ранее прибытия Петра. Солдаты так были возбуждены против сего последнего и его любимицы, что Панин принужден был сам собирать людей, чтобы составить батальон в триста человек, который и был расположен четырехугольником вокруг павильона, где поместили Петра. Такую предосторожность необходимо было принять, чтобы отвратить пьяных и усталых солдат от возможности покушения.
Петр, уже отказавшись от престола, просил как милости, чтоб ему оставили графиню Воронцову. Панин должен был видеться с ним в эти минуты. Он говорил мне об этом в следующих словах: «Я считаю несчастием всей моей жизни, что принужден был видеть его тогда; а нашел его утопающим в слезах». И пока Петр старался поймать руку Панина, чтобы поцеловать ее, любимица его бросилась на колени, испрашивая позволения остаться при нем.
Петр также только о том и просил и ни о чем более, даже не просил о свидании с императрицею. Панин постарался поскорее уйти от него. Он обещал принести ему ответ Екатерины, но послал ответ через другое лицо. Ответ последовал отрицательный. Петра, в сопровождении двух офицеров, посадили в карету и повезли в Ропшу.
Вот рассказ, слышанный составителем этой записки от министра и обер-гофмейстера Панина. Его любимицу посадили в дормез, чтобы никто не мог видеть ее, и отправили в Москву. В настоящее время она замужем за Полянским.[191]
Запись современника о кончине Екатерины Великой[192] и воцарении Павла Петровича
1796 года ноября 5-го дня (в среду) в 9 часов ударил паралич Государыню Екатерину Алексеевну II так сильно, что всех лишилась чувств. После сего жила еще 22 часа, т. е. до 7 часов попопуночи 6 ноября, в котором преставилась, быв во все сие время без языка. Потом оказались опять жизненные чувствия: последовало сильное трясение тела, страшные судороги, корчение, что продолжалось до 9 часов пополудни, в котором совершенно уже не стало никаких признаков жизни.
7-го ноября. В ночи учинили присягу полки гвардии, а поутру и все присутственные места Государю Павлу Петровичу Императору Всероссийскому.
Великие князья пожалованы гвардии полковниками, Александр Павлович Семеновского, Константин Павлович Измайловского, Николай Павлович Конно-гвардейского, а сам Государь остался полковником одного Преображенского.
Учреждены 7-го ноября два Аннинские ордена, на шею и в петельку кресты.
8-го, когда анатомили тело Императрицы, то нашли в желудке два камня чрезвычайной величины, а по вскрытии черепа – большую лопнувшую жилу.
10-го ввел сам Государь полк своих черноногих солдат и поздравил их гвардию. Жаловал многих офицеров орденами святой Анны.
Отпечатаны дела светлейшого Зубова, и дана ему прежняя власть в рассуждении его должности, которую имел во время Государыни Екатерины Алексеевны.
11-го. Дал своим черноногим те же чины сообразно гвардейские, которые имели в своем полку. Бурцева – капитана, давшего известие о болезни Государыни, Государь пожаловал за то в подполковники и тысячу рублей награждения.
Дана лента Андреевская со звездою бриллиантовою митрополиту Гавриилу, а архиерею Казанскому – Александровская.
22-го ноября перенесено тело Государыни из тронной в большой зал на катафалк.
25-го ноября коронован Петр Третий в Невском монастыре, быв 34 года в земле. Шествие туда и обратно было весьма великолепно, но в трауре. Маршалы и обер-гофмаршалы сидели с своими жезлами на колесницах и в богатых фаэтонах.
26-го. Разнесся слух, будто запрещены круглые шляпы, и 27-го по приказанию Архарова и полициймейстера, без всякого разбору, стали со всех оные срывать. Которые не в состоянии были купить треугольную шляпу, делали из круглой, и тем весьма смешное представили публике; ибо поля оной малы, а тулья слишком высока, и совсем для представления треугольной неспособна. Государь Павел Первый, по произошедшему шуму между англичанином и полицейским офицером о том узнав, прогневился на Архарова за такую наглость и предоставил в ношении круглых шляп свободу всем.
2-го декабря. Перенесено тело, быв 34 года в земле, Петра III из Невского монастыря с величайшею церемониею при устройстве всех полков стоявших под ружьем; за тем шел пешком сам Государь и Государыня, и вся царская фамилия из Невского монастыря до самого дворца в глубоком трауре.
5-го декабря перенесены оба тела Их Императорских Величеств из дворца в крепость. Вперед везен был гроб Государыни без короны, а другой Государя Петра III с короною на верху гроба (смотри церемониал).
18-го. Отпели после обедни и опустили гробы с телами Их Императорских Величеств в присутствии Государя и всей фамилии без всякой и малейшей церемонии. Погода была теплая с снегом.
Примечания
1
Ныне – город Щецин в Польше.
(обратно)2
См.: Иванов О. А. Загадка писем Алексея Орлова из Ропши. – Московский журнал, 1995, 9, 11–12; 1996. 1–3.
(обратно)3
Имея в виду. (фр.)
(обратно)4
Нынешнее название (с 1926 г.) Екатеринослава – Днепропетровск. Оно слагается из названия реки, на которой стоит город, и фамилии советского партийного и государственного деятеля Г. И. Петровского.
(обратно)5
Оригинал на французском языке. Перевод печатается по изд.: Записки императрицы Екатерины Второй / Пер. с подлинника, изд. Имп. Акад. Наук. СПб., 1907.
(обратно)6
Точнее, князей Долгоруковых и князей Голицыных, занимавших шесть из восьми мест в Верховном Тайном Совете, к которому, согласно подписанным Анной Иоанновной «кондициям», фактически переходила власть в стране. Императрица разорвала эти «кондиции», став самодержавной правительницей России. (Здесь и далее примеч. И. Лосиевского)
(обратно)7
Владимир I (?—1015), великий князь Киевский, один из наиболее выдающихся государственных деятелей Древней Руси, канонизированный Русской Православной Церковью. Вместе с тем наделение сыновей областями и полнотой власти в них стало точкой отсчета в истории распада Древнерусского государства.
(обратно)8
Оригинал на французском языке. Перевод печатается по изд.: Записки императрицы Екатерины Второй / Пер. с подлинника, изд. Имп. Акад. Наук. СПб., 1907.
(обратно)9
Воспитательный дом для дочерей обедневших дворян, основанный Людовиком XIV в местечке Сен-Сир близ Версаля.
(обратно)10
Оригинал на французском языке. Перевод печатается по изд.: Записки императрицы Екатерины Второй / Пер. с подлинника, изд. Имп. Акад. Наук. СПб., 1907.
(обратно)11
Текст «Наказа» печ. по: Наказ Императрицы Екатерины II, данный Комиссии о сочинении проекта нового Уложения / Под ред. Н. Д. Чечулина. СПб., 1907.
(обратно)12
Текст памятной заметки о «Наказе» печатается по: Записки императрицы Екатерины Второй / Пер. с подлинника, изд. Имп. Акад. Наук. СПб.,1907.
(обратно)13
Это аксиомы, способные разрушать стены. (фр.)
(обратно)14
Жалованная грамота дворянству.
(обратно)15
Жалованная грамота городам.
(обратно)16
Член органа городского управления.
(обратно)17
Точнее, Карл-Фридрих Голштейн-Готторпский.
(обратно)18
Камер-юнкер герцога Голштейн-Готторпского Фридрих Вильгельм фон Берхгольц (Бергхгольц) (1699–1765) оставил по себе «Дневник», содержащего ценные сведения о России последних лет царствования Петра I. Этот «Дневник» в 1785–1787 гг. был напечатан в немецком журнале «Магазин», издателем которого являлся ученый и литератор Антон-Фридрих Бюшинг (1724–1793).
(обратно)19
Иоганна-Елизавета, княгиня Ангальт-Цербтская, урожденная принцесса Голштейн-Готторпская (1712–1760).
(обратно)20
Август-Фридрих, принц Голштинский (1711–1785).
(обратно)21
Анна, принцесса Голштинская, в замужестве герцогиня Саксен-Готская, тетка Петра III и Екатерины II.
(обратно)22
Граф Лесток Иоганн-Герман (1692–1767), лейб-медик. На русской службе с 1713 г.
(обратно)23
То есть на княжне Анастасии Ивановне Трубецкой, дочери фельдмаршала князя И. Ю. Трубецкого.
(обратно)24
Граф Разумовский Алексей Григорьевич (1709–1771), с 1942 г. морганатический супруг Елисаветы Петровны.
(обратно)25
Лопухина Наталья Федоровна, урожденная Балк-Полева (1699–1763), статс-дама. В 1743 г. обвинена в заговоре, бита кнутом и сослана в Сибирь.
(обратно)26
Ададуров Василий Евдокимович (1709–1780), математик, языковед, переводчик. С 1744 г. сенатор, с 1759 г. в ссылке; при Екатерине II куратор Московского университета, президент Мануфактур-коллегии.
(обратно)27
Графиня Румянцева Мария Андреевна, урожденная графиня Матвеева (1698–1788), статс-дама. Жена А. И. Румянцева.
(обратно)28
Князь Голицын Александр Михайлович (1718–1783), камергер, впоследствии военачальник, генерал-фельдмаршал, петербургский генерал-губернатор, сенатор.
(обратно)29
Граф Чернышев Захар Григорьевич (1722–1784), камергер, впоследствии военачальник, генерал-фельдмаршал, московский генерал-губернатор.
(обратно)30
То есть в одном из зданий, специально предназначенных для размещения лиц, принадлежащих к Императорскому двору.
(обратно)31
Каравак Луи (ум. в 1754 г.), французский художник, с 1716 г. работал в России. Фальконе Этьенн Морис (1716–1791), французский скульптор; в 1766–1778 гг. работал в России, автор памятника Петру Великому в Петербурге (Медного Всадника).
(обратно)32
Княжны Гагарины – Анастасия Алексеевна (ум. в 1746 г.) и Дарья Алексеевна (в замужестве княгиня Голицына; 1724–1798), а также Кошелева Мария Иродионовна (1725–1782) были фрейлинами Екатерины как до, так и после ее замужества.
(обратно)33
Камер-юнгфера – прислужница, присутствующая при одевании государыни, великих княгинь и княжен.
(обратно)34
Сумароков Александр Петрович (1717–1777), русский писатель, один из крупнейших представителей классицизма.
(обратно)35
Бирон Эрнст-Иоганн (1690–1772), фаворит императрицы Анны Иоанновны, герцог Курляндский (с 1737 г.). После дворцового переворота 1740 г. лишен званий, чинов, имений и сослан; помилован Петром III.
(обратно)36
Маркиз Ботта д’Адорно (1688–1774), австрийский посланник.
(обратно)37
Татищев Алексей Данилович (1699–1760), генерал-аншеф, генерал-полицмейстер Петербурга с 1742 г.
(обратно)38
Измайлова Анастасия Михайловна, урожденная Нарышкина (1693–1761), статс-дама.
(обратно)39
Граф Дивьер (Девьер) Петр Антонович (ум. в 1773 г.), камергер, затем адъютант Петра III, генерал-аншеф.
(обратно)40
Аргус – в древнегреческой мифологии многоглазый (нередко – стоглазый) страж.
(обратно)41
Князь Репнин Василий Аникитич (1696–1748), генерал-фельдцейхмейстер, обер-гофмейстер великого князя Петра Федоровича, начальник шляхетного Кадетского корпуса.
(обратно)42
Чоглокова Мария Семеновна (Симоновна), урожденная графиня Гендрикова (1724–1756), обер-гофмейстерина. Двоюродная сестра императрицы Елисаветы Петровны (их матери – Христина и Марта Скавронские – были родными сестрами). Овдовев, вышла замуж за А. И. Глебова.
(обратно)43
Чоглоков Николай Наумович (1718–1754), камергер, тайный советник.
(обратно)44
Речь идет о двух графах Чернышевых, братьях Захаре Григорьевиче (1722–1784), графе Иване Григорьевиче (1726–1797) и их двоюродном брате Андрее Гавриловиче (1720–1797).
(обратно)45
Парк и дворец под Таллинном.
(обратно)46
Ныне – город и порт Палдиски, Эстония.
(обратно)47
Маркиза Севинье Мари де Рабютен-Шанталь (1626–1696). Ее «Письма» в XVIII в. были признаны образцом эпистолярного стиля и выдающимся произведением французской литературы.
(обратно)48
Граф Матюшкин Дмитрий Михайлович (1725–1800), тайный советник; жена – Анна Алексеевна, урожденная княжна Гагарина (1722–1804), фрейлина великой княгини Екатерины Алексеевны, впоследствии статс-дама, обер-гофмейстерина.
(обратно)49
Граф Санти Франц (1683–1758), обер-церемониймейстер. В России с 1724 г.
(обратно)50
Вильбуа Александр Никитич (ум. в 1781 г.), камер-юнкер, впоследствии генерал-фельдцейхмейстер.
(обратно)51
Граф Гендриков Иван Семенович (1719–1778), камергер, генерал-аншеф, шеф Кавалергардского полка. Родной брат М. С. Чоглоковой и двоюродный брат императрицы Елисаветы Петровны.
(обратно)52
Овцын Илларион Яковлевич (1719– после 1764), камер-юнкер, гвардии поручик, впоследствии камергер.
(обратно)53
Полянский Андрей Иванович (1698–1765), выдающийся флотоводец, адмирал.
(обратно)54
Олсуфьев Адам Васильевич (1721–1784), чиновник Коллегии иностранных дел, впоследствии статс-секретарь Екатерины II, сенатор, литератор, переводчик.
(обратно)55
Речь идет о мемуарах французского писателя Пьера де Бурдей Брантома (ок. 1535–1614).
(обратно)56
Речь идет об «Истории Генриха IV» Перефикса (1605–1670), наставника Людовика XIV, архиепископа Парижского.
(обратно)57
Лонуа-ла-Тур, по второму мужу Марвиль, гувернантка Елисаветы Петровны и Анны Петровны.
(обратно)58
Граф Апраксин Степан Федорович (1702–1760), государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал. Граф Шувалов Александр Иванович (1710–1771), генерал-фельдмаршал, начальник Тайной канцелярии.
(обратно)59
Граф Шувалов Александр Иванович (1710–1771), генерал-фельдмаршал, начальник Тайной канцелярии; жена – Екатерина Ивановна, урожденная Костюрина.
(обратно)60
Оба брата в правление Анны Иоановны были отправленны в ссылку и возвращены ко двору Елизаветой Петровной.
(обратно)61
Формат «в четверку» то же, что и ин-кварто, то есть издание в четверть печатного листа, размером примерно 45 × 30 см.
(обратно)62
Граф Разумовский Кирилл Григорьевич (1728–1803), генерал-фельдмаршал; в 1750–1764 гг. гетман Украины, президент Петербургской Академии Наук. Брат графа А. Г. Разумовского.
(обратно)63
Граф Бутурлин Александр Борисович (1694–1767), генерал-фельдмаршал, сенатор, главнокомандующий русскими войсками в Семилетней войне.
(обратно)64
Нарышкин Александр Александрович (1726–1795), камергер, впоследствии обер-гофмейстер. Брат Л. А. и Н. А. Нарышкиных.
(обратно)65
Шувалов Иван Иванович (1727–1797), камер-юнкер, позднее – камергер, генерал-адъютант, куратор Московского университета; фаворит императрицы Елисаветы Петровны.
(обратно)66
Батурин Иосаф (ум. в 1771 г.), капитан Бутырского (по другим данным – Ширванского) полка.
(обратно)67
Бургав (Боергав-Кау) Герман (1705–1753), лейб-медик императрицы Елисаветы Петровны, главный директор Медицинской канцелярии. Из семьи известных западноевропейских врачей.
(обратно)68
Гюйон (Гион) (ум. в 1763 г.), лейб-хирург; прибыл в Россию из Голландии в 1753 г.
(обратно)69
Граф Воронцов Роман Илларионович (1707–1783), генерал-аншеф, сенатор; впоследствии генерал-губернатор Владимирский, Тамбовский и Пензенский. Брат графа М. И. Воронцова.
(обратно)70
Воронцова Мария Романовна, в замужестве графиня Бутурлина, фрейлина.
(обратно)71
Граф Батиани Кароль Йозеф (1698–1772), австрийский государственный и военный деятель, фельдмаршал, обер-гофмейстер; воспитатель Иосифа II.
(обратно)72
Иосиф II (1741–1790), австрийский император («император Священной римской империи»); в 1765–1780 гг. соправитель своей матери императрицы Марии-Терезии, затем правил единолично.
(обратно)73
Шкурин Василий Григорьевич (ум. 1782), камердинер великой княгини Екатерины Алексеевны.
(обратно)74
Кардинал Флери Андрей Геркюл (1653–1743), выдающийся французский политический и государственный деятель, с 1726 г. первый министр Людовика XV.
(обратно)75
Князь Юсупов Борис Григорьевич (1696–1759), сенатор, камергер, директор Кадетского корпуса.
(обратно)76
Бекетов Никита Афанасьевич (1729–1794), кадет, затем полковник; адъютант графа А. Г. Разумовского, фаворит императрицы Елисаветы Петровны.
(обратно)77
Елагин Иван Порфирьевич (1725–1794), писатель, переводчик, историк, автор «Опыта повествования о России», один из виднейших русских масонов; сенатор, статс-секретарь Екатерины II.
(обратно)78
Нарышкин Лев Александрович (1733–1799), брат А. А. и Н. А. Нарышкиных, впоследствии стал обер-шталмейстером (начальником дворцового конюшенного ведомства). Слыл в свете острословом и шутником.
(обратно)79
Сенявин Сергей Наумович, камер-юнкер великокняжеского двора, впоследствии камергер, генерал-поручик. Был женат на Наталии Александровне Нарышкиной, сестре А. А. и Л. А. Нарышкиных.
(обратно)80
Глебовы Иван Федорович, генерал-аншеф и его сын Александр Иванович (1722–1790), генерал-аншеф, генерал-прокурор при Петре III и Екатерине II (до 1764 г.), генерал-губернатор Белорусский и Смоленский.
(обратно)81
Брессан Александр Иванович (1719–1779), камердинер великого князя Петра Федоровича, впоследствии действительный бригадир, директор шпалерной мануфактуры.
(обратно)82
Чоглоков Николай Николаевич (родился в 1749 г.) был осужден за покушение на убийство своего армейского начальника.
(обратно)83
Леонтьев Николай Михайлович (1717–1769), полковник, впоследствии генерал-аншеф.
(обратно)84
Надир-Шах Афшар (1688–1747), шах Ирана с 1736 г.; завоевал значительные территории в Индии, Средней Азии, Закавказье.
(обратно)85
Арайя Франческо (1700 или 1709 – ок. 1770), итальянский композитор; в 1735–1759 гг. и в 1762 г. – в России, придворный капельмейстер.
(обратно)86
«Исторический и критический словарь» Пьера Бейля (1647–1706), французского философа и публициста, раннего представителя Просвещения.
(обратно)87
Графиня Матюшкина Софья Дмитриевна; мать графа Д. М. Матюшкина.
(обратно)88
Князь Репнин Петр Иванович (ум. в 1778 г.), дипломат, обер-шталмейстер.
(обратно)89
Граф Ягужинский Павел Иванович (1683–1736), государственный деятель и дипломат, генерал-прокурор Сената; один из ближайших помощников Петра I.
(обратно)90
«Церковная история» Цезаря Барония (1538–1607), кардинала, духовника папы, ватиканского библиотекаря.
(обратно)91
Брокдорф, камергер великого князя Петра Федоровича, генерал голштинской службы.
(обратно)92
Граф Шувалов Петр Иванович(1710–1762), генерал-фельдмаршал, генерал-фельдцейхмейстер, был фактическим главой правительства а правление императрицы Елисаветы Петровны.
(обратно)93
Понятовский Станислав (1676–1762), генерал шведской службы (до 1718 г.), мазовецкий воевода (с 1731 г.), кастелян краковский (с 1752 г.) был отцом польского короля Станислава Августа Понятовского.
(обратно)94
Госпожа Помощь (фр.).
(обратно)95
Чарторыйские, правильнее – Чарторыские, польский княжеский род, представители которого в XVIII в. составили основу т. н. Фамилии: партии Чарторыских и связанных с ними магнатских родов – сторонников реформ и сближения с Россией.
(обратно)96
Нарышкина Анна Никитична, урожденная Румянцева (1730–1820), статс-дама, затем гофмейстерина; жена А. А. Нарышкина.
(обратно)97
Наумов Федор Васильевич, действительный тайный советник, сенатор.
(обратно)98
Измайлова Мария Александровна, урожденная Нарышкина; сестра А. А., Л. А. и Н. А. Нарышкиных.
(обратно)99
Мельгунов Алексей Петрович (1722–1788), адъютант великого князя Петра Федоровича; в царствование Екатерины II – сенатор, генерал-губернатор Новороссийский, Ярославский и Вологодский.
(обратно)100
Циммерман, полковник, обер-берейтор при конюшенном дворе.
(обратно)101
Граф Горн Адам (1719–1778), полковник шведской службы, один из руководителей прорусской придворной партии в Швеции.
(обратно)102
Граф Брюль (Бруль) Генрих (1700–1763), первый министр курфюрста саксонского Фридриха Августа II – польского короля Августа III Фридриха (1696–1763).
(обратно)103
Элендсгейм, глава судебного департамента в герцогстве Голштинском.
(обратно)104
Варварство, мой друг (фр.).
(обратно)105
С 1756 г. руководство внешнеполитическими и военными делами осуществлялось Конференцией при высочайшем дворе.
(обратно)106
Теплов Григорий Николаевич (1717–1779), литератор, один из главных администраторов в Петербургской Академии Наук, составитель манифеста о вступлении на престол Екатерины II, впоследствии сенатор, статс-секретарь императрицы.
(обратно)107
Квадратная партия (фр.).
(обратно)108
Ныне – г. Клайпеда (Литва).
(обратно)109
Княгиня Куракина Елена Степановна, урожденная графиня Апраксина. Дочь графа С. Ф. Апраксина.
(обратно)110
Граф Миних Бурхард Кристоф (1683–1767), выдающийся военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал; на русской службе с 1721 г. При императрице Анне Иоанновне – президент Военной коллегии, командующий русской армией в русско-турецкой войне 1735–1739 гг. Организатор свержения Э.-И. Бирона. В 1742 г. сослан императрицей Елисаветой Петровной; возвращен из ссылки Петром III в 1762 г. В последние годы жизни – помощник и корреспондент Екатерины II.
(обратно)111
Граф Ржевуский, коронный писарь, впоследствии польский посланник в России.
(обратно)112
Кондоиди Павел Захарович (ум. в 1760 г.), лейб-медик императрицы Елисаветы Петровны.
(обратно)113
Великая княжна Анна Петровна прожила всего два года и умерла в 1759 г.
(обратно)114
Воронцова Анна Михайловна, графиня, в замужестве графиня Строганова (1743–1769), дочь графа М. И. Воронцова.
(обратно)115
Пуговишников Иван Осипович, член Коллегии иностранных дел.
(обратно)116
Колышкин Николай Иванович, гвардии сержант.
(обратно)117
Волков Дмитрий Васильевич (1727–1785), сенатор; с 1749 г. секретарь Коллегии иностранных дел, в 1756–1761 гг. секретарь Конференции при высочайшем дворе; личный секретарь Петра III, секретарь Совета при высочайшем дворе и составитель указа о вольности дворянства; драматург, переводчик. При Екатерине II сначала находился под арестом, затем стал вице-губернатором Оренбурга, президентом Мануфактур-коллегии, генерал-полицеймейстером Петербурга.
(обратно)118
«Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел», выходившая с 1751 г. под редакцией Ж.-Л. д’Аламбера (первые семь томов) и Д. Дидро.
(обратно)119
Племянники – графы Воронцовы: Александр Романович (1741–1805), государственный деятель и дипломат; в 1762–1768 гг. полномочный министр в Англии и Голландии, в 1773–1794 гг. президент Коммерц-коллегии; Семен Романович (1744–1832), дипломат, в 1783–1806 гг. – посланник в Вене, Англии. Братья графини М. Р. Бутурлиной, княгини Е. Р. Дашковой, Е. Р. Полянской.
(обратно)120
От фр. «fadaise» – нелепость, вздор.
(обратно)121
Барон Черкасов Александр Иванович (1728–1788), президент Медицинской коллегии.
(обратно)122
На этом месте повествование обрывается. Событиям последующих лет посвящены отдельные мемуарные очерки и наброски Екатерины II.
(обратно)123
Тексты писем в пер. с фр. печ. по изд.: Переворот 1762 года. Соч. и переписка участников и современников. – М., 1910.
(обратно)124
Князь Чарторыский Адам Казимеж (1734–1823), польский политический деятель, литератор; двоюродный брат Станислава Августа Понятовского.
(обратно)125
Георг Людвиг, принц Голштейн-Готторпский (1719–1763), генерал-фельдмаршал, полковник лейб-гвардии Конного полка.
(обратно)126
Пассек Петр Богданович (1736–1804), капитан-поручик лейб-гвардии Преображенского полка, впоследствии генерал-губернатор белорусских провинций, камергер.
(обратно)127
То есть граф К. Г. Разумовский.
(обратно)128
Гудович Андрей Васильевич (1731–1808), генерал-адъютант Петра III; впоследствии генерал-аншеф.
(обратно)129
Граф Б. К. Миних.
(обратно)130
Адъютант Петра III.
(обратно)131
Любовные записки (фр.).
(обратно)132
Вольтер (настоящее имя – Мари Франсуа Аруэ; 1694–1778), французский писатель, философ, историк. Один из крупнейших деятелей европейского Просвещения. Тексты писем Екатерины II в пер. с фр. печ. по изд.: Вольтер и Екатерина II. Изд. В. В. Чуйко. – СПб., 1882.
(обратно)133
Французские просветители Дени Дидро (1713–1784), писатель и философ; Жан Лерон д’Аламбер (1717–1783), математик, механик и философ.
(обратно)134
14 декабря 1766 г. Екатерина II подписала Манифест о Комиссии для сочинения проекта нового Уложения.
(обратно)135
Имение Вольтера на границе Франции и Швейцарии, где он жил с 1758 г.
(обратно)136
Речь идет о проекте нового Уложения, основой которого должен был стать составленный Екатериной II «Наказ Комиссии о составлении проекта нового Уложения» (вышел отдельным изданием в Москве 30 июля 1767 г.; публикация его перевода во Франции была запрещена).
(обратно)137
Граф Румянцев-Задунайский Петр Александрович (1725–1796), полководец, генерал-фельдмаршал.
(обратно)138
Князь Прозоровский Александр Александрович (1732–1809), государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал.
(обратно)139
Граф Орлов Алексей Григорьевич (1737–1807/1808), генерал-аншеф, руководитель первой экспедиции русского флота в Архипелаг (1769–1774). После победы у Наварина и Чесмы стал именоваться Орловым-Чесменским.
(обратно)140
Брандеры – суда, нагруженные взрывчатыми и горючими веществами; применялись для поджога неприятельских кораблей.
(обратно)141
Речь идет о заточении русского посла в Турции А. М. Обрезкова и его сотрудников в Едикуле (Семибашенном замке) в 1768 г.
(обратно)142
Согласно космогонической теории французского философа и ученого Рене Декарта (1596–1650), движение небесных тел обусловлено вихревыми течениями эфира, наполняющего Вселенную.
(обратно)143
Тексты писем печ. по изд.: Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка 1769–1791. М., 1997. (Сер. «Лит. памятники»).
(обратно)144
Турецкая крепость на Дунае, с 1878 г. болгарский порт и город Силистра.
(обратно)145
Граф Потемкин Павел Сергеевич (1743–1796), военный деятель, генерал-аншеф; литератор. Родственник князя Г. А. Потемкина-Таврического.
(обратно)146
То есть от безумства, отчаяния.
(обратно)147
Коллегия «для рудных дел», учрежденная Петром I в 1719 г. Чин советника соответствовал армейскому чину полковника.
(обратно)148
Вы не отдаете должное себе, ибо вы сами – совершенное удовольствие. Вы чрезвычайно любезны (фр.).
(обратно)149
Имеется в виду А. С. Васильчиков.
(обратно)150
Взносы кавалеров имперских орденов.
(обратно)151
Граф Мусин-Пушкин Валентин Платонович (1735–1804), военачальник; при Екатерине II – генерал-аншеф, при Павле I – фельдмаршал.
(обратно)152
Русско-австрийский союзный договор, заключенный 18 мая 1781 г.
(обратно)153
Неизвестно, о каком именно проекте идет речь в этом письме, но здесь отразилось неизменно отрицательное отношение Екатерины к компаниям-монополистам.
(обратно)154
Потому что, любовь моя, у меня нет для тебя других. (фр.)
(обратно)155
«Сказка о царевиче Февее», сочиненная Екатериной II.
(обратно)156
Иркутский губернатор.
(обратно)157
Платон, митрополит Московский (Левшин Петр Георгиевич; 1737–1812), церковный деятель, проповедник, писатель.
(обратно)158
Русский посланник в Польше. Достичь «союза с поляками» тогда не удалось.
(обратно)159
Маркиз Фрэнсис Кармартен, лорд Осборн (1751–1799), английский дипломат, секретарь по иностранным делам в кабинете У. Питта.
(обратно)160
Энсли Роберт (1730–1812), английский дипломат, посол в Турции.
(обратно)161
Французский посланник в Турции.
(обратно)162
Граф Сегюр д’Агюссе Луи-Филипп (1753–1830), французский дипломат, историк, драматург, мемуарист. С 1783 г. посланник в России; впоследствии пэр Франции.
(обратно)163
Нужно признать, что Европа ныне являет собой очень странную смесь. (фр.)
(обратно)164
Это принуждает меня умирать множеством смертей – вместо одной. (фр.)
(обратно)165
Думаю, это в самом деле их место. (фр.)
(обратно)166
Князь Радзивилл Кароль Станислав (1734–1790), воевода Виленский, крупнейший магнат, противник короля Станислава Августа Понятовского.
(обратно)167
Князь Огинский Михал Казимеж (1730–1800), великий гетман Литовский, политический деятель, один из вождей «оппозиции магнатов», литератор.
(обратно)168
Граф Щенсны-Потоцкий Станислав Феликс (1752–1805), воевода Русский, генерал артиллерии.
(обратно)169
Рибопьер Иван Степанович (1750–1790), генерал-адъютант князя Г. А. Потемкина-Таврического, бригадир. Геройски погиб во время штурма Измаила.
(обратно)170
Правильно Поля Джонса.
(обратно)171
Симолин Иван Матвеевич (1720–1799), дипломат.
(обратно)172
Граф Брюс Яков Александрович (1732–1791), генерал-аншеф.
(обратно)173
Граф Оксеншерна Йохан Габриэль (1750–1818), шведский государственный деятель, ригсмаршал.
(обратно)174
Фокс Чарлз Джеймс (1749–1806), английский политический деятель, глава оппозиции.
(обратно)175
Максимович Степан Петрович, генерал-майор; погиб под Очаковом в ноябре 1788 г.
(обратно)176
Граф Бернгард фон дер Гольц (1736–1795), прусский посланник в России.
(обратно)177
Поражение флотилии под командованием принца Нассау-Зигена при Роченсальме 28 июня 1790 г.
(обратно)178
Граф Курт Штединг (1746–1836), шведский военачальник, генерал-фельдмаршал; дипломат. В 1790 г. был назначен посланником в Россию.
(обратно)179
Граф Пален Петр Алексеевич(1745–1826), государственный и военный деятель, дипломат. В 1790 г. был назначен посланником в Швеции.
(обратно)180
Булгаков Яков Иванович (1743–1809), дипломат.
(обратно)181
Карл-Фридрих Александр принц Виртемберг-Штуттгартский, младший брат Великой Княгини Марии Федоровны, скончался 13 августа 1791 г.
(обратно)182
Князь Зубов Платон Александрович (1767–1822), генерал-фельдцейхмейстер, последний фаворит Екатерины II.
(обратно)183
Текст печ. по: Труворов А. Коронация императрицы Екатерины Второй // Русская старина, 1893. Т. 80. № 12.
(обратно)184
«Чин коронации, принадлежащий до собственного ведения миропомазуемой Персоны, 762 года», хранится в архиве Святейшого Синода, за № 25-м. (Прим. автора)
(обратно)185
Ассебург А. Ф. фон дер. Записка о воцарении Екатерины Второй / Пер. и предисл. Л. Н. Майкова // Русский архив, 1879.– Кн. 1.– Вып. 3.
(обратно)186
По причине ее тяжких недугов. (Прим. первого издания)
(обратно)187
На месте нынешняго Михайловского замка. (Прим. первого издания)
(обратно)188
С. А. Порошин, уволенный в начале 1766 года. (Прим. первого издания)
(обратно)189
Hынешний дом Елисеева, на Невском, между Полицейским мостом и Большою Морскою. (Прим. первого издания)
(обратно)190
В одном из этих получасовых донесений Неплюев испрашивал скорейшего разрешения вносить обратно в (домовые) церкви образа, убранные по распоряжению Петра III. (Прим. первого издания)
(обратно)191
Упоминаемый в этом рассказе флигель-адъютант Петра III есть несомненно воспитанник сухопутного Шляхетного корпуса (находившегося под особенным покровительством государя) Семен Андреевич Порошин, сочинитель известных Записок о детстве Павла Петровича. Граф Панин еще благоприятно отзывается о нем Ассебургу; следовательно рассказ его должно отнести к 1765 году, в исходе которого последовало между ними охлаждение, кончившееся переводом Порошина в армию. В это время еще жив был старик-канцлер граф М. Л. Воронцов. Показание графа Панина об его деятельности при воцарении Екатерины несогласно с другими свидетельствами. (Прим. первого издания)
(обратно)192
Текст печ. по изд.: Трофимович Р. С. Запись современника о кончине Екатерины Великой // Русский архив, 1909.– Кн. 3.– Вып. 11.
(обратно)

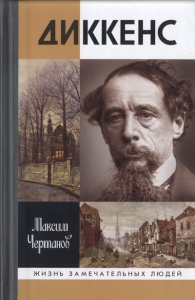

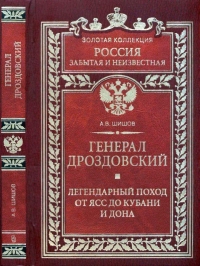

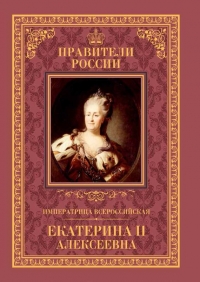

Комментарии к книге «О величии России», Екатерина II
Всего 0 комментариев