Сергей Реутов Любовь в объятиях тирана
* * *
О них слагают легенды. Историки пытаются разгадать тайну их личности, психологи силятся приподнять завесу тайны над тем, как же их дух и харизма смогли покорить сердца миллионов, как им удалось убедить эти самые миллионы в правильности своих идей.
Найти ответ на подобные вопросы необходимо. Ибо мир развивается, и неразумно в очередной раз повторять старые ошибки. Но в этой книге мы просто вспомним, что все те, кого называли тиранами, деспотами, властителями душ и жестокими правителями, несмотря на всю свою исключительность, подлинную или кажущуюся, были обыкновенными людьми. Росли в самых разных, зачастую более чем обычных семьях. Учились, быть может, даже хуже сверстников или не учились вовсе. С невероятным трудом, повзрослев, пытались найти свое место в жизни. Любили и ненавидели. Мучились комплексами и задавались все теми же вечными вопросами, что и мы с вами. Одним словом, ничто человеческое им не было чуждо.
Эти люди, обладавшие невероятной харизмой, удивительным образом могли подчинять себе самых разных женщин. Они становились для тысяч своих почитательниц богами, властителями, идеальными избранниками, опекунами и советчиками. Женщины писали им множество писем, в которых обращались с просьбами, рассказывали о своих сокровенных желаниях. Порой преклонение и любовь женщин к лидерам нации переходили все возможные границы и начинали напоминать массовое помешательство — но помешательство искреннее, хотя и необъяснимое.
И никого из этих властителей душ не обошла самая сладкая и самая горькая болезнь — любовь.
Наверное, в глубине души каждого человека живет надежда на то, что есть где-то его вторая половинка, без которой не будет жизнь ни радостной, ни счастливой. Ведь должен же найтись тот, кто разделит с тобой каждый день жизни, дойдет с тобой под руку до глубокой старости, будет утешать в плохие дни и радоваться дням хорошим…
Понтий Пилат и Иван Грозный, граф Дракула и Чингисхан, Владимир Ульянов и Иосиф Сталин, Бенито Муссолини и Адольф Гитлер, Йозеф Геббельс и Фидель Кастро… Какие женщины были рядом с «великими мира сего»? Что привлекло их в тиранах, которые в течение многих лет вершили судьбы мира и самое имя которых внушало ужас и ненависть миллионам людей? Что чувствовали эти женщины, разделяя свою судьбу с их судьбой?
Какими они были — возлюбленные тиранов: Рогнеда Полоцкая и Гулан-хатун, Матрена Кочубей и Клавдия Прокула, Инесса Арманд и Надежда Алиллуева, Ева Браун и Марита Лоренц, — и многие-многие другие? На что они готовы были пойти ради своих возлюбленных? Что им пришлось вынести ради любви и от чего пришлось отказаться? Жизнь вознесла их на столь желанный пьедестал — и заставила заплатить за свою любовь самую высокую цену, какая только может быть…
Эта книга — о людях и чувствах. О том, на что толкает каждого из нас, сильных ли мира сего или простых смертных, как окрыляет и возвеличивает коварная и прекрасная неизлечимая болезнь любви.
Рогнеда Полоцкая. Люблю и ненавижу тебя, князь Владимир…
Солнце вставало над окрестностями Киева — над церквями, крестьянскими хатами, Лыбедью и кручами, над высоким теремом, где в уединении проводила свои дни великая княгиня киевская Рогнеда. Яркие лучи проникали даже в ее маленькую светелку, хотя ставни были плотно закрыты. В щели просачивались узкие полоски света, ложились на деревянные половицы и выхватывали из полумрака небольшое ложе, скамьи вдоль стен, неоконченное вышивание и книгу с богатой закладкой из тисненой кожи.
Рогнеда проснулась, но не вставала, лежала в постели, думая о своем. Звать девушек, чтобы они помогли одеться, не хотелось. Она могла бы встать и распахнуть тяжелые ставни, чтобы солнце ударило в полную силу, озарило всю светлицу радостными лучами. Но не вставала, лежала неподвижно, устремив взгляд в одну точку. Сегодня был день солнцестояния, а у нее были свои счеты с этим днем…
* * *
Бескрайнее, ослепляющее голубизной небо над головой, степь, сколько хватает глаз, наряды и забавы девичьи, песни дружинников, пиры многодневные, гости заморские, княжий терем на высоком холме… Никогда не забыть Рогнеде дома милого, вотчины батюшкиной…
— Приготовься, любавушка моя. — В уголках глаз отца легкая улыбка и почему-то печаль. — Будут гости сегодня к нам, нужно, чтобы и ты на пиру была.
— Гости — разве же впервые к нам? Иль подать нам нечего? Или приветить нечем? Отчего ты грустен, батюшка?
— Пора замуж тебя выдавать, доченька. Час пришел — выросла ты. Оттого и грущу. Видно, скоро мы с тобой расстанемся. Выберешь себе жениха и улетишь в далекие края…
Звонкий смех Рогнеды достиг, казалось, верхушек вековых сосен.
— А ты не отдавай меня, батюшка! Вот и будем мы вместе. Или знаешь что? Лучше выдай меня за своего дружинника — и он будет верен всегда, и я останусь рядом!
Густая черная бровь отца изогнулась.
— Дружина моя и так верна мне и в тяготах военных проверена. Но что это ты о дружинниках заговариваешь? Али люб тебе кто из них?
Рогнеда опять от души расхохоталась. И смех ее звучал так весело и беззаботно, что нахмурившийся было отец поневоле улыбнулся.
— Что ты, батюшка! Так, подумалось мне… Ведь выдают же князья дочерей за своих воинов. Взять хоть Преславу, Святославову дочь. И рода их слава множится, и вместе с батюшкой и матушкой она… Ведь если отдашь меня за кого из князей, придется к его двору ехать. Очень мне не хочется, батюшка, расставаться с вами.
— Ну, пока об этом печалиться рано, перво-наперво жениха выбрать надо, — хмыкнул отец, обнимая ее. — А не полюбишься ты князьям али боярам — что делать будем?
Рогнеда озорно улыбнулась.
— Так ли уж не полюблюсь? Или брови мои не столь черны, как им нравится, или кожа не бела? А что это, батюшка, или уже присмотрели мне кого?
— Ох и разбаловали мы тебя, — вздохнул отец. — Смотрю, очень беззаботна ты… Признайся, свободно сердце твое? Нет ли в нем какой зазнобы?
Рогнеда прижалась к широкой груди отца.
— Свободно, милый батюшка, никому не отдано. Да и не хочу я ни к кому привязываться. Сам же ты говорил мне: души князей не им принадлежат.
— Говорил, доченька, говорил… Иногда приходится одружиться не с тем, кто мил, а с кем нужно для державы. Но тебя неволить не буду. Доведется выбирать — выбирай по сердцу.
— А кто приедет, батюшка?
Глаза Рогволода хитро блеснули.
— Молодой княжич Ярополк приедет, из Киева.
Рогнеда изумленно взглянула на отца.
— Да, доченька, вот, хочу породниться с киевскими князьями. Времена нынче смутные… А в Киеве престол славный и дружина великая.
— Да и у нас славная дружина, батюшка.
— Славная, да чем больше силушки, тем всегда лучше. И как знать, может, твой сын когда-нибудь на престол киевский сядет, будет во главе всей святой Руси… Владения киевские обширные и богатые. Да и объединять земли надо — вместе-то легче боронить их от врага. Нечего нам, русичам, каждому в своем куточке сидеть… Вместе мы сильнее будем…
* * *
Ярополк был красив, высок и статен и сразу понравился Рогнеде. Было в нем что-то спокойное и величественное, чувствовалась сила и уверенность нерушимая, и Рогнеда подумала, что неплохо было бы и правда сыграть свадьбу с ним — а потом, наверно, и любовь придет, как пришла к матери с отцом, которые тоже женились ради державных интересов, а потом жить не могли друг без друга.
Однако вслед за Ярополком неожиданно приехал его младший брат — киевский княжич Владимир вместе со своим дядей, богатырем и воеводой Добрыней. Все раздумья свои и решения забыла Рогнеда, как только взглянула на него. Был он так же красив, как и брат, но отчего-то сердце ее заколотилось и едва смогла она довести до конца беседу чинную, а его глаза огнем загорелись, когда он увидел ее, и стало ей от этого взгляда жарко и весело, и наполнилось сердце радостью… И с той поры куда бы ни шла, что бы ни делала, о чем бы ни думала — он стоял перед глазами, его видела во сне, о нем мечтала. И как руку ему подаст при всем народе, и как поедет с ним в далекий край…
Дни шли за днями. Рогволод привечал гостей, за дочерью наблюдал, долго молчал, долго думал. Но тянуть было нельзя, скоро пора была киевским княжичам ехать, и он наконец спросил прямо:
— Решилась ли ты уже, доченька, кого из двоих выбрать?
— Не знаю, батюшка, Владимир больше по нраву мне…
Рогволод тяжело вздохнул:
— Так и знал, по глазам видел. Больно мне слышать это. Неволить тебя не буду, как и обещал, но не торопись, доченька, рассуди по уму. Владимир что — не старший сын, к тому же — сын рабыни, Малуши, которую сама княгиня Ольга в деревню сослала, от князя Святослава подальше. Нужен ли нам позор такой, сама подумай. Добрыня, вестимо, знает, что делает, Владимиру, племяннику своему, дорогу мостит. А Ярополк на княжьем престоле в Киеве скоро сядет. С ним мы такой союз заключим — не страшны нам будут никакие враги, сила наша утроится. Всю власть возьмем себе русскую, править будем на земле нашей великой.
* * *
Это был день солнцестояния — праздник, который больше всего любила Рогнеда. Наряжалась на пир радостно, думая о гулянье великом. И тоненькой струйкой звенела в ней радость — и от того, что увидит женихов нареченных, и от того, что оба они думают сейчас о ней неотступно, и от того, что Ярополк так высок и красив, а взгляд Владимира столь пылок…
На княжьем дворе стоял шум — прибывали повозки с мехами и вином, дружинники хохотали, стоя под резными оконницами, девушки сновали туда-сюда, накрывая длинные, ломящиеся от яств столы, коими так славился Полоцк… В палатах тоже было шумно, гости прибывали и прибывали. Рогнеда сидела во главе стола рядом с отцом и матерью и встречала каждого скромной улыбкой и приветливым взглядом голубых глаз.
Вот вошли Ярополк и Владимир в сопровождении Добрыни. Поклонились, уселись. Не отводил глаз от нее Владимир, огнем жег.
— Ждем ответа от тебя, Рогволод, князь полоцкий. За кого из двоих
— Дочери мужа выбирать, ей и ответ держать, — сказал Рогволод.
— Скажи же, княжна, — обратился Добрыня к девушке, — кто из двоих молодцев тебе мил?
Минуту молчала Рогнеда.
— Не хочу робичича разувать, — промолвила она наконец, и каждое слово ее эхом отдавалось в высоких палатах. — Негоже сыну рабыни к княжне свататься.
Мертвая тишина воцарилась в покоях. Никто не двигался с места. Лишь через несколько мгновений Владимир резко встал, за ним Добрыня, и вместе они покинули княжеские палаты.
Рогволод поднял кубок, приветствуя Ярополка, и пир продолжился.
* * *
Не думала она, что все так обернется… Слишком силен был отец, слишком уверена она была в своей защищенности и в своем будущем…
Не ждали, не гадали, пришла беда лютая. Налетел черный вихрь, дружина Владимира, закружил по улицам Полоцка, сметая все на своем пути — и дружину, и мастеровых, и простой люд, и старых, и малых… Не щадил оскорбленный княжич никого, даже брата своего не пощадил… Запылал княжий терем, и взвились в небо вороны черные, и закричали на пожарище… И собралась дружина вражеская на площади, окружила ее со всех сторон. И сели в палатах Владимир с воеводой Добрыней, и стали суд свой чинить — суд киевский, суд княжеский, суд жестокий.
Грозен стоял перед Рогнедой Владимир. Страшным, яростным огнем полыхали его черные как уголь глаза.
— Значит, робичича не хочешь разувать? — спросил он спокойным голосом, только раздувались в гневе его тонкие ноздри. — Княжич киевский не ровня тебе?
Сердце упало… Защемило в груди Рогнеды… Остановилось время, замерло все вокруг.
— Не ровня, — сказала она. — Негоже тебе ко мне свататься.
Короткий сильный удар свалил ее на пол. Она металась и билась, борясь за себя, но Владимир был сильнее, намного сильнее, и скоро свет померк в ее глазах, и наступило мучительное, горькое, страшное забытье. А потом словно память отрезало, словно в голове помутилось. Не помнила ни того, как закрылись за ней навсегда ворота родного города, ни дороги дальней, ни киевских круч и хором — ничего…
Так и стала жить Рогнеда в стольном граде Киеве. Не так, думалось ей, сложится доля ее, не бранкой униженной мечталось ей быть, а вольной княгиней. Она редко выезжала в город, выходила к люду, почти все дни проводила в своих палатах, за беседами с учеными людьми, а если выезжала на киевские улицы, то привечала убогих и нищих и щедро подавала милостыню, и вскоре заговорили о ней как о мудрой и благородной правительнице, доброй сердцем и чистой душой. Ее не тешило это: корила себя за покорность князю, и хоть понимала, что так заведено, что она, как и многие женщины на Руси, — добыча княжеская ратная, но слишком строго судила сама себя.
Боль и горькая обида жгли ее изнутри. Но отчего же вздрагивала она от голоса его, и поглядывала украдкой, когда въезжал он на княжий двор на горячем коне, и ночами прислушивалась, как спокойно дышит он, отдыхая от полей бранных и державных дел, и места себе не находила, когда привозил он из походов пригожих полонянок, и таяла в руках его, когда приходил он к ней, и ждала бессонными ночами беззвездными, и томилась, и тосковала…
Потом родился Изяслав, и радости князя предела не было. Вспомнила она тогда прежнего Владимира, как приезжал к ней в Полоцк юношей, как чистый взгляд его горел, как сердце билось гордое, задорное и счастливое…
«А если бы промолчала тогда? Если бы не обидела его? — думала она иногда, глядя, как муж забавляется с маленьким сыном и оба хохочут от души. — Может, и не было бы ничего? Может, и счастливы бы мы были? Вон как Изяславушка любит его — не может душа совсем черной быть, если дитя так льнет… Неужто сама я долю свою изломала?»
Потом в душе снова поднимался гнев и затапливал ее всю. Не забыть страшного дня никогда… Она на земле в уборах разорванных… Отец и братья в растекающейся луже крови… Мать на смертном одре…
А потом вновь жаркие ласки Владимира и веселый смех Изяслава… Сколько она передумала, сколько мучилась, как изводилась, не зная, как жить дальше, и умереть не решаясь. Да и как умереть? Изяслав-то один останется…
А потом Владимир привез себе из похода новую наложницу — черноволосую и черноглазую дочь татарского хана, и забыл жену, и не привечал, а потом и вовсе отправил ее вместе с сыном в собственный терем, подальше от Киева, с глаз долой…
* * *
Княгиня вместе с наперсницей гуляла по берегу Лыбеди, посматривала на игравшего неподалеку четырехлетнего Изяслава, любовалась холмами зелеными, собирала цветы полевые.
— Красивый венок получится тебе, Забава, — улыбнулась она. — На игрищах ни у кого такого не будет.
— Полно вам, княгинюшка, — рассмеялась девушка. — Какие такие игрища? Мне бы всю работу переделать да княжича досмотреть…
— Вот тогда и игрища будут, — спокойно ответила Рогнеда, слегка улыбаясь. — Чай, парней красивых и славных и у нас много, и не только в палатах князя Владимира.
— Вот тебе, чудище страшное! — донесся громкий голос размахивавшего мечом Изяслава. — Умри, окаянное!
— Вон человек во весь опор скачет, — сказала Забава, прикрывая ладонью глаза от солнца и пытаясь разглядеть всадника. — Али случилось что? Посмотрите, княгиня, кто едет-то?
Рогнеда обернулась. Всадник летел во весь опор, за ним, словно огромные красные крылья, развевался плащ. Княгиня улыбнулась краешком губ — ей было приятно видеть молодого дружинника. Его нельзя было не узнать — ярко-красную накидку, трепещущую на ветру, знал весь Киев — вышивала ее статному храбрецу богатырю Алеше, отважному в сражении и лихому на пирах, своими руками любимая его нареченная, псковская красавица Алена, воеводина дочь.
Алешка на полном скаку подлетел, из-под копыт коня взметнулось облако пыли.
— Князь едет, княгинюшка! — молвил он, поклонившись. — На охоте был здесь, в ваших лесах. Велел передать, чтобы ждали.
Полные губы Рогнеды дрогнули, брови изогнулись.
— Ах вот как? — произнесла она, и ее глаза сверкнули гневом.
Дружинник терпеливо ждал ответа.
— Великий князь Владимир вспомнил о жене… Вспомнил… — горько повторила Рогнеда, словно про себя. — Не потому, что истосковался, а потому, что поблизости сейчас…
Она повернулась и медленно пошла по тропинке к терему.
Владимир приехал только поздно вечером. Соскочил с белого горячего коня, бросил поводья подоспевшему слуге, поспешил в терем. Рогнеда вышла навстречу, поклонилась. Маленького Изяслава было не удержать: он бросился к отцу и, когда тот подхватил его на руки и поднял высоко вверх, закричал от восторга.
Рогнеда чуть заметно улыбнулась. Было приятно смотреть на высокого, сильного Владимира, всемогущего киевского князя, играющего с ребенком.
Но к ее тихой радости примешивалось и беспокойство: Владимир приезжал к ним очень редко, и в последнее время ей все чаще казалось, что он охладел к сыну. Были у него в Киеве другие заботы, другие женщины, да что там — и другие дети от разных наложниц, а от законного сына он отвык, да к тому же и натянутые отношения с женой большой любви к сыну не способствовали.
— Ну полно, полно, — молвил Владимир, целуя ребенка. — Тебе уж спать пора, время позднее.
Мальчик все еще обвивал его шею ручонками, теснее прижимаясь к отцу, не желая отрываться от него, но Владимир решительно отстранился и передал ребенка жене.
«Истосковался по батюшке, — подумала Рогнеда, и сердце ее сжалось. — А Владимиру все равно… Разлюбил он его, видно…»
Молча пошла она за Владимиром в терем, пытаясь почувствовать, угадать его настроение, а он словно и не замечал ее. И только когда остались наедине в ее светлице и опустился он на ложе, протянул к ней руку, привлек к себе.
— Устал я сегодня… Как же устал я…
Владимир приник к ее губам, и Рогнеда медленно и нежно ответила на его поцелуй. Он оторвался от ее рта и провел губами по прекрасной белоснежной шее. Она глубоко вздохнула, отдаваясь наслаждению, и он покрыл поцелуями атласную кожу ее плеч и груди. Лицо его изменилось от страсти, он крепко, почти причиняя боль, сжал ее волосы, и она, не в силах более сдерживаться, испустила сладостный стон. Медленно, любовно он ласкал ее теплую грудь и живот, потом спустился ниже… Он еле слышно шептал ей ласковые слова, и Рогнеда могла только стонать, чувствуя, как внутри нарастает восхитительный жар.
Его ласки стали напористы, почти грубы, он обжигал ее, вызывая неистовый ответный огонь. Рогнеда задыхалась от страсти, его дыхание опаляло ее кожу, и она почти теряла сознание — опьяненная, ослепленная…
— Какая ты прекрасная, — выдохнул он, впившись губами в ее плечо, и Рогнеда выгнулась дугой и упала на спину, отдаваясь нахлынувшему наслаждению, пока не откинулась без сил рядом с ним, обмякшая и почти безжизненная…
Утомленная и счастливая, Рогнеда приникла к его плечу, вдыхая запах его кожи и наслаждаясь его близостью. Легко коснулась его мускулистой руки, провела пальцами по груди и животу, мягко рисуя ими круги, поцеловала в плечо…
— В следующий раз приеду не скоро, — услышала она в тишине спокойный голос Владимира. — И вы не приезжайте, тут живите.
— Но я и так не езжу в Киев…
— И не езди. Живите здесь до зимы. Зимой решу, что с вами делать.
Оскорбленная и униженная, Рогнеда никак не могла собраться с мыслями. Почему-то из всех чувств осталась только растерянность, а из всех мыслей — что зимой здесь очень холодно, дуют сильные ветры, и летний терем совсем не приспособлен для житья в морозы…
Владимир отвернулся к стене и мгновенно уснул. От него пахло жарким потом и, казалось, самой пылью дорог, которые доводилось топтать его дружине — от Киева до Новгорода и Вышгорода, Корсуня и Полоцка…
«Наверное, опять привез кого-то с собой. Или его татарка — уже хозяйка в палатах? Или еще кто? Говорят, у него наложницы во всех городах, числом до тысячи… А я уж подумала: все как прежде между нами… Так нежен был, так горяч… Нет мне счастья, нет доли хорошей… Всю жизнь он мне поломал…»
По щекам Рогнеды текли горячие слезы.
«Почему я смиряюсь с ним? Словно вымаливаю милости от него… Неужели совсем сломана гордость моя? Или я забыла батюшку с матушкой? Иль братья мои встали живыми? Или Полоцк, вотчину нашу, нежданно вернули сыну моему?»
Рогнеда повернула голову к мужу. Владимир, утомленный охотой и ласками, крепко спал. Он дышал ровно и спокойно, даже безмятежно, и ей вдруг нестерпимо захотелось погладить светлую прядь волос, упавшую на его лоб. Она протянула руку, но уже в следующий миг отдернула ее, словно от ядовитой змеи.
«Сама себя не узнаю… Ты ли это, светлая княжна Рогнеда Полоцкая?»
Боль нахлынула и сжала сердце, будто тисками. Рогнеда осторожно перевернулась на бок и встала с ложа. Неслышно сделала несколько шагов, поднялась на цыпочки и сняла со стены тяжелый меч. Еле удерживая его, вернулась к кровати — и занесла его над головой Владимира…
— Ах ты, змея подколодная!
Рывок, удар — и Рогнеда уже лежала навзничь на богатом покрывале, а над ней нависал разъяренный, с перекошенным злостью лицом Владимир.
— Вот что ты удумала! Жизни хотела лишить? Для того сюда заманивала, для того сладкими речами околдовывала? Говори, проклятая!
— Прости, прости, в помраченье я… Нашло что-то… Как сказал ты, что из Киева меня навсегда прогоняешь, в глазах потемнело…
— И ты добро все забыла? Всю любовь мою?
— Любовь?! Ты отца моего погубил. И братьев… Ты меня обесчестил… Мать в горе умерла…
— Вот как заговорила, значит! Забыла, как унижала меня, как насмехалась надо мною… Как матушку мою рабыней звала! А помнишь ли, как целовала меня, как обнимала… Сына мне родила!
Рогнеда вскинулась, изо всех сил оттолкнула Владимира и, придерживая на груди распахнутую сорочку, сверкая полными ярости и боли глазами, закричала исступленно, уже не желая и не имея сил сдерживаться, прямо ему в лицо:
— Целовала! Обнимала! А ты думал, что я из страха покорилась тебе? Что же делать, как жить мне, ежели хоть и погубил ты моих родных, хоть и отнял все, а люб ты мне… Люб ты мне, слышишь, проклятый! А ты… Где ты был? Ты все годы по войнам да по шатрам. У тебя наложниц не счесть, они тебе дороже и жены, и сына! Ты его, кровинушку свою, видел-то всего несколько раз! Простить не можешь ему, что он внук Рогволода? Что в нем кровь благородная и чистая? Что в нем моя кровь течет? Или своего брата, которого ты обидел и обманул, вспоминаешь, когда его видишь? Будь проклят ты во веки веков! Глаза бы мои на тебя не глядели!
Владимир молчал некоторое время, угрюмо мерил широкими шагами светлицу. Наконец повернулся, окинул жену тяжелым взглядом.
— Не глядели бы, говоришь? Знаешь ли ты, каков закон? Знаешь, какой ответ держать тебе?
Рогнеда молчала, и Владимир, больше ни слова не говоря, развернулся, чтобы уйти.
— Погоди, князь! — воскликнула Рогнеда, и Владимир, пораженный, остановился. Неужели дочь Рогволода Полоцкого будет молить о пощаде?
— Погоди, — повторила она тише. — Не иди ни к кому… Сам ведь говоришь о законе! Я княгиня киевская… Только ты можешь казнить меня!
— Вот ты о чем… Ну что ж… Таков закон, и такова воля… — Рогнеда смотрела на него огромными, полными муки глазами. — Знать, так тому и быть. Оденься как подобает и жди меня. Я буду скоро.
— Князь, никогда тебя не просила. Сейчас, перед смертью, прошу… Дозволь мне увидеться с Изяславом. Дозволь обнять его…
— Не дозволю. Негоже наследнику княжескому прощаться с матерью-убийцей, руку на его отца поднявшей!
— Помилуй, князь, не будь таким жестоким! Казни меня, я противиться не буду! Дозволь попрощаться с сыном!
— Я буду скоро, — повторил Владимир и вышел из светлицы.
Некоторое время Рогнеда сидела неподвижно, словно в оцепенении. Затем встала, подошла к огромному сундуку, обитому металлическими пластинами, с трудом подняла массивную крышку. С самого, казалось, дна извлекла платье тяжелое, парчовое, расшитое драгоценными камнями, серебром и золотом, — свое свадебное платье. Подняла руки — и простая льняная сорочка упала к ее ногам. Не спеша омыла себя прохладной чистой водой и облачилась в праздничный наряд. Надела уборы, из далеких земель привезенные, еще отцом даренные, — ожерелье, кольца, браслеты… Волосы убрала, на ноги — сапожки сафьяновые…
«Вот так, — промолвила, оглядывая свой последний наряд. — Сдается, хорошо, сдается, ладно. Но неужели я так и не увижу Изяслава? Нет, великий князь, тут не бывать твоей воле».
Она приоткрыла дверь и выскользнула наружу. В тереме было тихо и пусто. В этот предрассветный час даже челядь спала, и Рогнеду никто не видел, когда она, не привлекая к себе внимания, но и не таясь, шла в покои сына.
Изяслав крепко спал, и, похоже, ему снилось что-то хорошее. Его кожа порозовела, была теплой и мягкой. Он раскинулся на постели, длинные светлые волосы разметались, он улыбался во сне. Рогнеда склонилась к нему — она хотела только поцеловать его на прощанье и уйти, но не смогла и приникла к сыну, желая подольше остаться с ним, налюбоваться, насытиться последними минутами… Она плакала навзрыд, обнимая любимое маленькое тельце, и Изяслав, услышав ее плач, конечно же, проснулся.
— Матушка, что с тобой?
— Милый, милый мой Изяслав!
— Матушка, почему ты плачешь?
— Не плачу я, не плачу, мой родной…
— Как же не плачешь, матушка? — Изяслав обвил ручками ее шею и прижался к ее груди. — Ты пришла ночью, ты в слезах… Что случилось, матушка? Кто тебя обидел?
Рогнеда, не в силах сдержаться, разрыдалась еще сильнее.
— Ты уже большой, мой милый. Ты мужчина и воин. Я скажу тебе… Мне придется навсегда покинуть тебя. На рассвете придет мой смертный час. Я виновна перед отцом твоим и заплачу ему смертью лютою.
— Чем ты могла так прогневить отца, матушка? Он добрый, он не сможет такого сделать! Пойдем к нему! Я попрошу, и он простит тебя!
— Нет, нет, сынок… Не проси. Никогда не проси его — и никого другого. Помни своего деда Рогволода, помни, как он сражался и как любил его народ… И меня не забывай, сынок…
Окна в светлице были распахнуты настежь — Рогнеда хотела видеть свой последний рассвет. А он наступал — багровый, густой, растекался над широкой рекой, заливая светом окрестные луга. Над рекой поднимался туман, ветер пах свежестью и травой, и Рогнеда с наслаждением вдыхала прохладный утренний воздух. Закричали петухи, и в тот же миг раздались тяжелые шаги за дверью. Рогнеда даже не обернулась, она знала, что это был князь. Но что ей до того — в эти последние мгновения она хочет видеть не его, а бескрайнее небо и спокойную реку, медленно и величаво несущую воды к своему брату Днепру…
— Ты готова? — грозно спросил Владимир.
Она подняла на него взгляд и спокойно кивнула.
Князь занес меч, но вдруг за его спиной послышался шум, и перед глазами изумленного Владимира предстал четырехлетний княжич с мечом в руке. Глаза маленького Изяслава были полны решимости.
— Отец, остановись! Неужто мнишь, что ты тут один? Нет — я рядом с матерью! Убей, коль можешь, мать при сыне!
— Да кто же знал, что ты здесь… — пробормотал растерянный Владимир, и меч выпал у него из рук…
Клавдия Прокула. Мой Понтий Пилат
«В час сна, едва я склонила голову на подушку, как таинственные видения овладели моим воображением. Я видела Иисуса… Лик Его блистал как солнце, Он парил на крыльях Херувимов — пламенных исполнителей Воли Его… Он, казалось, был готов судить поколения народов, собранных у Его стоп. Мановением Своей десницы Он отделял добрых от злых; первые возносились к Нему, сияющие вечною юностью и божественною красотою, а вторые — низвергались в бездну огня. И Судия указывал им на раны, покрывавшие Его тело, говоря им громовым голосом: «Воздайте кровь, которую Я пролил за вас!» Тогда эти нечестивые просили у гор покрыть их, а землю, чтобы она поглотила их. И чувствовали они себя бессмертными для муки и бессмертными для отчаяния. О какой сон, какое откровение!»
* * *
Полуденное солнце заливало Рим горячими изнуряющими лучами. Многолюдные улицы опустели. Все стремились укрыться в прохладе уютных, утопающих в зелени портиков своих домов. Казалось, ничто живое не в силах выдержать такого зноя.
Понтий сегодня выпил столько воды, как никогда в жизни не пил, и осчастливил и озолотил, кажется, всех продавцов прохладительных напитков. Но облегчения это не принесло. Гораздо с большим удовольствием он бы сидел сейчас в покоях огромного отцовского дома или нежился в прохладной ванне, где красавицы рабыни зажгли бы благовония и своей лаской подарили бы ему расслабление, негу и блаженный отдых. Однако нужно было закончить дела, а значит, с негой придется подождать.
Понтий шел по улице, совершенно ослепший и оглохший от зноя, ничего не видя в ярком свете солнца, в котором стены домов казались ослепительно, до боли белыми. Он пытался забыть об усталости и сосредоточиться на обдумывании текущих дел, но это плохо получалось. Голова была словно залита расплавленным свинцом.
«Не помню такой страшной жары с самого своего рождения!» — думал он с досадой.
И вдруг словно светлое пятно мелькнуло навстречу.
Он не понял, что это, но остановился.
И с изумлением понял, что это идущая ему навстречу невероятной красоты девушка в длинной белой тунике, с красиво убранными в высокую прическу и украшенными жемчугом волосами. Девушка улыбалась своим мыслям и казалась свежим цветком среди этого выжженного, опаляемого беспощадным солнцем города.
А потом он сообразил, что знаком с ней, более того, что он давно уже искал этой встречи и почти перестал надеяться.
— Приветствую тебя, благородная Клавдия! — поздоровался он, и искренняя радость брызнула из его глаз.
— Приветствую и я тебя, Понтий, — скромно ответила она.
— Странно видеть тебя в такой час одну, без сопровождения отца или слуг. А также без паланкина, — добавил он, улыбаясь. — Сомневаюсь, чтобы еще хоть одна патрицианка решилась на такую пешую прогулку.
— Я была у своего наставника, а потом мне захотелось прогуляться, и я отослала паланкин, — лукаво улыбнулась Клавдия. — Слуги не посмели ослушаться. Ты знаешь, что отец не в большом восторге от этих моих прогулок, но это просто потому, что он беспокоится за меня.
— Почему же ты выбрала для прогулки такое время? Солнце не щадит никого и ничего.
— Мне нравится, когда оно такое яркое и так сияет в небе. Жара приятна. Не вижу ничего дурного в том, чтобы пройтись в такой час, если есть свободная минутка.
— Да устаешь ли ты когда-нибудь, прекрасная Клавдия? — рассмеялся юноша.
— Конечно, Понтий, — ответила девушка с ясной улыбкой. — Ведь я живой человек. Но сейчас уставать не от чего. Я просто доставила себе несколько приятных минут. Ты же, как видно, напротив, очень устал и потому не чувствуешь прелести этого дня. Если ты немного отдохнешь, силы вернутся к тебе.
— Благодарю тебя за заботу.
Девушка снова улыбнулась, на секунду прикрыв губы изящными пальцами, потом подняла голову и взглянула, как показалось Понтию, в самую глубину его души. А потом попрощалась и пошла своей дорогой, не промолвив больше ни слова.
Юноше оставалось только продолжить свой путь.
«Почему в ее присутствии я всегда теряю дар речи? Никогда я не встречал такой удивительной девушки… Говорят, что она очень образованна и так умна, что многие великие люди, которые бывают в доме ее отца, почитают за честь побеседовать с ней. Да что там говорить, ее голос — сладчайшая музыка, а слова — услада души. А еще она чиста душой и благородна, в ее сердце нет места низким устремлениям. А как же она красива…»
* * *
Молодой патриций Понтий был обуреваем честолюбивыми мечтами. Сын одного из богатейших людей Рима, он очень рано пресытился всеми удовольствиями, которые только могла подарить ему жизнь в величайшем городе мира. Он славился не только как сорвиголова и кутила, но и как прекрасный атлет, мастер боя на мечах, и очень умный юноша, который, как говорили, сможет преумножить славу своего отца. Ему прочили большое будущее, на него возлагали огромные надежды. Понтий был строен, высок, плечист, прекрасно сложен — настоящий римский легионер, образец мужественности, воли и силы. Не одна гордая римлянка украдкой поглядывала на него и втайне мечтала о его сильных руках и пылком взгляде. У него было много друзей — причем друзей настоящих, а не только приятелей, с которыми было принято поддерживать отношения в аристократическом кругу. Он держался всегда ровно и спокойно, и это притягивало к нему людей. Он был чрезвычайно приятным собеседником. Он был отважен, но не безрассуден, а хладнокровен и порой даже излишне расчетлив. Он превосходно ездил верхом и мог провести в седле несколько дней подряд. Он отличался недюжинным умом и благородством, его образование было всесторонним, воспитание — утонченным. Его семья была богата и влиятельна, он побывал во многих странах, знал толк в хорошей еде, дорогих винах, красивых рабынях, ученых беседах. Благодаря отцу он был знаком и состоял в дружеских отношениях со знатнейшими людьми Рима. Он привык ни в чем себе не отказывать и не любил ограничивать себя в желаниях, однако это не мешало ему оставаться смельчаком, сохранять честность и быть верным понятию чести, как подобало римскому юноше. Правда, мать, зная его буйный и порывистый нрав, несколько беспокоилась, что именно возьмет верх в его душе — зло или добро, — однако положилась на волю богов и уповала на то, что в ее сыне все же победит светлая сторона.
В какой-то момент ему надоела спокойная, размеренная и, в сущности, пустая жизнь, которую он вел. Его не привлекали больше распутные женщины, он перестал стремиться к праздным утехам. Его влекло — что? Он и сам не знал. Может быть, жажда подвигов, может быть, желание. Он стал всерьез задумываться, не поступить ли на военную службу и не сделать ли карьеру — почему бы и нет? — в качестве наместника какой-нибудь из колоний. Он подумывал даже о женитьбе — но это было настолько со скуки, что вызвало смех даже у него самого. Ему хотелось чего-то нового, неизведанного, в корне отличающегося от того, к чему он привык.
И именно тогда он встретил Клавдию. Она тоже происходила из древней уважаемой семьи, тоже всю жизнь прожила в Риме, вращалась в тех же кругах, что и он, но как же она отличалась от всех, кого он знал доселе!
Клавдия была очень красива — яркой, но при этом нежной красотой. Волосы цвета воронова крыла оттеняли высокий чистый лоб, а на нежном лице светились яркие черные глаза. Она для всех находила приветливое слово, славилась своей отзывчивостью и добротой, была горда, но при этом не заносчива. Высокомерия, свойственного римлянкам, в ней не было и в помине. При знакомстве это даже казалось странным, настолько контрастировало с общим обликом Вечного города с его надменностью, пышностью и презрением к беднякам, простолюдинам и чужакам.
Говорили, что ей явилось какое-то откровение во сне, но поскольку сама она об этом молчала, расспрашивать было не принято, а сплетни были такими разнообразными, что в них путались даже самые любопытные и умудренные пересудами матроны, то никто ничего толком не знал, а так как узнавать было негде, то вскоре горячий интерес к этому вопросу несколько угас.
Понтию же было любопытно, что такого открылось Клавдии и вообще правда ли это. Возможно, она, такая молодая, уже столь мудра, что ей открылась истина? Впрочем, этот интерес к ней вскоре был вытеснен другим, более свойственным его юному возрасту.
Он все чаще вспоминал ее прекрасные влажные глаза, и тонкий стан, и легкую тунику с длинными рукавами, ниспадавшую вокруг ее прекрасного тела, ее спокойный голос, ее добрые слова… А мимолетно встретившись еще несколько раз с Клавдией, он уже не спал ночами, вспоминая прекрасную патрицианку.
Иногда ему казалось, что и она задерживает на нем взгляд дольше, чем следовало бы по законам морали, но он тут же одергивал себя, приказывая себе опомниться: кто он такой, чтобы произвести впечатление на такую девушку… Хотя… Если бы только представился случай проявить себя…
* * *
Он всегда любил ездить верхом и в этот раз отправился на прогулку довольно поздно. Вечером прошел сильный летний дождь, жары уже не было, и он испытывал не сравнимое ни с чем наслаждение, когда все сильнее и сильнее пришпоривал коня и тот летел, казалось, быстрее свистевшего в ушах ветра. Мимо проносились распаханные поля и оливковые рощи, вдалеке виднелись горы, верхушки которых уже позолотило заходящее солнце.
Уже темнело, когда он, все еще не желая поворачивать коня, влетел в лес на склоне горы. Так далеко он давно не ездил, а ему хотелось сейчас уехать подальше от Рима. Он знал, что недалеко есть прекрасный водопад, и решил достичь его, искупаться в его прохладных струях и только после этого возвращаться домой.
Впереди он заметил еще одного всадника — он тоже летел как стрела, припадая к гриве гнедого коня. Вроде бы это был подросток, по крайней мере тонкая фигурка его казалась совсем юной. Казалось, всадника переполняет отчаянное веселье, так отчаянно и безудержно он гнал коня вперед, и во всем, что он делал, чувствовалось нечто созвучное настроению Пилата.
Они почти достигли тропинки, ведущей наверх, к горным пастбищам, как сбоку раздался оглушительный свист. Пораженный Пилат видел, как со всех сторон к маленькому всаднику бросились бородатые коренастые люди, вооруженные мечами. Конь преследуемого взвился на дыбы, но получил очередной удар по бокам и понесся вперед. Всадник в отчаянной попытке удрать от разбойников пришпоривал коня снова и снова, что-то отчаянно крича, но те настигали, и спасения уже не было.
Пилат изо всей силы хлестнул своего коня и полетел туда, где начиналась жестокая схватка. Не глядя, он вытащил из ножен короткий меч, с которым никогда не расставался, и кинулся в самую гущу врагов. Краем глаза он успел заметить бледное как мел лицо всадника и молнией обернулся, готовясь принять первый удар. Он не замедлил последовать, а потом удары стали сыпаться со всех сторон, и он только и успевал крутиться, отвешивая удары мечом то направо, то налево, отбиваясь от наседавших разбойников, и совсем не видел маленького всадника, и боялся только одного — что о нем все-таки вспомнят, схватят и уволокут в чащу леса.
Сердце билось так сильно, что, казалось, разорвется. Он старался сохранять холодную голову, но уже появилось опьянение боем. Он отбивался со страстью, бешено вращая мечом, и уже не один враг упал под копыта его коня, орошая траву своей кровью. И наконец последний из нападавших с коротким хриплым вскриком, словно кто-то тяжело выпустил из груди воздух, упал наземь, и он смог остановиться, тяжело переводя дух.
Воцарилась мертвая тишина.
Только маленький всадник испуганно жался к столетнему дубу на краю поляны, исподлобья поглядывая на своего спасителя.
Казалось, конь был напуган не меньше его.
— Испугался? — спросил Пилат, подойдя и потрепав мальчика по плечу. — Ничего, не волнуйся. Вырастешь и будешь готов к любой схватке. А что же ты не уехал?
Мальчик поднял голову:
— Я боялась за тебя, Пилат.
Изумленный, юноша замер. Перепуганный подросток оказался его Клавдией, его возлюбленной!
Ее волосы, прежде подобранные, теперь рассыпались по плечам. Огромные черные глаза горели на все еще бледном лице.
— Так ты узнала меня?
Она усмехнулась:
— Да, когда ты подлетел словно вихрь и начал всех крушить своим мечом. — Остановила на нем долгий взгляд и с невыразимой нежностью произнесла: — Спасибо тебе, Пилат. Ты настоящий храбрец. Я думала уже, что не спасусь, что они утащат меня с собой.
Он с трудом заставил себя оторвать от нее взгляд.
— Все кончилось. Они больше не представляют угрозы для тебя. Но ты бледна. Ты очень испугалась. Тебе пришлось сегодня многое пережить. Поехали. Тут недалеко есть озеро и водопад, мы сможем там помыться и отдохнуть.
— Поедем. Вода смывает все страхи и боль. И все плохое, что случается, — тихо ответила Клавдия. — Она обладает чудодейственной силой.
* * *
Понтий не мог отвести взгляда от тоненькой фигурки, нежащейся в струях водопада. Клавдия не слышала его, не заметила его присутствия, и он возблагодарил за это богов. Пусть они будут свидетелями, он всеми силами пытался уйти, но не мог заставить себя сделать это.
Серебряные струи обрушивались и обрушивались на нее, и Понтий едва не лишился рассудка, глядя на ее белоснежное тело и мокрые черные волосы, падавшие на талию и бедра, словно змеи.
«Она должна стать моей! Эту женщину великие олимпийские боги создали для меня! Нет в мире и не будет во веки веков женщины лучшее ее, красивее и мудрее!»
Она вышла из водопада, шагнула на огромный валун, нащупывая босой ногой безопасную дорогу, и он больше не мог сдерживать себя. Он вышел из-за дерева и направился к ней.
Увидев его, она вздрогнула, но не отступила, лишь прикрыла туникой обнаженное тело. Она не говорила ни слова, только жгла его взглядом своих огромных черных глаз.
Понтий шагнул к ней.
— Я люблю тебя, — сказал он, и глаза его говорили больше, чем самые красивые слова.
Она молчала и не двигалась с места, словно не понимая.
— Я люблю тебя, — повторил он. — И давно люблю. Позволь мне быть с тобой.
Она улыбнулась ему самой лучшей своей улыбкой. Глаза ее сияли.
— И я люблю тебя, Понтий.
Он подхватил ее на руки и увлек опять под струи водопада. Она нежно улыбнулась, провела рукой по лицу юноши и проговорила:
— Наконец ты соединишься со мной.
— Навсегда, любовь моя. Если ты согласишься на это.
Он отнес ее в крошечную пещерку, скрывавшуюся рядом с водопадом. Солнечный свет, проникавший сквозь густую зелень, позволял Клавдии видеть красивое лицо юноши, его глаза, горевшие в полутьме сдерживаемой страстью и глубокой любовью.
— Я мечтал прикоснуться к тебе с того самого мгновения, как увидел. Ты единственная девушка в мире, с которой мне хотелось бы проводить и дни и ночи, не расставаясь и не отрываясь от тебя ни на секунду.
Клавдия замерла, когда его губы коснулись ее губ, но тут же ответила на поцелуй. Губы ее приоткрылись, сначала робко, потом смелее. Он настойчиво искал ответных ласк, и по ее телу пробежала сладкая дрожь.
Желание нарастало от соприкосновения их горячих тел. Она ничего не понимала — хотела лишь, чтобы блаженство длилось вечно. А он продолжал ее целовать — кончик носа, подбородок, лоб, подрагивающие веки, нежные щеки…
Он бережно уложил ее на зеленый мох, густо покрывавший пол пещеры, и снова покрыл поцелуями ее лицо. Приподнявшись на локте, она тоже коснулась губами его лица — вначале скул, уголков рта, снова вернулась к его ищущим, настойчивым губам…
Сердце ее чуть не выпрыгнуло из груди, когда сильные мужские руки сомкнулись вокруг ее тела, когда ее грудь коснулась его груди…
Он медленно ласкал ее тело, нежную и упругую плоть, гладил и слегка пощипывал мягкую кожу, а потом поцелуями утолял причиненную сладкую боль… От горячих прикосновений его рта к ее телу Клавдия совершенно лишилась рассудка.
Заключив ее в объятия, он приподнял ее и стал осыпать с ног до головы горячими поцелуями. Ослабев от страсти, она лежала в его объятиях, не в силах сдержать стоны наслаждения.
Он позволил себе остановиться и немного полюбоваться ею, нежными холмиками ее грудей, чуть выпуклым животом и крутыми, обещающими подарить райское наслаждение бедрами, но она издала жалобный молящий стон, и он опять вернулся к ней, к ее потаенным святыням, открытым только ему одному.
Из ее горла вырвался сдавленный крик. Она задыхалась, ощущая его в себе. Она инстинктивно приникла к нему еще ближе, содрогаясь, чувствуя внутри себя биение его пульса, его страсть была заразительна, и она трепетала, уносясь вместе с ним на вершины блаженства…
А затем она словно потеряла сознание, растворившись в нем, словно летя куда-то меж звезд, горевших в далеком черном небе…
Ее пробудили горячие поцелуи, которыми Пилат осыпал ее мокрые щеки, и она поняла, что плачет от счастья. Теперь им не нужны были никакие слова…
Она вздохнула с облегчением и подалась навстречу его поцелуям, горячо отвечая на них. Рука его скользнула по ее шелковому животу.
Он на миг оторвался от ее губ и посмотрел ей в глаза.
— Любимая моя, прекрасная… Сколько в тебе огня и страсти!
Его прикосновения вновь воспламенили ее, она изнывала от желания снова ощутить его в себе. Губы его прильнули к ней горячим поцелуем, которому, казалось, не будет конца.
Все тело ее горело и томилось желанием. И тогда, повинуясь ее мольбам, он снова накрыл ее своим телом, издав сладкий стон.
Долгое время они лежали, сплетенные в объятиях… Тела их были влажны, сердца бешено бились, и было ясно без слов, что теперь они не смогут жить друг без друга…
* * *
Они вернулись в дом родителей Понтия безмерно счастливые и безмерно уставшие. Они скакали рука об руку по зеленым холмам, по оливковым рощам, мимо озер и речушек, и солнце светило только для них, и сердца их бились в унисон… Опьяненный любовью и близостью Клавдии, он говорил почти без умолку, рассказывая о своей жизни, о честолюбивых планах, о матери и отце, а она слушала любимого, не перебивая и не задавая вопросов. Иногда ему казалось, что она дословно запоминает все то, что он ей рассказывает.
Вот легли под ноги каменные плиты портика, вот знакомая колоннада, вот изысканная мозаика, созданная лучшими мастерами…
— Мальчик мой! Наконец-то ты дома! Как же я волновалась! Почему ты не предупредил, что хочешь отправиться в поездку, уехать из Рима? Мы не знали, где ты, и никто из твоих рузей не мог нам сказать! — Навстречу уже спешила мать.
— Прости меня. Я никуда не собирался ехать. Я был на прогулке, но встретил Клавдию. Ей пришлось спасаться бегством от разбойников…
— Ваш благородный сын спас меня от смерти и от бесчестия, — прервала его речь Клавдия. — Я безмерно благодарна ему за все, что он для меня сделал.
— Я хочу сказать вам нечто более важное, — даже несколько смущенно начал Пилат.
Валерий и Патриция вдруг поняли, о чем будет вести речь их сын, и с улыбкой переглянулись.
— Пройдемте же в дом. Отдохните с дороги, а там и поговорим. Нам подадут вино и фрукты, и вы сможете подкрепиться, — сказала приветливо Патриция.
«Какое у нее чувство собственного достоинства… Какая врожденная гордость, какая стать… Она создана жить во дворце, править народами… — думала она, глядя на избранницу сына. — Ее снисходительности будут добиваться с таким усердием, какого я даже не в силах представить… И при этом она столь кротка, что будет любима не только сильными мира сего, но и нищими, и несчастными и сможет всем оказать поддержку и дать каждому то, что облегчит его страдания…»
* * *
Стол ломился от кушаний, шелковые подушки, на которых возлежало семейство, были мягки словно пух.
— Так что же ты хотел сказать нам, сын?
— Отец, мать… Я хотел сказать вам, наверно, самое важное в своей жизни. Я люблю Клавдию и собираюсь взять ее в жены. Примете ли вы ее как дочь в нашу семью?
— Как мы можем быь против, если ты полюбил и выбрал себе достойную спутницу жизни? Но я думаю, что об этом лучше все-таки спросить саму Клавдию, — сказала Патриция, пряча улыбку.
Долго ждать не пришлось.
— Моя прекрасная Клавдия! — тут же воскликнул пылкий юноша. — Я люблю тебя всем сердцем! Согласишься ли ты стать моей женой? Я был бы безумно счастлив услышать от тебя «да»…
— И я люблю тебя и пойду за тобой хоть на край света, — тихо отозвалась она, глядя на него полными любви глазами.
— Счастливой может быть лишь семья, которую скрепляет большая любовь, — обняв сына и будущую невестку, произнес Валерий. — Перед величием любви меркнут и становятся мелкими все рассуждения о достойном и принятом. Ибо там, где царит любовь, нет места лжи и зависти, злобе и коварству. Однако часто жизнь заставляет нас измениться, и важно сохранить в себе чистые чувства и чистую душу.
— Надеюсь, мои милые, вы будете очень счастливы, — добавила Патриция, — а нам с отцом останется только гордиться вами и терпеливо ждать встречи. А теперь вам нужно отдохнуть, так как впереди еще очень много дел, связанных с подготовкой к свадьбе. Мы будем безмерно рады, когда вы соединитесь в браке. Мы видим, что вы любите друг друга всем сердцем.
Губы Клавдии дрожали, а прекрасные глаза были полны слез. Понтий обнял ее и нежно поцеловал в губы, прошептав:
— Ничто не заставит меня отказаться от тебя, возлюбленная моя. Жизнь моя принадлежит тебе, и даже в смерти я буду рядом с тобой.
Руки их переплелись. Маленькая ладонь Клавдии легла в сильную, привыкшую к тяжелому мечу руку Понтия.
Теперь они были навсегда вместе.
Клавдия Прокула и будущий великий прокуратор Иудеи Понтий Пилат.
Мария Темрюковна. Тебя назовут Иваном Грозным…
Широкая степь стелилась под ноги, устремлялась занимающемуся новому жаркому дню. Кибитка мерно покачивалась, изредка подпрыгивала на ухабах, и тогда Гуащэнэ подпрыгивала вместе с ней, выглядывала в маленькое окошко, торопя рассвет, и снова уютнее устраивалась в уголке, закутываясь в новый, расшитый серебром халат. Всадники по бокам кибитки негромко перекликивались, копыта лошадей мирно стучали по сухой земле, и Гуащэнэ, убаюканная, снова засыпала, незаметно проваливаясь в сладкую спокойную дрему.
Ей снился отцовский дворец с расписными стенами и мраморными полами, мягкие диваны и роскошные ковры, резные беседки и прохладные освежающие фонтаны, возле которых так приятно посидеть в изнуряющую жару, безмолвные слуги, бесшумно скользящие по залам, и прекрасные наложницы отца, смех которых беззаботно звенел в дальней части сада. Ей снились прогулки на лошадях и чадящие костры, горячая степная пыль и запах хорошо выделанной кожи, сухой изнуряющий ветер и звон шаманских бубнов. Она безмятежно спала, лишь изредка просыпаясь, и снова засыпала, полная светлых ожиданий и надежды…
Путь ей предстоял дальний — в Россию, в Москву, на смотрины к самому царю Ивану…
* * *
Тесны, ой как тесны показались ей темные московские палаты после степного раздолья! Она присела на лавку, стоявшую у стены, и с любопытством оглядела широкую беленую печь, кровать, накрытую ярким рядном, огромный кованый сундук, маленькое зарешеченное окошко. Она выглянула в него — внизу простиралась площадь, мелькал люд, шумели торговцы. Ей стало весело: до того все это было не похоже на привычный, утоявшийся, знакомый до мелочей мир ее отца!
Очень красивая девушка с длинной светлой косой и в голубом, до пят, сарафане помогла ей умыться, Она немного отдохнула, а потом ее пожелал увидеть царь. Она надела тяжелые браслеты и серьги, сама заплела косы — так, как было принято у женщин в доме отца, — и внимательно посмотрела на себя в большое зеркало, стоявшее у стены.
Оттуда смотрела на нее смуглая черноволосая девушка, с нежными чертами, глубокими раскосыми черными глазами и длинными густыми ресницами и тонким станом. Яркий наряд необыкновенно шел ей, подчеркивал благородную линию плеч и шеи, нежно-бронзовый оттенок кожи…
— Хороша! — сказал царь, оценивающе оглядывая ее. — Хороша…
Гуащэнэ слегка смутилась — никто и никогда не позволял себе так бесцеремонно разглядывать ее, ханскую дочь. Однако это был, возможно, ее будущий муж, а мужу следовало покоряться. И она кротко улыбнулась, чуть склонив набок голову, и приветливо взглянула на него раскосыми черными глазами.
На бояр, сидевших и стоявших вокруг, она старалась не обращать внимания.
Царь коротко кивнул, подал ей руку, и они вместе последовали на пир. О, здесь было на что посмотреть! Стол ломился от яств, бояре, оглаживая бороды, громко хохотали, кубки звенели, вино лилось рекой…
— Скоро окрестим тебя, — шепнул Иоанн, склонившись к ее уху. — А тогда можно и за свадебку!
Она снова улыбнулась, не зная, что сказать, растерявшаяся, оглушенная и потерявшая дар речи от этого изобилия, от духоты, от красочных нарядов и окладистых бород, от незнакомых музыкальных инструментов, которые оглашали огромный зал своей игрой — тоже незнакомой, непривычной и оттого режущей слух. Шум стоял страшный… А Иоанн, сидевший рядом с ней, был так красив, что захватывало дух. От него исходила сила и властность, которые подчиняли и будоражили ее, он был могуч и прекрасен, он был неистов в пиршественном буйстве своем, и она вспомнила, как отец говорил, что равных на поле брани московскому царю Иоанну нет и не было, а равно и в делах государственных он со временем велик станет, ибо умен и изворотлив, а еще смел и несдержан во всем, до забытья, до безумия. И она уже смотрела на него восхищенными глазами, мечтая о том времени, когда воцарится рядом с ним и будет единственной полновластной хозяйкой огромной страны и его сердца — царского, всемогущего…
* * *
— Верую во Единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых. И жизни будущаго века. Аминь.
— Аминь…
Голос священника разносился под сводами церкви, гулко отдаваясь от стен. Гуащэнэ стояла со свечой в руке и изо всех сил старалась вести себя так, как ее учили, и ничего не забыть. Про себя она повторяла слова незнакомой молитвы и незаметно смотрела по сторонам, запоминая, когда окружающие крестятся, а когда бьют поклоны.
— И отвещает…
— Сочетахся, — ответила она.
— И веруеши ли Ему?
— Верую Ему, яко Царю и Богу.
И снова:
— Верую во Единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго…
И снова…
Ей было очень душно, и она уже с ужасом думала, сможет ли выстоять службу до конца и что случится, если не выстоит, но тут поймала на себе одобрительный, восхищенный, горящий взгляд царя, и ей стало жарко и весело — оттого, что он так на нее смотрел, а еще оттого, что ей показалось это непозволительным и очень забавным — смотреть так друг на друга в церкви, во время молитвы, при большом скоплении народа.
— Теперь ты перед всем светом нареченная моя, — сказал царь, пристально глядя ей в глаза. — Прими же это кольцо и платок в знак скорого нашего соединения.
Мария — теперь нужно было привыкать к новому имени! — протянула руку и взяла вещицы. Кольцо было тяжелым и приятно покоилось в руке, а платок, унизанный жемчугом и искусно расшитый, был красоты невероятной! Она поклонилась Иоанну, как учили ее по русскому обычаю, и тихо произнесла слова благодарности.
* * *
В день свадьбы Москва ликовала. Женился царь! По всему городу гремели пушки, звонили колокола. Звон был такой, что люди не слышали друг друга в разговоре. Пока ехали в церковь, войско салютовало, со всех сторон в честь новобрачных бросали шапки и выкрикивали слова одобрения. Всем было интересно поглядеть на молодую невесту, уже прославившуюся необыкновенной красотой, а она сидела скромно в искусно украшенной золоченой карете, опустив глаза и сплетя на коленях тонкие пальцы рук, в тяжелом головном уборе, украшенном драгоценными камнями и жемчугом, в парчовом златотканом платье, в накидке, расшитой серебром.
Свадебная церемония длилась до позднего вечера, а праздничный пир затянулся на всю ночь.
Удивляло это Марию безмерно, а особенно — плач и стенания, которые сопровождали празднество. А еще очень хотелось сбросить с себя тяжелые наряды, облачиться в мужское черкесское платье, вскочить на коня и умчаться в степь — и чтобы волосы развевались на ветру, и чтобы рука об руку с Иоанном…
По русскому обычаю, молодых вывели из-за стола раньше всех, пока гулянье еще продолжалось, и проводили в покои Иоанна. С поклонами, пятясь, бояре вышли, двери за ними закрылись, и молодые супруги остались вдвоем.
— Какая ж ты красивая, — хрипло прошептал Иоанн. — Не видел еще таких…
Она лукаво взглянула на него и выгнулась дугой под его руками. У Иоанна пересохло во рту. Ошибиться он не мог — в глазах кроткой и робкой черкешенки горели страсть и откровенный призыв.
Он притянул ее к себе, и она обвилась вокруг него. Он стиснул ее изо всех сил, на миг подумав — не переломит ли такой тонкий стан, не причинит ли боль ее хрупкому телу. Но она застонала, и он забыл обо всем. Впился в тонкие холодные губы, и они ожили, отвечая ему, навязывая свою волю, обволакивая темной страстью…
Иоанн повалил ее на ложе, рухнул сверху и прижал всем телом. Она не сопротивлялась, напротив, пылко отвечала на его ласки и распалила его так, что он уже не помнил себя. Она льнула к нему, прижимаясь всем своим гибким горячим телом, и он опьянел от ее смуглых плеч, тонких рук и заалевших, вспухших под его напором губ. Он не сдерживался, он забыл, что это только первая их ночь, что она еще никогда не знала мужчину, — да и как было об этом думать, если она обнимала его так горячо и бесстыдно, как он и не помнил, чтобы его обнимали, — и только наслаждался ею, терзал ее тонкие губы и нежное тело, не отпускал до утра, все не мог никак насытиться и оторваться от нее…
Уже наутро змеей заползла в голову мысль: как так, отчего она столь страстна и опытна? Не было ли обмана? Слишком уж искусна она, никакой страстью такое не объяснишь… Но она так нежно и робко прильнула к нему, и такой мягкий румянец залил ее щеки, и такой лаской засветились ее черные как ночь раскосые глаза, что он отогнал сомнения, и забыл о них, и снова прижался ртом к ее сладким губам.
* * *
— Опять на охоте? Сколь можно-то? И не надоест ему эта забава… — жаловалась Мария Темрюковна своей наперснице и советчице, няньке детей царя, Евдокии. — И меня с собой брать перестал. А знает ведь, как я охоту люблю. Как завел опричников себе, сладу нет. Все с ними да с ними… Что так смотришь на меня, Евдокия?
— Не гневайся, Марьюшка, послушай, что скажу. Давно с тобой говорить хотела, да все никак, все боялась тебя огорчить. Теперь же вижу — нельзя тянуть более. Чуть промедлим — поправить ничего нельзя будет.
— Да о чем ты, Евдокия?
— Смотри, родненькая, царь горяч и в делах амурных безрассуден. Полыхнет — и перегорит.
— Зачем говоришь такое? — вспыхнула гневом Мария, и тонкие черты ее исказились. — Разве я больше не люба ему?
— Да что ты, что ты… — заторопилась Евдокия, суетливо поглаживая молодую царицу по плечу. — Что ты…
— Зачем говоришь такое? — тихо, словно с угрозой повторила Мария. — Или знаешь что? Полюбил кого? Быть не может. Каждую ночь он ко мне приходит.
«Такова ли была ты, прежняя Гуащэнэ? — подумалось Евдокии. — Такова ли ты в Москву приехала?»
— Что ж, что приходит… Приворожила ты его, видать, равных тебе в любовных утехах и впрямь нет, как люди сказывают. Но что ж ты его не приголубишь никогда, не пожалеешь?
Губы Марии насмешливо изогнулись.
— Пожалеть? Иоанна — и пожалеть? Разве нужно ему это? В нем сила темная страшная… В нем огонь дикий. Его еще назовут великим. Его грозным назовут… А ты говоришь: жалеть его?
— А ты пожалей, Марьюшка, — терпеливо вздохнула Евдокия. — Царица Настасья-то была — голубица кроткая, ангел чистый…
— Настасья?! — вскинулась царица. — Что ж вы меня все ею попрекаете? Что ж вы меня все учите? Или брови-очи мои хуже, чем у нее? Или стан у нее тоньше был? Или любит меня царь меньше? Говори — меньше?!
— Что ты, что ты, Марьюшка, отчего же меньше? — не на шутку перепугалась старушка. — А только ты к нему с лаской подойди, добра от этого и пользы лишь прибавится. Ты вот светлицу покойницы восточными коврами застелила, чучел птичьих понаставила, в мужской одежде ходишь, по своим обычаям живешь… А ему, может, милее станы ткацкие да пяльца, что Настасья любила, да кроткие девицы-умелицы, да тишь в тереме… А у тебя, прости, Господи, душу грешную, не прислужницы, а истые дьяволицы: одна другой краше, но лихие, как на подбор… Такого ли счастья царь-батюшка наш хотел, о том ли кручинился?
Но Мария уже ничего не слышала. Кровь кипела в жилах, стучала в висках, и казалось, что сейчас она, разрывая кожу, вырвется наружу и сметет все на своем пути горячим гневным потоком.
— Значит, не люба я ему так, как она? — прошептала она, горло перехватывали тугие спазмы, не давая дышать. — Значит, она, голубица, приворожила его? Значит, любовь моя ему не столь мила?
Евдокия, вконец расстроенная, замахала руками:
— Да что ты, право, краса ненаглядная? Анастасия-то уже, почитай, пять лет как померла… И детки у них, посмотрит он — и ее вспомнит. А тебя он сразу взял, как ее похоронил, приглянулась ты ему — неспроста, поди? И ты жива, не в могиле, чай? Чего ж ему мертвую любить, когда ты, такая раскрасавица, подле него все время?
Мария медленно подняла голову. Евдокия в испуге отпрянула. Мрачный, адский огонь горел в черных глазах царицы.
— Детки… Детки, сказываешь? И то верно… Наследники… Мне сына не дано, и, по всему, уж дано не будет…
Она поднялась и быстро вышла из горницы, оставив наперсницу одну, в великом страхе и великом волнении…
* * *
Была у Гуащэнэ-Марии большая тайна. Никому о том не сказывала, не доверялась. Из отцовской земли привезла она старуху шаманку, поселила во дворце у брата родного, любимого, Салтанкула, и навещала лишь изредка, лишь по крайней потребности. Только на самые важные вопросы отвечала шаманка, только в самых отчаянных случаях давала совет. Но и ценила Мария ее так, как никого другого. Ибо не случалось еще так, чтобы старая Анэбат неправду сказала или плохо научила.
В темной комнатушке, где жила Анэбат, было жарко от множества свечей. Пламя отбрасывало на стены тени, играло длинными языками, металось по полу и потолку.
«Все как в душе моей… Темно и страшно. Мечусь, как неприкаянная, не зная любви, не могу приклонить голову нигде…»
Пламя выхватило из темноты чучело огромной птицы. Белый сокол… Рядом другие, поменьше, совы и вороны… Грозные клювы, мощные когти…
Вода в чугунном котле кипела, бурлила. Шаманка шептала что-то себе под нос, ломая длинными крючковатыми старческими пальцами какие-то стебли и подбрасывая их в воду. Запах трав поднимался к потолку, рассеивался по комнате, обволакивал, дурманил…
— Что ждет меня, уважаемая Анэбат? Скажи мне, не таи ничего. Измучилась я совсем. Погибаю от страсти к нему.
— Одной красотою да ласками хочешь пленить его… Так не сбережешь его любви, он уже и теперь остывает к тебе. Ибо вкусил он опасную прелесть непостоянства и не знает стыда. Понавез в слободу девиц нечестивых, бесовское отродье, опричников к себе допустил, все люди стонут, удержу нету на них, окаянных…
— Помнит ли он жену свою, уважаемая Анэбат?
— Помнит, — строго сказала шаманка, и царица невольно вздрогнула. — Помнит, это правда. И в память ее наделяет великою богатою милостыней монастыри Афонские. Молится за нее он. Выше нет для него цели, как молиться за нее. И молитвы его доходят до Господа, хоть и великий грешник он, и проклят, и прокляты его потомки.
— Как проклят?
— Навеки. Грехи предков над ним — как тяжесть неподъемная. Не перебороть ему этой тяжести, не снести ноши — мочи не хватит. Будет дьяволом одержим и всеми бесами его. Много горя принесет.
— Горя? Кому?
— Всем. И тебе.
— И мне? Но ведь он любит меня…
— Нет, не любит. Полыхнула страсть и прошла. Но ты можешь еще помочь и ему, и себе. Если, как покойная Анастасия, возьмешь на себя боль его. Если не испугаешься его проклятия вечного. Только ты можешь его от греха отвратить.
— Успокоится ли сердце мое? Обратится ли он ко мне?
— Успокоится, если только о нем думать будешь, если забудешь о себе и о том, как бы брату побольше новых богатств доставить, должностей и дворцов. А если потакать будешь ему в его страстях, самым дорогим расплатишься.
* * *
Она изо всех старалась стать такой, какой, как ей казалось, он желал ее видеть. Бесовское, тайное, черкесское рвалось наружу, горячая кровь давала себя знать, но она снова и снова смиряла себя.
Она прекратила все развлечения, она ходила в церковь, она проводила вечера со старушкой наперсницей, забросила скачки и мужские костюмы, игрища и пиры, а уж о любовных утехах и не вспоминала.
До того самого дня, когда обожаемый ею Иоанн сказал то, что сказал.
— Что это ты, — насмешливо спросил он, — все по монастырям да по старухам боярыням? Я думал, ты девка-огонь, неукротимая, буйная… А ты все по светлицам. Уже и со своими служанками не развлекаешься, и меня вон сиднем сидишь ждешь. Скоро и вышивание в руки возьмешь? Думаешь, не знаю, отчего так убиваешься? С Анастасией моей сравниться хочешь? Так напрасно. Не выйдет у тебя ничего. Не ровня ты ей. И никогда не была и не будешь.
Кровь бросилась в голову гордой черкески. Не Мария стояла перед грозным Иоанном, а неукротимая горячая Гуащэнэ.
— Хорошо же, — процедила она сквозь стиснутые зубы. — Выполню и эту твою волю, великий государь. Стану снова такой, как тебе надо!
Снова бил в лицо вольный ветер, и мчал конь без устали через ручьи и поля. Развевались на ветру волосы, а мужское черкесское платье прилегало к телу, удобное, и она погоняла плеткой коня, гортанно покрикивая — как привыкла и любила с детства, — одна, без Иоанна.
Снова обвивалась она всем телом вокруг темноглазых красавцев — не вокруг него. Стискивали ее из всех сил — не переломят ли ее тонкий стан, не причинят ли боль ее хрупкому телу… Впивались в ее тонкие губы, но они оставались холодными, не могли эти руки и губы потопить ее в темной страсти, навязать свою волю, не под силу им было…
Лилось рекой вино, лилось через край — как любовь, как боль, как кровь ее…
Снова распалялись так, что уже не помнили себя. Снова валили ее на ложе, прижимались к ее гибкому горячему телу, пьянели от ее смуглых плеч, тонких рук и заалевших, вспухших губ. Снова обнимала их жадно и бесстыдно, снова терзали ее тонкие губы и наслаждались ее нежным телом, не отпускали до утра, все не могли никак насытиться и оторваться от нее… один, другой, третий… все как на подбор… один другого краше…
Кто угодно, но только не он…
Уже через несколько месяцев она расплатилась самым дорогим — когда опускала в крошечную могилку тельце своего двухмесячного малыша.
Гулан-хатун. Я отобью тебя у всего мира, мой Чингиз
Высшее счастье, какое даровано мужчине, — разгромить врага, похитить его сокровища, увести его коней и взять его женщин… Так считал отец Чингиза, так думал и он сам.
Обычно все именно так и бывало: войско вламывалось в городок или разрушало стойбище, входило в деревню или окружало поселение. Если враг был никчемным, то воины Чингиза выбирали себе коней и находили сокровищницу, потом выбирали женщин. Оставшихся в живых мужчин никто не пленял и даже не связывал — зачем принимать на себя никчемную судьбу? Пусть уж влачат дни, как могут, и вспоминают свой позор.
Если же враг был уважаемым и достойным, то женщины уводились все до последней, равно как и лошади. Сокровищница с поклоном передавалась хану, а мужчин убивали быстро и милосердно. Не дело, чтобы достойный соперник мучился от боли или умирал от ран. То же, что оставалось от поселения, предавалось бессердечному и всепожирающему огню, дабы не осталось в ханской империи даже воспоминаний, а духи соперника навсегда покинули безжизненные отныне места.
Сейчас же все было иначе. С меркитами у него были давние счеты. Пусть с тех пор, как они отравили его отца, прошел не один десяток лет, пусть сам он уже поседел и должен был бы забыть тот давний позор. Пусть меркиты выродились и не достойны были даже следа от копыт его коня. Их надо было извести. Уничтожить всех до единого, чтобы эти презренные конокрады стерлись навек из памяти людской.
Уничтожить, сжечь и забыть…
Но как забыть эту тоненькую девочку с огромными темными, как ночь, глазами и нежно-персиковыми щеками, что вынесла ему чашу кумыса, как то предписывают правила гостеприимства? Как стереть из памяти ее тихий голос и шелковое прикосновение ладони к его широкой руке?
Хан тряхнул головой. Не к лицу властелину мира такие мысли, не достойны они повелителя стран и ниспровергателя дворцов. Однако и отказаться от счастья нельзя — ведь впервые за десятки лет он ощутил, как застучало его сердце при виде женщины. Не как о враге, а как о желанной возлюбленной подумал он о дочери племени меркит.
Что же делать? Как должно повести себя ему, бывшему голодранцу, который всего добился благодаря своему чудовищному властолюбию?
«Что сказала бы матушка?» Редко, очень редко вспоминал хан ту, что дала ему жизнь. Лишь когда речь заходила не об армии или землях, не о походах или врагах, а вот как сейчас — о его душе и желаниях. «Что бы она посоветовала?»
— Ух, какая куколка… — раздался сзади голос кого-то из воинов.
И эти немудреные слова решили все.
— Я войду в шатер меркитов как друг. Я возьму в жены дочь их царя. Я назову ее народ нашими братьями и приглашу их воинов в наши ряды.
С ханом не спорили никогда. Ныне даже ропота не было слышно — ибо меркиты и впрямь жили столетиями по соседству, были давними соратниками, помогали защищаться от набегов полуночных варваров. А женщины племени меркит и в самом деле были почти так же красивы, как их женщины. Что же дурного в том, чтобы породниться двум давним добрым соседям?
Конечно же, ничего дурного, если только не помнить о том уже далеком ныне дне, когда меркиты подняли руку на его отца. Но об этом помнит он один…
Хан повернул коня:
— Идите и исполните мое повеление!
Нукеры послушно бросились к шатру вождя племени, а каган Чингиз, не оглянувшись, последовал к себе. Походный шатер мало чем напоминал его уютный дом. Но на родине в его доме царила Бортэ, первая и любимая жена, родившая и воспитавшая его сыновей. Здесь же, в полуночных степях, его женой станет царевна меркитов. А что будет завтра — то ведомо лишь богам.
* * *
— Утри слезы, детка! Не гоже царевне меркит лить слезы. Да и что случилось? Отчего ты так печальна?
Тоненькая черноволосая Гулан подняла глаза на мать. Та улыбалась, но девушке показалось, что улыбка не столь радостна, сколь печальна и опаслива. Словно мама сама не верит собственным словам, словно потеряла всякую надежду.
— Я боюсь, мама… Я увидела его взгляд и поняла, что передо мной волк — неукротимый, беспощадный…
Мать усмехнулась:
— Так чего же ты испугалась? Не волка боятся меркиты, детка. Волк страшен только для тех, кто не знает о его честности и решительности. Кто не помнит о его верности и силе. Волк страшен овцам. Мы же, меркиты, горды своим прошлым и сильны в своем будущем. Нам ровня только волки!
Девушка промолчала. Ее отец был вовсе не столь силен и отнюдь не так горд. Напротив, это ее мать была сильной и горделивой, это она принимала на себя тяжесть решения. Она, говоря уж совсем откровенно, и воинские советы отцу давала. У того только и хватало, что разума — по секрету от всех слушать жену и делать, как она велит.
— Ох, мамочка…
Гулан прижалась к матери. Та обняла ее и стала гладить по волосам. Длинные черные косы, как две змеи, спускались почти до колен.
— Какая ты красивая, малышка…
— Мне так страшно.
Матушка выпрямилась, ее глаза сверкнули, а руки сжались в кулаки.
— Никогда, слышишь, никогда и никому этого не говори. Никогда и никому не показывай этого. Ты — принцесса меркит. Ты — наша гордость и наша сила.
Гулан взглянула на мать сквозь слезы. Да, ей следует выучиться у матушки — быть такой же сильной, такой же непреклонной, такой же гордой.
— Сегодня последний день, когда мы можем поговорить. Вечером посланцы хана отвезут тебя к нему. Поэтому помни о своем великом имени. Помни о своем достоинстве. И никогда никому не показывай своей слабости. Не дай мужчине возвыситься над тобой лишь потому, что он сильнее. Будь сильной сама — и пусть он тянется за тобой, пытается обогнать тебя. Лишь тогда он будет не просто любить тебя, но уважать. А выше этого, дочь, нет ничего для женщины.
Гулан мудро промолчала. Мать наверняка думала сейчас об отце. Но подойдут ли ей, будущей жене хана, эти материнские советы?
«Быть выше самого хана Чингиза… Ох, мама, не думаю, что это так просто… Да и позволит ли он? Не попытается ли сломить мою волю, не превратит ли в молчаливую тень в дальнем углу своего шатра, только и годную, что угождать одним только телесным желаниям?»
— Я так люблю тебя, мама…
— И я люблю тебя, дочь. И потому прошу: помни мои слова, помни всегда. Они залог твоего счастья.
«И твоей жизни, моя любимая девочка!..»
* * *
Гулан в первый раз попала в настоящий каменный дом. Сначала ей показалось, что крыша вот-вот упадет на голову и расплющит, не оставив даже воспоминаний. Но время шло, коридор все длился и длился, а крыша по-прежнему не падала. На смену опаске пришло иное ощущение: спокойная защищенность. Толстый ковер на полу, яркие китайские ткани на стенах…
«Как здесь тихо… Не слышно ржания коней, криков… Как здесь тепло… Можно спокойно спать даже в самую студеную и ветреную ночь. Можно не бояться, что погаснет костер посреди юрты, не бояться, что от него загорится твое платье… Должно быть, жители таких домов куда более искусны в боях, чем мы, жители юрт. Ведь такие дома надо охранять…»
И тут же девушке вспомнились слова отца: «Да чтобы я хоть раз вошел в каменный дом? Это же ловушка! Нам, степным царям, негоже не то что входить в такие дома, но даже смотреть на них…»
— Ах, отец… Нам, степным царям, в таких домах только и жить, — проговорила девушка.
Двое суровых солдат, что почтительно провожали ее, никак не выказали того, что удивлены разговорчивостью принцессы. Да и почтительность их была, как показалось Галун, чуть напускной. Словно они знали какую-то тайну. Тайну, которую ей, глупой девчонке, знать не следует. Нет, чуть не так — недостойна она, степная дурочка, знать нечто подобное…
Одна только мысль о подобном заставила Гулан выпрямиться. Посреди роскоши этих стен сама себе она и впрямь казалась ряженой дурочкой, но все вокруг не должны были, не смели даже думать о ней в подобных выражениях.
«Я меркитская принцесса! За мной сила, армия, народ… И любой, кто посмеет вслух меня высмеять, поплатится за это жизнью, клянусь!»
Наконец бесконечный каменный коридор окончился. Распахнулись высокие резные двери, и Гулан робко ступила на роскошные, словно светящиеся яркими летними красками ковры. В огромной комнате было необыкновенно тепло. Сидевший на возвышении человек был тот самый хан, которому она сегодня утром подносила чашу кумыса. Но сейчас он показался ей и куда мягче, и куда моложе. «Должно быть, — подумала девушка, — тяжелые меховые одежды с металлическими пластинами не столько защищали его, сколько сгибали и утомляли».
Чингизу и в самом деле во дворце, недавно выстроенном по плану китайских зодчих, было куда легче, чем посреди степи. Годы брали свое. Возможность согреться не одеждой или в битве, а от очага оказалась на диво приятной вещью. Надежные каменные стены давали спокойствие и крепкий сон. И теперь, избавившись от ежедневной, ежечасной, ежеминутной необходимости защищаться, разум можно было направить вперед — теперь у него, хана, хватало душевных сил планировать не только близкие схватки, но и далекие походы.
Камень стен защищал и от шума. Сыновья выросли, обзавелись своими семьями и больше не беспокоили размышлений отца. Однако тяга к тишине, ранее такой редкой, с годами не проходила. Напротив, она обострялась. Так усталость заставляет нас не только двигаться меньше, но и говорить тише.
«Волк, — вновь подумала Гулан, робко взглянув на хана. — Но волк спокойный, сытый. Волк, готовый встать на защиту, но только в случае крайней нужды…»
— Приветствую принцессу меркит! — и в самом деле вполголоса проговорил Чингиз.
Девушка покачнулась. Едва слышные слова, тем не менее, поражали мощью. Гулан поежилась — она могла представить себе, что будет, когда хан заговорит в полный голос.
— Приветствую великого кагана! — ответила девушка.
Кланяться хану, как его сподвижники, приведшие ее сюда, она не могла и не хотела. Лишь слегка наклонила голову в знак уважения. Хан усмехнулся — он понял это сразу. Перед ним действительно была кровь от крови племени меркит — гордая и самолюбивая. Что ж, именно этого он ожидал и именно это получил. Тем слаще будет его месть, пусть она и растянется на годы.
Гулан же истолковала усмешку хана иначе. Угрозу она увидела в том, как растянулись его губы, как исказился старый шрам через висок. Угрозу прочитала в оставшихся неподвижными темных безжизненных глазах.
В определенной мере так оно и было — однако беда грозила не ей, пятнадцатилетней принцессе, а взрослым мужам и вошедшим в возраст воина подросткам — ее отцу, братьям, всем мужчинам племени. Хан не забыл и никогда не забудет своей боли. Но мстить женщине… Это было недостойно Ниспровергателя земель.
— Ты боишься меня, юная дева? — Хан сошел с возвышения.
— Да. — Гулан никогда не лгала. — Я боюсь тебя, великий каган.
— Но почему, скажи мне? Разве я так страшен?
— Страшно даже одно твое имя, каган. Ужас несет оно любому из меркит. Ужас и неотвратимую смерть.
— Смерть придет к каждому из нас, — пожал плечами Чингиз. — Рано или поздно. И она столь же неотвратимая гостья в моем доме, как и в доме твоего отца…
— Однако, великий каган, люди отчего-то не торопятся к ней на свидание, отчего-то стараются всеми силами оттянуть его.
— Это верно, принцесса Гулан. Стараются, однако иногда одних стараний мало. И следует не стараниями, а деяниями удерживать эту нежеланную гостью как можно дальше от своего дома.
Хан был холоден — давняя боль стала уже настолько привычной, что не могла заставить его ни рассердиться, ни даже просто повысить голос. Иногда Чингиз пытался представить, что будет, когда он отомстит за смерть отца. Пытался представить, что почувствует. Пытался и не мог. Быть может, эта девочка заставит всколыхнуться его чувства? Быть может, ее живая душа вернет ему то человеческое, что навсегда, как кажется, умерло в его сердце?
Чингиз осторожно погладил принцессу по голове. Богатое покрывало соскользнуло с волос, длинные черные косы тяжкими плетями опустились вдоль спины почти до самого пола. Так, во всяком случае, показалось хану.
«У Бортэ никогда не было таких длинных кос. У Бортэ не было и таких нежных щек, и таких светящихся глаз… Должно быть, эта дева послана мне для того, что месть моя была слаще, чтобы вознаградить меня за мое деяние, чтобы указать на его справедливость и мудрость…»
Принцесса молчала. Хан видел, что она внутри натянута как струна, но изо всех сил старается этого не показать.
— Войди же в мой дом, принцесса, войди моей любимой женой и не бойся, что сия гостья скоро появится на пороге твоей опочивальни…
Гулан поклонилась, в этот раз намного ниже.
— Благодарю тебя, великий каган! Я войду в твой шатер твоей женой и не буду бояться отныне за свою жизнь. Ибо ты дал мне слово!
Да, девочка с характером! Ну что ж, значит он и в самом деле сделал верный выбор — кровь меркитов сольется с его кровью и растворится в ней. Последний из племени меркит, его сын, уже не будет ребенком своего племени, а станет наследником Великого кагана и братом его старших наследников. Кровь меркит умрет навсегда… И даже имя их забудется в веках.
— Присядь, дитя, вкуси яств, отдохни! День был долгим, и путешествие непростым. Воздадим же хвалу плодам земли!
Гулан послушно опустилась на плотно скрученную кошму на возвышении, послушно взяла в руки чашу с теплым молоком. Послушно подождала, пока великий каган не опустится рядом и не нальет в молоко густого тягучего вина.
Вкус смеси показался девушке непривычным, но не неприятным. Через несколько минут она почувствовала, как уходит напряжение, перестает ныть спина, исчезает дрожь, которую с трудом удавалось сдержать.
Хан с удовольствием наблюдал, как порозовели щеки девушки, как стали более яркими ее губы.
— Ну вот, дитя, отныне ты всегда будешь властительницей этих мест, моей любимой женой и хозяйкой. Завтра сюда доберутся те, кому ты доверяешь, твоя мать и сестры. Они помогут тебе обосноваться здесь и будут всегда к твоим услугам, как только тебе понадобятся.
— Матушка? — Глаза Гулан вспыхнули. — Сестры?
— Да, дитя, как же иначе тебе царить и править во дворце без помощниц? Я подумал, что лучшего советчика, чем мать, тебе все равно не найти. А жена вождя меркит славится своим мудрым сердцем и поистине безбрежными умениями.
Лицо Гулан расцвело от радости. «К тому же, дитя, ни ты, ни она не узнаете, что станет с теми, кто остался дома. Не узнаете никогда, клянусь!»
Теперь Гулан чувствовала себя в этих каменных стенах и в самом деле как у себя дома. Хан улыбался, рука его, теплая и нестрашная, лежала у девушки на плечах. Завтра появится матушка… Как хорошо, как спокойно, как радостно все кругом…
Объятия хана стали сильнее, жаркие губы прижались сначала к шее, а потом и к губам девушки. Ничего не зная о поцелуе, она ответила на ласку хана так, как могла.
— Я научу тебя всему, моя любовь, — прошептал Чингиз, сбрасывая вышитый верхний халат.
— Я выучусь всему, что ты пожелаешь, мой хан, — ответила девушка, покорно позволяя снять с себя войлочную накидку.
* * *
С того странного вечера прошел год. Стояла такая же холодная осень, грозившая вот-вот превратиться в зиму. Год Мыши был на исходе. Однако Гулан было не до праздничных забот. Она кормила маленького Кюлькана и думала о муже.
Поход затянулся. Хан, который никогда не ошибался, всегда держал слово, все еще не добрался до своего дворца. Слуги говорили, что он отправился к своей старшей жене, Бортэ, однако Гулан верить в это не хотела. Что ему там делать с этой злой старухой? А здесь его маленький сын, его наследник.
— Поход, — прошептала уснувшему малышу Гулан. — Поход выдался неожиданно тяжелым.
На женской половине слышен был голос матушки — та отдавала распоряжения. Дочь ожидала мужа, великого кагана, уже почти десять дней, и мать помогала ей как могла.
«Отчего матушка так печальна? Отчего так резко в последнее время звучит ее голос? И отчего все время заплаканы мои сестры?»
Гулан ощутила, что она словно приходит в себя после страшного сна. Сна, длившегося почти год — с того мига, как вошла она под этот кров, и до того мига, как родился ее сын, первенец, наследник.
— Я назову его Кюлькан, — тогда прошептала она.
— Да, детка. Твой сын будет Кюльканом.
— Но, быть может, лучше было бы дать ему имя деда, твоего мужа и моего отца, Токтоа-беки?
— Нет, родная, это будет ошибкой. Наследник великого кагана не должен носить имени вождя другого племени… дабы не вызвать ненависти у его старших братьев и презрения у его отца.
Губы матушки дрожали. Но только сейчас, по прошествии трех почти месяцев, Гулан задумалась, отчего. Тогда она была уверена, что мать просто рада за нее, рада, что малыш здоров, что выжила она, Гулан, что сможет выносить и родить великому кагану и других детей.
Девушка встала. Осторожно положила уснувшего сына и поправила кошму так, чтобы она высоким валиком окружала ложе наследника хана. Малыш сладко спал.
Гулан вышла из покоев и раскрыла двери комнаты, откуда был слышен материнский голос.
— Хатун, — в низком поклоне склонились служанки.
— Дитя мое. — Матушка раскрыла Гулан объятия.
— Мне нужно поговорить с тобой, мама… — прошептала девушка.
— Не здесь, дитя.
Гулан кивнула.
— Мне нужно отдать распоряжения по дому.
Девушка развернулась и поспешила обратно в свои покои — она слышала, что мать спешит следом за ней.
К счастью, Кюлькан крепко спал. Гулан опустилась рядом с сыном на китайскую лаковую скамеечку и указала матери место напротив себя.
— Мама, мне нужно поговорить с тобой. Но так, чтобы никто и никогда не догадался, о чем мы говорим.
Та покорно кивнула. Она ожидала этого разговора, готовилась к нему и в глубине души была рада, что дочь первой его начала.
— Отчего все время так печальны твои глаза, мама? Отчего плачут мои сестры?
Матушка тяжело вздохнула. Что ж, откладывать дальше, лгать — было бы уже неразумно. Но следовало помнить и о Кюлькане — горе могло лишить Гулан молока.
— Я расскажу тебе все, дочь. Однако слова мои будут страшными, а горе, что свалится на твои плечи, может быть нестерпимым. Смири же сердце, дочь, и прими известия без гнева, как подобает принцессе меркит.
— Как давно я этого не слышала, — с улыбкой проговорила Гулан. — Теперь я чаще жена Великого кагана.
— Ты всегда была и останешься наследницей имени меркит. А Великий каган… Всего лишь твой муж. В твоих руках сейчас больше власти, чем в его имени, — у тебя растет его сын.
Гулан почувствовала, как черные тучи затягивают ее душу. Отчего матушка сейчас говорит о власти, отчего упоминает силу?
— Мама, что случилось?
— Дитя, вскоре после того, как мы с твоими сестрами поселились здесь, пришло страшное известие. По велению Великого кагана, твоего мужа, Найя-нойон, его слуга, вырезал всех мужей племени меркит до последнего младенца. А женщин, которым не повезло остаться в живых, увели в рабство…. Им даже не позволили стать женами солдат Найя-нойона.
Мать проговорила это на одном дыхании, без выражения. Должно быть, она сто раз уже пыталась сказать это дочери и останавливалась в последнюю минуту.
— Все погибли? И отец, и братья?
— Да, дитя, и отец, и братья.
— Но за что? Что так разгневало Великого кагана?
— То был не гнев, дочь. То была месть…
— Месть?
— Да, месть. Старики рассказывали, что дед твоего отца, Хоас-беки, пригласил отца твоего мужа на пир. И отравил его, дабы взять власть над его племенем. Однако отец твоего мужа оказался силен, добрался до шатра своей семьи и поведал о подлости деда твоего отца своей семье. Младший из сыновей поклялся, что отомстит всему племени меркит до последнего младенца. И сдержал свое слово… Спустя почти четыре десятка лет.
Гулан плотно сжала губы. Месть… И теперь она принцесса народа, которого более нет. Мать единственного из мужчин меркит, оставшегося в живых… И при этом любимая жена человека, приказавшего убить всех мужей рода меркит.
— Кто принес эту весть? И когда?
— Весть принес сам глупец Найя-нойон. Этот презренный поведал об этом мне самолично и пытался взять меня силой, дабы стала я его наложницей. Рассказал со смехом, зная, что я не посмею поднять на него руку.
— Когда? Когда это случилось?
— Давно… Больше полугода назад.
— И я узнала об этом лишь сейчас…
На глазах Гулан показались слезы.
— Не плачь, дитя мое. Мы с твоими сестрами оплакали наших любимых сторицей, оплакали и за себя, и за тебя.
— Но, мама, что же мне теперь делать?
— Ты уже сделала все что могла, дочь. Сделала самое мудрое — родила сына. Родился тот из меркит, кого Великий каган никогда не убьет. Осталось лишь, чтобы он признал его наследником — и месть свершится.
— Но Великий каган… Я же полюбила его. Полюбила убийцу…
— Девочка, ты всегда знала, что хан Чингиз убийца, настоящий волк, верный лишь своим. Твоей вины нет никакой, но теперь ты можешь отомстить. Отомстить так, чтобы в веках осталась память об этом.
Гулан вытерла слезы. Мать, к ее удивлению, была совершенно холодна. Должно быть, за полгода боль в ее душе перегорела. Осталась лишь жажда мести.
— Я отомщу, мама, клянусь тебе. Отомщу так, что в веках останется память об этом.
— А большего мне и не надо… Прошу лишь — не торопись. Не превращайся в убийцу, не проливай реки крови. В твоих руках куда более могучее оружие, чем нож, — твой сын. Меркит по крови и наследник кагана. Отныне ты знаешь все. А вот хан не ведает о болтливости его неумного нойона. И это дает нам немалое преимущество…
— Преимущество?
— Да, дочь.
— Но ведь нашего племени больше нет… В чем же преимущество?
Гулан с удивлением увидела материнскую усмешку — холодную, жесткую, рассудочную. Такой она матушку не видела никогда. Воистину, жажда мести убила в ней все остальные чувства и желания. Девушке на миг показалось, что угасла в ее матери и любовь к ней и внуку.
— Преимущество, дитя, в том, что все рожденные тобою дети будут истинными меркитами, меркитами по крови. Они дадут жизнь своим детям, те — своим. И племя меркит, это великое имя возродится — пусть сначала тайком, а после, когда настанет час, — прогремит на весь мир, как гремело в те дни, когда ни ты, ни даже твой муж еще не родились на свет.
«Да, — подумала Гулан, — матушке не отказать в честолюбии. Пожалуй, даже у Чингиза, великого кагана, не столь далеко идущие планы, не мечтает он о том, чтобы и столетия спустя имя его народа гремело в веках».
Захныкал Кюлькан. Гулан взяла сына на руки и стала его укачивать. Родное тепло успокаивало, уводило мысли вдаль от сегодня и сейчас. Девушка чувствовала, что после рассказа матери жизнь ее изменилась, что никогда уже не сможет она по-прежнему влюбленно смотреть на Великого кагана, ибо будет знать, что в глубине души он способен на чудовищные, нечеловеческие поступки.
«Матушка права, — промелькнула мысль. — Он всегда был таким, а вот ты вела себя как слепая дурочка. Упорно видела лишь то, что хотелось: видела великого воина, ведущего свое воинство к великой цели, видела сильного и чуткого возлюбленного, дарующего несравненно прекрасные минуты, видела заботливого отца, забавляющегося с любимым сыном. Но воин убивает, возлюбленный может причинить боль, отец — лишить привязанности или вовсе отказать в имени… И что же тогда делать?»
Сын не засыпал — он начал крутить головой и снова захныкал. Гулан приложила малыша к груди:
— Мой мальчик, я тебя никогда не предам…
— Дочь моя, а ведь сын только что подсказал тебе первый шаг по долгой дороге мести…
— Первый шаг, мама?
— Конечно, разве ты не поняла? Он же тоже наследник хана…
* * *
С самого утра во дворце началась суета. Великий каган пожелал, чтобы день, когда он изберет себе первого, старшего наследника, превратился в шумный праздник.
Ревели трубы, грохотали барабаны. На городской площади шумно пировали воины. С севера вот-вот должен был показаться караван старшей жены Чингиза, Бортэ. Ему навстречу выехала сотня стражников.
Повара валились с ног от усталости. Дворцовые очаги горели вторые сутки, а те, кому следовало пробовать пищу, приготовленную для хана, едва не умерли от обжорства.
Лишь в комнатах Гулан-хатун было тихо. Покой годовалого Кюлькана оберегали бабка и тетки. Сама же Гулан куда больше времени проводила в опочивальне хана, ублажая его аппетиты.
Да, каган воистину был неутомим. Гулан всегда с удовольствием отвечала на его ласки, наслаждалась сама. Но разума, как раньше, не теряла — теперь она видела, что тело и ум этого страшного человека собираются воедино вовсе не так часто. Даже во сне хану приходили в голову мысли более чем далекие от спокойствия и счастья семьи, даже в самые прекрасные минуты страсти в глубинах его ума зрели планы завоевательных походов. Даже играя с сыном, Великий каган оставался волком, пусть и верным своим, но все равно волком, выискивающим следующую жертву.
Вот и сейчас, в ожидании начала церемонии, Великий каган мерил шагами главный зал — он размышлял. Предметом его дум было отнюдь не предстоящее событие, а поход, в который только третьего дня он отправил половину тумена — верных до последнего вздоха людей, которые должны были узнать, насколько далеко сможет дойти армия кагана, насколько далеко не закат пустят ее народы, насколько сильно они убоятся имени великого Чингиза.
— Мой хан, присядь, отдохни. Сегодня великий день, а ты устанешь еще до начала торжества. Устанешь и не сможешь полностью насладиться каждым его мигом.
— Я не устану, девочка, пока ты рядом со мной.
Великий каган опустился на вышитые подушки и привлек Гулан к себе.
— Однако ты права, мне следует сейчас собраться с мыслями, дабы и в самом деле сделать сегодняшнее торжество незабываемым, великим, вечным… Но прежде скажи мне, Гулан, любишь ли ты меня?
— Да, мой хан. — Хатун гордо выпрямилась. — Я каждым мигом своей жизни доказываю тебе это.
— Но любишь ли ты меня?
— Больше самой жизни. Если бы у меня на это хватило сил, я бы отобрала тебя у всего мира, Чингиз…
Хан улыбнулся и обнял жену.
— Готова ли ты идти за мной на край света? Готова ли отдать за меня жизнь?
— Я уже отдала ее тебе. Где нет тебя — там нет и меня…
— Клянешься ли ты, дитя, что так будет всегда?
— Я клянусь тебе в этом, каган.
— Исполнишь ли ты любое мое пожелание, Гулан?
— Исполню, как исполняла и до сего дня.
— А большего мне и не надо…
Хан оперся спиной и возвышение и прикрыл глаза. Гулан-хатун взглянула на мужа из-под ресниц. «Он что-то задумал. К добру это или к худу, неведомо. Но он в моих руках… Будь начеку, Гулан!»
За стеной взревели трубы — караван старшей жены хана вошел во дворец. Чингиз открыл глаза.
— Идем, дитя. Ты вдохновила меня, тебе и сопровождать меня повсюду.
Гулан послушно встала. Великий каган поправил на плечах тяжелый церемониальный наряд, взял в руки узкую плеть, которую считал для себя счастливым амулетом, и за руку с Гулан вышел к воинам. Вновь взревели трубы, и их рев повторила сотня глоток — монголы приветствовали Великого хана.
Реяли на ветру конские и волчьи хвосты на высоких древках, горели костры, за стенами дворца шумел ветер. Хан окинул взглядом воинство, задержался на лицах старшей жены и ее сыновей, перевел глаза на нойонов…
— Воины мои, — голос Великого кагана перекрыл все иные шумы и, казалось, заставил стихнуть даже неутомимый полуночный ветер. — День сей для меня прекрасен. Ибо сегодня я укажу старшего из наследников, укажу того, кто станет каганом после меня.
Бортэ нахмурилась. Гулан легко прочитала в ее взгляде удивление и гнев: разве не ее старший сын, выросший, уже сам командующий туменом, или ее средний сын, не раз уже водивший в бой свою сотню, или ее младший сын, с малых лет соперничающий со старшими во всем, разве не они будут преемниками имени и империи кагана, разве не они завоюют мир до последнего моря?
Нахмурились и сыновья Бортэ. Они уже давно привыкли к мысли о том, что им предстоит вести воинство отца вперед после того, как его призовут к себе всесильные боги. Привыкли и даже разделили огромное войско на части, понемногу подчиняя эти части себе. Что и зачем сейчас хочет изменить отец?
— Дети мои и жены мои, воины мои… Слушайте же волю Великого кагана, Ниспровергателя стран и Властителя земель! Сегодня я называю своим первым наследником, своим преемником своего сына Кюлькана, рожденного Гулан-хатун год назад. Старшие же сыновья, рожденные Бортэ, будут нойонами в его войске, поведут свои тумены туда, куда укажет Кюлькан!
Гулан торжествовала — долгие часы, что провела она, убеждая хана поступить именно так, не прошли даром. Теперь старшие сыновья, как считал Чингиз, сплотятся, не будет более среди них распрей из-за наследования, и станут они одним кулаком, который будет бить туда, куда укажет младший сын, названный наследником.
Торжествовала и матушка Гулан — ибо урожденный меркит в этот миг был назван наследником великого кагана, а значит, ему суждено возродить племя меркит и вернуть из забвения гордое имя и даровать ему вторую жизнь.
— Клянетесь ли вы, мои воины, защищать моего наследника так, как защищаете меня?
Воины взревели: «Клянемся!» Гулан с удивлением увидела, что к клятве этой присоединились и сыновья хана.
— Клянешься ли ты, Гулан, — совсем тихо, чтобы слышала только она, произнес Чингиз, — сделать так, чтобы и после моей смерти имя мое не угасло в веках?
— Клянусь, мой хан. Я сделаю для этого все! — тоже шепотом ответила Гулан.
* * *
Чингиз угасал. Роковое падение с лошади не прошло для него даром. Раны гноились, лихорадка не отпускала, даже сознание помутилось. Жену он все чаще не узнавал, от объятий сына уклонялся, а лекарей велел и вовсе гнать прочь.
К исходу десятого дня Гулан показалось, что мужу стало легче. Тот перестал метаться по ложу, дыхание стало тише и ровнее.
— Слышишь ли ты меня, Гулан? — прошептал он.
— Я слышу тебя, мой хан, я здесь.
— Вскоре я уйду за Великий порог…
— Нет, ты выздоравливаешь, мой Чингиз…
— Не перечь, дурочка… Слушай и запоминай. Бог поведал, что отдаст мне весь мир. Мне и моим сыновьям… Теперь, когда облака Великого порога близки как никогда прежде, я вновь прошу тебя сделать так, чтобы имя хана не исчезло в веках, а могила его стала для монголов местом священным. Пусть мои сыновья дойдут до последнего моря и вернуться вновь в родные степи, пусть их сыновья, мои внуки, всегда и во всем поддерживают своих отцов. Клянешься ли ты в этом?
Гулан со слезами кивнула. Годы, что прожила она любимой младшей женой хана, были прекрасны. И нынче от боли рыдала ее душа. Однако впереди были годы правления нового великого кагана, ее сына, Кюлькана, — и от счастья ее душа ликовала. Месть, отложенная на годы, и впрямь оказалась сладка: Великий каган-меркит возродит великое имя своей крови. Она же, Гулан, сделала для этого все, что могла. И пусть боги теперь станут помощниками ее сыну!
Однако хан ждал ответа. Его глаза жили на помертвевшем лице, в них сосредоточилась вся сила хана. И Гулан ответила:
— Я клянусь, мой хан, что твое имя переживет меня и нашего сына, переживет Бортэ и ее сыновей, переживет столетия… Клянусь, что не выстрою тебе ни монумента, ни мавзолея, клянусь, что могила твоя будет священна для каждого монгола во веки веков. Что все земли по левую руку отсюда и по правую, на полудень и на полночь — все они будут твоей безбрежной могилой. Безбрежной, как твоя страна. Клянусь, что уйду во тьму вместе с тобой и вслед за тобой.
— Я буду ждать тебя за Великим порогом, Гулан… Моя лю…
В последние свои слова хан вложил все силы, какие смог найти. Но их оказалось слишком мало, чтобы в последний раз признаться в любви.
Гулан опустила холодеющую руку мужа, поцеловав ее в последний раз. В глазах ее не было ни слезинки — пусть это расставание было долгим, но он обещал ждать ее за Последним порогом. А хан своих обещаний никогда не нарушал. Значит, впереди встреча. К ней следовало подготовиться так, как не готовилась она, Гулан, ни к одному из празднеств в своей жизни.
— Кюлькан, — негромко позвала Гулан-хатун.
Сын не был похож на хана. Однако Гулан спокойно сносила все подозрения, отвергала все кривотолки — ей, меркитской царевне, не к лицу было искать любовь на стороне. Только великий хан мог стать ее мужем, отцом ее детей. Только его она жаждала все эти годы и только его ласки заставляли ее сердце биться сильнее.
— Ты знаешь, что делать, сын.
— Да матушка. Я исполню все в точности…
Кюлькан склонился к руке хана и коснулся ее губами. Сейчас ему было не до размышлений о том, что вскоре ему предстоит занять трон великой империи, повести неисчислимое ее воинство в неведомые страны. Сейчас впереди было столь тяжкое и страшное деяние, которое мать могла поручить только ему. И осознание сего наполняло сердце юноши болью и гордостью.
«Только мне мог каган поручить такое… И я исполню его последнюю волю, ибо я — его продолжение…»
Гулан дождалась, когда сын выйдет. Не достойно жены хана и дочери племени меркит прощаться с жизнью на глазах у людей. Пусть это и единственный сын, кровь великого кагана, но достоинство оного следует блюсти и после его смерти.
Из китайского ларя не свет появился клинок — узкий, невероятно острый, страшный.
— Ну вот, ты и дождался…
Сталь легко прошла через одежды и с ослепляющей болью вошла в тело. Но эта боль была смехотворно слаба по сравнению с болью от ухода любимого.
— Я отбила тебя у мира, мой хан… Жди, я иду…
Душа, свободная от черного яда мести, очистилась. Гулан почувствовала, что отныне может быть лишь той, кем была лишь отчасти — единственной по-настоящему любимой женщиной Великого кагана.
Глаза ее закрылись. Оглушительный рев свадебных труб, такой же, как годы назад, раздался вокруг. Растаяли украшенные шелками стены дворца, засверкал в ослепительном солнечном свете Великий порог. А за ним, улыбаясь, уже стоял он, ее Чингиз — помолодевший и улыбающийся.
— Вот и ты, моя Гулан…
* * *
Горы зажали избранную шаманами котловину, встав грозными серыми стражами с трех сторон. Сейчас, в мареве нестерпимого зноя, они казались каменными великанами, которые не выдержали испепеляющего внимания солнца и умерли в мгновение ока, окаменев там, где застал их летний жар.
Не лучше приходилось и людям, застывшим по обе стороны огромного котлована. Ни им, ни их коням не приходилось еще ощущать такого воистину нестерпимого пекла. Кюлькану даже показалось, что уздечка раскалилась, а стремена, которыми он время от времени останавливал своего скакуна, обжигают кожу его друга до костей.
Хрипели кони, между застывшими всадниками бегали с ведрами воды мальчишки-оруженосцы. Но плеск воды в кожаных ведрах и тяжкие вздохи скакунов были единственными звуками, нарушавшими тишину заповедного ущелья. Всадники молчали — горе, какое свалилось на их плечи, нельзя было изъяснить словами, нельзя было даже представить, что такое вообще когда-либо могло случиться. Ибо сегодня хоронили того, кто встал рядом с богами, кто водил их в походы, кто даровал им жен и мир. Сегодня хоронили Великого кагана.
И не было в мире слез, чтобы выплакать эту великую боль, не было в мире слов, чтобы описать горе каждого из его подданных, не было в мире места, более скорбного, чем это.
Подготовка к похоронам началась третьего дня на рассвете. Почти целый тумен, взяв в руки кирки и лопаты, за двое неполных суток сумел отрыть огромный котлован, глубиной в четыре человеческих роста, а шириной в десятки локтей. Здесь должны были упокоиться останки кагана. Но вместе с ним уходили в последний путь и сотни вещей, что должны были сопровождать его спокойную и сытную жизнь за Тем Порогом.
Упряжь и кони, меха и ткани, украшения и немалая казна. Ибо он, Великий каган, гордость и боль каждого из них, не должен был нуждаться ни в чем. И потому сотни сундуков, крошечных ящичков из драгоценных пород дерева и корзин, полных яств, всю ночь опускали в недра земли ближайшие сподвижники кагана.
Вместе с богатствами и конями, мехами и тканями уходила и любимая жена хана, Гулан-хатун. Уходила, дабы везде сопровождать своего мужа. Уходила, чтобы вместе с ним из-за Высокого порога наблюдать за миром, который оставила она сыну хана, Кюлькану, и его неустрашимому воинству. Как того пожелал сам Великий каган.
Когда же забрезжил рассвет, показалась повозка, на которой покоился он сам. О, даже в смерти он был суров. Черты его лица не смогла разгладить Та, что дарует всем упокоение и вечный мир. В руках кагана был зажат бесценный клинок, а вдоль тела лежали колчан, полный стрел, и копье, увенчанное конским хвостом — символом тумена, который сам он долгие годы водил в походы.
Жена его, Гулан-хатун, покоилась по левую руку хана. Ее черты были прекрасны, ибо она обрела мир.
Наследник видел и повозку, и тело своего отца, и комья земли под ногами скакуна, смотрел на мир глазами, полными слез. Смотрел и не мог позволить себе быть сейчас всего лишь печальным. Он должен был быть таким, как его Каган — великий Чингиз, чье тело вместе с бесценным ложем опустили в глубины земли вслед за утварью и мехами, казной и коврами, яствами и оружием.
Кюлькан не мог, не хотел видеть тело матери рядом с телом кагана — словно и не лежала она рядом с ним, словно стала невидимкой или вовсе никогда не жила на этом свете.
Горы отразили хриплое пение сотен труб и хриплый плач тысяч сильных мужчин, позволивших себе всего миг слабости. Лишь Кюлькан молчал — у него не было сил даже на это.
Вновь в наступившей тишине замелькали мотыги. И вскоре на месте котлована стал расти холм. Скудная горная земля пылила, серые комья укрывали собой создателя Ясы и Орды, и вскоре осталась лишь неаккуратная гора и они — последняя стража и последний караул у могилы великого воина и кагана.
Под все усиливающимся жаром небес те, кто лишь миг назад укрывали своего правителя последним покрывалом, отбросили мотыги и кирки и стали взбираться по только что насыпанному холму. Под их тяжестью земля оседала, все плотнее ложась на того, кто своей волей избрал себе столь необыкновенный способ упокоения.
Пеший тумен трижды прошел по насыпи от одного склона гор до другого. Теперь холм стал куда ниже, но по-прежнему был отчетливо виден.
В горном воздухе, сером от поднявшейся пыли, зазвучала новая команда, и на помощь первому тумену пришел второй. Теперь воины стояли почти вплотную друг к другу. Они почти не двигались, однако насыпь под тяжестью их тел все же чуть заметно оседала.
Вскоре должна была дойти очередь и до конников, до этого мига стоявших последней, почетной стражей. Но не сейчас.
Ибо в тот миг, когда крошечное облачко на миг затмило пылающее светило, по месту, которое только что покинули пешие тумены, лавой пронесся тысячный табун лошадей. Крики погонщиков слились в один, и тогда табун пронесся обратно, почти сравняв с землей насыпь.
И вот теперь пришел черед его, Кюлькана, сотни. Жар иссушил их глотки, горе заперло слезы в душах, но честь, оказанная ему и еще десятку сотен лучших воинов кагана, выпрямила их спины и заставила сверкать глаза под широкими кожаными налобниками.
Он поднял руку, и все вокруг затихло. Казалось, затих даже ветерок, до сих пор несмело трогавший конские хвосты на церемониальных копьях. Он почувствовал, как напряглось за миг до скачки его тело, как в ожидании команды застыли в ожидании тела его друзей. Миг настал!
Кюлькан резко опустил, почти уронил руку. Повинуясь неслышной команде шпор, бросился вперед конь. И следом за ним по насыпи загрохотали копыта коней всей сотни. Хриплые человеческие крики слились в один громовой крик, к которому почти сразу присоединился храп сотни коней. Боевые скакуны преодолели расстояние до противоположной стены почти мгновенно. Но не остановились, ибо всадники повернули их обратно.
Трижды пронеслась конная лава по месту, что еще утром было пустым котлованом, а позже — могилой великого кагана. Но была сделала лишь половина дела. Ибо серая земля, дважды перемещенная с того места, где пролежала многие сотни лет, выдавала и место могилы, и ее воистину гигантские размеры.
Вновь зазвучала команда, и горы стократно отразили ее. И вновь пешие тумены трижды прошагали от одного края горной котловины до другого.
Теперь указать, где же был котлован, мог только тот, кто присутствовал при его возникновении и исчезновении. Пешим более нечего здесь было делать — и командиры увели их через расщелины в скалах вниз. Туда, откуда брала начало горная тропа. Немногие знали, что конца у той тропы нет — вернее, ее нет для живых. Наследник Великого кагана повелел, чтобы ни один из них не мог указать, где нашел последний приют хан.
Серела под копытами лошадей земля, многократно взрытая человеческими и конскими ногами. Через века ей предстояло стать такой же, как была она и столетия назад, — спекшейся, каменистой, сухой.
И вновь трижды пронеслась конная лава по месту последнего приюта их богоравного властелина. Теперь уже никто не мог бы казать точно, где заканчивались горы и находился край могилы.
Конники спешились. Каждый из них ступил на эту серую землю и преклонил колени. Нет, они не молились. Они прикасались к земле, в последний раз прикасаясь к челу и телу великого кагана, забирая с собой частицу его воинского и человеческого гения, мысленно обещая сохранить память о великом человеке и создателе великого Эля. Прикосновение к земле было успокаивающим. Осталось лишь одно, последнее деяние. Конники отвязали от пояса фляги, наполненные водой горного ручья, и вылили эту воду наземь.
Они в последний раз делились водой и пищей со своим повелителем.
Вскоре на сырую землю могилы легли сухие ветки деревьев. В окрестных лесах исчез в этот день весь сухостой. И запылал гигантский костер. Нет, он не был погребальным, ибо огонь не пожирал ничьего тела. То был огонь привала, огонь, над которым мог бы закипеть котелок с водой, огонь, который мог бы высушить платье, промокшее под бесконечным горным дождем, огонь, который испокон веку радовал душу и согревал тело усталого путника.
В последний раз делили конники привал со своим повелителем.
Более уже никогда не поведет он их в поход, более не увидят они его сурового лица, не понадеются на его справедливый суд. Но его дух, дух Великого кагана, пребудет с ними до их смертного часа.
Огромный костер горел всю ночь. За пылающей стеной огня растаяли в ночи конные сотни. И наступающий рассвет осветил лишь огромную поляну, сплошь покрытую теплыми еще угольями.
Последние почести владыке были отданы.
— Доволен ли ты мною, мой хан? — прошелестел над угольями голос Гулан-хатун.
Принцесса Марица. Мой Дракула
Сей златой кубок поместить у главного источника Тырговиште, дабы каждый, жажду испытывающий, равно, гость иль хозяин, мог беспрепятственно ее утолить.
Влад Дракул по прозвищу ЦепешСкука была ей неведома. Во всяком случае, так думала она сама. Да, она, младшая сестра самого короля Матьяша Корвина, могла бы бездельничать с самого утра до позднего вечера. Но воспитание, которое дали суровые монахини, не позволяло ей даже просто присесть без дела, пока солнце стоит выше горизонта.
— Что бы ты ни делала, девочка, помни: Бог, он видит все. Твоя лень, незаметная нянькам или наставникам, будет наказана, пусть и на том свете. Твое усердие, не замеченное ими, будет вознаграждено уже на этом. Трудись в поте лица своего, и ты прославишь род Корвинов.
— Род Корвинов прославляет мой старший брат, король…
Наставница Каролина, сухая и высокая, прячущая седые косы за белоснежной жестко накрахмаленной косынкой, мягко улыбнулась девушке:
— Европа столь велика, а королевство твоего брата столь мало, что его имени, боюсь, не знают даже властители земель сопредельных. Однако Господь, он видит все. И надменность твоего брата Матьяша, и жестокость Влада Второго Трансильванского, и суетность Иоанна Московского, и властолюбие Родриго Борджиа. И твою, девочка, трудолюбивую и послушную душу.
— Но что толку, матушка, трудиться, если все мои усилия пропадают втуне? Разве принесу я пользу хоть кому-то на этом свете?
— Не следует так думать, детка. Время покажет, на радость иль на беду себе и другим родилась ты на свет Божий. Трудись во благо Господне, молись, учись… А Бог, он видит все. Он и накажет, и вознаградит. Тебе дана чуткая и открытая душа, ты непременно разглядишь все знаки Божьего расположения, равно как и все знаки его гнева.
— Так, быть может, мне и жизнь свою посвятить Божьему служению? Не опускаться до мечтаний о любви или семье, не искать счастья, не мечтать о престоле?
— Никогда не теряй присутствия духа, дитя. И это главное. Тебе непременно будет дан знак — ты поймешь, как поступить. Пока же учись всему, что можешь изучить, мечтай обо всем, о чем только можешь мечтать. В труде, не в праздности находим мы судьбу свою.
Марица не помнила матери — та умерла родами младшего братишки. С трудом вспоминала отца, сгинувшего на перевале у замка Брана. Ее мир — это старшие братья — король Матьяш и епископ Марин — да наставница Каролина. Братья следили за успехами девушки, но при этом рассматривали ее только как выгодную партию для кого-то из своих соседей. Выгодную для венгерской короны, конечно. Что на самом деле у сестры на душе — им было и неведомо, и неинтересно. Дабы не терять времени на беседу, они оба, король и епископ, все распоряжения передавали матушке Каролине, которая и стала для Марицы всем — матерью и учительницей, советчицей и другом…
Недобрые вести, что приходили со всех сторон, почти не беспокоили Марицу — она была столь занята, столь погружена в свои хлопоты, что почти не обращала внимания на мир. Старая Каролина была и рада этому, и не рада. Все-таки сестра короля, будущая королева или царица, императрица или герцогиня — жена властителя какой-либо из стран огромного мира, должна хоть слегка разбираться в политике. Ведь, кроме опочивальни, есть в королевских замках и другие комнаты — не все же ей только на ложе царить. Неплохо и совет мужу дать. А там, глядишь, и из слабеющих рук мужа корону принять…
Каролина ухмыльнулась. О да, она бы вовсе не возражала, если бы ее воспитанница сама стала править, пусть и совсем крошечным королевством. Вон Эльжбета Батори… И страна у нее — за день объехать можно, и замок — за час дважды обойти… А какая слава о ней по миру идет! Как ее боятся и уважают… Недурно было бы, чтобы и имя Марицы не затерялось в веках, осталось как пример для подражания какой-то пока еще не родившейся принцессе или герцогине… Тогда и ее, Каролины, имя в веках не сотрется…
Монахиня перекрестилась — греховные мысли о грядущей славе уже не раз приходили к ней. Она гнала их, но все чаще, особенно при взгляде на растущую воспитанницу, ловила себя на том, что девочке суждена непростая, высокая доля. А значит, и ей, Каролине…
— Что ты крестишься, матушка?
— Греховные мысли, детка. Не обращай внимания.
Марица улыбнулась и вернулась к прерванному занятию — она переносила из книги на ткань рисунок для будущего покрывала алтаря. Дело это было куда как непростым — крошечный рисунок, с ладонь, следовало гармонично увеличить и разместить на полосе шириной два локтя и длиной все пять.
В комнате вновь повисла тишина. Была она тяжелой, золотой, густой, как этот августовский денек, что приближался к полудню. Для занятий рукоделием Каролина давным-давно выбрала именно эту комнату башни: высоко над дворцом, вдали от шума и суеты (временами матушке-наставнице даже казалось, что не в дворцовой башне, а в высоком замке на скале высоко над морем сидит она), обилие света от высоких стрельчатых окон, которые закрывались только в самые лютые студеные дни. Марица, хвала ей, никогда не жаловалась на жару или стужу, что укрепляло Каролину в мысли о том, что она верно воспитывает сестру короля и, даст бог, будущую королеву.
Далеко внизу, должно быть, у городских ворот, запел охотничий рог. Девушка не обратила на пронзительные звуки никакого внимания, а вот сердце Каролины отчего-то дрогнуло и словно провалилось вниз. Никто не знает, в каком обличье к нам приходят божественные знаки, быть может, даже в звуке рога или пении птиц, грохоте конских копыт по вымощенной камнями площади или грубом мужском хохоте…
Каролина встала и выглянула в окно. Теплый ветер подхватил концы нежной шелковой косынки, заполоскал ими… Шум нарастал. Грохот лошадиный копыт, и хохот, и пение рожков — все приближалось и не только заполняло собой узкие улочки, но и даже, казалось, достигало самого неба. Нежданным гостем шум ворвался и сюда, в комнату для рукоделия южной дворцовой башни.
— Да что такое!
Марица в сердцах бросила узко отточенный уголек. Тот, кто бы сомневался, тут же раскололся на мельчайшие кусочки и испачкал целых две плиты пола.
— Не шали, деточка! — Каролина взяла в руки метлу и стала осторожно сметать осколки угля так, чтобы не оставалось на полу черных полос.
— Я не шалю, матушка. Эти крики — они мешают, понимаешь? Не дают сосредоточиться — сбивают… Так и рисунок испортить недолго.
— Господь с ним, с рисунком. Должно быть, тебе дан знак — отдохни, расслабь руку… И спину!
— Но я почти закончила… — Марица едва не плакала.
— Отдохни, дитя! — не посоветовала, приказала Каролина. — И закончишь легко. И времени не потеряешь…
Голос матушки-наставницы поглотил грохот, равного которому еще не слыхали стены южной дворцовой башни. Монахиня встала и распахнула дубовые двери, отделанные медными заклепками и полосами. В комнату, низко кланяясь, вошел второй камердинер короля Матьяша. Высокий, очень крупный, но совсем не толстый. Матьяш видел в нем телохранителя, а в дни войны не отпускал от себя дальше чем на два шага. Даже в опочивальню входил вместе с ним.
— Ну что тебе, Стефан?
Тот низко поклонился:
— Король Матьяш просил свою высокородную сестру отложить на время дела и пожаловать вниз.
— Господи, зачем? — Иногда Марица позволяла себе быть капризной принцессой. — Опять жениха встречать-привечать?
Стефан отрицательно покачал головой:
— В гости пожаловал властитель сопредельной Валахии, князь Влад Третий, сын Влада Дракона. Король Матьяш дает в его честь ужин. Просит принцессу Марицу украсить собою сей важный для государя ужин и не печалиться из-за потраченного времени. Более, чем необходимо, принцессу Марицу никто задерживать не будет. Матушка-наставница Каролина также приглашена на сей важный ужин — ибо король понимает, сколь многое связывает принцессу Марицу и матушку-наставницу…
— Передай брату моему, королю Матьяшу, что я непременно украшу собой ужин в честь властителя сопредельной Валахии. Вернее, матушка-наставница украсит, а я просто приду вместе с ней.
Стефан улыбнулся. Он был бы не прочь почаще видеться с этой милой язвительной зеленоглазкой, наплевав на то, что она все же сестра короля Матьяша. К сожалению, долг и служба призывал его к иному…
— Да будет так. Кроме того, король распорядился о том, чтобы в покои принцессы сей же час были призваны лучшие портные и куаферы. Дабы вечером принцесса предстала…
— Господи, как мне ненавистна забота братца… Он ничего не знает, обо всем остальном пребывает в полнейшем неведении… Но распоряжения раздает…
Стефан улыбнулся теперь уже не Марице, а матушке Каролине:
— …однако, зная об умелых руках наставницы Каролины и об изумительном вкусе принцессы, я сей приказ никуда не передавал и никаких куаферов не приглашал. Ибо ведаю, что усилий вышеозначенных принцессы и матушки-наставницы хватит для того, чтобы дворец осветила подлинная, а не искусственная красота…
— Стефан, ну отчего бы тебе не разговаривать простым языком? Ведь тебя же, кроме нас, никто не слышит.
— Привычка, достойнейшая мать-наставница. — Гигант пожал плечами. — Вы же меня поняли, уважаемая Каролина. Равно как и принцесса поняла. За сим откланяюсь. Ужин начнется тотчас же после заката. Я пришлю за вами пажа Раду.
— Да будет так. — Марица гордо выпрямилась. — Мы с матушкой-наставницей будем готовы к закату. Пусть паж ожидает меня у выхода с женской половины.
Стефан поклонился, осторожно затворил за собой двери и потопал вниз по скрипучей деревянной лестнице.
— Всем хороша наша башня, — вздохнула Каролина. — Но вот ступени скрипят, сколько их не ремонтируй…
* * *
Ужин в честь Влада Третьего начался все же много раньше заката. Когда Марица вошла в огромный зал, освещенный, должно быть, целой сотней свечей, столы уже ломились от третьей перемены блюд, сам король Матьяш сыто откинулся на трон, а его гость, господарь Влад, прихлебывал из кубка вино, не обращая внимания на источающую ароматы кабанью ногу, запеченную с травами, которую усердные слуги поставили прямо перед ним.
Марица присела в церемонном поклоне и удостоилась милостивого кивка брата. Епископ Марин, второй брат, одобрительно улыбнулся — принцесса выглядела замечательно. Не зря же из казны ежегодно отваливали немало золотых мастеру куаферных дел Иштвану и старшине цеха портных, самому Каролю Хуньяди.
(К счастью, епископ Марин не знал, что портные, мастера золотого шитья и белошвейки давно уже не переступали порога женской половины дворца. Одеяния себе и своим немногочисленным служанкам принцесса сооружала сама — и дело было вовсе не в бедности казны, а в суровом воспитании, которое получила Марица и которым так гордилась матушка-наставница Каролина.)
Девушка опустилась на свое место, пригубила вина, которым наполнил ее бокал расторопный слуга, и принялась за еду. После целого дня усердного рисования углем она была голодна как волк, однако ела сдержанно да еще и успевала сквозь ресницы рассматривать гостя, нового властителя валашских земель.
Высокий, широкоплечий, но худой, словно изможденный черноволосый господарь, Влад совершенно не походил на короля. Ввалившиеся щеки, не потухший, но определенно усталый взгляд, руки в мозолях, с короткими ногтями. Руки бывалого воина, а не разбалованного властелина.
— Наш гость, — Король Матьяш склонился в церемонном поклоне, — посетил нас, дабы просить у нас помощь в обороне прекрасной Валахии от коварных турецких воинов…
— О нет, — гость безо всяких церемоний прервал хозяина. — Помощь мне не нужна. Валахия в силах и сама оборонять свои границы…
Влад Третий сделал ударение на слове «свои». Сила его голоса заставила принцессу прервать трапезу и куда пристальнее взглянуть на нового господаря.
— …Я приехал, чтобы предложить вместе оборонять границы вокруг всех наших стран. Обещанием короля Трансильвании я уже заручился, а его воины уже стали частью нашего войска, растянувшегося по кордонам двух наших владений.
Король Матьяш покивал. Давным-давно он уже не выходил с отрядами воинов за пределы своей столицы, разленился, заплыл жиром и стал похож на тех властителей, которые пекутся лишь о тугом кошеле, но не о своей стране. Марица еще и еще раз сравнивала двух королей, сидящих напротив нее. Как же все-таки не похож худой, сосредоточенный Влад на ее брата!
В дальнем конце зала запела лютня, к ней присоединился клавесин, потом валторна. Придворные, словно по команде, встали и отправились поближе к этим теплым звукам. Дисциплинированно разбились на пары и начали первый из дозволенных при дворе танцев.
Господарь Влад даже не взглянул в их сторону. Наоборот, при первых же звуках музыки взгляд его словно потух, плечи опустились.
— Отчего так печален наш гость? — Марица наконец решилась заговорить.
— О нет, принцесса, — ответил тот, — я не печален. Вернее, моя печаль не покидает меня и тогда, когда я кажусь веселым. Должно быть, до благословенных венгерских земель не дошла история о том, как окончил свои дни мой отец, Влад Второй Дракон. И как я принял престол…
— Наслышаны, мой венценосный брат, наслышаны, — прогудел король. Матьяш. — Наша сестра, принцесса Марица, мало интересуется высокой политикой. Ей по душе простые женские радости…
— Это не так, брат, — принцесса терпеть не могла, когда братья так говорили. Ей было интересно все о мире, в котором она жила. И не дело брату лезть в ее душу, тем более устанавливать там свои порядки. — Мне по душе весь мир, все, что в нем происходит. Поведай же, прошу, историю о твоем отце и брате, уважаемый гость.
— Это будет долгий рассказ, принцесса. И вряд ли он предназначен для женских ушей. Должно быть, нам лучше сейчас присоединиться к танцующим…
Марица пожала плечами — она была не прочь и поплясать, и поговорить с этим высоченным худым гостем. Все что угодно, только бы быть подальше от глупости своего брата-короля.
— Потанцуй, сестренка… — король согласно улыбнулся гостю. — Потешь себя, пока и в самом деле не стала божьей невестой…
— Не дело обсуждать мои намерения вот так, над объедками…
Марица была невероятно серьезна, но король только расхохотался в ответ:
— Да мы ничего и не обсуждаем. Ты узнаешь о своей судьбе, как только я приму решение.
Марица упрямо вскинула голову, но ничего не ответила. Влад Третий смотрел на нее со странным выражением лица — похоже, ему по душе был строптивый нрав принцессы.
Он встал, обошел вокруг стола, бесцеремонно отодвинув плечом Стефана, который зачем-то попытался заступить ему дорогу, склонился в изящнейшем поклоне перед принцессой и протянул ей руку.
— Соблаговолит ли высокородная принцесса потанцевать с недостойным?
— С удовольствием, мой венценосный гость и брат. — Марица приняла руку Влада.
Наставница Каролина следила за своей воспитанницей. Пока что та не сделала ни одной ошибки. Если, конечно, не считать, что бесцеремонно перебила короля. Хотя такого глупца и перебить не грех. Ему бы вообще заткнуть рот навеки — чтобы сам не позорился и страну не позорил. Но, к сожалению, тут Каролина тяжко вздохнула, сие не в ее власти. Хотя удовольствие от такого деяния она, безусловно, получила бы немалое.
Принцесса и ее спутник уже танцевали. Церемонная древняя хота как нельзя лучше подходила под ее настроение — два шага и поворот, скрестить правую руку с рукой партнера. Опираясь на него, приподняться на цыпочках, обойти его за спиной… Скрестить другую руку, скользнуть пальцами по воздуху рядом со щекой…
Марица вздрогнула — пальцы Влада скользили не по воздуху, а по ее щеке от виска до шеи. Объятия стали чуть сильнее, тело партнера чуть ближе. О нет, все оставалось в рамках приличий, но…
— Не думаю, что мой брат будет в восторге от вашей смелости, господин мой господарь Влад…
Тот улыбнулся принцессе — нежно и незнакомо.
— Главное, моя греза, чтобы ты была в восторге…
Марица никогда не отказывалась от балов, однако назвать ее разбалованной тоже было бы неправильно. И уж тем более было бы неправильным сказать, что светская развязность ей хорошо знакома — скорее наоборот. Партнера по танцам почти всегда избирал для сестры король. И этот партнер почти всегда старался вести себя как можно более незаметно — чтобы не вызвать, само собой разумеется, королевского гнева.
О принцессе и ее чувствах никто не думал. Придворные спасали свою шкуру, а король успокаивал свою совесть.
— Должно быть, вы желанный гость на любом балу? И дамы, могу поклясться, от вас без ума…
Влад горько усмехнулся:
— В последний раз я танцевал на балу долгих девять лет назад. И моей дамой была престарелая камеристка первой статс-дамы, любовницы моего отца. С тех пор и по сю пору мне неведомо, довольны ли мною дамы… Разве что я стал осторожнее и стараюсь не наступать им на ноги и подолы платьев…
— Долгих девять лет, мой господин? Должно быть, вы тогда были совсем юны?
— Сопливый мальчишка, принцесса… Мне едва исполнилось одиннадцать.
— Но отчего же вы больше не посещали балов?
— Мы с братом были в плену, принцесса… Отец отдал нас как заложников, чтобы не злить турецкого пашу и гарантировать себе спокойную старость без набегов янычар…
Марица ахнула. Подобного предательства она себе и представить не могла. Как это — отдать собственных детей? Выменять их на несколько лет свободы.
— Предатель…
Очередная фигура танца вплотную приблизила партнера — принцесса ощутила тепло его тела и какую-то холодную злую силу, исходящую от него.
— Нет, просто король… — худые плечи Влада шевельнулись. — Какая разница, каким способом, но ему удалось на какое-то время отсрочить разграбление страны. Пусть и в обмен на наши с Раду жизни…
Принцесса подняла глаза на собеседника. Тот не пытала гневом, не был опечален. Он был спокойно-холоден, как статуи в дворцовом саду. Холоден и равнодушен.
Хоту сменила гальярда — однако Влад не торопился менять партнершу, как это предписывали правила. Он сомкнул пальцы на запястье принцессы и повел ее широким шагом по кругу… Марица не решалась задать следующий вопрос, не решалась упомянуть о судьбе отца Влада или его брата. «Молчание, детка, — в таких случаях повторяла матушка Каролина, — всегда означает, что ты внимаешь собеседнику, ставя его слова выше своих и его самого выше самой себя. Молчание заставляет умного открывать душу, а глупца — молоть языком…»
— Мы пробыли в Порте все эти годы… Раду там и умер. Он был решительным, мой братец, и всегда лез в драку, даже тогда, когда делать этого не следовало… Говорят, что он ввязался в перепалку с сыном самого наместника… И тогда янычары подняли его на копья. А потом еще живым похоронили…
— Какой ужас! — не столько прошептала, сколько простонала Марица.
Ей было и понятно холодное равнодушие Влада, и непонятно. Ей казалось, что за маской отстраненности господарь прячет боль, не утихающую ни на минуту, а эта холодность, в свою очередь, не дает гневу разгореться в его душе, удерживает чувства, остужает голову… Словно ему стоит усилий просто оставаться в рамках благопристойности и не сносить все вокруг в припадках чудовищного гнева.
— Ужас, принцесса? Ничего ужасного — в Порте царят иные понятия о человеколюбии и цене жизни. То, что для нас варварство, для них — забавы солдат на привале. То, что для нас героизм, для них — никчемная трата силы. То, что для них послушание, для нас — рабская покорность… Увы, их мир и наш столь различны, что, кажется, и примириться никогда не могут…
— Но как же вы вернулись, господин мой господарь Влад? Как взошли на трон?
Музыка утихла. Утомленные музыканты ждали знака, что можно отложить инструменты. Король Матьяш кивнул и виолы отправились отдыхать в свои футляры, а их хозяева покинули хоры над залом.
— Здесь жарко, — хмуро заметил Влад.
— Август, — пожала плечами Марица. — В эту пору бывает куда жарче. Однако мы можем выйти в сад, пока музыканты отдыхают.
Несколько куртин и две усталые от лета аллеи можно было назвать садом весьма осторожно. Впрочем, солнце село уже достаточно давно, и под дубом было почти прохладно. Скамья без спинки огибала узловатый ствол дерева, где-то в кроне возились, устраиваясь на ночлег, птицы… Хотя, быть может, то готовилась выйти на охоту дворцовая сова, на содержание которой тратилось в год целых два талера — столько же, сколько на чистку столового серебра.
(Марица припомнила, как всего месяц назад вместе с матушкой-наставницей подробно изучила все статьи дворцовых расходов. Равно как и доходов. Содержание совы ее позабавило, а чистка котлов на дворцовой кухне изумило: котлы после готовки чистить было в пять раз дороже, чем серебро, для которого выписывался из далекой Руси специальный мастер, отягощенный мешком специального песка.)
Принцесса опустилась на скамью и знаком предложила гостю расположиться рядом. Влад не стал стесняться. Теперь между ними оставалось пространство едва ли больше ладони. Правая рука господаря Влада решительно скользнула по талии девушки, а левая завладела пальцами руки.
Отчего-то такая беспардонность принцессу совершенно не смутила и не обидела. Ей показалось, что гостю так проще приступить к рассказу, — он словно опирался на нее, чтобы мысленно вернуться к горьким для него событиям.
* * *
— В тот год зной опустился на земли Валахии в середине апреля. Засуха погубила надежды на урожай, люди гибли. Отец заручился помощью своих союзников, молдавского князя Штефана, князя Трансильвании Игнаци… Ведь вместе хорошо обороняться не только от осман, но и от голода. Лето страна пережила относительно благополучно. Но осенью войско Мехмета Второго вторглось на землю моей родины. Друзья и союзники исчезли, словно снег под лучами солнца, мы остались против османов одни. Но султану, как потом оказалось, не нужны были наши земли — лишь деньги, казна, прибыль. Обобрав страну до нитки, войска осман двинулись в обход Валахии и Трансильвании на север, намереваясь вторгнуться в самое сердце Европы. А чтобы отец не спорил и не посылал вслед войско, чтобы не было угрозы с тыла, турки захватили с собой нас с братом. Раду было шесть, мне минуло одиннадцать.
Марица слушала, не сводя с Влада глаз. Боль, которая терзала все его существо, каким-то неведомым образом передалась и ей. Воспоминания о неведомом ей мальчишке заставляли сердце истекать слезами, а вот глаза остались сухими. Она почувствовала, отчего столь сдержан рассказ господаря Валахии — так он не давал гневу затопить всю душу. Принцесса чувствовала, каких сил стоит ему такая невозмутимость… А Влад, сжимая в ладони прохладные пальцы Марицы, ощущал, как боль, что терзает его восьмой год, если не отступает, то утихает, пусть и на время.
— Нельзя сказать, что наместник Порты жалел нас или, напротив, мечтал умертвить. Полагаю, ему не было особого дела до нас, двух пленников — еще двух, шатающихся по тюремному двору. Нас не морили голодом, но следовало проявить немалую смекалку, чтобы первыми получить свою миску похлебки и ломоть лепешки. Нас намеренно не унижали, но что могли сделать двое мальчишек, внезапно оказавшиеся среди бывалых воинов?
Перед глазами принцессы встал тюремный двор — грязный песок, перемешанный сотней босых ног, сухой карагач у самой стены, немилосердное палящее солнце. Двое парнишек, прижимающиеся спинами, чтобы противостоять всему миру. Быть может, на самом деле все было иначе, но отчего-то эта картина заставила сердце девушки биться сильнее.
— А год назад, когда Раду вырос почти с меня, случилось… то, что случилось. Драку разнимала охрана — уж эти точно не церемонились. Единственное, что отличало похороны Раду, — так это деревянный гроб, в который положили его тело. Обычно пленников закапывали в землю без всяких церемоний. Но брат все же был королевских кровей…
Марица более выдержать не могла — ее плечи сотряслись от рыданий, слезы не закапали, а полились из глаз.
— Ну будет, принцесса, — пробурчал едва слышно Влад. — Не стоит его оплакивать, мальчишка-то гниловатый рос. Даже подумывал ислам принять, в янычары метил, оправдывал Мехмета.
— Но он же был твоим братом, господин мой Влад… Как же не оплакивать его?
Зазвучала музыка.
— Утри слезы, добрая принцесса. И пойдем танцевать — ты такая красавица, когда танцуешь. Глаза сияют зеленым светом, лицо расцветает…
Марица потупилась. Никто и никогда прежде ей ничего подобного не говорил. И никто так не смотрел на нее, никто так нежно не обнимал… Девушке показалось, что она словно тает в объятиях господаря Влада.
— Ну вот, слез уже не видно… Я закончу рассказ, а ты тем временем совсем успокоишься. Иначе, боюсь, твой брат объявит моей Валахии войну…
Марица сквозь слезы улыбнулась:
— Думаю, господин мой Влад, он не объявит — ибо им движет лень, он никогда не сделает даже лишнего шага, не говоря уж о чем-то большем.
— Тем лучше… Но вернемся. Брат был похоронен, я стал ожидать, когда настанет мой черед. Однако меньше чем через месяц меня выпустили и даже препроводили под родной кров — отец почувствовал приближение смерти и потребовал, чтобы меня доставили в столицу. В противном случае король Валахии грозился перестать считать действующим мирное соглашение между ним и Портой и собрать войско… Отчего-то глупый наместник испугался. Так я вернулся на родину и взошел на престол. Но решил, что никто из моих обидчиков не увидит наступления следующей весны. Поклялся, что такая же судьба постигнет и обидчиков моего брата. И слово свое сдержал…
Марица с испугом посмотрела в лицо Влада. Тот был по-прежнему спокойно-холоден. Девушка готова была уже встать и уйти во дворец, но сильные пальцы собеседника сжали ее руку почти до боли.
— Я слово свое сдержал. И теперь меня чаще зовут не Влад Валашской, или Влад, сын Дракона, а Влад Цепеш…
* * *
Давно утих бал. На дворец пала глубокая ночь. Сова, что жила в дупле дуба и состояла на жаловании, облетела весь парк и мирно устроилась спать, не забыв сложить добычу в нижнюю часть дупла, дабы полакомиться мышкой на завтрак.
Замолчали лютни и валторны, даже высокие двери умолкли, устав скрипеть. Южная башня затихла последней, едва Марица поведала свой наставнице историю их гостя.
— Цепеш? — ахнула матушка Каролина. — Сажающий на кол… Так вот кто это…
— Ты о чем, друг мой?
— Доходили слухи, детка, что кто-то по кличке Цепеш устроил резню прямо в поместье наместника османского, что в Сигишоаре. Опоил, рассказывали, маковым настоем, а потом вместе с подручным усадил на кол всех, не пожалев даже малых деток наместника. Трое долгих суток умирал на колу осман проклятый, стоны оглашали все вокруг, а город словно вымер…
— Матушка, какой ужас! Но это же не он, не Влад Валашский сделал?
— В одиночку, дитя мое, думаю, такого не сделать. Но кротким нравом твой избранник уж точно не отличается…
— Да он вовсе не мой избранник, Каролина! Я и видела-то его сегодня впервые!
— Дитя, не надо считать меня слепой старухой. Он тебе мил, это заметно. Да и ты для него, словно ангел, с небес сошедший. Отчего бы, скажи на милость, он тебе все это рассказывал? Неужели просто так, поболтать с красавицей в вечернем саду? Или все же почувствовал в тебе душу родную?
— Ох, матушка-наставница…
Марица покачала головой. Хорошо, что во тьме не видно, как запылали ее щеки. Конечно, Влад Валашской ей мил, да и трудно было бы не увидеть в нем истерзанную, измученную душу. Да и красив он, господарь Валахии, тут тоже нет смысла с собой спорить. Однако если то, что рассказала матушка Каролина, правда…
«Ну что ты, в самом деле, дурочка? Каким должен вырасти человек, который отдан врагам как заложник? Отдан трусливым отцом, только чтобы избежать набегов… Конечно, жестоким, конечно, мстительным. Удивительно, что его страшная слава тянется за ним только в сплетнях, а не живой рекой крови течет у него из рук… Подумай сама — этому человеку досталась страна, полная лжецов и льстецов, бездельников и предателей. Откуда я это знаю? Если Валахия похожа на Венгрию — то так оно и есть. Половина бояр наверняка готова предать в любой момент, а вторая половина, увы, уже не раз это делала…»
— Что замолчала, дитя мое?
— Задумалась о Валахии, матушка-наставница… Решаю, насколько похожа она на нашу страну и насколько отличается.
— Ничем, детка, не отличается, — вздохнула Каролина. — Быть может, еще беднее люд и, уж точно, еще подлее бояре. Но отчего ты думаешь об этом?
— Пытаюсь понять, что подвигло Влада на деяния, о которых не говорит, по твоим же словам, матушка, только немой.
— Это и подвигло, дитя. Он молод, но понимает, что глупо перевоспитывать тех, кто, доживши до седин, не нажил ни чести, ни ума… Страну окружают враги, заходят в любой дом, как в свой собственный, обирают и убивают его подданных. Как же тут не восстать правителю, руки которого связаны этими подлецами?
— Но смерти, матушка… Он же проливает реки крови…
— Не дело в ночи о таких вещах рассуждать, дитя. Думаю, будет куда умнее выслушать его самого и тогда решать…
— Что решать, наставница Каролина?
— Решать, дитя, чьей невестой ты станешь — Господа Бога нашего или Влада из рода Драконов по прозвищу Цепеш.
* * *
Утро для Марицы началось с перезвона колоколов и первого солнечного луча, заглянувшего в окошко. Обязательная молитва, привычно долгая, в этот раз отчего-то не только не согрела души, но даже не затронула ее струн. Вода для умывания, сегодня, как и всегда, обжигающе холодная, не усмирила жара, который загорался на щеках принцессы, едва она лишь вспоминала о вчерашнем госте.
Матушка-наставница, конечно, видела все, что творится с ее воспитанницей. Видела, но отчего-то молчала. Должно быть, гость не показался Каролине таким уж страшным, каким рисовала его молва. Напротив, каждому его деянию можно было найти объяснение — простое и ясное.
«Мальчик пролил реки крови… Но разве его отец был иным? Разве не Влад Второй выгнал крестьян из трех деревень только из-за того, что деревни эти стояли у кромки леса, где король любил охотиться? Разве не он, вступая в орден Дракона, прикатил бочку свежей человеческой крови, дабы доказать, что достоин драконова имени? Разве не он заточил жену в башню, дабы никто и никогда не увидел ее красы? Так чего же мы хотим от сына такого человека? Ангельской кротости? Смешно…»
День катился своим чередом. После скудной утренней трапезы Марица опять взялась за будущую вышивку. Рука ее дрожала, девушка прилагала почти нечеловеческие усилия просто для того, чтобы не отвлекаться. Наконец картина была полностью перенесена на ткань, теперь наступал черед толстой нити: чтобы разметка не осыпалась, основные контуры фигур следовало аккуратно обшить.
Должно быть, оттого, что девушка думала о чем угодно, только не о вышивке, ей всего за час удалось пять раз наколоть пальцы и один раз даже порвать крепкую шелковую нить.
— Дитя мое, — рассмеялась Каролина, — остановись. Твои мысли витают в облаках, а душа, полагаю, даже выше оных. Давай-ка отправимся лучше в сад — цветы тоже жаждут нашего внимания. Да и уколоться ими куда труднее.
— Благодарю, матушка-наставница. Что-то мне сейчас не до рукоделия. Должно быть, в саду и в самом деле найдется работа, которая побережет мои руки.
Матушка Каролина погладила воспитанницу по плечу:
— Идем, дитя мое.
Сад был поглощен зноем. Солнце, словно безжалостный военачальник, заполонило все — от травинки до цветка, от куста шиповника до старого дуба со спящей в дупле совой. Однако скамья у корней дуба купалась в живительной тени. Здесь и устроилась с вышиванием наставница Каролина, а принцесса Марица, не в силах усидеть на месте, мерила шагами аллею, то склоняясь и вырывая ненароком выросший сорняк, то подпрыгивая и снимая с ветвей паутину, которая неведомо каким чудом запуталась в листве.
— Марица, дитя, быть может, пора перекусить?
— Ах, матушка Каролина, мне и кусок не лезет в рот, такая жара…
— Но мы можем расположиться здесь, у старого дуба. Вскоре тени станут длиннее, мы сможем отдохнуть от зноя.
— Не знаю, матушка-наставница, не знаю…
Марица пожала плечами и вновь отправилась по аллее. Должно быть, поэтому она и не увидела, как от дворцовой кухни спешит первый помощник главного повара в компании с церемониймейстером.
— Матушка-наставница, как хорошо, что мы увидели ваше платье!
— Что случилось, господа мои?
— К счастью, ничего не случилось. Просто король Матьяш желает дать ужин во дворцовом парке и велел позвать свою сестру вместе с ее заботливой наставницей.
— Ну что ж, мы примем приглашение короля. Передайте его величеству, что принцесса согласна. Нынче она пребывает в размышлениях, но через полчаса или чуть позже окажет королю честь своим появлением.
Первый помощник главного повара расплылся в широкой улыбке: матушка-наставница всегда умела поставить на место зарвавшихся царедворцев. Церемониймейстер кивнул куда более уныло, однако ответ был получен. Теперь ему предстояло не только озаботиться устройством ужина в глубине дворцового парка, но и уведомить короля, что его сестра не торопится со всех ног и вообще «пребывает в размышлениях».
Когда пробил седьмой час, король забеспокоился. Марица была послушной сестрой, хлопот не доставляла. Сам бы Матьяш ее отсутствия и не заметил, если бы гость, господарь Влад, каждые пять минут не осведомлялся у хозяина, отчего его сестра не делает королю чести своим присутствием.
— Марица размышляет, — наконец пробормотал король. — Когда же она закончит размышлять, то сразу присоединится к нам. Она всегда так делает…
Это была уже откровенная ложь, но гость ее, конечно, не заметил. Он был странно беспокоен, все посматривал в начало аллеи, откуда, по его мнению, должна была появиться принцесса Марица.
Когда же наконец девушка появилась, Влад воспрянул. Взгляд его зажегся теплым светом, улыбка тронула губы, а спина выпрямилась, будто тяжкий груз в одночасье упал с плеч.
— И какой итог твоих размышлений, сестра? — Тон короля выдал все его недовольство.
— Итог? — недоуменно переспросила Марица. — Отчего тебя он интересует?..
Девушка не представляла, о чем говорит брат, но показывать это не собиралась. А итог ее размышлений, равно как и источник оных, сидел на почетном гостевом месте, по правую руку короля. Матушка-наставница улыбнулась про себя — девчонка-то умница оказалась. Каролина и раньше замечала, что воспитанница не питает особой любви к брату, однако как в былые дни, так и сейчас у нее хватало ума не показывать этого слишком уж откровенно.
— Меня интересует, какие мысли могли заставить тебя опоздать. Ведь короли ждать не любят…
— Я смиренно прошу прощения у вашего величества. — Марица склонила голову, внешне сама покорность. — Но я думала, что меня зовет к ужину любящий старший брат, который всегда готов простить младшей сестренке глупую задумчивость.
По щекам Матьяша заходили желваки, а господарь Влад, не сдерживаясь, рассмеялся. Было видно, что такой ответ его и позабавил, и порадовал. Король сдержался — не дело было выяснять отношения в присутствии посторонних, тем более когда этот посторонний — сам Влад Цепеш, палач и мститель.
«Не хватало еще его прогневать… Пусть его казна пуста, а армия малочисленна. Однако он все же наш коронованный брат и властитель сопредельного государства. Неразумно вызывать гнев человека, который может тебя защитить от врага куда более могучего… Самого могучего… От Порты…»
Ужин шел своим чередом, но никто, кроме самого Матьяша, на яства не обращал ни малейшего внимания. Матушка-наставница посмеивалась над угрюмым королем, епископ отказался от еды и потягивал густое токайское. Влад Дракул вряд ли замечал, что именно ест… А уж Марица… та и не ела вовсе.
Наконец этот смешной и бесконечный ужин подошел к концу. Слуги засуетились, убирая мясные паштеты и подавая мороженое, король милостивым жестом позволил немногочисленным придворным покинуть свою венценосную персону. С удовольствием встала и матушка-наставница.
— Дитя мое, — задумчиво проговорила она, — думаю, после столь плотного ужина не следует сразу подниматься в покои. Куда разумнее будет прогуляться по саду… Да и сон будет крепче.
Принцесса послушно присела в поклоне:
— Я тоже так думаю, добрая моя наставница.
— Позвольте, — низкий взволнованный голос господаря Влада прозвучал именно тогда, когда и должен был (по мнению Каролины, конечно). — Позвольте мне, прекрасная принцесса, сопровождать вас…
— Если позволит мой венценосный брат…
Матьяш только кивнул — своего валашского гостя он откровенно боялся, а потому готов был на все, только бы не вызывать гнева Влада из рода Драконов. Каролина вновь вернулась на скамью в густой тени дуба. Взошла луна, в ее неверном свете тени были гуще, листва серебрилась, а небольшой дворцовый сад стал сказочной пущей.
— Правду ли говорят, принцесса, что вы собрались стать божьей невестой?
Неожиданный вопрос заставил Марицу остановиться. Она обернулась к господарю Владу и кивнула:
— Да, господин мой Влад. Это правда. Матушка-наставница советует мне не откладывать надолго и не размышлять сверх положенного — у принцессы столь малозначащего королевства судьба определена заранее. Монастырь или брак во исполнение королевской воли. Быть разменной фигурой в высокой политической игре мне претит. А монастырские стены не так темны и глухи, они и привечают, и защищают, и даруют огромный новый мир. Стать частью этого мира не зазорно.
Ее собеседник порывисто схватил девушку за плечи. В иных обстоятельствах это была непозволительная вольность, но Марица подумала, что сможет простить этому худому пылкому человеку куда больше, чем просто случайное объятие под луной.
— Не уходите в монастырь, принцесса. Не запирайте себя за высокими каменными стенами. Ваше предназначение — пройти эту жизнь рядом со мной!..
Марица окаменела. Никто и никогда еще не был с ней столь раскован и откровенен. Никогда еще мужские руки не сжимали ее столь страстно, а глаза, прекрасные глубокие глаза, не горели такой убежденностью.
— Вы сошли с ума, господин мой Влад…
Но властитель Валахии продолжал, не слыша ее слов:
— …Я понял это, едва увидел твои прекрасные черты лица. Я ощутил это, едва услышал твой голос… Я почувствовал это, едва коснулся твоей руки! Должно быть, сам Бог предопределил нашу встречу. Пусть Он отобрал у меня много лет, едва не лишил меня в плену жизни, однако именно Он привел меня к твоему брату и именно в тот день, когда для меня засияло твое солнце… Бог, только Бог помог мне узнать тебя, моя греза, увидеть ту, о которой мечтал…
Марица чуть повернулась в кольце рук Влада, встала так, чтобы видеть его глаза, разглядеть даже крошечные морщинки у крыльев носа. Она не верила собственным ушам. Не верила, но наслаждалась тем, что слышит.
— Но, быть может, дьявол, а не Господь наш всемогущий, привел вас сюда? Привел и вложил сладкие слова в ваши уста?..
Влад усмехнулся и чуть пожал широкими костлявыми плечами:
— Чтобы завоевать твое сердце, моя принцесса, я готов принять помощь и Бога, и дьявола. Цель столь высока, что нет никакого проку задумываться о мелочах…
Марица усмехнулась — никто и никогда не признавался ей столь открыто в том, что готов горы свернуть, лишь бы завоевать ее привязанность. И потом, его глаза… Ох, каким огнем они горели, сколько в них сейчас было чувства, сколько доброй силы, сколько страсти. Один этот взгляд и без всякой помощи небожителей мог растопить девичье сердце. Уж ее-то сердце наверняка.
Только сейчас поняла Марица, как невообразимо молод властитель сопредельной Валахии, какой тяжкий груз на его плечах. И как жаждет он, чтобы она, Марица, разделила с ним жизнь — какой бы эта жизнь ни была. Не принцесса, сестра могущественного короля, а она, невысокая зеленоглазая Марица, обычная девушка, пусть иногда и мечтающая о несбыточном, но отлично понимающая, как далека порой от мечтаний бывает жизнь человеческая.
— Но отчего ты молчишь, маленькая волшебница? Тебя оскорбили мои слова? Тебя отпустить, дабы ты сбежала под крылышко своей матушки-наставницы?
Марица отрицательно помотала головой. Говорить она не могла — слезы застилали ей глаза, а голос… Горло перехватил спазм. Наконец она смогла вздохнуть и ответить:
— Да будет так, господин мой Влад. Я не стану божьей невестой…
Объятия Влада стали чуть мягче — теперь он не пытался ее похитить, но мечтал защитить. От всего мира, если это понадобится. И конечно, от всех недобрых слов и взглядов, которыми жестокий мир мог наградить его, теперь он это знал точно, именно его невесту.
— Но станешь ли ты моей невестой? Согласишься ли пройти со мной по жизни, разделишь ли печаль одиночества, подаришь ли надежду на рассвет?
— Да, господин мой Влад из рода Драконов. Я стану твоей невестой, соглашусь пройти с тобой по жизни, разделю печаль одиночества, подарю надежду на рассвет. И, клянусь, я всегда буду на твоей стороне, найду каждому твоему деянию не просто объяснение, но оправдание!..
— Ты вернула мне жизнь, маленькая колдунья.
И губы Влада прижались в губам Марицы в робком и нежном поцелуе — поцелуе, который обещал не меньше, чем самые сладкие клятвы, который утверждал союз, и в самом деле, заключенный не на Земле, но на Небесах. Союз не только тел, но и душ.
Марта Скавронская. Мой любимый — Петр Первый
— Ждут тебя дальние дороги и незнакомые страны, опасности и лишения, но также богатство и почести. Многие будут любить тебя и искать твоего расположения. Но будут и завистники, которые будут стремиться оскорбить и унизить тебя. Ты возвысишься так, как никто до тебя в твоем роду, и будешь почитаема людьми и хранима судьбой.
Так предсказывала юной Марте Скавронской старая цыганка — на холодной грязной улице Мариенбурга, мрачным февральским утром, в самом начале очередной разорительной и кровопролитной войны…
* * *
С детства она была очень бойка, шаловлива, и ее любили за веселый и ласковый нрав. Была она смышлена, не труслива и часто проводила время не за домашней работой и не за прилавком в лавке отца, а на берегу реки или в дальних уголках города с такими же, как она сама, детьми небогатых бюргеров. Впрочем, она не гнушалась никакой работой и часто с удовольствием помогала родителям. Ей нравилось принимать посетителей и обслуживать их, предлагая товары и подбирая именно то, что хотелось бы получить покупателю, так, чтобы он ушел довольный и непременно пришел за следующей покупкой. Она была неграмотна, но не особенно об этом сожалела, так как очень рано поняла, что грамота в жизни ей пригодится не очень. Считать умела — вот и ладно… Деньги — они любят счет.
А еще она узнала, и тоже очень рано, что из мужчин можно легко вить веревки. Она повзрослела, и все вокруг стали говорить, что она очень красива. Соседские мальчишки, а иногда и старшие горожане наперебой предлагали ей свои пылкие услуги, и она поняла, что действительно очень привлекательна для противоположного пола. А красота всегда ценна, знала Марта, нужно только уметь ею правильно воспользоваться. Если подойти к вопросу с умом, то есть не только привлечь мужчину, а удержать на долгие годы, да так, чтобы не просто удержать, а умело управлять им, нужно просто соблазнить его и привязать к себе. Утопить в океане страсти, а потом он станет шелковым, и можно будет добиться от него чего угодно. В этом Марта была уверена и начала практиковаться в умении «утопления».
В обучении она делала большие успехи и уже почти было решила, что настала пора подыскать себе мужа, как разразилась очередная война. Первый страх был быстро забыт, и Марта начала с интересом поглядывать в сторону проезжавших через городок солдат. Они всегда накидывали на нее масленым оком, и скоро она так привыкла к ним, что даже стала перебрасываться с ними шутками и от души хохотала каждый раз, когда ей бросали, восхищенно хлопая в ладоши и присвистывая, то цветок, то яблоко, а иногда и красивый браслет…
— Эй, красотка, поехали с нами! — крикнул ей как-то молодой статный драгун.
Глаза его насмешливо блестели, он гарцевал на лошади, подъезжая почти вплотную к Марте и снова смиряя коня.
— Не поеду! — ответила она, задорно сверкая черными глазами-маслинами. — Поезжайте сами!
— Русских ждешь? — смеялся драгун. — А то поехали, у нас жизнь веселая…
Она потом часто вспоминала этого драгуна, шведа Рабе, его колкие усы и сильные руки, жадные грубые поцелуи и жесткие вьющиеся волосы… Он уехал спешно, на рассвете, пока она еще спала, и она даже не знала, что он уехал, но когда проснулась, не увидела его рядом с собой, зато услышала страшный шум и крики на улице, а потом конский топот и громкие мужские голоса.
Спасаться было поздно. Бежать было некуда. В город въехали русские.
Она стояла на пороге, растерянная, перепуганная, а по улице ехали огромные кони с вооруженными седоками, и она мысленно молилась: пресвятая Дева, помоги, отведи беду… Ей было так страшно, как никогда в жизни не было, и она бежала домой как полоумная: только бы успеть, только бы добежать, только бы…
Теперь она боялась выходить на улицу. Как-то ее окружили черные бородатые мужики, громко смеялись и, наверное, шутили, как и шведские драгуны, но она чуть в обморок не падала. Ей казалось, что со всех сторон к ней сейчас потянутся руки — чужие, мозолистые, грязные, схватят ее и уволокут куда-то, а старик отец не сможет ничем помочь…
К тому времени у них совсем не осталось денег и почти не осталось еды, и она думала лишь о том, где бы раздобыть кусок хлеба.
Она перепробовала все: пыталась продавать старые вещи, помогала служанке в доме напротив, даже нанялась прачкой, но все было без толку. Она совсем уже отчаялась, но вдруг на выручку ей пришла необыкновенная красота.
Марта выливала грязную воду, когда раздался стук копыт и властный голос окликнул ее. Она подняла голову. К ней обращался офицер — на незнакомом языке он, видимо, пытался о чем-то спросить у нее. Она не поняла ни слова и только растерянно хлопала глазами, и он громко выругался, соскочил с коня и приблизился к ней.
Марта замерла от страха.
Он взял ее за подбородок, внимательно рассмотрел лицо, провел пальцами по щеке — и легонько оттолкнул ее. На его вкус она была слишком худа и грязна…
Еще не замер вдалеке стук копыт, а Марта, глядевшая вслед всаднику, уже приняла решение. С этой минуты она не боялась. Как она могла забыть, что солдаты — даже вражеские — всего лишь те же мужчины… Им нужно просто дать то, чего они хотят.
Теперь у нее было вдоволь хлеба и воды, и даже иногда появлялось вино, а еще ей стали дарить платья, и она уже не выглядела такой оборванной и несчастной, как раньше. Ей даже было весело: чужие солдаты оказались добрыми и задорными, жалели ее и помогали, кто чем мог.
В один прекрасный день она бросила отца — просто уехала, не сказав ни слова, и, хотя воспоминание об этом временами возвращалось и жгло ее словно огнем, если бы пришлось второй раз выбирать, она и второй раз уехала бы. Ее тянуло к вольной, разгульной жизни. К тому же зачем все время ждать новых хозяев в городе, лучше уж быть всегда с одними и теми же… Да и профессия маркитантки была доходной и давала возможность жить так, как хотелось, почти ни в чем себе не отказывая.
Она полюбила кочевую жизнь. Полюбила рассветы и закаты под открытым небом, поездки на тряской телеге по разбитым дорогам, жаркие словесные перепалки с солдатами и конкурентками. Правда, когда наступили холода, стало труднее, но у нее было уже достаточно денег, чтобы купить себе душегрейку, рукавички и валенки — о, это русское изобретение, валенки, в них действительно не мерзли ноги!
Время от времени она все-таки задумывалась о будущем. Надолго ли хватит такой жизни? Надо было как-то устраиваться, причем быстро, потому что война войной, а замуж выходить надо, и остепеняться, и вести хозяйство, а иначе можно остаться на всю жизнь у разбитого корыта. Молодость пройдет, красота увянет — и что тогда?
Однажды, во время долгого перехода, как обычно, трясясь на краю телеги и от нечего делать оглядывая бесконечные колонны марширующих солдат, она обратила внимание на проезжавшую мимо карету. Это была добротная дорожная карета, крепкая и надежная, и она подумала, как здорово было бы иметь такую. Из окна высунулся пассажир — еще не старое благородное лицо, усы, ей показалось, что глаза у него очень добрые — она успела встретиться с ним взглядом.
Карета проехала, и Марта продолжила свое нехитрое занятие. Вокруг были усатые лица, грязные сапоги, усталые люди… Серо было кругом и уныло, и Марта, вздохнув, подумала, что не особо ей везет в жизни — так, пожалуй, все в ней, как в этот хмурый день, печально и беспросветно.
Из задумчивости ее выхватил мужской голос. Проехавшая карета остановилась чуть впереди, и пассажир послал кучера за Мартой. Она с радостью ухватилась за возможность прокатиться — удобно, тепло, почему нет.
— Поедешь со мной? — спросил незнакомец, оказавшийся не кем-нибудь, а петербургским аристократом, самим графом Шереметевым.
— Поеду, — ответила она задорно, блеснув черными глазами-маслинами.
Наконец-то она вытянула счастливый билет.
С того дня она сопровождала графа, жила в его палатке и чувствовала себя более чем хорошо. Ей было тепло, спокойно и сытно. Старик Шереметев молодел на глазах, видеть каждый день возле себя юную красавицу было очень приятно, и не было для него теперь большего удовольствия, чем баловать и забавлять ее.
— Счастье мое, — любил повторять граф, ласково похлопывая молодую любовницу по румяной пухлой щечке. — Хороша ты, чертовка, хороша…
— И ты мое счастье, — отвечала она, блестя глазами, и льнула к нему, прижималась здоровым упругим телом, обвивала полными белыми руками. — Могла ли я и мечтать о тебе?
— Смотри, найдешь кого себе — не прощу, — говорил он притворно строго.
— Что ты, что ты… Кого ж и искать мне… Зачем?
И это не было ложью или притворством — Марта действительно была вполне довольна жизнью и не собиралась менять удобную и нехлопотную жизнь при пожилом графе на сомнительной продолжительности удовольствие — страстные игры с каким-нибудь молодым и ненадежным кавалером.
Она замечала, конечно, похотливые взгляды, которые бросали на нее случавшиеся в палатке гости покровителя, но не позволяла себе ничего, кроме невинных улыбок и приветливых взглядов. Пока не появился ОН.
* * *
— Здравствуй, красавица! — крикнул ей высокий крепкий красавец, заглянувший в палатку. — Подскажи, как я графа Шереметева могу найти?
Марта взглянула на него. На боку шпага, грудь в орденах, сверкающие, с хитрецой глаза. В нем чувствовалась неудержимая сила и удаль, от него исходили жар и страсть, и она внезапно почувствовала, что у нее подкашиваются ноги…
— Уехал, еще на рассвете. Обещал к ночи быть.
— Обещал — значит, вернется, милая! От такой красавицы на ночь не уходят! — подмигнул шальным глазом незнакомец.
Марта неожиданно для себя покраснела.
— Передай графу, что Меншиков приехал, заходил к нему, — расхохотался он. — И еще зайду, — добавил тише.
С этой минуты судьба Марты Скавронской была решена — окончательно и бесповоротно. Несчастный Шереметев был забыт — теперь она скрашивала будни бывшего московского торговца пирожками, а ныне царского любимца.
«Чудная я стала, — думала она, оставаясь наедине с собой в его просторной палатке. — Жить не могу без него… Я как собака, которой кость бросают, а она ее ловит, лишь бы хозяин бросал… Только и жду его, только и выглядываю: не едет ли?»
Каждую ночь он приходил к ней, и тогда тоже пришел — веселый, разгоряченный, слегка хмельной, и она бросилась ему на шею, мечтая только о том, чтобы он ее обнял и никогда не отпускал. Она покрывала поцелуями его лицо, а он вдруг взял ее правую руку, поднес к губам и легонько подул на нее, посверкивая озорными глазами…
Марта затрепетала. Александр ласкал ее руку, поднимаясь к локтю, к плечу… Кожа молодой женщины пылала огнем. Его пальцы поднялись до горла и нащупали тоненькую ключицу, заскользили по впадинке между грудей, по нежной шее, по мягкой щеке…
Большим пальцем он провел по ее влажным, полуоткрытым губам, а потом надавил немного, чтобы проникнуть в уголок ее рта. Сердце отчаянно забилось в груди Марты, она задрожала в ожидании поцелуя, но его рука оставила ее щеку и снова опустилась к шее. Марта глубоко, протяжно вздохнула, почти застонала. Он резким движением притянул ее к себе и впился губами в ее губы. Марта поникла в его руках, закрыв глаза и мысленно моля его не останавливаться. Голова ее кружилась.
Александр опустил ее на ложе и растянулся рядом, прикрывая ее тело своим и легонько покусывая ее нижнюю губу. Умелые требовательные руки ласкали ее грудь, и Марта выгибалась навстречу ему, забыв обо всем на свете и желая только наслаждения, которое он мог ей подарить.
Его руки бесчинствовали, лаская ее ноги и бедра, добираясь до самых потаенных уголков ее тела. Марта стонала, извивалась и изгибалась, пытаясь облегчить сладкую боль, чувствуя, что задыхается и вот-вот потеряет сознание. Он не прекращал ее целовать, и она чувствовала, что тает в его руках, растворяется в нем, взлетает вместе с ним…
Они еще долго лежали обнявшись, ее голова у него на груди. Наконец она пошевелилась, потянулась и подняла на него взгляд. Он смотрел на нее — очень странно, он никогда так на нее не смотрел — словно с стороны, задумчиво, оценивающе.
— Что? — прошептала она, прильнув к нему и поглаживая его щеку, любовно заглядывая в глаза.
Он покачал головой, улыбнулся краешком рта и обнял ее за плечи.
* * *
Неожиданно все закончилось — на одном из банкетов, которые устраивала войсковая верхушка. Какой-то огромный гренадер — она даже не поняла, как он затесался в такую компанию, — весь вечер не отрывавший от нее взгляда, что-то сказал Меншикову, тот было что-то резко ответил, но тут же кивнул и подвел гренадера к ней.
Ночь они провели вместе.
Тогда она еще не знала, что этот великан в простом мундире — на самом деле российский самодержец, Петр Великий, и что именно сейчас ее жизнь сделала очередной крутой вираж, чтобы измениться навсегда. Пока она только горько думала о том, сожалея об Александре и о том, как просто и легко он отпустил ее, отдал, словно вещь, словно игрушку, не имеющую ни души, ни права голоса. Впрочем, с чего бы ему и думать об этом… Такова судьба ее, такова судьба многих женщин, попавших в этот порочный круг — зависимость от сильных мужчин, — и с этим ей придется смириться…
Уходя, новый знакомый обернулся на пороге, бросил монету — она не долетела до кровати, упала рядом с легким звоном, — и вышел.
Марта некоторое время сидела неподвижно, затем медленно встала и подняла монету.
Это был луидор.
Петр был доволен: его прихоть была удовлетворена, Алексашка перечить не посмел, Марта была молода и необычайно красива, а также настолько опытна и искусна в любви, что доставила ему невероятное наслаждение. Оставалось, как обычно, погрузиться с головой в военные перипетии, баталии и управление державными делами и при случае воспользоваться другой хорошенькой маркитанткой.
Все было как всегда.
Сколько их было в его жизни, молодых и красивых полковых шлюх…
Но вот странность: он так и не смог забыть эту ночь и ее нежные, манящие прикосновения, ее задорную улыбку и теплое упругое тело. Его тянуло к этой женщине, а он не привык себе ни в чем отказывать, и раз тянуло, значит, Марте Скавронской предстояло навсегда покинуть палатку Александра Меншикова и стать фавориткой российского царя.
В скором времени так и случилось.
Петру нравилось смотреть на нее — часто он просто наблюдал, как она двигалась, как поворачивала голову, как смеялась, неудержимо, звонко, запрокидывая голову, как выбирала наряды, как улыбалась: сначала вспыхивали глаза, а потом уже улыбка освещала все лицо. Она расцвела, еще больше похорошела. Движения ее теперь были исполнены грациозности и изящества, и она уже совсем не напоминала прежнюю порывистую и неразборчивую девчонку. Впрочем, иногда ей было трудно сдержать себя, и эти моменты он особенно любил: когда ее глаза в минуту веселья начинали пускать чертики, но она всеми силами старалась соблюсти приличия и удержать их.
Скоро он и помыслить не мог ни о чем, кроме нее, и, о чем бы ни думал, мыслями все время возвращался к ней, стремился к ней всем сердцем каждую минуту…
«Все же есть справедливость на свете, — думала Марта, удовлетворенно покусывая нижнюю губку. — Благодарю тебя, пресвятая Дева! Не зря столько лет я мыкалась по миру…»
Нельзя сказать, что ее не задело то, как ее легко и быстро, не спросив, попросту передали от одного хозяина другому, но она привыкла принимать то, что дает судьба, и приспосабливаться к ее капризам, и потому была именно такой, какой ее хотел видеть Петр: кроткой и приветливой, нежной и предупредительной, сегодня соблазнительной и робкой, а завтра неистовой и задорной. Она давала ему то, что он хотел, разделяла его тревоги и радости и постепенно, сама того не замечая, все сильнее и сильнее привязывалась к нему.
А еще она поняла, что более всего в ней он ценит честность, и никогда не обманывала его.
«Таков удел царей, — раздумывала она. — Все им льстят или лгут, из боязни или из честолюбия, и со временем правда становится для них куда желаннее, чем самая сладкая ложь…»
Через некоторое время она поняла, что Петр очень болен, — он просто не мог этого больше скрывать. Его мучили страшные, изнуряющие припадки — он бился в конвульсиях, стонал, кричал от боли, покрывался потом, терял сознание… У него часто болела голова, и от этой боли поистине не было спасения.
«Как помочь ему? — думала она ночью, когда приступ прошел, он обмяк, обессилев, и она тихо лежала рядом, боясь потревожить его беспокойный сон. — Ему так плохо, мне так жаль его… Он такой большой, сильный, а мучается так, что сил нет смотреть… Вон, кажется, даже ростом стал меньше, так его скрутило…»
— Что с тобой, Петруша? — спросила она его утром.
— Не тревожь меня, Марта, — глухо бросил он, даже не глядя на нее.
Она обняла его, заглянула в глаза:
— Ничего, мой любимый. Я помогу тебе. Ты снова будешь здоров…
Он взглянул на нее скорее удивленно, чем с любовью или благодарностью, но глаза ее светились такой преданной и искренней любовью, были полны такой заботы, ласки и сочувствия, что сердце Петра дрогнуло. Его тонкий ус дернулся, будто в судороге. Он на миг опустил глаза, а потом, неожиданно, словно стыдясь, притянул ее к себе и поцеловал — так крепко и нежно, как никто, даже Меншиков, доселе не целовал…
* * *
А потом было окружение. Вокруг были турки, их присутствие она чувствовала даже кожей: их кони, их кривые сабли, их гортанные голоса… Она уже носила под сердцем ребенка, уже твердо знала, что это будет мальчик, иначе и не могло быть, и не могла позволить, чтобы ее младенец, ее первенец, погиб, еще не родившись, здесь, в Молдавии, в солдатском лагере у какой-то неизвестной ей реки…
— Видно, только два выхода есть, — молвил Петр собравшимся вокруг них полководцам. — Либо сдаться, либо погибнуть, иных путей не вижу. А между позором и смертью солдату выбирать нечего… Жить с позором никто не захочет!
— Погоди, государь! — воскликнула Марта. — Погоди!
— Неужели придумала что-то? — обернулся к ней Петр.
— А и придумала! Визирь, он, чай, тоже человек. Что ему жизни наши? А на подарки он небось падок!
Марта сорвала с себя драгоценности и бросила наземь.
— Что стоите? Делайте же, как я! — крикнула Марта.
Со всех сторон раздались одобрительные выкрики. По кругу пустили казачью шапку. Монеты, перстни, драгоценные камни летели в нее…
— Главное, чтобы визирю твои подарки понравились, — тихо сказал ей Петр. — Если выгорит дело, дам тебе орден.
— Какой же орден мне можно дать, Петруша?
— А вот специально в твою честь прикажу учредить и первой тебя награжу! — озорно подмигнул самодержец. — Пусть будет орден Святой Екатерины!
* * *
Только она могла утешить его, смирить страшные головные боли, которыми он страдал с детства… Она больше не боялась его приступов и делала все, чтобы облегчить их. Только ей одной во дворце и в ближайшем окружении царя это удавалось. Когда ему было плохо, Марта молча укладывала его голову себе на колени и нежно поглаживала, массировала легкими прикосновениями кожу и виски, пока он не засыпал у нее на руках. Она не двигалась, сидела тихо, чтобы не потревожить его, чтобы он выспался и отдохнул. Она могла сидеть так часами, и никому не было позволено в это время беспокоить императорскую чету.
В разлуке она только о нем и думала — каждую минуточку, каждое мгновение, чем бы ни занималась, думала о нем и очень скучала. Она любила выходить ему навстречу, особенно когда он приезжал с верфей или из мастерских — пропахший морем, деревом, возбужденный и веселый. Высокий, сильный, он радостно подхватывал ее на руки, крепко целовал и кружил по залам дворца, нашептывая на ухо нежные слова любви. Ей казалось, что она на небеса возносится в его руках, и она твердо знала, что на свете нет более любящих рук и нет для нее опоры и защиты надежней.
— А я ведь тебя и вправду люблю, — сказал как-то Петр в один из таких дней, когда после недолгой, но показавшейся обоим вечностью разлуки они, обнявшись, сидели в ее маленькой голубой гостиной.
За высоким створчатым окном шумела весна, новый город, построенный его волей, начинал оживать после лютой зимы, а в комнате, искусно украшенной заморскими коврами и ширмами, с дорогими безделушками и изящными мраморными статуэтками, было светло и уютно, и любимая Мартина канарейка пела свою веселую беззаботную песню.
— Знаешь, я ведь любил уже когда-то. Анна меня на посла немецкого променяла — ты слышала, поди… Как же, думала, что удачу за хвост поймала. Зачем я ей, какой есть. Вот царь — другое дело, с царем удобно и выгодно любиться. Сначала думал, что и ты так, не верил тебе. Еще и Алексашка… Забыть не могу, что ты с ним была…
— Да что ты, Петруша… Забудь об Алексашке своем. Ну был он и был… Мне все равно, кто ты, царь иль не царь… Неужто не видишь, как жду тебя, как только тобою живу? Разве не видишь, как тяжко мне придворных твоих сносить? Если б не ты, не смогла бы стерпеть обид этих… Они ведь только и шепчутся у меня за спиной, только и насмехаются, и ехидничают! Все старое поминают… Знали бы они, как страшно мне было… Они ли судьи мне? Они и половины моего не хлебали… Отираются возле тебя, крохи со стола подбирают… А благородство их — сколь из них тебе титулами обязаны? Чем лучше меня они? Посмотрела бы я, что б они делали, если б моя судьба им выпала…
— Да уж, настрадалась ты, милая моя… Ну ничего, ничего. Теперь все по-другому будет. Ты царица, самодержица российская! Самодержица, а?
Он привлек ее к себе, и оба весело расхохотались.
Вдруг Петр резко оборвал смех, обнял ее и притянул к себе.
— Зазноба ты моя, — тихо и серьезно сказал он, глядя ей прямо в глаза. — Любовь и зазноба моя на всю жизнь…
Матрена Кочубей. Ты — Мазепа
Прозвонили к обедне, но Матрена не торопилась — Бог молитву твою везде услышит, хоть в храме, хоть в доме, хоть в поле.
В келье было холодно. Хотя чего ожидать от выстроенного столетия назад монастыря? Здесь холодно всегда, даже в июльский зной. А уж нынче, в ноябрьские холода, так и вовсе удивляться нечему.
Матушка настоятельница дозволила топить печурку. Но разве камень согреешь? Для сего, поди, и жара геенны огненной недостаточно будет… Камень есть камень… Тело можно согреть, пусть и ненадолго. А вот как согреть сердце, навсегда умершее для мира? Тут уж никакие сковороды адские не помогут, никакие вулканы.
Воспоминания… Вот что у нее еще осталось. Воспоминания, письма, слова тайные, ей одной ведомые… да кольцо, что надел он ей на палец. Поклялась она колечко это не снимать — и слово свое сдержала. Нет теперь у нее ничего на этом свете. Впрочем, ей уж ничего и не надобно. А как придет ее черед — с радостью отправится она на свидание к своему любимому, Ивану по прозвищу Мазепа.
Иногда ей снятся сны — далекие, теплые… В них она вновь впервые встречается с ним в батюшкином имении, однако она уж стара, а он молод и силен. Но в каком бы образе она перед ним не представала, он ее узнаёт без труда, склоняется к нежной ручке и шепчет слова заветные: «Ваша милость, паненка гонорова…»
Никогда и никому, даже ему самому, она не рассказывала, что чувствует, не пыталась объяснить, кто он для нее. Один только разочек сказала «люблю»… Ему и того было довольно. А остальные — все не верили, все подвох искали. Все пытались понять, какая же ей выгода от него, старого гетмана.
Больше всех негодовала матушка. Оно и понятно — некогда ее коханый теперь пропадал от любви к ее собственной дочери. Ну где такое видано, чтобы бросить давнюю возлюбленную ради молоденькой дурочки, которой одно лишь и надобно.
Как она издевалась над ней, как кричала… Платье прятала, в одной сорочке в подполе запирала… Щипцами раскаленными то шею, то щеку припаливала, словно невзначай. А она только плакала молча, да письма коханому писала… Нет, не жаловалась, рассказывала о каждом дне своем, о том, что думала, что увидела…
Счастье, что Иван те письма перед смертью сжег. Нехорошо было бы, если бы нынче кто-то прочитал их — девичьи глупости, пустая болтовня. Лишь о нем все глубоко и всерьез.
В дверь тихонько постучали.
— Матушка игуменья спрашивает, выйдете ли вы к обеду? — Служанкой у игуменьи была деревенская девчушка, малышка совсем. Лет семи, может быть, восьми. Но бойкая и неунывающая, почище любого мальчишки.
— К обеду выйду, Мотречка. Непременно… Не дело в каменном мешке весь день сидеть. Матушка-то игуменья, поди, тревожится, наверняка просила, чтобы ты присмотрелась внимательно, здорова ли я…
— Просила, — кивнула Мотря. — Велела послушать, как вы спите, а ежели не спите, только тогда зайти да об обеде и справиться.
— А о здоровье?
— А нам, Мотрям, некогда о болезнях-то думать. Что старым, что малым. Чи не права я?
— Права, кралечка, права… Беги к матушке Анастасии. И к обеду выйду, и вечерню отстою, и вам, деткам неразумным, урок преподам, как заведено.
Малышка несколько раз кивнула — она очень любила уроки, которые Мотря Васильна давала. Панское рукоделие тонкое у нее таким красивым выходило, так хотелось, чтобы и из-под ее, маленькой Мотри, пальцев что-то подобное появлялось. А уж какие истории за уроками теми рассказывались! Какие имена звучали!.. Словно история великой державы вот так, попросту, пришла в натопленную комнатушку, присела у камелька и завела рассказ.
Девчонки, что постарше, роптали — что это Мотря Васильна все о страхах рассказывает, о войнах, царях-королях, что сражаются беспрестанно, о никому неведомых «государственных интересах». То ли дело тайны сердечные… Или вот об утопленницах из-за большой любви поговорить… Аль о повесившихся от нее же.
Мотря Васильна всегда смеялась, как слышала разговоры такие.
— Глупые вы девки, глупые. Какая ж дурочка от любви топиться-вешаться будет? Любовь настоящая — она, как солнце, огромная. Она душу согревает, мир освещает… А топятся-вешаются глупцы, у кого сил не хватает такое чувство для себя сохранить да с коханым разделить.
— А как же коварные разлучники да разлучницы? — как-то спросила Марийка Кролевец. — Ить навсегда расстаешься с душою своею…
— Марийка, ну как же с душой расстаешься? Душа — она всегда с тобой остается. Она и есть вместилище твоего кохання.
— Но коханый-то мой уходит-уезжает в края далекие! Что ж мне одной-то вековать? Может, и впрямь, головой в омут — и дело с концом?
Мотря Васильна тогда покачала головой, глянула укоризненно.
— Это трусость, девочка. Не век, поди, тебе одной вековать — ежели судьба у тебя одного отнимет, то другого обязательно подарит. И вот еще о чем подумай — каково твоему коханому в свейском крае, аль на Волге, аль в Европах в услужении знать, что ты от любви к нему в омут-то бросилась? Поди, решит, что это он своими руками тебя жизни лишил… И хорошо это?
— Нет, — покорно кивнула Марийка. — Нехорошо… Трудно жить с таким камнем на совести…
— Ну вот, а ты говоришь «в омут»… Любая женщина — украшение этого мира, для кого-то счастье единственное, судьба, вторая половинка души! И не дело от первой глупой влюбленности руки на себя накладывать.
— Глупой влюбленности? Да как же понять, глупая она иль умная? Влюбленность или кохання всей жизни?
— Это просто, девочка. Нужно только представить, что будет, если твоему любимому от тебя уехать придется, надолго, если не навсегда. Представить, что и письма от тебя к нему и от него к тебе редко-редко доходить будут… Представить, что не разлучница злая, а дело важное держит твоего любимого вдали и год, и два, и три. Вот ежели все это для тебя пережить возможно, ежели ты видишь его во сне каждую ночь и слышишь все его думы — то это чувство большое, долгое, сильное. О таком чувстве мечтать надо, ждать его, как подарок небес. Если ты ему передаешь все силы, отдаешь и чувствуешь, что он этот дар твой принимает, — ты дождешься его.
— Господи, да где ж сил на такое набраться?
Матрена Васильна улыбнулась, чуть горьковато, но гордо и светло:
— А вот она-то, любовь, и даст тебе на это сил. Если это Любовь с большой буквы, настоящая, а не глупости, какие иногда девчонкам в голову лезут.
Маленькая Мотря уже добралась до большого игуменьиного дома, уже поднялась по высоким крутым ступеням в верхние покои. Матушки настоятельницы, однако, нигде видно не было. Должно быть, опять ушла в часовенку…
Какая-то тайна, никому здесь неведомая, объединяла старую игуменью и стареющую Мотрю Васильну. Какая-то общая, давняя, несмолкающая боль. Оттого стольких послаблений и удостоилась Кочубеевна, поди… Оттого о ее здоровье матушка игуменья каждый день справляется, да десяток раз на дню.
Густой колокольный звон заполонил все вокруг. Отсюда, с высоты холма, было отлично видно, как сестрицы-послушницы потянулись из храма в столовую комнату, отстояв обедню. Ночной морозец прихватывал все пуще, угревшиеся в божьем доме девицы ежились, однако никто еще не сменил теплый плат на куцые, но все ж таки меховые жилетки. Лишь детям, вроде нее, Мотри, дозволяла матушка игуменья одеваться потеплее.
— Что стоишь, девочка? — раздался сзади голос наставницы. — Аль не проголодалась еще?
— Задумалась я, матушка… — Мотря низко поклонилась. — Задумалась о зиме да о том, что надо бы и потеплее одеваться.
— Пора, детка… Рановато в этом году холода пришли. До Филиппа еще почти две недели, а уж ледок крепчает. Вот на Анну и оденемся, поди, Господа не прогневаем.
— Не прогневаем, матушка наставница, — эхом отозвалась Мотря.
Игуменья спускалась вниз, девочка шла следом. Ох, как же эти короткие минутки до столовых комнат Мотря любила! Любила и боялась. Матушка-то по пути разговаривала чаще сама с собой, однако любила, чтобы она, глупенькая Мотречка, ей отвечала. Иногда, ох, как редко, но и похвалы от строгой наставницы можно было дождаться. Тогда она клала ей на голову теплую руку и, легонько потрепав, повторяла: «Ты есть голос моей души, малышка…»
Сегодня матушка начала свой путь с вопроса:
— Так что там Мотря Васильевна? Не занедужила ли?
— Здорова. Сказала, что и к обеду выйдет, и урок проведет.
— И слава Богу! — Наставница перекрестилась. — Должно быть, в размышлениях пребывает?
— Пребывает, матушка. Шитье как третьего дня отложила, так оно и лежит, лишь иголка торчит-блещет в свете камелька.
— Оно и понятно. Ивана вспоминает Матренушка. Десять годочков, как не стало его, вот рукоделие и отложено. Плачет?
— Нет. — Мотря взглянула наставнице в лицо. — Не плачет… Глаза сухи, лик светел… Словно Мотря Васильна уж и здесь и не здесь… Но голос бодрый, и глаза… живые глаза-то, тутошние.
Игуменья обожала свою служанку — маленькая Мотря ничего не боялась, а ее суждениям можно было доверять так, как не доверишься и десятку взрослых. «Хорошая девчонка растет. Для кого-то счастьем и горем станет. Если Господь Бог даст…»
— А Иван — это кто? Кого Мотря Васильна-то поминает?
— Вот за уроком у нее и спросишь, егоза! — Матушка игуменья погладила девчонку по плечу.
До столовой дошли молча — наставницу поглотили другие мысли. А малышка Мотря все думала, как же у Матрены-то Васильны спросить, чтобы не сильно ее ранить-обидеть?
* * *
Для уроков рукоделия Матрена Васильевна выбрала светлую большую комнату с огромными окнами. Говорили, что когда-то в этих покоях пряталась от гнева своего мужа сама царица Ольга. Врали, поди. Однако комната, последняя из четырех в анфиладе, была удивительно уютная — квадратная, о шести огромных окнах, но теплая и чистая. Да и как иначе может быть? Игла-то стальная, шелк холодный, да и нить золотая не теплее. Хорошо ли будет, ежели узор нарушится оттого, что пальцы замерзли?
Учениц у Кочубеевны было немного — наставницей строгой оказалась Матрена Васильевна, за провинности не ругала, но учить соглашалась только тех, кто усердием отличался, не повинность отбывал, а удовольствие от своей работы получать научился. Нынче вместе с маленькой Мотрей в комнате было семеро девушек. Самой старшей, Марусе, шел шестнадцатый год, а самой младшей, Мотриной младшей сестричке, только исполнилось шесть.
Девушки постарше разложили на трех сдвинутых столах тяжелый бархатный отрез с вышивкой — картина была создана только наполовину. До Рождества, конечно, было время, но все же лениться не следовало: покров алтаря еще надо было выстирать и отгладить.
— Что-то задерживается Матрена-то Васильевна, — задумчиво проговорила Маруся, глядя в окно. — Уж скоро и темнеть начнет, а она все не идет…
— Тут я, девочка, не тревожься, — раздался от двери голос. — У матушки игуменьи задержалась, заговорились мы, давние годы вспоминая.
Девушки встали со своих мест и низко поклонились. Свою учительницу они любили, в дни ее болезней искренне горевали и старались помочь, чем могли. Нынче же только одна маленькая Мотря знала, что горюет Матрена Васильна. Только ей было видно, сколько боли притаилось на дне ее огромных глаз.
— Маруся и ты, Настена, возьмите вот свечи и зажгите все, что есть, — не дело над работой глаза портить. Матушка игуменья мне строго-настрого приказала вас баловать и учить, а не калечить…
Настена, бойкая подружка более спокойной Маруси, хихикнула. Однако свечи исправно в подсвечники вставила. И расставила их так, чтобы они освещали все длинное полотно.
— Ну что ж, девочки, приступим…
Матрена Васильевна вдела золотую нить в тоненькую иглу и решительно вколола ее на почти пустой участок вышивки. Так бывало уже не раз — она начинала, что сложнее всего, а ученицы потом заканчивали и переходили к следующему участку, который успевали вышить проворные пальцы Матрены Васильевны. Мотря только сейчас отчего-то обратила внимание, какие эти пальцы длинные и белые, какая сильная и молодая кожа на руках учительницы.
«И отчего же я решила, что она старая? Оттого, что лицо в морщинах? Так нет их, морщин-то! Что ходит, тяжко опираясь на посох, так не ходит же тяжко, легка поступь еще! Оттого, что молча смотрит в окно? Так, значит, ей есть, о чем думать. Дура я, как есть дура!»
— Матушка игуменья сказала, что после Анны позволит полушубки надеть…
Девушки заулыбались — холодно оно и есть холодно.
— Добра к вам матушка-то игуменья, девочки… — посветлела лицом и Матрена Васильевна.
— Так, поди, не прогневали мы ни ее, ни Бога, чтобы нас холодом-то наказывать… — за всех ответила Маруся.
— И то верно, — кивнула учительница.
Мотря все думала, как бы половчее вывернуть разговор на неведомого Ивана, о смерти которого нынче печалится Матрена Васильевна. Но тут Маруся вскрикнула — укололась.
Матрена Васильевна как-то сразу лицом помягчела, на палец девушки подула.
— Что ж ты, глупенькая, в шнур-то иглу воткнуть пыталась!..
Девушка кивнула. И тут Мотря поняла, что вот он, тот самый момент.
— Матрена Васильна, а что, ваша матушка тоже вам всегда на пальчик дула, когда вы укалывались?
Матрена Васильевна расхохоталась:
— Нет, Мотрюшка, матушка у меня была строгая. А уж ежели злилась… Ох, тогда ведь дом ходуном ходил. Я всегда была виновата, что бы ни происходило.
— Отчего же, матушка учительница?
— Оттого, что я, против всякой воли своей, ее любимого-то украла…
— Как же это?
— А вот так. Тогда исполнилось мне шестнадцать. И на день ангела приехал он, Иван, чтобы меня, крестницу свою, с днем рождения-то поздравить…
Матрена Васильевна взглянула вдаль. Девушки расселись вокруг, отложив рукоделие: наступил самый сладкий час урока — рассказы Матрены Васильевны. А нынче так и вообще самый, поди, лучший, ибо собиралась поведать их учительница настоящую сказку — сказку о прекрасной любви.
* * *
— Сказывали, что в те годы была я хороша собой. Похоже, не врали — маменька-то моя, Любовь Федоровна, полковничья дочь, в молодости была диво как хороша. А как исполнилось мне четырнадцать, так и стала я для нее самым первым врагом.
— Врагом?
— Конечно! Матушка-то сердца мужские разбивала играючи. А тут увидела, что соперницу вырастила. Как не враждовать-то с ней? Я диву давалась, куда любящая и нежная мамочка подевалась, пока братик мой старший, Василь, глаза мне не открыл. А уж когда на мое шестнадцатилетние гетман Мазепа пожаловал, поняла я, что врага более лютого, чем мать родная, не может быть в жизни человеческой… Ибо знает она о тебе все до самого первого дня. И не пожалеет сил, чтобы очернить тебя в глазах людских…
Матрена Васильевна усмехнулась. Глаза ее были сухи и светлы. Мотря поняла, что простила она уже давно и мать свою, и всех прочих родственников. Что теперь они для нее суть пустые имена, а душа-то по сю пору отдана другим… Или другому.
Меж тем на свет Божий появились те листки, которые видала уже Мотря утречком в келье у Матрены Васильны. Та, видать, намеренно взяла сегодня их с собой.
«И то — ежели там от любимого ее Ивана слова-то записаны, как их нынче-то не вспомнить?»
Не зря так любила матушка игуменья маленькую Мотрю — та как в воду глядела.
— Нынче, девочки, десять лет исполнилось, как умер мой любимый. Захотелось мне рассказать вам о нем, о нашем чувстве запретном. Да велеть вам, чтобы никогда не любили вы вполсилы, никогда не искали того, кто сделает хорошовам… Чтобы самой большой радостью для вас, детки мои, было то, каквыможете свою любовь-то показать…
— А мне сестра всегда говорила, что надо того искать, ктотебебольше даст…
— Сестра, Марусенька? Уж не та ли, что стала сестрой Глафирой?
— Она. — Маруся кивнула.
— Так ты словам-то ее не верь, деточка. Не зря она, поди, чернавкой-то стала, постриг приняла.
Девушка кивнула. Матрена Васильевна была права — Глафира, тогда Верой ее звали, согласилась пойти замуж за бунчукового атамана, все для себя доходов да выгод больших искала. За что и поплатилась — атаман-то оказался зверь лютый, любил, сказывали, но только ревновал бешено, по любому подозрению бил жену, да так, что шрамы до сих пор Глафирину спину покрывают. Не выдержала Марусина сестра, попыталась утопиться. Атаман ее нашел, из воды вытащил. Но сердце у него больное оказалось, вот и помер он через два дня после спасения жены… Наследство богатое Вера раздала, а сама в монастырь подалась — грех стяжательства замаливать.
— А что же за любовь-то ваша запретная? Кто и отчего вам ее запретил? — Мотре было все интереснее и интереснее.
— Любовь запретная, детка, оттого, что Ивану моему в ту пору уж за шестьдесят было. Гетман Иван Мазепа силищу-то имел, отца моего уважал, с царями знался. Пятьдесят лет разницы — вот что пугало моих родителей, вот почему меня они бесстыдницей назвали за одно лишь то, что в крестном своем батюшке мужчину настоящего увидала, единственную свою опору в грядущей жизни да счастье великое…
— А он, Иван? Любил столь же сильно?
— Ох, детка, любил… Вдовым был Иван, сердце свободное. А уж красивый какой… Высокий, широкоплечий, сильный… Глаза что два осколка неба, чуб черный, ни седого волоска. Он, как и папенька мой, силачом был… Всё они друг перед дружкой силушкой похвалялись. Матушка смеялась, а я всё за Ивана боялась, как бы не стало дурно ему… Всё ж не мальчик.
Воспоминания согрели душу Матрены Васильевны, наполнили теплым светом глаза. И показалось Мотре, что сидит перед ней не взрослая женщина, печальная и одинокая, а старшая сестра. И рассказывает о своем большом чувстве так, будто было все это вчера, а не десяток лет назад.
— Как только я поняла, что мила Ивану, так и решила сбежать к нему. Письмо написала, дескать, жди меня в дубовой аллее, что к Диканьке ведет… Но даже отправить не успела — в тот же день приехал мой Иван с отцу и маме, приехал вместе со сватами. Как же я счастлива была! И как злилась мама!..
Матрена Васильевна усмехнулась. Девушки, конечно, рукоделие давным-давно отложили. Картины далекого прошлого оживали сейчас перед их глазами, история огромной любви ворвалась в их души.
«Ох, детушки мои… Знали бы вы, какая это радость, когда приходит такое чувство! И какая боль, когда умирает твой единственный!.. О себе уж и забываешь, лишь памятью о нем живешь, встречи с ним в лучшем из миров ждешь, как не ждала встреч здесь, на грешной земле!»
— А дальше? Что дальше-то было?
— А было вот что. Отец аж позеленел: ну где это видано, чтобы женихаться стал шестидесятилетний старик. Подумал папенька да и нашел причину для отказа. Дескать, не принято у православных, чтобы крестный отец на крестнице женился. Аль чтобы крестная сестра и брат в брак вступали. «Противу Божьей воли, Иван, Степанов сын, идти хочешь… Не могу позволить сего, уж не взыщи…»
— Так и сказал? — Маруся всплеснула руками и снова чуть не укололась.
— Так и сказал, дитя. Иглу-то отложи. Пораниться в такой день… нехорошо будет.
— С тем и уехал суженый ваш, матушка учительница?
— Нет, детка, не таков был мой Иван… Да и я… Не голубиной кротости дитя была, что верно, то верно. Матушка все стервою да строптивицею называла.
— Добрая она была, сердечная… Как змея подколодная…
— Не след животную бесхитростную сравнивать с человеком. Зверь, он всегда Божий… А человек — временами дьяволово творенье, не божеское. Да уж господь с ней, матушкой-то моей. Она и так наказана сверх меры была. Как узнал отец, что некогда была она полюбовницей Ивана моего… Ух…
Матрена Васильевна покачала головой. Да, такого скандала она и припомнить не могла — ни до того, ни после.
— Родители так были заняты своими дрязгами, что я смогла не убежать, спокойно уйти…Потому что жизни без Ивана своего не могла представить.
— Так и жили с ним невенчанными?
— Так и жили, Маруся… — кивнула Матрена Васильевна. — Почти год Господь Бог подарил нам вместе. Иногда гетман мой уезжал куда-то, но возвращался быстро — ему без меня было не лучше, чем мне без него.
Девушки слушали, раскрыв рты. Нечасто вот такими признаниями их баловали. Да и разговорами о чувствах тоже. Кочубеевна надеялась, что, быть может, ее рассказ западет им в душу, что самоуважение и уважение к своему возлюбленному все-таки они научатся ставить выше глупых, а иногда и просто смешных сословных предрассудков.
— А потом что было?
— А потом Карл Двенадцатый, король, позвал моего Ивана на службу. Сладких слов наговорил. Только Ванечка не очень ему поверил. Хотя и отказываться не стал. Он призвал троих друзей и в их присутствии встал на колени передо мной.
— Замуж позвал? — надежда, что все закончится, как в сказке, все-таки живет и в старых, и в малых.
— Нет, чадушко, просил в отцовский дом вернуться. И там его дожидаться. А чтобы не скучала я, письма обещал писать. Так часто, как сможет.
— Писал? Часто?
— Когда по два письма в день, когда всего несколько словечек… Однако не бывало, чтобы я тревожилась за него — каждый день то весточку пришлет, то безделицу в подарок. А то жемчугами-лалами засыплет. Он обо мне помнил, детки, он ждал встречи со мной. И это было самое главное…
— Каждый-каждый день?
— Почти. Нет у меня сил, детки, чтобы вам эти письма целиком читать. Да и не предназначены они для чужих глаз. Но все-таки, думаю, вы поймете, каким был мой Иван и что мы чувствовали друг к другу… Поймете по нескольким словам.
Матрена Васильевна развернула верхний из пожелтевших от времени листок, прокашлялась и начала читать. Маленькой Мотре показалось, что стены комнаты куда-то исчезли, потянуло мокрым после дождя жасмином, сырой листвой, началом лета.
— «Мое сердечко, мой розовый цветочек[1]! Сердце оттого болит, что… от меня уезжаешь, а я не смогу глаз твоих и личика беленького видеть. Через это письмецо кланяюсь и всю тебя целую любезно…»
Матрена Васильевна сложила один бумажный квадратик, развернула другой. Скользнула по строкам глазами и сложила снова.
— Нет, детки, этого вам знать не след…
Отложила непрочитанное письмо, развернула следующее.
— «Мое сердечко! Расстроился я, услышав от девки, что Ваша Милость на меня сердится за то, что я Вашу Милость при себе не задержал, но отослал домой. Подумай сама, что бы с этого вышло. Во-первых: твои родичи по всему свету объявили, что я силой ночью взял у них дочку и держу у себя вместо наложницы. Вторая причина, что, держа Вашу Милость у себя, я бы не мог никоим образом выдержать, да и Ваша Милость тоже: стали бы вместе жить так, как супружество велит, а потом пришло бы неблагословение от Церкви и приказ, чтобы нам вместе не жить. Что бы я в этом случае делал? И потому я Вашу Милость жалел, чтобы потом из-за меня не плакала…»
— Отослал? А как же год вместе?
Матрена Васильевна весело улыбнулась:
— А это, детушки, о моих родственниках лучше говорит, чем о Ванечке моем. Пока служил он царю Петру, пока Малороссией командовал, все молчали, ни слухов не было, ни вздорных вымыслов. А стоило Ванечке заметить, как царь Петр с окраинами империи распоряжается, что он с властью, дарованной гетману, делает, стоило на службу врагу Петра перейти, как сразу стал он первейший враг и лютый демон. Стал и насильником, и похитителем девок, и чуть ли ни чертом с рогами…
— Сказывали, что изменщик он оказался, враг всей Руси великой…
— Ты, девка, глупостей не повторяй за попугаями, прости господи, всякими. Не от хорошей жизни Иван к Карлу-то подался. Гетман мой вот что мне об сем писал:«Каждый день князь Александр Данилович со мной видится, каждый час со мной совещается и, не сказав мне ни единого слова, без моего ведома и согласия посылает приказы людям моего регимента! И кто же выдаст Танскому без моего указа месячные деньги и провиант и как он может без воли моей идти куда-нибудь с полком своим, которому я плачу? А если б пошел, то я б его велел, как пса, расстрелять. Боже мой, ты видишь мою обиду и уничижение!»
Девушки примолкли. История любви из сказочной превращалась в самую что ни на есть настоящую — с предательствами, доносами, клятвами в вечной преданности. Маленькая Мотря, для которой события десятилетней давности были сродни событиями столетним, слушала Кочубеевну так, как слушают сказки. В глубине души она была рада, что ее тоже зовут Мотрей, Матреной. Быть может, и ей предстоит вознестись на самый верх, с гетманами-царями-генералами, как с простым людом, знаться? Ежели сие так, то у мудрой и красивой Матрены Васильны след учиться всему-всему. И даже тому, о чем сейчас и не догадываешься.
— А откуда же вы узнали о том, какой поклеп родственники ваши на гетмана возвели?
— Ох, детка, мамушка моя, Любовь Федоровна, силу душевную имела огромную, а вот разумом господь ее обидел. Сама мне рассказывала, как на приеме в Батурине обвинила Мазепу в том, что дочь их похитил да в каземате держит, а ее с мужем обвиняет в переписке с исконными врагами — Крымом османским…
— Матушка Матрена Васильевна, не рвите себе душу, не надо! Рассказывайте лучше о том, каким был ваш Иван.
Мотря решилась перебить рассказчицу только потому, что увидела слезы у нее в глазах. Матрена Васильевна погладила девочку по голове:
— Я не рву душу, дитя мое. Я просто рассказываю об Иване и своих родителях. Гетман-то мой был, быть может, и не чист душой, аки младенец, но уж точно не следует числить его подлецом аль предателем. Душа у него за край наш вся изболелась, мздоимство и казнокрадство его истерзали. А подлые доносы, моим отцом писанные, так и вовсе едва жизни не лишили.
— Доносы? — Матрена Васильевна не разобрала, чей это голос.
— Доносы, дитя мое, доносы. Пришлось тогда Ивану написать донос на отца, вернее, писать царю-батюшке письмо покаянное, отцовы козни объясняющее. Я тогда была на Ивана очень сердита, вот он и вызвал меня записочкой ко все тому же дубу. «Моя искренняя любовь! Прошу, и очень прошу, сумей со мной увидеться для устного разговора. Если меня любишь, не забывай же! Вспомни свои слова, что любить обещала, на что мне и рученьку беленькую дала… И снова и стократно прошу: назначь хоть на одну минутку, когда мы можем увидеться для нашего общего добра, на которое сама ж прежде согласна была…»
— И вы пошли?
— Пошла, конечно. Я ж любила его, знала, что не солжет он мне ни в какой малости, а вот родителей своих после всего, что сотворили они, увидела словно в новом свете…
— И что вам гетман рассказал? Как оправдался.
— Да ему и оправдываться-то нужды никакой не было. Он просто отдал мне черновик письма, которое царю-батюшке отослал. Велел прочесть до последнего словечка. Дескать, сия бумажка лучше всякого оправдания будет. Так оно и оказалось. Глаза мои на отцовы-то дела ясно-преясно открылись, дала я зарок при первой же возможности из отчего дома уйти. А вот сюда аль к Ивану, еще не думала. Немилы мне стали родные стены, ежели мать с отцом на такие гадости были готовы. Вот, детки, слушайте: «Извещаю вашей светлости для информации, что Кочубей исконный мой есть враг, который от начала моего хлопотливого гетманства всегда был мне противный и разные подо мною рвы копал, советуясь непрестанно с враждебниками моими, которые иные уже давно, а иные в недавнем времени поумирали и исчезли. Писал он на меня пасквильные подметные письма, а будучи писарем генеральным, имеючи у себя печать войсковую и подписываясь за меня часто, так как я из-за болезни не всегда могу подписывать письма и универсалы, издал ложные некоторые, именем моим рукой его подписанные и под печатью войсковою. За такое преступление велел я его за крепкий караул взять. Потом и во второй раз он же, Кочубей, по приказу моему взят же был за караул в тот самый час, когда близкий его родственник, проклятый Петрик, передался до орды Крымской и великий мятеж в народе малороссийском учинил… От казни и наказания я освободил Кочубея… по многому и неотступному прошению многих духовных и мирских особ, наипаче же на моление слезное отца пастыря и благодетеля моего великого, блаженной памяти митрополита Киевского Варлаама и покойной матушки моей, так же милосердствуя к женам и детям, плачущим и рыдающим…»
* * *
В комнате повисла тишина. Девушки не знали, чему верить — россказням или сухим словам письма, отосланного гетманом царю.
Сгущались сумерки. Мартена Васильевна легко встала, зажгла от одной свечи все, расставленные вокруг работы, и вновь опустилась на свое место.
— Никогда не верьте слухам, девоньки. Чуткое сердце — вот что позволит вам отличить правду от вымысла. Истина всегда пробьет себе дорогу, а любовь удержит вас подле родного вам человека куда надежнее, чем стальные цепи. Разве может лжец написать влюбленной в него девушке такие слова: «Мое сердечко! Ты меня уже иссушила своим прекрасным личиком и своими обещаниями. Посылаю теперь к Вашей Милости Мелашку, чтобы все обсудила с Вашей Милостью. Не опасайся ее ни в чем, так как она верна Вашей Милости и мне. Прошу и очень прошу, за ножки Вашу Милость, мое сердечко, обняв, не нарушай своего обещания!»
Матрена Васильевна увидела расплывшееся пятнышко. Когда-то сюда попала слезинка, которую пролила она, увидев перепуганную Мелашку. Та готова была бежать обратно со всех ног, но вняла уговорам и осталась. Осталась подругой, собеседницей и почти правой рукой ее, Матрены, еще не долгих шесть лет.
— Дни следовали за днями, но письма Ивановы не становились менее ласковыми. Что бы ни происходило, о чем бы ни писал мой гетман, всегда получалось, что пишет он о любви ко мне. О том, как тоскует, как считает одинокие дни, как надеется, что вскоре мы свидимся…
Слезы и сейчас застлали Матрене Васильевне глаза. Она передала очередной развернутый листок Марусе и показала, откуда читать.
— «Мое сердечко любимое! Сама знаешь, как я сердечно, страстно люблю Вашу Милость… Еще никого на свете я не любил так. Я был бы счастлив и рад, если бы ты ехала да жила у меня; только я говорил, какой конец с этого может быть, а особенно при такой злости и упрямстве твоих родичей. Прошу, моя любимая, не изменяйся ни в чем, как уже неоднократно слово свое и рученьку давала, а я взаимно, пока жив буду, тебя не забуду…»
Голос девушки растворился в воздухе. Иван, ее Иван вновь говорил с ней, вновь был рядом, вновь умолял ее подождать недолго, чтобы потом не разлучаться уже никогда.
— «Мое родное сердечко! Не имею известия об обращении с Вашей Милостью, перестали ли Вашу Милость мучить и третировать, теперь уезжая на неделю в некоторые места, посылаю Вашей Милости подарок по случаю отъезда через Карла, который прошу благодарно принять, а меня в неотменной любви своей держать!»
— Мучить, Матрена Васильевна? Кто ж посмел мучить-то вас?
— Матушка, добрая душа… — усмехнулась сквозь слезы Кочубеевна. — Ох, нет бóльших мучителей, чем самые близкие люди. Уж какие она истерики закатывала, как кричала, что спрыгнет с обрыва в высокие волны, не в силах позора снести. Обрыв-то был с меня ростом, а волн на нашей речушке и вовсе не видывали.
Девушки хихикнули. Маруся, кивнув, проговорила:
— Матушки, они такие… Ума иногда так мало, что этого и не спрятать за криками…
— Ты права, деточка. Счастье, что у Мелашки да у меня хитрости хватало, чтобы переписку нашу с Иваном прятать. Иначе не выдержало бы матушкино сердце, лопнуло бы от зависти.
— «Мое сердечко! Тяжко болею оттого, что сам не могу с Вашей Милостью подробно поговорить, что лучше для Вашей Милости в теперешнем положении сделать. Что Ваша Милость от меня требуешь, скажи все сей девке. В конце концов, если они, проклятые твои, тебя чураются, иди в монастырь, а я буду знать, что в этом случае с Вашей Милостью делать. И снова пишу: что требуется, уведоми меня, Ваша Милость!»
— Это слова настоящего мужчины, — прошептала Маруся. — Плохо ли ему, хорошо ли, а любимую от всего защитить надо в первую очередь…
— Ты права, девочка, права. Не было у меня сил, чтобы от Ивана боль свою скрывать. Хотя хватало ума, чтобы не рассказывать ему всего. А еще стала я его в письмах подготавливать к тому, что уйду в монастырь, коли не повезет мне стать его венчанной женой. Осерчал тогда мой гетман на меня, ох и осерчал. Однако же в чувствах не переменился — моя боль была его болью… Вот отсюда прочти, Маруся…
— «Моя сердечно любимая! Тяжко загоревал я, услышав, что эта мучительница не перестает Вашу Милость мучить, как и вчера это делала. Я сам не знаю, что с ней, гадиною, делать. То моя беда, что не имею нужного времени с Вашей Милостью обо всем переговорить. Больше от горя не могу писать, только то, что, что бы ни случилось, я, пока жив буду, тебя сердечно любить и желать всякого добра не перестану, и снова пишу, что не перестану, назло моим и твоим врагам…» Матушка учительница, каким же хорошим был Иван ваш…
— Хорошим, дитя. Человек, полюбив, не токмо лицом, душой перерождается. Не зря же говорят: «Чем больше отдадите вы, тем больше обретете…» А что может быть больше любви, которую ты даришь своему единственному вместе со своею душою? Читай дальше, дитя… Я словно Ивана слышу, словно вновь с ним говорю…
Маруся прочистила горло. Что-то в лице Матрены Васильны напугало ее. Девушке показалось, что какая-то пелена опустилась на глаза, будто здесь и не здесь была Кочубеевна, будто стала готовиться она в путь без возврата. Однако учительница велела читать, и Маруся опустила глаза к строкам.
— «Моя сердечно любимая! Вижу, что Ваша Милость во всем отменилась в своей прежней любови ко мне. Как знаешь, воля твоя, делай, что хочешь! Будешь потом жалеть. Вспомни только слова свои, под клятвою мне данные, когда выходила от меня из покоя каменного, когда я дал тебе перстень брильянтовый, лучше и дороже которого у меня нет, что «что хоть так, хоть этак будет, но любовь наша не изменится». Пусть того Бог с душою разлучит, кто нас разлучает! Знал бы я, как врагам отомстить, только ты мне руки связала. С великой сердечной тоской жду я от Вашей Милости известия, а в каком деле, сама хорошо знаешь; очень прошу, дай мне скорый ответ на это мое письмо, мое сердечко!»
— Вот так и подошла к концу наша любовь, детки… Письма потихоньку стали приходить все реже. Поняла я, что дела государственные забирают всю душу моего гетмана. А старые раны обессиливают его вконец. Что на службе у Карла не стал Иван ни счастливее, ни сильнее. Точно также обманул его свейский король, как и царь Петр. Поняла и почувствовала, что наша сказка закончилась. Должно быть, мое письмо его изрядно опечалило. У меня же не было больше сил надеяться. Я получила его ответ и поняла, что и гетман мой уж никогда не станет мне супругом, хотя, должно быть, останется навсегда моим сердечным другом… Вот слушайте же…
Матрена Васильевна взяла из рук Маруси последний листок, сама его развернула и, скользнув глазами, стала читать.
— «Моя сердечно любимая, наимилейшая, наилюбезнейшая Мотроненько! Я скорее смерти своей ждал, чем такой в сердце вашем перемены. Вспомни только свои слова, вспомни свою присягу, вспомни свои рученьки, которые мне неоднократно давала, что меня, хоть будешь за мной, хоть не будешь, до смерти любить обещала. Вспомни наконец любезную нашу беседу, когда бывала у меня в покое: «Пусть Бог неправдивого карает, а я, хоть любишь, хоть не любишь меня, до смерти тебя, согласно слову своему, любить и сердечно лелеять не перестану, назло моим врагам». Прошу, очень прошу, мое сердечко, как-нибудь повидайся со мной, поведай, что мне с Вашей Милостью дальше делать; так как уж больше не буду терпеть от своих врагов, точно отмщу, а как, сама увидишь. Намного счастливее мои письма, которые в рученьках твоих бывают, нежели мои бедные очи, которые тебя не видят…»
— Выходит, он ничего не понял, матушка учительница? — Давно Маруся не чувствовала себя такой разочарованной.
— Да, дитя мое, Иван был великим человеком. Мудрым, красивым. Его стойкости и силе мог бы позавидовать любой. Но… он оказался обычным человеком там, где требовалось поистине сказочное мужество. Где надо было приложить силы, чтобы удержать подле себя свою последнюю, быть может, самую сильную любовь. А двум богам служить нельзя. Иван предпочел оставаться гетманом и воином — и потерял навсегда меня и мою душу…
Мотря вытерла глаза кулачком. Теперь и она ощутила ту боль, что столько лет терзала душу Матрены Васильны. «Бедная она, бедная… И вовсе нестарая. Просто предательство и горе никого не красят…»
— Ну вот, дети мои, рассказала я вам свою историю о гетмане Иване Мазепе. О том гетмане, которого знала только я. Рассказала и словно повстречалась с ним. А теперь вернемся к нашему уроку…
«Добрая Матрена Васильевна, — подумала Маруся, послушно взяв в руки иглу с золотой нитью, — ты только что преподала нам урок куда более драгоценный, чем вышивка золотом. Какое же счастье, что мы можем у тебя учиться… Учиться такой любви и такой верности…»
Елизавета. Повелитель мира Фридрих Второй
Им было позволено встретиться всего дважды[2]. Провидение решило не давать им третьего шанса, который, быть может, изменил бы многое не только в их судьбах, но и в судьбах мира.
И если о первой встрече до нас дошли хоть какие-то крохи воспоминаний, вернее, полунамеки, которые можно случайно встретить в разных хрониках, дневниковых записях и в церковных книгах, то вторая встреча больше похожа на историческую загадку. Однако сами герои нашего повествования куда откровеннее — и их поведение приоткрывает завесу тайны много честнее, чем сотня язвительных летописцев.
Двое его старших братьев умерли, не дожив до года. Только поэтому он, третий сын, и стал не просто принцем, но наследником престола. Престола Пруссии, будущей грозы всей Европы.
Ее история в чем-то похожа — при жизни родителей ей, младшей и любимой дочери, была уготована дивная судьба. Она была призвана соединить долгосрочным мирным союзом Россию с одной из держав Европы.
В его жизни смерть с первых дней сыграла свою роль, и ее будущее смерть перелицевала до неузнаваемости. Быть может, сложись все иначе, их чувства друг к другу можно было бы не скрывать. Более того, эти чувства послужили бы фундаментом самого прочного и милосердного для Европы союза. Увы… встреч было всего две. И воспоминания о них они оба хранили в самой глубине сердца — там, где хранятся лишь заповедные сердечные тайны.
Если твой отец — король, тебе многое может сойти с рук. Но если твой отец — король Пруссии с негласной, но честной кличкой Король-солдат, тебе предстоят не годы спокойной роскоши, а годы муштры, лишений и страха. Таким и было его детство — детство принца Фридриха, третьего сына и наследника престола Пруссии.
Отец видел вокруг одних лишь солдат, в той или иной мере усердных в несении службы. И потому для сына он не считал нужным делать хоть какие-нибудь поблажки. Зачислив пятилетнего мальчика в полк, он следил за его рвением по службе, не обходя чинами, но и не балуя оными. Поэтому в четырнадцать мундир офицера был не карнавальным костюмом, а заработанной годами муштры и вполне заслуженной наградой.
Фридрих иногда чувствовал себя оловянным солдатиком из сказки, а иногда — двуликим Янусом, вынужденным смотреть в обе стороны и угождать двум, совершенно непохожим друг на друга, людям. Иногда его это удручало, но чаще радовало — ведь вторым человеком была терпеливая матушка, обожающая музыку и литературу, матушка, с удовольствием слушающая его игру на флейте, матушка, готовая если не защитить его, то хотя бы понять и утешить. А что для любого из нас ценнее, чем понимание и сочувствие?
Должно быть, из-за того что Фридрих рос не принцем, а первым из солдат армии отца, был он не по возрасту крепким и не то чтобы высоким, но определенно выше своих сверстников. Парадный мундир, сшитый накануне того самого памятного путешествия, сидел на нем как влитой. Матушка, увидев сына, даже прослезилась:
— Мальчик мой, ты совсем взрослый…
Фридрих кивнул — он был взрослым лет с семи. Тогда, не выдержав придирок отца и его гнева (королю пришло в голову сжечь в камине спальни сына его же французские книги и заставить мальчика о колено сломать любимую флейту), шестилетний Фриц сбежал из дома. Сбежал вместе с другом — таким же шестилетним бунтарем, состоявшим у принца ординарцем. Поймали их только на границе и препроводили на гауптвахту. Судил их король лично и приговорил обоих к смертной казни. Камера юного Фридриха выходила на плац, где уже на следующий день друг Фрица был казнен. Мальчик, не отрываясь, следил за страшным действом. А за ним, в свою очередь, через глазок в двери следил король Фридрих-Вильгельм. Довольная улыбка играла на его губах.
И только когда мальчик без чувств упал на каменный пол, король позволил лекарям войти в каземат. Горячка принца длилась две недели. Придя в себя, он узнал, что помилован, но лишен звания наследника престола. Лишь по истечении трех мучительных лет, пройдя через все круги ада солдатской службы, вернув себе офицерское звание, Фридрих вновь стал наследным принцем.
— Что поделать, сынок. — Матушка говорила едва слышно, так, чтобы слуги-соглядатаи не могли донести королю, что она вообще побывала в комнатах принца. — Отец суров со всеми. Ты это видишь сам. Однако для тебя он желает лишь одного — прекрасного будущего. Тебя он видит своим преемником и потому готов на все, чтобы ты вступил на престол самым сильным, мудрым и решительным из всех принцев, которые когда-либо становились королями Пруссии.
— Самым сильным, матушка? — также вполголоса спросил Фриц. — Самым сильным из выживших…
Королева только качнула головой — ее сердце порой просто разрывалось. Она сочувствовала сыну, но сделать ничего не могла.
— Потерпи, Фриц. Король готовит тебя к великой миссии. Потерпи…
Слова о великой миссии показались Фридриху смешными, но спорить с матушкой он не стал. Да и зачем? Ведь отец ни от одного из своих решений никогда не отказывался. Так отчего же надеяться, что откажется сейчас?
Поэтому Фридрих покорно выслушал приказ отца и стал готовиться к путешествию в совсем близкий Дрезден, к дядюшке Августу Сильному, курфюрсту Саксонии. Вместе с ним, Фрицем, отец скомандовал готовиться и двоим племянникам.
— Фриц, зачем мы едем?
— Король не сказал.
— Но ты же знаешь?
— Догадываюсь. Мы едем на смотрины.
* * *
Карета покинула весеннюю столицу и устремилась на запад, в неведомые новые страны… Именно так: в этих словах нет ни грана преувеличения — она, Елизавета, впервые за всю свою жизнь покинула пределы империи и устремилась в Европу. Ту прекрасную и мудрую Европу, куда папенька старательно рубил окно, а потом не менее усердно мостил дороги дружбы.
Матушке нездоровилось, но откладывать поездку она решительно отказалась. Нынче же, сидя рядом с младшей дочерью, глядя в окно, она раз за разом повторяла:
— Все хорошо, милая… Я просто волнуюсь. В первый раз мне повезло вывозить дочь в свет, представлять королевским домам… Я просто немного волнуюсь…
За стенками кареты цвел май. Ухоженные поля сменялись садами. Окованные колеса то стучали по мостовым городков, то отмеряли дороги, укрытые лишь слоем пыли. Пейзажи — бесконечно успокаивающие и удивительно непривычные — радовали глаз и успокаивали душу. Отчего же непривычные, спросите вы. Оттого, что дороги бескрайней России и в июльскую жару могли порадовать огромной лужей, сходной с озерцом и верстами непролазной грязи, особенно если июнь был дождливым. А здесь… Нет ничего удивительного поэтому, что карета летела, как на крыльях. Елизавета ничуть не удивилась, когда матушка указала ей на узкие каменные башни, вздымающиеся высоко в небо.
— Смотри, Лизанька… Вон там, видишь шпили? Это Дрезден.
— Дрезден, матушка? Так скоро?
— Да, дитя мое. Вскоре откроется и дворец курфюрста…
Голос матери удивил Елизавету — странная мягкость, даже мечтательность звучали в нем. Должно быть, здесь оставались жить самые нежные, приятные матушкины воспоминания. Может быть, то была встреча, изменившая ее судьбу, может быть, какая-то весть… А может быть, просто воспоминания о милом друге…
Однако Елизавета не решилась задать вопрос. Она вновь повернулась к окну, попыталась всмотреться вдаль, но в утреннем мареве контуры зданий колыхались, а подробности скрывала дымка. На плечо принцессы легла теплая матушкина рука, поиграла локонами дочери, выбившимися из-под шляпы, поправила особо непослушную прядь. Елизавета с улыбкой обернулась, царица ответила ей мягкой полуулыбкой. Девушка подумала, что давно не видела такого чудного света в матушкиных глазах…
За окном промелькнула городская застава. Теперь улицы стали торопливо сменять друг друга. Принцесса любовалась тем, как повороты плавно перетекают в площади, чтобы потом вновь стать поворотом, переулком или узким проездом, зажатым с обеих сторон глухими стенами домов.
— Сейчас, милая… Вон там, слева, — матушкина рука дрожала, — нам откроется дворец…
Да, сомнений не оставалось: этот город оставил в матушкином сердце глубокий след. Чем-то необыкновенным он ей памятен … Иначе отчего бы так бурно вздымалась ее грудь, так часто билось сердце, столь заметно дрожали пальцы?
За поворотом, Елизавета уж и со счета сбилась которым, и впрямь раскрыла объятия дворцовая площадь. Удивительно светлая, хоть и закованная в камень, она выводила ко дворцу, словно взлетающему ввысь. Башенки и балкончики, шпили и колоннады… Серый камень словно светился, с удовольствием подставляясь утреннему солнцу. Струи фонтанов рассыпались в прозрачном воздухе всеми цветами радуги, а широкая спокойная река, что была видна чуть в стороне, во всем великолепии отражала просыпающийся город.
— Ох, какая красота! — принцесса не удержалась от возгласа.
— Да, душа моя, город прекрасен. Не менее прекрасен и его властитель, курфюрст Август Сильный.
— Прекрасен? Матушка, от тебя ли я слышу эти слова? Ты хвалишь иноземца? Чем же так хорош повелитель сего города?
— Детка, ты увидишь все сама. Могу спорить, что ты влюбишься и в этот город, и в этот дворец, и в курфюрста. Августа не любить невозможно, поверь мне.
Царица Екатерина оказалась права: у прекрасного города оказалась живая душа — его курфюрст, Август Второй. Он оказался и в самом деле человеком необыкновенным. К счастью, не только своим правителем был прекрасен Дрезден, не только фонтанами и улочками, садами, тонущими в цвету, и медлительной Эльбой. Елизавета влюбилась в роскошь придворных праздников — немыслимой красоты и уюта дворец, казалось, был открыт любому, кто пожелал бы в него войти.
К удивлению Елизаветы, она почти мгновенно подружилась с детьми курфюрста. Они были такими же удивительными, как и их батюшка. «Ох… Если бы мы жили здесь, в Саксонии, нам бы с Анной никто не цедил вслед презрительное «бастарды»…» — эта мысль посещала Елизавету тем чаще, чем более она общалась с Анной, дочерью курфюрста, и ее матушкой, невыразимо прекрасной графиней Анной Козель. Графиня была возлюбленной курфюрста, не его женой. Однако с ней обращались именно как с женой Августа, ведь он сам вел себя подобным образом и сумел приструнить не только ретивых ревнителей нравственности, но и церковников.
«Если бы батюшка был жив… Быть может, и он бы смог поменять отношение мира к нам… Или мир бы к нам переменился из боязни, что отец наш прогневается… Хотя что толку нынче об этом думать?»
Но вернемся в Дрезден. Старший сын графини, Мориц Саксонский, весьма серьезный юноша, более, чем к иному, склонный к военному делу, был признан Августом как его наследник. Средняя дочь, Анна, всего двумя годами старше Елизаветы, мгновенно стала ее лучшей подругой.
«Ах, как она не похожа на мою сестрицу, как мила, оживленна, свободна… Сколь легко смотрит в грядущее…» — Елизавета любовалась новой приятельницей.
Девушки шушукались, гуляя в саду, придумывали беззлобные розыгрыши. К примеру, они по сто раз на дню менялись платьями, заставляя матушек хвататься за сердце и мороча прислугу. Сам же курфюрст пал жертвой розыгрыша всего раз: девушки попытались его разыграть, но он лишь нежно улыбнулся дочери, поцеловал руку Елизавете и сказал:
— Ах, мои прекрасные… Только слепцы могут вас перепутать. Мое же сердце радуется каждой вашей затее…
Анна скорчила гримаску:
— Отец мой, ну как можно быть таким мудрым?.. Отчего вы не спутали нас друг с дружкой? Отчего не приказали слугам сей же час навести порядок во дворце?
— Доченька, да разве любящее сердце не разглядит мгновенно любимое дитя, разве спутает его с точно таким же шаловливым бесенком, но выросшим не у него на глазах? Полагаю, твоя матушка тоже прекрасно все видит. Она, умница, вам просто слегка подыгрывает…
Анна чуть не заплакала.
— Батюшка, вы испортили нам радость от игры… испортили навсегда!
— Не печалься, душа моя. — Курфюрст ласково улыбнулся дочери. — Впереди прекрасная возможность наверстать упущенное, наверстать с лихвой. К исходу третьего дня мы ожидаем в гости нашего венценосного брата, короля Пруссии Фридриха-Вильгельма. Вместе с ним должен прибыть к нашему двору и его сын, а также двое его племянников. Я полагаю, что юноши, воспитанные строгим королем в духе любви только к воинской науке, напрочь лишены чувства юмора. Вот с ними-то куда веселее будет шутить. Как и с твоим братом, милая моя дочь…
Анна ахнула:
— Третьего дня? И вы, коварный родитель, только сейчас сообщаете об этом?! Матушка, должно быть, просто обиделась бы… Мы же теперь ни нарядов новых сшить не успеем, ни куафера призвать, ни даже…
Тут Анна запнулась, не зная, какую бы еще «беду» припомнить. Елизавета пришла к ней на помощь:
— Ни даже каверзы для противных мальчишек придумать…
Август гулко расхохотался:
— Да-да, вот и думайте о каверзах, сударыни. А о нарядах пусть позаботятся ваши матушки, полагаю, они уже этим и заняты. Думаю, они уже беспокоятся обо всем, о чем может беспокоиться дама в ожидании гостей. Вам же остается самое трудное — придумать, что сделать, чтобы наши гости не заскучали. Так что отправляйтесь в сад и без славной задумки не возвращайтесь!
Девушки переглянулись. Анна как-то неуверенно кивнула Елизавете, при этом не сводя с отца вопрошающих глаз.
— Да-да, дитя мое, я даю свое дозволение, — почти серьезно ответил Август на безмолвный вопрос дочери. — Бегите уж, непоседы…
Девушки поспешили повиноваться. В саду суетились слуги, а вот в оранжерее было тихо — и можно было без помех посоветоваться.
— Аннушка, неужели ваш венценосный батюшка позволил нам?..
— Вы же сами слышали, милая!
Елизавета не просто была изумлена. Трудно сказать, что она почувствовала, едва Август закончил говорить. Чтобы властитель Саксонии, сколь бы гостеприимным хозяином он ни был, позволил учинять каверзы над ожидаемыми венценосными гостями? И не просто позволил, а позволил с видимым удовольствием! Нет, в это невозможно поверить. Однако слух вряд ли ее обманывал. Да и сама графиня Анна… Уж очень подозрительно блестели ее глаза — девушка явно что-то задумала.
— Давайте прогуляемся по саду, цесаревна.
— Давайте, душенька графиня.
— Полагаю, мы все придумки и каверзы оставим до прибытия наших гостей. Надо же посмотреть, кого нам судьба пришлет. Что, если это и впрямь маленькие зольдатики, ничего не смыслящие ни в балах, ни в шутках? Для таких каверзы устраивать просто глупо, да и радости никакой…
Елизавета кивнула. Она не была во всем согласна с графиней Анной, но разумное зерно в словах принцессы присутствовало. И в самом деле — сначала надо бы понять, что за люди эти прусские гости.
К счастью, три долгих дня ждать не пришлось — да они бы и не смогли. Целых три дня придумывать каверзы… Немыслимо! Уже на следующий день на закате королевский поезд втянулся в распахнутые полуденные ворота дворца. Едва карета остановилась, одетый в наглухо застегнутый мундир король Фридрих-Вильгельм, недовольно оглядевшись, поспешил в гостевые покои. Из второй кареты, повторяя его движения, на камни дворцовой площади шагнули двое юношей. Их мундиры тоже были наглухо застегнуты, но по движениям можно было догадаться, что им и светское платье отлично знакомо.
Из мансардного окна прямо над покоями графини Анны выглядывали две девичьи головки. Можно не сомневаться, что девушки с удовольствием выскочили бы на площадь, чтобы встретить пруссáков. Но, увы, это было невозможно! Такой поступок наверняка назвали бы совершеннейшим презрением к этикету и протоколу. Но как же поступить? Выход подсказала прекрасная матушка графини Анны. Вернее, не подсказала, а показала… две комнатки в мансарде, откуда открывался изумительный обзор дворцовой площади.
— Ма-а-атушка, какое чудо… Но откуда вам известно об этих комнатах?
— Много лет назад, дитя мое, именно отсюда я выглядывала, ожидая с охоты вашего отца… Вышивала и посматривала в окошко. Но иногда, напротив, не отрываясь, глядела вниз, с крайней неохотой возвращаясь к вышиванию…
Анна погладила мать по плечу. Цесаревна уже не раз замечала необыкновенное сходство между возлюбленной курфюрста и ее дочерью. Тем более вот так, стоя лицом к лицу и улыбаясь друг другу, они куда более походили на сестер, чем на мать и дитя. Графиня Анна-старшая, еще раз улыбнувшись, теперь уже обеим, покинула юных проказниц, и те, не медля ни минуты, заняли места на наблюдательном пункте.
— Но батюшка говорил о троих… — в голосе Анны звучало настоящее раздражение. — О сыне прусского короля и двоих его племянниках…
— Думаю, графиня, не следует торопиться с выводами, — ответила цесаревна. — Перед нами, могу спорить, рекомые племянники. А сын короля наверняка отсиживается в карете. Не дело ему, как простому ефрейтору, выскакивать на плац по первой команде.
Елизавета чрезвычайно удивилась тому, что оказалась права. Не прошло и нескольких минут, как из той же кареты выбрался третий юноша. Мундир расстегнут, шейный платок, который должен плотно обнимать шею, и вовсе болтается за спиной… Юноша сладко потянулся и хлопнул вытянувшихся по струнке кузенов по плечам. Что-то им сказал и вместе ними расхохотался.
— Вот он, наследник… — Анна потерла руки. — Наши гости прибыли.
— Полагаю, душенька, достойными розыгрышей окажутся только племянники короля. Уж они-то, как миленькие, будут пугаться наших преображений и доносить страже о том, что во дворце привидения.
— Да-а, — согласилась Анна. — Даже отсюда видно, что принц орешек потверже. Наверняка он и сам не прочь при случае поиздеваться над простаками… А уж над братьями, думаю, шутил всю дорогу.
Елизавета пожала плечами. Ей картина была не так ясна. Но даже двое глупеньких солдатиков, исправно пугающиеся призраков, все же куда лучше, чем матушки или слуги, которые к любым шуткам давно уже привыкли.
Девушки вошли в покои принцессы. Первой заговорила Анна:
— Интересно, зачем король взял с собой принца и племянников?..
Елизавета удивилась этому недоумению принцессы. Что же неестественного в визите одного монарха к другому? Тем более, в обществе собственного наследника? А племянники, можно не сомневаться, служат у него ординарцами или посыльными…
— Что вас удивляет, Анна?
— Лизанька, друг мой, я боюсь, что планы Фридриха-Вильгельма касаются нас с сестрой…
— Вы полагаете?..
— Я почти уверена, душенька. Подобный брак соединил бы Пруссию и Саксонию, сделав сильными обе страны. Об этом нам с графиней Эльзой учителя чуть ли не каждый день напоминают, особенно старается учитель истории. А мне так не хочется быть… шахматной фигурой в чьей-то высокой игре…
Елизавета пожала плечами. Она подумала, что уж ей-то подобное предложение польстило, ведь ее воспитывали именно как будущую невесту наследного принца, хотя пока неясно, какой именно страны… И ей это вовсе не претило.
Анна с досадой продолжила:
— Да, я понимаю, замуж по любви ни мне, ни сестре не выйти. Но столь… неприкрытые смотрины…
Принцесса скорчила досадливую гримаску.
— Что же вам так неприятно?
— Лизанька, друг мой, подумайте сами. Разве Пруссия, погрязшая в муштре, достойна прекрасной Саксонии? Вот если бы Франция…
«Да уж, графиня, у вас губа не дура! Но, быть может, к вам кардинал Флери будет милостивее, чем в свое время был ко мне…» Цесаревна молча улыбнулась.
Анна порывисто улыбнулась гостье:
— Друг мой, какое счатье! Только теперь я поняла, для чего судьба привела вас с сестрой и матушкой в прекрасный Дрезден именно сейчас!
Цесаревна подняла на графиню Анну недоуменные глаза. Лицо той светилось радостью открытия.
— …О, какое счастье! Я придумала, как мы сможем воспользоваться этой милостью госпожи Фортуны. Клянусь, вы посланы мне милосердным господом!
— Вставайте, милая Лиза, вставайте! — Принцесса вскочила и захлопала в ладоши. — Столько дел невпроворот, а временя-то потеряно!
— Анна, что вы задумали?
— Вставайте же! Мешкать некогда! — Графиня уже тянула Елизавету за рукав.
— Принцесса, объяснитесь! Иначе я не сдвинусь с места!
— Будь по-вашему! — Графиня опустилась на козетку. — Несколько минут и вправду ничего не изменят. Вот что я придумала… Мы с вами сверстницы, мы одного роста, даже голоса слегка похожи. Одним словом, Лизанька, вы станете мною, а я вами!
Цесаревна с трудом удержалась, чтобы не открыть от изумления рот. К счастью, привычка молча обдумывать странные слова и поступки перевесила все иные порывы.
«Забавно, но и в самом деле в этом нет ничего невозможного… Сие не противозаконно, не противу морали. Да и протокол молчит о том, что дозволено монаршим детям при встрече со сверстниками одного положения… Но Анне-то это зачем? Неужели для того, чтобы сорвать сватовство? Бедняжка, она еще не знает, что в делах матримониальных все решено заранее, и никакие каверзы этому воспрепятствовать не смогут… Брак состоится, даже если жених с невестой терпеть друг друга не могут. Живы-здоровы — и сего довольно…»
— Я знаю, — Анна досадливо поморщилась, поняв, о чем думает визави, — знаю, что решения королей неизменны. Тем более на прощание надо как следует пошалить!
«Ну если она сама понимает… Я не могу с ней спорить, не могу ей препятствовать — не по чину мне сие. Да и впрямь, отчего бы не пошалить, ежели сие никого не заденет?»
— Будь по-вашему, графиня.
— Душенька! — Анна вскочила. — Так поспешим же, нам столько всего нужно успеть!..
Елизавета недоумевала, чему так радуется принцесса.
Бал, как и следовало ожидать, начался на закате. О переговорах, даже если таковые и велись, девушкам ничего известно не было. Что вполне понятно: матушек они и не искали, занятые подготовкой к грядущему празднику и задуманным маскарадом. А более им никто ничего рассказывать бы не стал.
Елизавета и Анна терпеливо высидели застолье, стараясь одинаково и есть, и двигаться, и говорить, и даже молчать. Лиц они решили за вуалями не прятать, но воспользовались таким количеством сурьмы, пудры и мушек, что их проще было принять за оживших фарфоровых кукол.
Курфюрст, сие было понятно, что-то заподозрил, однако здравого смысла и чувства юмора ему хватило для того, чтобы терпеливо насладиться комедией до конца. Август склонился к царице Екатерине, сидевшей от него по правую руку, и что-то прошептал. Царица согласно кивнула, улыбнувшись кончиками губ.
— Графиня, мне думается, — Елизавета обернулась к Анне, — что ваш батюшка все понял.
Цесаревне на миг почувствовала дурноту — она словно с собственным отражением беседовала. И отражение сие, склонившись к ней навстречу, ее же голосом ответило:
— Я согласна с вами, душенька. Да и ваша маменька что-то заподозрила. Но догадливость наших родителей не помешает нам веселиться, верно?
Цесаревна в ответ лишь пожала плечами — особого веселья не наблюдалось. Хотя бал-то едва начался.
— Смотрите, милочка, как пристально смотрят господа пруссáки.
«Господа пруссáки», сиречь наследник престола Фридрих и оба его двоюродных брата, и в самом деле более чем пристально разглядывали девушек. Наверняка они пытались понять, к кому на смотрины их привез король Пруссии и кого прочит в жены наследнику. Сам Фридрих-Вильгельм сидел по левую руку Августа Второго, преизрядно раздосадованный таким нарушением протокола. По правую восседала царица Екатерина, и он счел это жестокой насмешкой на своим высоким положением. Однако сделать ничего не мог — он был гостем. Таким же, как эта выскочка «царица», которую короновал императрицей царь Петр Первый.
«Был бы он моим солдатом… Клянусь, на гауптвахте бы и сгнил!»
— Да и пусть смотрят. Они, поди, лучшего нашего ведают, зачем в Дрезден пожаловали.
Елизавета равнодушно пожала плечами:
— Дружочек мой, Лизанька, не след нам задумываться об этих скучных вещах! Политику оставим мужчинам — а мы лишь слабые дамы…
Цесаревна недоуменно взглянула на Анну. Политика недостаточно важная вещь? Из-за нее рушатся судьбы, проливается кровь, гибнут люди…
Впрочем, Елизавете хватило ума промолчать — она была всего лишь гостей, к тому же гостьей, принятой весьма радушно. В любой ситуации разумно оставлять свои мысли при себе. Она поправила бархотку, украшенную скромной жемчужной булавкой, неотличимую от той, что украшала шею графини. Гости же не просто не сводили взгляда с девушек — глаза молодого Фридриха горели. Племянники короля — это было очень заметно — чувствовали себя куда более скованными. Но тут в соседней зале зазвучали первые такты контраданса.
— Могу спорить, стоит нам подняться из-за стола, как молодой Фридрих бросится приглашать вас, милочка.
— И спорить нечего, бросится, — кивнула Елизавета. — Правда, мне думается, что его цель вы, милая графиня…
— Ужасно, если так. Но давайте же проверим!
Девушки грациозно встали и одновременно присели в реверансе. Курфюрст, усмехаясь, кивнул, позволяя им выйти из-за стола.
— Поспешим же, душенька, батюшка нас отпустил. Идемте!
Елизавета послушно поспешила следом за графиней. Перед девушками, словно по волшебству, распахнулись двери бального зала, оттуда хлынул настоящий водопад света. Вместе с ним на девушек обрушились бравурные звуки. Анна не отпускала руки цесаревны, тянула ее за собой и успокоилась лишь тогда, когда обе оказались в линии танцующих дам.
Нынче строгий и обязательный на любом балу, этот танец — простой и деревенский всего столетие назад, был дополнен самыми разными па. Линия дам напротив линии кавалеров, каждые четыре шага перед красавицей новый партнер… Четыре шага — еще один, потом четыре шага — и вновь смена партнера…
Елизавета с удовольствием отдалась танцу — здесь можно было сбросить любые маски и следовать течению музыки, забыть и о шалостях, и о политике, и даже о послушании. Глаза Анны тоже горели от удовольствия, а румянец смог пробиться и сквозь толстый слой пудры.
На четвертой перемене пары перед Елизаветой вырос Фридрих, наследник прусского престола. Молодой человек склонился чуть ниже, чем предписывали бальные требования, и задержал руку цесаревны почти на целый такт дольше. В этот момент четыре шага вместе завершились, должен был появиться новый кавалер… Но перед Елизаветой опять стоял Фридрих.
Принцесса отчетливо хихикнула. Она танцевала рядом, да и смех бальными правилами не запрещен… Пальцы Фридриха в тончайшей перчатке чуть сжали пальцы цесаревны. Два шага, поворот, два шага, книксен на прощание и…
И опять перед цесаревной был Фридрих. Теперь уже не оставалось никаких сомнений — наследник престола Пруссии не стал бы открыто выражать свой интерес просто так, для шутки. Два шага, поворот, еще два шага… Цесаревна и не пыталась более освободить руку из руки принца.
Не пыталась и не хотела, говоря по чести. Впервые она радовалась не просто танцу, но и партнеру. Радовалась тому, как легко и уверенно держит он ее руку, как ведет…
Цесаревна оглянулась на графиню Анну. Та, не таясь, следила за Елизаветой и наследником прусского престола. Следила с видимой радостью. Похоже, у дочери курфюрста были вполне определенные планы на будущее — и ни принц Фридрих, ни оба его двоюродных брата в этих планах не упоминались вовсе.
Елизавета же планов никаких не строила. И о большой любви тоже не мечтала, отлично понимая, что принцесса, тем более незаконнорожденная, никаких мечтаний себе позволить не может. Сейчас она просто позволила себе с удовольствием принимать поклонение принца Фридриха.
За контрадансом последовала кадриль, за ней мазурка, за ней аллеманда, за ней менуэт… Па каждого следующего танца позволяли партнеру все ближе подходить к своей даме. Дамы, то ли устав, то ли подчиняясь неписаным правилам игры, все свободнее вели себя с кавалерами, уже не кокетничая тайком, а флиртуя в открытую. Насколько это было вообще допустимо на балу.
Улыбки становились шире, объятия ближе, взгляды теплее. Из распахнутых в сад стеклянных дверей в зал вливался мягкий и сиреневый весенний вечер — упоительный и волнующий. В дыхании едва слышного ветерка огни свечей танцевали, повторяя движения пар.
Голова цесаревны кружилась. Ей сейчас было совершенно неважно, отчего это происходит. Виной ли тому духота в бальном зале или нежные объятия кавалера, непривычно теплый вечер или затянутое по последней моде платье… Она чувствовала себя настоящей принцессой из сказки, вернее, принцессой, вернувшейся в сказку. И рядом был самый настоящий прекрасный принц — чуткий и сильный.
Церемониймейстер гулко опустил посох в пол — первая половина бала истекла, танцующие приглашались к накрытым в саду столам освежиться напитками и мороженым.
Но Фридрих решительно потянул девушку в темноту дальней аллеи. Цесаревна, не оглянувшись на графиню, последовала за принцем. Сейчас она менее всего думала, кто рядом с ней — наследник прусского престола или сын крестьянина. Ей было хорошо, волшебно… Сердце стучало в груди, пальцы дрожали, щеки горели …
Принц уверенно вел девушку по зеленому лабиринту аллей. Наконец они были совсем одни. Окрыленный Фридрих стал необыкновенно, удивительно решительным.
О, первый поцелуй!!! Ему, нежному и робкому, опаляющему и возносящему к вершинам мечтаний, можно посвятить не один десяток романов. Когда-нибудь великая ода любви начнется именно с его истории. Но сейчас, в дальней аллее, произошло настоящее чудо: двое, казалось бы, навсегда разлученные расстояниями, временем рождения, традициями, прозой династических установлений, вдруг обрели друг друга…
Когда, каким образом попала в свою комнату, Елизавета не помнила. На губах жил вкус бесчисленных поцелуев Фридриха, за еще минуту в его объятиях она готова была отдать половину жизни, от одного воспоминания о его признаниях сладко замирало сердце.
Не успела цесаревна накинуть просторный шлафрок, как в дверях показалась принцесса Анна, тоже одетая по-домашнему.
— Как вам показался принц Фридрих? — спросила графиня, заранее зная ответ.
— Ах, душенька, он подлинное чудо. Сколь прекрасным был бы удел женщин, ежели б все мужчины были таковы!
— Душенька, да вы совершенно очарованы им! Влюбились, признайтесь?
— В него невозможно не влюбиться, графиня! Он столь умен, начитан, хорош и в танце, и в стихах…
— Крепки ли его объятия? Если ли в нем мужская сила? Довелось ли вам ее ощутить?
Елизавета покраснела. О да, она чувствовала его силу, чувствовала, какое желание сжигало его.
— Ду-ушенька, — с улыбкой и без зависти протянула Анна. — Да ведь вы в него влюбились, думаю с первого же взгляда! А он? Очарован вами?
— Ах, графиня. — Румянец на щеках Елизаветы стал гуще. — Если верить его словам, он просто голову потерял.
— Ну, такую голову и потерять не жалко… Однако я так рада за вас, цесаревна, так рада.
— Благодарю вас, милочка.
Девушки обнялись.
— Спите сладко, душенька. Вы и завтрашний день намерены подарить своему герою?
— Сомневаюсь… Не смею и подумать, что скажет матушка. Боюсь представить, каково будет мнение вашего батюшки о моем поведении.
— Нынче уже ни о чем не тревожьтесь! Утро вечера мудренее: мы найдем вполне разумное объяснение тому, что наследники разных стран не соблюдают протокол буквально. Ибо наследники молоды и не отягощены памятью о старых обидах, что камнем виснет на старшем поколении. Ложитесь, Елизавета. И пусть сон посетит ваш прекрасный принц!
За Анной закрылась дверь. Елизавета перекрестила девушку вслед:
— Добрых снов, милая графиня! Пусть злые мысли не найдут путь к вашей светлой душе.
* * *
Принцесса Анна оказалась права — ни курфюрст Сансонский, ни царица Екатерина не имели никаких возражений против встреч Фридриха и Елизаветы. Цесаревна была уверена, что милая хозяйка немало постаралась, чтобы объяснить столь вопиющее нарушение протокола.
Елизавета была на седьмом небе. Быть может, впервые в жизни никто не оценивал ее достоинства или поведение с точки зрения брака — ни пристойного морганатического, ни протокольного династического. За веселой семнадцатилетней девушкой красиво ухаживал юноша — по виду сверстник, хотя и двумя годами моложе. И никто не интересовался, принц это ухаживает за наследницей престола или некий прусский гость расточает знаки внимания юной саксонской красавице.
Цесаревна была увлечена обширными знаниями принца — не только в военном или фортификационном деле, но и в делах светских. Фридрих одинаково легко мог пуститься в размышления о различии в древнем и современном театре, о прогрессе в музыкальном искусстве и изготовлении инструментов … Хотя Елизавете были интересны рассуждения принца об армии и фортификационном деле — том самом, одно название которого так пугало милую Анну.
Как-то вечером та спросила цесаревну:
— Милочка, но отчего вас столь увлекают все эти непонятные предметы? Отчего вы не просите принца беседовать с вами о предметах более простых и для нас, девиц, более интересных?..
— Оттого, милая Аннушка, что мне интересны его рассказы! В них чувствуются и знания, и вдумчивые размышления. Принц, похоже, сам прошел все то, о чем рассказывает, прошел как обычный солдат, а не как балованный наследник престола. Его рассказы убеждают меня в том, что он способен защитить всех, кому повезет прожить жизнь с ним рядом.
Анна сморщила носик:
— Думаю, я бы уснула после первого же такого рассказа…
Елизавета погладила Анну по плечу:
— А если бы вам был интересен сам рассказчик?..
— Да, неведомо, как бы тогда я себя вела…. Выходит, вам интересен сей рассказчик?
Елизавета задумалась — не хотелось открывать душу. Но и лгать не хотелось тоже.
— Да, душенька, интересен. Рядом с ним жизнь для меня была бы прекрасной…
— Это же замечательно, милая Елизавета! Думаю, король не просто так не противится вашим встречам…
Что-то в голосе и в выражении глаз Анны насторожило Елизавету. Уж слишком она радовалась успеху гостьи, слишком интересовалась ее отношениями с юным Фридрихом. Видно было, что она готова спрашивать и о более интимных сторонах встреч. Хотя пока и сдерживается. Потому Елизавета и не торопилась раскрывать душу графине Анне.
Размышления Елизаветы были прерваны едва слышным стуком в дверь. Девушка подняла голову, но не успела сказать ни слова: узкая створка едва приоткрылась, и на пол упало письмо в конверте с вензелем курфюрста Августа.
— Что это? — пробормотала Елизавета.
Ответа не было, да и не могло быть. Девушка подошла к двери и взяла в руки сиреневый конверт. Она была почти уверена, что это не записочка от матушки и не письмо от Анны. Сердце Елизаветы предательски забилось.
— Это может быть только от него… — прошептала она и сломала печать.
«Душа моя, несравненная греза! Каждый день, проведенный с тобою рядом, смело могу я назвать праздником. Каждый же час, проведенный вдали от тебя, превращается в год невыносимых страданий. Стань же счастьем всей моей жизни, любимая! Согласись разделить каждый ее миг со мною — и ты никогда не пожалеешь о том мгновении, когда, собравшись с духом, решилась на сие изумительное деяние! Прошу тебя, молю — стань моею женою. К твоим ногам приношу я свое сердце, свою душу и все, чем владею! Прошу тебя, молю, скажи «да»!
Вижу слезы счастья на твоих глазах, единственная! Ежели сие не привиделось мне — буду ждать тебя в часовне Валентина Всемилостивого, покровителя всех влюбленных в десятый час пополудни. Ничего не бойся, ни в чем не сомневайся! И ты составишь счастье всей моей жизни!
Навеки твой принц Фридрих»[3].
Дрожь охватила Елизавету. О, она знала, что принц питает к ней самые пылкие чувства, но такого она и представить не могла. Чтобы наследник престола решился на подобное! Это будет даже не бунт, это будет скандал, который затронет половину царственных домов Европы!
— Господи, спаси и сохрани меня… Но что же делать? Согласиться? Отказать?
Ноги цесаревны подкосились, и она не столько села, сколько упала в кресло у окна. Всего миг назад она была простой мечтательницей… Всего миг… А теперь она желанная невеста. Единственная и любимая… Кто бы мог подумать, что сие вообще возможно?!
«Подумать… Подумать… Мне надо все хорошенько обдумать, взвесить… Я не могу вот так, без размышлений, как в омут, бежать в эту самую часовню, не могу назвать милого Фридриха своим единственным, не могу даже вслух такого произнести! И не могу ни с кем посоветоваться, вот что самое тяжкое!.. Что мне делать? Куда бежать? А если это просто розыгрыш?»
Часы на дворцовой башне пробили полдень. Солнце заглянуло в комнату цесаревны и заиграло в овальном зеркальце и милых хрустальных безделушках, расставленных на туалетном столике.
— Солнышко, ну хоть ты дай мне совет, прошу!..
Но солнце молчало, отказываясь давать советы в таком тонком и деликатном деле. Елизавет пыталась разобраться в своих чувствах, но никак не могла понять, чего же хочет, да и хочет ли чего-то вообще.
Отказать принцу — значит навлечь его гнев на всю страну — ведь Пруссия, пусть и состоит в родстве в домом Романовых, однако чаще выступает ее врагом. Согласиться стать женой принца и тайно обвенчаться? Ох… Пусть сейчас это кажется таким желанным и таким прекрасным … Но вот что будет, когда пройдут годы и острота чувств утихнет?
«Да и есть ли они те самые чувства, о которых я сейчас думаю? Или, быть может, это вообще чья-то злая шутка..»
Да, принц кажется по-настоящему влюбленным. Слова его пылки, руки горячи, объятия крепки. Но что, если это всего лишь умелое лицедейство? Что, если графиня Анна уговорила Фридриха изображать пылкую страсть?
Наконец колокола собора запели сложную вечернюю песню — этот бесконечный каторжно-тяжкий день подошел к концу.
— Ну что ж, — Елизавета встала, — не будем длить неприятное: что бы там ни было на самом деле, отсидеться не получится. Надо пойти и самой все увидеть, пусть даже готовится не свадьба, а фарс…
«Быть может, надеть свадебный туалет?» Девушка улыбнулась своим мыслям и взяла в руки шляпку — с широкими полями, отделанную черными страусовыми перьями и вышитую бисером.
— Пожалуй, со свадебным платьем подождем. Обычного голубого будет достаточно. Оно подходит по тону, не слишком яркое, однако вполне торжественное…
Цесаревна пыталась успокоиться, просто беседуя с зеркалом. Темно-сиреневая зеркальная гладь ее молчаливого собеседника была недвижима. Но вместо спокойствия Елизавета ощутила более чем сильный приступ волнения.
— Нет уж, матушка, так не годится! — одернула она себя. — Что ж это ты? Нешто и впрямь поверила в высокие чувства?
Цесаревна невидимкой выскользнула из калитки для челяди и затерялась в нарядной толпе на городской площади. Елизавета уже не раз удивлялась тому, что с приходом вечера горожане не прячутся по домам, за толстыми стенами и тяжелыми ставнями. На площади бродячие музыканты веселили гуляющих. Дамы смеялись, мужчины беседовали. У фонтана играли дети. Как любые дети любого времени и любой страны, они презирали окрики взрослых и считали себя умными, взрослыми и бесстрашными.
Эта картина, прекрасная в своей обыденности и непринужденности, лучше всяких слов успокоила Елизавету.
— Я должна появиться в этой часовне… — теперь голос цесаревны звучал куда увереннее, хотя бы для нее самой. — Должна, хотя бы для того, чтобы убедиться в искренности слов принца. Или убедиться в его двоедушии и коварстве!
Часовня Валентина располагалась совсем рядом с дворцом курфюрста, но все же не на главной улице. Высокие стрельчатый двери были распахнуты настежь, теплый свет заливал мостовую и крошечный садик у стен обители. Чуть слышно пел орган, напоминая о присутствии Всевышнего в каждом деянии, каждом мгновении и каждом сомнении.
Елизавета вошла в храм. Она убедила себя в том, что ничего хорошего здесь ее не ждет, и изумилась картине, что открылась ее взору. Сотни горящих свеч, цветы в вазах и на алтарном приделе, парадное облачение священника и… принц Фридрих, стоящий по правую руку от него.
«Неужели это не злой розыгрыш, отвратительная шутка или спесивая насмешка? Неужели сказка оказалась правдой? Неужели этот юноша и в самом деле ждет меня, в самом деле мечтает назвать своей женой перед богом и людьми, желает вместе дожить до того часа, пока смерть разлучит нас?»
Сердце Елизаветы стучало так громко, что она не слышала, как запел орган, призывая гостей ликовать при появлении новобрачной. Хотя гостей как раз и не было. Вот до алтаря остался десяток шагов, вот пять. Наконец цесаревна вложила замерзшие пальцы в теплую руку Фридриха.
— Я мечтал и не надеялся тебя здесь увидеть…
— Ты же сам позвал меня, мой принц. Как же я могла предать тебя, не ответить на твой призыв?
Священник откашлялся:
— Дети мои, вы ли припадаете к престолу творца нашего, дабы соединил он вас навеки, дав вам одну судьбу на двоих?
— Да, отец, — кивнул Фридрих. — Мы припадаем, мы ищем его совета и защиты.
Голос принца задрожал. Елизавета поразилась тому, каким глубоким и проникновенным он стал. Ее руке так было спокойно в руке Фридриха… «Неужели он и в самом деле готов назвать меня женой и спутницей своих дней? Неужели это правда?»
Священник поднял глаза на стоящих перед ним юношу и девушку, опустил глаза к раскрытой Библии. Он догадывался о том, что союз, который ему предстоит скрепить, — тайна от всего мира. Однако виду не подал — ибо за иным к нему и не обращались. Но это не имело никакого значения — эти двое припали к Господу, и он поддержал их в заветном желании. И потому не следовало противиться Его воле, а, напротив, следовало ее исполнить со всем возможным усердием и без ропота.
— Карл-Фридрих из рода Гогенцоллернов, сын Фридриха Вильгельма…
Принц стал еще более прямо, если вообще такое возможно. Пальцы его судорожно сжали руку Елизаветы, а глаза, не отрываясь, глядели в лицо старика пастора.
— Согласен ли ты взять в жены сию деву, стоящую передо мной и рядом с тобой? Согласен ли беречь ее, опекать и наставлять, как это положено мужу, защищать во всякий час дня и ночи, соблюдая обеты, которые дадите друг другу в этом святом месте?
— Да, отец, согласен. Я мечтаю об этом!
Священник, скупо улыбнувшись горячности Фридриха, кивнул и обернулся к цесаревне:
— Девица Анна из рода Орзель, сог…
— Нет, отец мой.
— Что «нет»? — священник опешил.
— Я не Анна Орзель.
«Похоже, шутка Анны удалась на славу — и мы оба попали в ее сети. Однако сочетаться тайным браком, назвавшись к тому же чужим именем, — это чистый фарс! Ох, графиня, втравили вы нас в историю…»
— Ты не Анна?! — воскликнул Фридрих.
— Нет, мой принц. — Цесаревна покачала головой. — Я Елизавета, дочь царя Петра, любящая вас всем сердцем Елизавета.
— Какая еще Елизавета? Та самая? Внебрачная дочь царя и портомои?
Цесаревна похолодела. «Да уж, Анна… Сумели вы повеселиться за наш счет. Но, клянусь, я, дочь Петра, вам этого не прощу!»
Взгляд Елизаветы стал тверже и холоднее.
— Да, я та самая дочь царя Петра и его жены Екатерины, которая имеет все права на российский престол и которую одни только напыщенные снобы из бедных, как церковные крысы, правящих домов рискуют называть незаконной и внебрачной!
Стоящий с раскрытой Библией в руках священник возблагодарил небо за то, что не успел заключить этот брак: дети великих домов Европы не могут, подобно простолюдинам, тайком повенчаться. Не могут и не должны… Тем более ежели назвались чужими именами… Тут и о браке-то речи быть не может!
Фридрих без сил опустился на пол и закрыл голову руками. Цесаревна присела и положила руку ему на плечо, но принц дернулся как от ожога.
— Пошла прочь! Ненавижу! Не смей меня трогать!
— Фридрих, что с вами?
— Все вы ничтожные лгуньи, отвратительные грязные твари! Батюшка строго наставлял меня — только Анна, только Анна… Предательница! Зачем ты назвалась ее именем?
Да, такие слова были куда привычнее. Они подействовали на Елизавету лучше всяких сахарных слов.
— Я никем не называлась и всегда была самой собой! — отчеканила она. — Если вы, юный глупец, изволили принять меня за кого-то другого, то это ваша вина! Моя совесть чиста!
— Твоя совесть не чиста! Она так же грязна, как совесть всех женщин и всякой женщины. Ты так же презренная, как вы все! Отныне никогда… Никто из вас…
Принц, спотыкаясь, бросился прочь из часовни, раз за разом повторяя: «Никогда… Больше ни одна…»
* * *
Как бы ни клялся Фридрих, но двадцати одного года женился-таки на Елизавете Христине Брауншвейгской. Злые языки, конечно, вскоре заметили, что брак этот заключен даже не по расчету, а именно по указке короля. Пруссия приобрела союзника — крошечное гордое Брауншвейгское княжество. Единственным достоинством этого союза были присоединенные земли княжества, на которых Пруссия, при необходимости, могла бы размещать свои войска или совершать маневры.
Елизавета, получив известие о монаршем бракосочетании, с удовольствием проговорила:
— Однако же взял в жены не кого-нибудь, Елизавету …
* * *
Неспокойный восемнадцатый век шумел войнами, дворцовыми переворотами, скандальными бракосочетаниями и открытиями. От событий, о которых мы уже рассказали, героев отделил не один десяток лет. Фридрих стал Фридрихом Вторым, королем Прусским, великим полководцем и великим стратегом. Елизавета, «привенчанная» и «незаконная» дочь царя Петра, взошла на российский престол. Монаршие депеши друг к другу были сухи и редки. Они касались самых высоких сторон жизни двух стран. Однако и Фридрих, и Елизавета все же помнили о весеннем Дрездене и тех клятвах, которыми обменялись в тиши дворцового парка.
Естественно, повзрослевшие монархи невероятно сильно изменились. Возмужали, выросли. Они привыкли держать собственную жизнь в своих руках. Между странами, конечно, не велось негласного соперничества, однако воспоминания о далекой Саксонии нет-нет, да и тревожили их покой.
Помнил Фридрих и о шумном, но уютном дворце курфюрста. Поэтому нет ничего удивительного, что он повелел выстроить для себя замок вдали от столицы. Он мечтал о месте, где можно было бы уединяться для работы или размышлений или просто ненадолго сбегать от изматывающее-неискренной жизни берлинского двора.
Давний друг короля, фон Кнобельсдорф, некогда отмеривавший рядом с Фридрихом шаги по плацу, был ранен в одном из бесконечных сражений. Рана оказалась несмертельной, но хромой фельдфебель не нужен ни одной армии. А вот архитектуре хромота была не помехой. И бывший фельдфебель Венцеслаус фон Кнобельсдорф стал личным архитектором короля Пруссии. Он отговорил Фридриха от возведения крепостных стен и башен, намекнул, что куда более достойным королевского покоя видится ему строение, подобное дворцам Петергофа, и в первую очередь дворцу Монплезир.
— Сей дворец сооружался под присмотром царя Петера, по его наброскам и указаниям. Как просвещенный монарх, царь повелел оборудовать его по последнему слову техники, сделать таким, чтобы жить в нем было приятно, спокойно, чтобы сей дворец был не витриною, а удобным жилищем для человека, все равно, монарх он или простой смертный.
Фридриху несколько претила мысль, что ему следует брать пример именно с русского монарха. Однако идея выстроить не крепость, а уютный дом нашла согласие в его душе. Кроме того, если уж и брать с кого-то пример, то, безусловно, лучше с царя Петра, чем, к примеру, с кого-то из Тюдоров или Виндзоров…
Через два года после начала строительства король поднялся по мраморным ступеням в небольшой, но изумительно уютный Сан-Суси. Несмотря на то что дворец сооружался по его наброскам, несмотря на то что раз в месяц, а то и чаще, Фридрих приезжал в Потсдам, дабы оценить, сколь точно выполняются его указания, готовый дворец оказался во сто крат прекраснее, чем даже самые смелые ожидания.
Пологие аллеи, лестница в несколько маршей, веерами раскрывающаяся в виноградник, цветники и фонтаны… Да, здесь будет не только прекрасно жить, здесь можно будет и найти упокоение.
Опираясь на трость, король прошел по верхней аллее сначала в одну сторону, потом в другую. Мир и покой царили вокруг, пели птицы, шелестела листва под легким ветерком. Да, это была не солнечная Саксония, да, вокруг лежала суровая Пруссия, но этот яркий день, дыхание юного лета, улыбающиеся пухлые купидоны…
— Пусть вон там, — король тростью указал на западный конец аллеи, — высадят тисы.
Фон Кнобельсдорф поклонился. Он видел, что король всем доволен, а мысль о темных и таинственных тисах пришла ему в голову только что.
— Будет исполнено!
— Проследи, Венцеслаус, чтобы деревья росли свободно, вот так, — король стал чертить концом трости по земле, — или вот так.
— Прошу прощения, мой король, но гармония может пострадать. Кроны этих деревьев очень темные, они могут закрыть изумительный вид, что открывается из Круглой библиотеки.
— Тогда высадите деревья и в восточном конце аллеи. Здесь я распоряжусь устроить свое упокоение…
Архитектор вздрогнул. Менее всего ему хотелось, чтобы его шедевр навевал королю мысли о смерти. Но Фридрих похлопал друга по плечу:
— Не бойтесь, дружище. Я не тороплюсь отойти в мир иной. Просто и после своей смерти я бы хотел оставаться здесь. Сан-Суси… Я назову его Сан-Суси — место без забот.
— Слушаюсь, ваше величество.
— Я всем доволен, друг мой. Здесь прекрасно. — Король повернулся и пошел по северной аллеи в сторону стоящей вдалеке кареты. — Да, и непременно под тисами должна пролегать тропинка. Так, чтобы о ней не догадывался никто.
— Будет исполнено, государь. Тропинки в тиши тисовых аллей…
Стоял июнь. В Санкт-Петербург пришли белые ночи. Елизавете не спалось. В такие ночи она нет-нет, да и возвращалась во все более далекие ноябрьские дни, когда стала царицей. Иногда ей белый камень стен в неверном полуночном свете казался стенами, занесенными снегом. И лишь бархатное тепло, льющееся из распахнутых окон, развеивало иллюзию.
Пополудни фельдъегерской почтой ей было доставлено весьма странное письмо. О нем она не рассказала ни Лестоку, ни Разумовскому. Это письмо словно прилетело из ее юности, из дней не радостных, но определенно менее отягощенных заботами, чем дни нынешние.
«Душа моя, несравненная греза! Каждый день, проведенный с тобою рядом, был для меня подлинным праздником. Каждый же час, проведенный вдали от тебя, сложился в века невыносимых страданий. Сколько раз корил я себя за те грязные слова, которые посмел произнести вслух в твоем присутствии, о лучшая из женщин! Сколько глупостей совершил, чтобы выдворить тебя из своего сердца. Но сияние твоих глаз, нежность твоих рук, сладость твоих губ навсегда остались в моей памяти.
Пусть нам не суждено пройти по жизни вместе, пусть навсегда разошлись наши пути, но прекрасная твоя душа навеки пребудет со мной.
Если ты хранишь в сердце хоть крошечную частичку чувств ко мне, прими же мое приглашение. Мой дворец Сан-Суси я мечтаю показать одной тебе. Клянусь, ни одна другая женщина никогда не переступит его порога! Жду и остаюсь навеки твоим, Фридрих».
— Что ты задумал, король Фридрих? — вслух проговорила Елизавета. — Неужели ты решил изменить своей любви к мужчинам, о которой не шепчутся во всех королевских дворах только ленивые? Желаешь еще как-то оскорбить меня? Ну так тебе сие теперь неуместно. Да и с рук, клянусь, уже не сойдет.
Конечно, немые степы кабинета не дали никакого ответа. Елизавета вспомнила графиню Анну, ныне уже упокоившуюся близ собственного супруга в невероятно далекой стране по ту сторону Атлантического океана.
— Подвела Аннушку любовь к неведомому… Всего-то десять годков повластвовала женой наместника… Ну да пусть ей земля будет пухом. Однако что же ответить королю прусскому?
Так ничего и не придумав, Елизавета отправилась в опочивальню, где изволил громко отдыхать ее супруг, граф Алексей Разумовский.
* * *
Должно быть, судьбе во что бы то ни стало нужно было устроить эту встречу. Не прошло и дюжины дней, как царица получила приглашение от португальского королевского дома. Российскому императорскому дому в прискорбием сообщали о смерти короля Жозе Второго.
— Не думаю, душенька, что тебе следует ехать, — задумчиво проговорил Алексей. — Даль несусветная. И все для того, чтобы цветы на могилку положить?
— Цветы и без меня найдется кому положить, как ты говоришь, на могилку. Посланники в Испании да Португалии у нас замечательные. Но вот выразить свое участие необходимо. Год траура для королевского дома — срок долгий. А вот ежели я не приеду или кого-нибудь низкого звания пошлю, вот это будет ошибкой, подлинным унижением чести и имени короля, какой он ни был тюфяк. Но честь моей страны… Для того я и стала царицей, чтобы никому не позволить ронять честь России. Распорядись, чтобы начали готовиться к отъезду.
Алексей молча кивнул. В словах Елизаветы было достаточно здравого смысла, хотя он очень не хотел отпускать ее в странствие через всю Европу в одиночестве. Но, увы, камергер граф Разумовский был не той фигурой, что достойна сопровождать царицу при нанесении столь непростого визита.
Расторопные слуги постарались от души. На третий день, едва взошло солнце, царский поезд миновал заставы Санкт-Петербурга. Романовы были в непосредственном родстве с половиной королевских и герцогских домов Европы. Что ж удивительного в том, что сначала поезд остановился в Митаве, потом почтил визитом княжество Польское, а после миновал границу Пруссии, двигаясь через Потсдам в Берлин?
Нет, конечно, ничего удивительного и в том, что у заставы прекрасного Потсдама к царскому поезду присоединился экипаж посланца короля Фридриха — таковы были неписаные каноны королевского гостеприимства. Повинуясь почтительным указаниям королевского посланника, Елизавета отправила весь поезд в Берлин, а сама в легкой коляске в сопровождении одной только камеристки направилась в Сан-Суси.
Стоял август. Зной наполнял, казалось, все вокруг. Колосья в поле клонились под тяжестью зерна, в садах спели фрукты, озера и речушки звали окунуться, освежиться после тяжелого пути.
— Парадиз, — пробормотала Елизавета, — чистый парадиз…
Да, на монарший взгляд все вокруг было райски прекрасно, ухожено и спокойно.
«Для чего ты меня позвал, старина Фриц?» Пока у Елизаветы не было ответа на этот вопрос. Но она понимала, вернее, чувствовала, что, приняв приглашение, поступила разумно.
Коляска въехала в густую тень и остановилась.
— Ну вот ты и приехала, Лизанька! — От дерева отделился силуэт.
Елизавета не сразу узнала Фридриха. Не было больше того стройного и сильного юноши, не было и того уверенного полководца, который присутствовал на торжестве ее коронации. Плечи Фридриха подались вперед, щеки чуть ввалились, он тяжко опирался на трость, которую уместнее всего было бы назвать палкой.
Однако голос оставался прежним, может, чуть слышнее была в нем хрипотца. Но все же это был голос принца Фридриха. Голос, который она не забыла за эти долгие годы.
— Ваше величество!
Елизавета присела в легком поклоне — пока не станет ясно, что происходит, лучше вести себя осторожно. Она услышала, как колеса ее экипажа прошуршали по гравию подъездной дорожки куда-то влево…
— Ну полно, друг мой, — укоризненно проговорил Фридрих. — Полно. Мы здесь вдвоем, никто нас не слышит, никто нас не видит. Мы хоть ненадолго можем стать теми пятнадцатилетними, какими встретились впервые.
Елизавета усмехнулась и показала глазами на трость в руках короля.
— Вот только не помню я, чтобы на балу курфюрста мы танцевали втроем…
— Душенька, это просто декорация. Если ты пожелаешь, я смогу и без нее обойтись…
Фридрих взял царицу под руку и повел по дорожке прочь из прохладной тисовой тени к солнечной открытой аллее. Фридрих опирался на трость, но все же чувствовалось, что она не очень нужна ему. Скорее, это некий маскарадный костюм, нежели непременная деталь жизни.
— Отчего, ваше величество, я должна чего-то желать?
— Посмотри, милая, вот и мой Монплезир… В чем-то на дворец твоего батюшки похож… Я назвал его Сан-Суси, и это мой дом. Только мой…
Елизавета не могла проговорить и слова. Ей, видавшей и изумительные творения Растрелли, и то, как они из почерканных картинок на плотном картоне превращаются в легкие, словно летящие строения, дворец Фридриха показался сказочным домом, где живется легко и радостно, где каждый день наполнен любовью и миром.
— Он прекрасен, Фридрих… Это настоящий сказочный дворец…
Король улыбнулся. Не так, как привык за годы — скупо и сдержанно, а широко, как в детстве.
— Да, это он и в самом деле из сказки. Я хочу, чтобы ты вошла в него первой.
Елизавета, пожав плечами, поднялась по мраморным ступеням и вошла в холл, вернее, приемную. Огромные французские окна открывались на обе стороны — и вниз, к лестнице, текущей по пологому зеленому склону, и вверх, к аккуратному английскому парку по обе стороны главного подъезда. Изящные стулья, легкие шторы, необыкновенной красоты резные деревянные панели, мозаичные полы.
— Да, это и впрямь дворец без забот…
— И еще без женщин, — Фридрих усмехнулся совсем невесело. — Ты, моя греза, единственная дама, которая увидела все это!
— Единственная? Неужто здесь не бывала твоя жена, Фриц? Кухарки и камеристки?
— Нет, здесь царит суровый солдатский дух…
— А, по-моему, здесь царит запустение и печаль.
— Да, они тут частные гости.
— Но отчего же, Фридрих? Отчего ты не впускаешь сюда женщин?
— Помнишь ли ты мою глупую клятву? Тогда, в ночи в часовне Валентина?
— Как такое забудешь, — теперь уже пришел черед Елизаветы невесело усмехаться.
Она шла вслед за Фридрихом по бесценным полам, переходила из одного залитого солнцем зала в другой и не могла налюбоваться дворцом короля.
— Глупости мне хватило почти на два десятка лет. Я отверг свою жену — женщину невеликих достоинств, это верно, но виноватую лишь в том, что ее отдали замуж родители исключительно из династических соображений. Я отверг женщин, которые меня любили или говорили что любили, хотя их вины передо мной не было вовсе никакой. И все из-за этой неумной мальчишеской клятвы. Долгие годы я ненавидел и тебя…
— Я знаю это, Фриц…
Елизавета опустилась на кушетку, затянутую темно-кремовым атласом. Фридрих сел напротив в кресло с высокой спинкой.
— Долгие годы я провел в сражениях, пытаясь утвердиться как непобедимый правитель… Как полководец, достойный своих великих предков. И лишь сейчас, дожив почти до сорока лет, понял, что украл у себя прекраснейшее, что могло быть в жизни человека. Семью, любовь, детей…
— Милый мой Фриц, тебе ли не знать, что правители не женятся по любви…
— Не женятся, да. Однако некоторым все-таки выпадает счастливый шанс — но они по глупости своей, по недомыслию, прислушиваются к любым голосам, кроме единственного по-настоящему умного и верного советчика — собственного сердца.
Елизавета невесело усмехнулась. «Да, мой король, ты и тут всецело прав. Счастлива же страна, повелитель которой может признать собственные ошибки… Пусть и через пару десятков лет…»
Фридрих словно подслушал ее мысли:
— Да, за эти годы я научился видеть свои ошибки, признавать, что совершил их, повинуясь чему угодно, только не голосу разума. То мною двигали соображения политической целесообразности, то воззрения отца относительно достойных и недостойных браков, то я пытался рассмотреть мир сквозь призму выгоды для казны… Невеселое это занятие — быть правителем…
Его собеседница лишь кивнула — ей не хотелось повторять, что она понимает короля лучше многих, если не лучше всех, это было ясно и так. Впрочем, Елизавета по-прежнему не понимала, зачем король зазвал ее сюда.
Фридрих замолчал, встал из кресла, подошел к окну и зачем-то раскрыл его. Потом задернул штору, которой тут же стал играть ветерок.
— Ты удивлена. Думаю, ты даже не могла представить, что когда-нибудь я скажу тебе такое… Но я должен был, просто обязан был тебе это сказать намного раньше. Хотя бы для того, чтобы ты знала, что здесь, в сердце Европы, есть у тебя союзник… Раз уж не видишь во мне никого, кроме короля Пруссии.
— Я чувствовала это всегда. — Елизавета встала и подошла к Фридриху, взяла его за руку и слегка сжала пальцы. — Не знала, но чувствовала. Однако благодарна, что услышала это от тебя самого.
Фридрих обернулся и за плечи обнял Елизавету:
— Мне следовало сказать тебе это много раньше…
— Нет, ваше величество, — царица отрицательно покачала головой. — Тогда бы я смогла совершить всего, что совершила. Если бы я знала, что где-то есть верное плечо, то наверняка бы рассчитывала на его помощь… А правитель должен опираться прежде всего на свои силы.
— Мудрые слова, душа моя. Мудрые и горькие. Мне больно это слышать.
— Что поделать, Фридрих, такова жизнь.
Оба правителя смотрели вдаль сквозь колышущуюся занавесь. Пастораль за окном умиротворяла душу, отвлекала от сиюминутных мыслей. Теплая рука Фридриха на плече лежала так естественно, будто они встречали вот так, вместе, каждый закат.
— Но еще не все, Лизхен… Ты должна знать, что все эти годы я тебя любил… Любил, несмотря на собственную глупую детскую клятву, несмотря на слухи, которые ходят обо мне и моих пристрастиях. Ты осталась единственной женщиной, которая не просто задела мою душу, которая стала частью моей души.
— Фридрих…
— Я ни о чем тебя не прошу, я просто наконец набрался решимости тебе это сказать. Я знаю, что твое сердце несвободно, знаю, что нас разделяют границы, политические разногласия, традиции… Тысячи и тысячи самых разных вещей.
— Разделяют, друг мой. — Елизавета пыталась найти в душе ответ на слова Фридриха. Пыталась но не могла.
Та, пылкая глупая девчонка, цесаревна Лизетка, давным-давно осталась в прошлом. И здесь, рядом с королем Пруссии, стояла не влюбленная принцесса, а взрослая и расчетливая царица. Увы, пепел ничто не в состоянии разжечь.
— Поэтому, душа моя, прекрасная царица Елизавета, твой верный навсегда друг просит у тебя один только вечер. Вечер, который мы проведем вдали от всех. Вечер, когда ты меня наконец простишь.
— Хорошо, — кивнула Елизавета. — Я подарю тебе этот вечер, подарю его своему другу. Человеку, который, быть может, сам того не желая, сделал меня тем, кем я есть сейчас.
— Мне этого довольно, моя любовь.
* * *
Оставим царственных персон наедине. Неизвестно, была эта встреча на самом деле или только пригрезилась она Фридриху, вошедшему наутро в гостевые покои. Легкий аромат французских притираний еще витал в воздухе, утешая душу самого сурового из европейских монархов.
Инесса Арманд. Для всех он — Ленин…
Парижская улочка затихала.
Прогрохотала конка. По противоположной стороне, обнявшись, со смехом прошла парочка. Колокола на Нотр-Даме пробили семь вечера.
«Как же я люблю это время! — подумала, потянувшись, Инесса. — Еще не ночь, но уже не день. Уже тихо, но до ночного безмолвия далеко. Голубые сумерки наползают на город, но ядовито-желтые фонари еще не нагоняют тоску!..»
— Зашторь окно, — раздался рядом голос Владимира.
— Зачем? — Инесса и сама собиралась закрыть шторы, но теперь, должно быть из духа противоречия, заупрямилась.
— Не люблю, когда за мной следят… — Он усмехнулся. — С Шушенского не люблю…
— Глупенький, за тобой никто не следит… — Инесса по-кошачьи приникла к его плечу. — Может быть, ты стесняешься?
Она совершенно точно знала, что он стесняется. И ее наготы, и собственной тоже… Сначала ее это изумляло: как же так — приверженец невероятно прогрессивных идей в обычной жизни оказался удивительным пуританином. Иногда она позволяла себе вслух над этим подшучивать, но очень редко — Владимир этого не любил, хмурился и потом надолго замолкал. Хотя от встреч не отказывался. Должно быть, он и сам в глубине души понимал, что в начале двадцатого века человеку с передовыми взглядами нельзя быть таким по-ханжески отсталым. Но перебороть себя куда сложнее, чем раскрыть собеседникам глаза на грядущий мировой порядок.
— Будь любезна, закрой шторы, — еще раз повторил Владимир, по-прежнему не открывая глаз.
— Ну хорошо, мой родной, как скажешь.
Инесса легко встала с обширного ложа и подошла к окну. Стало уже заметно темнее, вдалеке загорались первые фонари, но за окном еще царили сумерки. Окна дома напротив были темны — неудивительно, ведь служащие управления по градостроительству уже покинули свои рабочие места и, должно быть, добрались домой.
По совести говоря, даже здесь, в Париже, она выбирала себе жилье, помня о шпиках и вездесущей царской охранке. Дом был узким, каким-то чудом втиснутым между двумя соседними, — всего один подъезд, да по одной квартирке на этаже, да без консьержки. К тому же жилье Инессы располагалось на верхнем этаже — шаги по скрипучей лестнице были отлично слышны через не самую толстую дверь. Безусловно, это против правил — верхний этаж, но зато можно не опасаться непрошеных гостей — в окно никто не полезет, да и с черного входа не зайдет — нет в доме такого хода. Квартирки тут стоили недешево — по меркам не самых богатых эмигрантов, конечно. Для парижанина же это было жилье самого низкого класса — и с самой низкой оплатой. И потому селились здесь кто угодно, только не парижане.
— Темнеет?
— Да, солнце уже село.
— Ну вот и замечательно — выходит, у меня есть еще как минимум час…
— Всего час? Но отчего ты не можешь остаться до утра? Отчего так торопишься меня покинуть?
— Инесса, — брови Владимира сблизились, она знала, что так бывает всегда, когда он недоволен, — мы с тобой говорили об этом уже не раз. Но я еще раз повторю: я женатый человек. Не годится, если меня будут упрекать в неверности или даже просто задавать вопросы, где я был и отчего только утром вернулся на улицу Роз.
— Господи, но кто тебя будет упрекать? Кто станет задавать тебе вопросы? Ты имеешь право поступать так, как считаешь нужным. Тем более здесь… Ну давай считать, что так лучше — разумнее из соображений конспирации. Ведь не только клошары наводняют улицы Парижа, когда садится солнце! Среди них могут появиться и агенты Третьего охранного отделения…
Владимир расхохотался:
— Господи, ну что ты такое говоришь?! Охранка переоденется клошарами? Ох, насмешила, ей-богу, насмешила.
Инесса пожала плечами. На ее взгляд, объяснение было удивительно логичным — и к тому же означало, что затаиться до рассвета нужно будет не только сегодня вечером, но, может быть, еще не раз…
А это значило, что еще не раз Владимир останется до утра с ней… Ведь диктовка материалов для статьи с тем, чтобы она сразу же переводила их на французский для парижских товарищей, может затянуться надолго.
(Именно под этим предлогом Владимир и приходил к ней сюда. Хотя статьи все же диктовал, а потом педантично проверял, насколько хорош перевод и насколько он отвечает замыслу.)
Владимир взял ее за руку:
— Мне тоже иногда архисильно не хочется уходить отсюда. Не хочется красться в сумерках вдоль набережной, прислушиваясь к шагам у себя за спиной. Вот если бы ты могла поселиться у нас… Комната Марии уже почти месяц пустует.
— И тогда ты мог бы оставаться у меня на всю ночь?
Инессе была даже смешна предложенная картина. Но она постаралась не подать виду, насколько шокирована словами Владимира, насколько сильно он ее обидел.
— Нет, конечно, дурочка. Но мы бы виделись все-таки чаще…
— Нет. — Инесса чуть отстранилась. — Я бы не смогла, не выдержала бы просто.
— Но Наденька вовсе не ревнива…
— А я? А ты?
— А я безумно ревнив… Не поверишь, вспоминаю о твоих мужчинах — аж дух перехватывает.
Инесса забралась под одеяло, к Владимиру поближе — долго сердиться на него она просто не умела («Околдовал он меня, что ли?»).
Его объятия показались ей сейчас невероятно сильными и в то же время удивительно нежными. Настоящими объятиями искренне любящего человека. Инесса ответила на них со всем жаром, на который была способна.
— Как бы я хотел быть у тебя единственным!
— Ты и есть единственный…
«А вот я у тебя… Не единственная, и этого не изменить…»
Но думать сейчас обо всем этом не хотелось. Не хотелось вспоминать, что пройдет час и он покинет ее, уйдет по засыпающим парижским улочкам в тот, другой дом, где его ждут дела и товарищи. Не хотелось даже представлять, как бы его возвращения ждала она — будь у нее на это право. Хотелось только одного — чтобы мгновения в его объятиях длились вечно.
Инесса прикрыла глаза и отдалась любимому. Сейчас он принадлежал только ей!
* * *
Но так было не всегда, о нет! Нынче, в девятьсот одиннадцатом, девятьсот девятый казался ей невероятно далеким, наивным, милым. Должно быть, именно такой приехала она в Париж — приехала учиться революционному делу и повстречала его, невероятного, великолепного, горящего огнем революционных идей. Поначалу ей было даже страшно поднять на него глаза — казалось, что он видит ее насквозь.
Далеко не сразу она поняла, что прищуривается он не для того, чтобы лучше разглядеть собеседников, а для того, чтобы отчетливее стали для него контуры грядущего — того самого, которое хотел он создать, ввергнув страну в горнило перерождения. Ей даже показалось, что сегодняшнее — быт, мир вокруг — для Владимира не существуют, вернее, существуют куда менее отчетливо, чем это самое счастливое будущее. Почти год понадобился, чтобы понять, что все обстоит иначе — он прекрасно видит людей вокруг себя, отлично разбирается в них и, увы, умело пользуется всеми окружающими во имя своей великой цели.
Хотя цель, то самое прекрасное будущее, что греха таить, завораживала, заставляла на мир сегодняшний смотреть проще, спокойнее, дарила чудесную возможность плевать на установления и правила, принятые в «приличном обществе». Для тех, кто вместе с Владимиром разглядел контуры прекрасного «завтра», унылое «сегодня» было уже неинтересно.
«И в этом, мой хороший, мы тоже с тобой сходны…» Инесса с полуулыбкой вспомнила, сколько сил приложила к тому, чтобы стать женой Александра Арманда, сколько души отдала этому, казалось бы, такому желанному браку. Однако стоило младшему брату мужа, тоже Владимиру, зажечься революционной идеей, как вся эта мещанская суета предстала перед ней в истинном облике — жалкое подобие жизни, ничтожные словечки, делишки, поступочки… Не жизнь, а лишь никчемная пустая пародия.
Нынче тех лет, что провела она усердной женой и матерью, было безумно жаль. И лишь мысль о детях несколько успокаивала ее. Увы, забрать детей у мужа не представлялось возможным, хотя что бы она с ними делала в тюрьме или ссылке?
(Иногда Инесса все же находила в себе силы признать, что благодарна Александру, который по сю пору опекал детей, содержал их и заботился о них, как в первый день их жизни. Но куда чаще вспоминала она сухое и немногословное существование рядом с мужем, вспоминала, как тяжко ей было жить бок о бок с ним. «Жалела себя, должно быть…»)
Однако все мужчины в ее глазах превращались в тени, стоило ей только вспомнить Владимира Ильича, «Старика»… Должно быть, ее чувство к нему вспыхнуло сразу, после первых же бесед. А вот когда он увлекся ею… Отчего-то она так и не решилась задать Владимиру этот вопрос. Да и вообще, о чувствах они почти не говорили — даже оставшись вдвоем, даже спрятавшись от всего мира в крошечной конспиративной квартирке напротив управления градостроительства.
Иногда, очень редко, Владимир пытался представить, каким бы прекрасным было их совместное будущее — он, она, ее дети, их дети. Но представить, что такое будущее может стать настоящим, не завтрашним, а сегодняшним днем, сделать бесповоротный шаг — нет, не отваживался.
Инесса решительно взялась за перо — перевод по-прежнему был не закончен, а ведь Владимир просил поторопиться. Быть может, через пару месяцев, когда они уедут в Лион для организации революционной школы, им удастся чаще бывать вместе. Если, конечно, за «Стариком» не увяжется его жена.
— Хотя когда она нам мешала? — Инесса пожала плечами. — По дому ничего делать не может, все заботы о Владимире переложила на матушкины плечи. А сама знай перышком по бумаге черкает, зашифровывает и расшифровывает…
Инесса не могла не признаться себе, что сейчас в ней говорит старомодная, унылая, обывательская ревность. Что ей не хочется делить Владимира ни с кем. Хотя бы ту его сторону, когда он, так забавно краснея от смущения, все же позволяет страсти взять верх, когда он забывает обо всем вокруг и погружается в любовь.
Перевод упорно не шел в голову. Зато вспомнилось Инессе, как она, в который уж раз приготовив кофе, там, на улице Роз, зашла в комнату к Владимиру. Оглушительный запах заставил его очнуться, вытащил из сверкающего, но еще такого непонятного завтра.
— Это ужасно… — глаза Владимира смеялись, и Инесса впервые смогла ответить на его взгляд. — Ужасно, что рядом с вами я не могу думать о работе! Мелкие сиюминутные радости рядом с вами, друг мой, кажутся мне важными и нужными вещами. Так отрадно видеть вашу улыбку, брать из ваших рук чашку кофе, слушать вас…
— Тебя…
Инесса с удивлением услышала, как хрипло и взволнованно звучит ее голос.
— Обращайтесь ко мне на «ты», Владимир Ильич…
Тот улыбнулся:
— Ну что ж, тогда и вы говорите мне «ты», Инесса.
Он взял из ее рук чашку, поставил ее на край столешницы. Вновь обернулся и, придерживая ее холодные пальцы своей теплой ладонью, поцеловал ей руку.
Много раз потом Инесса задавалась вопросом, что это был за поцелуй — дань выплеснувшейся страсти, благородная старомодность, милая застенчивость? Владимир не ответил на ее вопрос, но больше никогда руку ей не целовал.
Однако в тот день зародилось между ними что-то очень нежное и трогательное — то, чего никогда и ни к кому Инесса не испытывала. Ей хотелось и защитить Владимира, и помочь ему, и спрятать от всех невзгод мира. И в то же время она ощущала невероятную силу, что исходила от него, — силу, которую, впрочем, тоже иногда хотелось укротить, усмирить, заставить служить лишь им двоим.
— Успокойся, дурочка, — Инесса вновь взялась за перо. — Заканчивай побыстрее… Владимир ждать не любит. А все остальное покажет Лион… Два месяца вместе, а может быть, даже три…
* * *
Лион оказался мечтой несбыточной. А вот Лонжюмо, милая деревушка неподалеку от Парижа, смогла приютить партийную школу. Разочарования преследовали Инессу — вместе с Владимиром отправилась и Надежда. Арманд постаралась никак не показывать, какую боль причинил ей любимый.
Она рьяно взялась за дело, служа не столько великому делу, сколько великому человеку. И через месяц была более чем щедро вознаграждена — Надежда вернулась в Париж, а Владимир перебрался к ней, давно и безумно любящей его женщине. Сколько им суждено прожить вместе, Инесса не знала — она не загадывала дальше, чем на день-два, наслаждаясь каждым мигом своей новой жизни.
О да, жизнь и впрямь мало чем походила на все, что было у нее до сих пор, — многочасовые лекции в партийной школе, беседы с единомышленниками, планы возвращения на родину. Все это почти полностью поглощало Инессу, делало ее определенно человеком необходимым. Лишь мысль о детях останавливала ее, не давала полностью отдаться этой новой жизни, такой напряженной и необыкновенной.
Старшие дети были с Александром, весточки от них приходили довольно часто, радовали ее, успокаивали. Пару раз она даже выбиралась в Париж, чтобы встретиться с ними, прогуляться по набережным, увидеть любимые лица, согреться душой. Даже Александр был с ней мил и доброжелателен — давно прошли те времена, когда он поддерживал революционные идеи, но он понимал, что эти самые идеи захватили ее навсегда, и не пытался ставить перед ней каких бы то ни было ультиматумов.
После одной из таких встреч успокоенная Инесса возвращалась в Лонжюмо. На душе было светло и ясно, никакие дурные мысли не беспокоили ее. Впереди был вечер с Владимиром, ночь с ним. А утром все вернется на круги своя — лекции, перевод письма к товарищам на юге Франции или, быть может, на севере Польши. Наверняка придется в очередной раз схлестнуться с Коллонтай, которая упорно желает оттеснить от Владимира всех, стать его единственной Музой…
Инесса откинулась на спинку коляски и усмехнулась своим мыслям. Она знала «Старика» меньше двух лет, но уже понимала, что единственная его Муза — революция. Что всех остальных, мужчин ли, женщин, он воспринимает только с точки зрения их полезности делу революции и использует не стесняясь. Ведь дело превыше всего! А революционное переустройство общества, задуманное им, потребует долгих лет упорной работы.
Это осознание пришло к Инессе недавно. Еще в Париже Надежда упомянула о необходимости каких-то хозяйственных покупок — ерунда, с точки зрения Арманд, сущая безделица, вообще не стоящая внимания. Однако Надежде и Владимиру было недосуг этим заниматься.
— Ну так пошли кого-нибудь в лавку, Наденька… Ты с мелочами всегда так некстати!
В лавку, конечно, отправилась она, Инесса. Благодарная Надя отдала ей деньги, многословно извиняясь, что пришлось побеспокоить, «хотя это должны были бы делать слуги».
— Ах, дорогая, — сейчас в Надежде не было ни следа революционного горения, нынче вышла на первый план избалованная и неумелая барышня, какой она, положа руку на сердце, и осталась, — иногда так трудно сосредоточиться на деле. Какие-то нелепые заботы отвлекают от главного. Все эти хлопоты по дому, покупки, готовка… Быть может, вы знаете кого-то, кому нужна работа? Мы, конечно, небогаты, но без прислуги так непросто…
Инесса, улыбнувшись, уверила, что сможет заменить и экономку, и кухарку, — забота о Владимире никогда не была ей в тягость. Однако тогда впервые она задумалась, как же ее любимый воспринимает всех вокруг. Неужели и впрямь только с точки зрения пользы революционному делу?
Шли дни, и Инесса убеждалась в этом все чаще — мелкие детали, отдельные словечки не оставляли никакой надежды. Да, и она, и Надя не столько задели душу Владимира, сколько стали для него удобными помощницами, нетребовательными, умелыми, всегда готовыми броситься в бой. Это и оскорбляло, и, что куда забавнее, примиряло ее с миром. Ведь не ею одной он пользовался…
Вот остались позади виноградники — вечер опустился на предместья Парижа и его центр, окраины и далекие деревушки. Показалась колокольня Лонжюмо. Ну вот она почти и дома…
Удивительно, но она далеко не везде могла чувствовать себя «дома» — ни в парижской квартире Александра, ни в имении Армандов. Во всяком случае, поначалу. А вот рядом с Владимиром она осваивалась моментально — рядом с ним был ее дом. Инесса чувствовала, что и для него квартирка, где она его ждет, — настоящий дом, убежище, возможность успокоиться, отдохнуть, стать самим собой.
«Все это, конечно, необыкновенно льстит. Но и обижает, увы. Он вновь пользуется мною, но теперь не моими знаниями или воззрениями, а моими чувствами и желаниями. Так отчего же мне не воспользоваться им?»
Внутренний голос был для Инессы давним другом — иногда просто не с кем было обсудить события, что происходили вокруг, или чувства, которые не давали уснуть. Этот же друг уже давно стал и ее судьей — что толку таиться от самой себя, что толку кривить душой, когда знаешь, что ведешь себя неразумно, недостойно или просто эгоистично.
«Ты не сможешь никогда им воспользоваться, глупая. Ты же любишь его. Для тебя встреча с ним — самый большой подарок судьбы! Куда лучше просто радоваться такому подарку, чем искать его выгоды или недостатки…»
Да, так будет куда проще. Да и расстраиваться ей сейчас не следует — только радоваться жизни, только наслаждаться каждым днем и каждым подарком судьбы. Инесса положила руку на живот. Как бы ни сложилась судьба, с ней останется ее любимый, ее Владимир… Хотя, наверное, для девочки такая одержимость и внутренняя убежденность — не самые нужные качества. Но, быть может, в новом мире таким девушкам будет житься лучше, чем домашним клушам или маленьким капризулям. А вот мальчику такой характер… Да, просто необходим! Таким и должен быть мужчина…
Коляска остановилась у домика в конце улицы. Именно здесь жила Инесса, и именно сюда перебрался Владимир после отъезда жены. Фонарь освещал калитку и дорожку к дому, а сам дом терялся в полнейшей темноте. Значит, дома никого.
Расплатившись, Инесса поспешила к двери — Володя может появиться в любую минуту, а ужин не готов, да и она после долгого путешествия нуждается если не в отдыхе, то хотя бы в передышке.
Руки сами занимались хозяйством, а разум Инессы был занят размышлениями. Откладывать разговор дальше нельзя — у нее всего несколько дней, пока ее положение не станет заметным. Да, можно затянуть корсет потуже или набросить шаль поверх платья. Но дома-то или в постели на себя ничего не набросишь, ребенок растет, и этого не скрыть.
— Ты уже приехала?
«Странные существа мужчины, — усмехнулась про себя Инесса. — Конечно, приехала, иначе кто бы разжег плиту и свет в кухоньке? Не Третье же охранное отделение, в самом-то деле…»
— Конечно. Ужин почти готов. Умойся, и поедим. А потом… Нам надо поговорить.
— Непременно поговорим. У меня столько новых мыслей, что хватит не на один разговор…
— Ах, Владимир, ну разве я об этом?
— А о чем же еще? Дело революции требует размышлений, не только дел…
Инесса вздохнула:
— Давай сначала поедим, друг мой.
Владимир отправился переодеваться. Накрывая на стол, Арманд размышляла, как же преподнести ему такое важное известие. И как долго еще можно будет не говорить ему ничего.
Картинка, которую она сложила, пока возвращалась в Лонжюмо, разваливалась. Дай бог, чтобы он просто выслушал ее до конца. О радости она уже даже не помышляла — его появление, первые же его слова яснее ясного говорили, что вряд ли так долго таимое ею придется Владимиру по душе.
Но делать было нечего. Ложиться под нож уже поздно, да и не дело это — убивать живую душу ради прекраснодушных мечтаний о будущем. Ничто не стоит жизни человеческой.
Ужин прошел в молчании. Обычно так оно и бывало — Владимир ел быстро, молча, сосредоточенно. Хотя, конечно, вкус еды замечал. Когда-то даже побаловал ее словами, что она готовит «удивительно, архивкусно…» Хотя Инесса не восприняла это как похвалу. В семье Надежды всем заправляла ее матушка. Потом заботы по дому перешли к младшей сестре Владимира, Маше. А когда эти две прекрасные умные женщины отправлялись с поручениями в Россию или Польшу, Финляндию или Австро-Венгрию, на кухне царила непременная и единственно возможная яичница из четырех яиц. Кто бы сомневался, что на фоне такого блюда ее стряпня будет смотреться куда лучше?
Инесса за ужином тоже молчала. Сумерки давным-давно уже превратились в непроглядную ночь, запели сверчки, заплясала мошкара вокруг лампы. Время решающего разговора подошло. И Владимир сам его начал:
— Так о какой проблеме ты хотела со мной поговорить? У товарищей в Париже неладно? Что-то с твоими детьми?
— К счастью, у товарищей в Париже все хорошо. Записка от них, как обычно, у тебя на столе. И с детьми моими все в порядке. Александр — отличный отец.
— Но что же тогда? Ведь все же хорошо. Можно спокойно работать…
— Владимир, — Инесса решила, что нет сил дольше молча терпеть. — Я жду ребенка…
— Ты за этим ездила в Париж? Сказать Александру?
Ей показалось или его голос помертвел, стал словно деревянным?
— Нет. — Инесса улыбнулась. — Мне нечего и незачем говорить Александру. Он тут ни при чем. Этотвоедитя, у нас стобойбудет ребенок.
И опять она не поняла — обрадовался ее словам собеседник или огорчился. Но, определенно, черты его лица стали менее жесткими.
— Малыш? Ты ждешь малыша?
— Владимир, мыждем малыша. Я думаю, что родится девочка…
Инесса откинулась на спинку венского стула. Ну вот, теперь она все произнесла. И, что бы он ни сказал, уже ничего не изменить.
— Де-евочка… — с какой-то удивительно мягкой, новой даже для себя интонацией проговорил Владимир. — Маленькая девочка… Оленька…
И только сейчас Арманд поняла, как же страстно хочет этого ребенка. И как давно о ребенке мечтает Владимир — настоящий мужчина, для которого дети — радость и будущее, а не обуза и путы на ногах. Инесса почувствовала, как в ее глазах закипают слезы. Да, ради таких мгновений стоит жить!
— Крошечная и беззащитная… Твоя копия…
Инесса не узнавала своего Владимира — перед ней сидел совершенно другой человек. «Может быть, именно этот настоящий? Мягкий, с мечтательной улыбкой? Почувствовавший наконец, что кроме работы есть и еще что-то. Что есть семья, дети, уют, дом. Что забота о близких в радость, а не в тягость… Что мир куда больше и куда милосерднее, чем это представлялось раньше…»
— Или твоя копия, мой хороший.
И тут произошло второе преображение — ее любимый куда-то исчез, а пришедший ему на смену собеседник оказался жестким и расчетливым прагматиком. Дельцом, думающим исключительно о пользе дела, все поставившим на службу этого самого дела…
— Милая, но как же ты сможешь в таком состоянии работать? Ведь вскоре нам предстоит возвращение в Россию, может быть, через Польшу…
— И что? Думаю, это ничему не помешает, напротив, отведет лишние подозрения.
— Мне это не кажется разумным. Не время сейчас рожать и растить детей, не время…
— Но почему, Володя? Ты не рад, что будешь отцом?
— Скорее, я озадачен и озабочен этим. Я буду плохим, никуда не годным отцом, думаю. Слишком о многом, кроме семьи, мне приходится думать.
«Да и семьи-то у тебя никакой нет. Так, удобный набор помощников…» Холод пронизал Инессу, хотя вечер был теплым и спокойным. Холод и полная, окончательная безнадежность. Всего несколько минут понадобились Владимиру, чтобы принять решение. Несколько минут, чтобы перечеркнуть возможность иной жизни — в любви и покое, с детьми и прогулками, долгими беседами под луной и долгими ночами нежности.
— Не время, друг мой? Но отчего же?
— Впереди архимного работы. — Владимир вскочил и стал мерить шагами комнату. — Невероятно, чудовищно много. Впереди еще годы ссылок, полицейских преследований, возможно, тюрем. Разве хорошо крошечное дитя погружать с первых же дней жизни в кипящий котел революции? Разве хорошо делать его заложником необходимости? Хорошо ли, что вы отдали детей на воспитание отцу и лишь украдкой можете с ними видеться?
«Он уже говорит мне «вы»?»
— Хорошо ли, что вынуждены взять себе иное имя, только чтобы не быть назавтра этапированной в Шлиссельбург или Архангельск? А если на руках у вас будет ребенок? Вы же станете совершенно беззащитной… Станете легкой добычей для любого шпика, даже самого тупого и ограниченного!
«Да, он и в самом деле говорит мне «вы». Он уже отделил себя от меня и нашего крохи. Он выбрал путь и с этого пути не сойдет, пусть хоть сотня новорожденных ждут его дома…»
— Владимир, вы напрасно пытаетесь напугать себя охранкой или шпиками. И для рождения детей всегда подходящее время.
— Друг мой, — теперь голос ее любимого стал звучать и тише, и мягче. — Я никого не пугаю. Однако не могу не беспокоиться о судьбе твоего ребенка…
— Нашего, Владимир, — отчеканила Инесса. — Нашего!
— Пусть так… Пусть нашего… Его судьба не может меня не тревожить, однако ваша судьба меня тревожит куда больше. Ведь впереди…
— О том, что впереди, я знаю много лучше вашего, Владимир Ильич. — Инесса выпрямилась. — Не забывайте, у меня пятеро детей. И именно они составляют смысл моей жизни. Теперь их стало шестеро. Я клянусь всем, что для меня свято, что выращу в любви свое шестое дитя, отдам ему всю возможную заботу и все свои силы…
— Но как же дело революции, которому мы посвятили себя?
— Вы посвятили, Владимир Ильич! Вы, но не я! Вы наказали себя отсутствием семьи, обрекли на одиночество любящую вас женщину… И только для того, чтобы служить счастью всего мира! А вам не кажется, что это неумная самоотверженность? Вам не кажется, что аскет не сможет дать миру то, чего лишился по собственной воле?! Вы отобрали у себя все, и что же вы хотите дать миру? Кровь бесконечных сражений? Отказ от мирных дней во имя неведомого счастливого «завтра», которое никогда не наступит без счастливого и мирного «сегодня»?
Быть может, всего этого не следовало говорить, однако и не сказать было нельзя. Глупо все время сдерживаться, глупо вести себя как влюбленная дурочка, которая смотрит в рот любимому и только жеманно хихикает. Тем более глупо, когда этот любимый отказывается и от дурочки, и от всего, что она могла бы ему дать.
Инесса без сил опустилась на стул. К счастью, плакать ей не хотелось. Это была бы слабость, слабость недостойная, дамская, истеричная. А ей, теперь это было ясно, предстояло еще так много всего… Всего того, на что понадобятся все силы.
«Все силы, вся душа, вся любовь… Решено, я назову тебя Любушкой…»
— Инесса, ты не так меня поняла, друг мой. Я счастлив, дитя — это…
— Это маленький и любимый человечек, — устало перебила его Инесса.
— Но это же якорь! Это тяжкий груз, которому не место в судьбе подлинных революционеров! Это…
— Успокойтесь, Владимир Ильич. Я вас услышала и прекрасно поняла. Мой ребенок не будет вашей заботой, обещаю. А теперь доброй ночи! Я устала и хочу спать…
Инесса легла, но долго еще не могла уснуть. Она слушала, как ходит за стенкой из угла в угол Владимир, как шуршит бумагой и снова шагает то к двери, то к столу. Потом он зачем-то вышел в кухню, отчего-то загремел неубранной посудой, опять вернулся в кабинет.
«Мне жаль тебя, любимый. Жаль, но ничего сделать я не могу. Да и не буду. Каждый переживает свои решения сам. Сам несет их тяжесть всю жизнь или сам радуется правильности оных. Мне безумно жаль тебя, но еще более мне жаль Надежду, которая уже уложила свою судьбу на гильотину твоих планов. Я не буду столь глупа, клянусь!»
* * *
Она взяла в руки следующий конверт. Уже собралась его разорвать, но отчего-то вместо этого вынула пожелтевший жесткий листок с проступившими кляксами и перечитала первые строки.
«Расстались, расстались мы, дорогой, с тобой! И это так больно. Я знаю, я чувствую, никогда ты сюда не приедешь! Глядя на хорошо знакомые места, я ясно сознаю, сознаю как никогда прежде, какое большое место ты занимал в моей жизни. Я тогда совсем не была влюблена в тебя, но и тогда я тебя очень любила. Я и сейчас обошлась бы без поцелуев, только бы видеть тебя, иногда говорить с тобой было бы радостью — и это никому бы не могло причинить боль…»[4]
Минуло столько лет, но боль, как и тогда, заполонила все ее существо. Как и тогда, она почувствовала, что не может дышать, что вся жизнь, светлая, радостная, полная надежд, осталась в прошлом. Что впереди лишь служение без надежды на счастье.
Каким могло бы быть ее сегодня, останься он с ней? И была бы такая жизнь счастливой? И нужна была бы ему она — пусть и влюбленная, пусть и готовая отдать всю себя? Робеющая перед ним на людях — и пугающе смелая наедине?
Удивительно, но он, такой решительный во всем, что касалось политической борьбы, превращался в старомодного буржуа, стоило только закрыться двери в спальню. Если бы не воспоминания о пламенных речах, она могла бы поклясться, что перед ней совсем другой человек. Он даже внешне менялся. Пролетарская косоворотка уступала место английскому костюму, вместо серой кепочки и куртки стрелочника объявлялись фетровый котелок и пальто с узким бархатным воротничком. Да и поведение… Нет, вовсе не тот отчаянно жестикулирующий, горящий идеей человек был перед ней. Все время смущающийся, робеющий, уводящий от стыда глаза.
Поначалу она этого не замечала. Но чуть позже, когда первый пожар страсти отгорел, стала сравнивать его даже не с любимым, Владимиром, а с давным-давно покинутым Александром… Тот тоже все время отводил глаза, когда она сбрасывала шелковый пеньюар и оставалась перед ним в одной лишь прозрачной сорочке, освещенная робким огоньком одинокой свечи.
Ах, Александр! Сейчас, конечно, смешно даже думать об этом, но… Но она ему благодарна. В самые тяжкие годы дети жили спокойно, в мирной и уютной Франции, выросли образованными и по-европейски свободными людьми. Старшие сыновья иногда даже немного пугали ее самостоятельностью суждений и уверенностью в своих силах. Пугали, но все же радовали.
Вот только Любушка… не Оленька, нет, Любушка…Ее самая младшая, нерожденная дочь… Ее родное, несостоявшееся счастье, ее самая большая печаль. Сколько уж лет прошло, но до сих пор Инесса помнит ту боль, которую ей причинили слова Владимира. Помнит и свою решительность, когда заявила, что воспитает девочку сама.
И помнит то отчаяние, которое накрыло ее черной пеленой, когда озабоченный доктор Лефлер отрицательно покачал головой и сказал, что ребенок замер.
— Боюсь, милая мадам, что вам предстоит пережить операцию. Сердце крохи не бьется. Дитя придется извлечь, пока вы не погибли от сепсиса.
— Но, быть может, все будет хорошо?
— Дорогая моя мадам… Ребенок мертв, и мертв уже давно. Глупо тешить себя иллюзиями. Тем более что с каждым часом нарастает опасность для вашей собственной жизни. Тут нет даже предмета для разговоров. Вам следует только определить, когда вы сможете на неделю лечь в лечебницу. Не хочу вас пугать, но и прошу надолго не откладывать — с каждым днем опасность оставить ваших детей сиротами стремительно возрастает.
— Хорошо, доктор, я готова лечь хоть завтра.
— Отлично. Завтра пополудни я вас жду…
Воспоминания… У нее не осталось ничего, кроме воспоминаний… Дети выросли, надежды на семейное счастье давно угасли, надежда увидеть победу революции… Смешно говорить… У нее никогда не было подобных надежд.
Инесса встала и подошла к зеркалу. Высокое венецианское стекло отразило стройный силуэт, модную прическу и прекрасное лицо, которое столь многими в Париже обожествлялось. Только глаза… Ох, сейчас эти глаза не горели уже тем огнем, они погасли, ведь оба Владимира остались в том прошлом, к которому нет возврата.
А как бы ей сейчас хотелось, словно ленту в синематографе, отмотать назад годы и вновь погрузиться в молодой задор революционного кружка, которым руководил Владимир Ильич, ее, только ее Владимир.
Отражение в зеркале усмехнулось.
Завистники говорили о том, что она уводит его из семьи. Глупцы… Зачем ей было уводить его? Да и откуда? Разве та, другая, состарившаяся раньше времени, страдающая от базедовой болезни, могла бы соперничать с молодой и пылкой Инессой? Конечно нет! Но ведь ей-то все это и не было нужно! Ей была нужна только его, Владимира, любовь! Только внимание, которое он готов был уделить ей, только страсть, которой загорался в недолгие мгновения наедине!
Семья… Они и так много времени проводили вместе — Владимир диктовал ей, она переводила его статьи, вслед за ним и Надеждой моталась по всей Европе. По его указанию ездила и в Россию…
О, ее вовсе не пугала возможность попасть в лапы царской охранки! Ради него, его идей она готова была не только в тюрьму или в ссылку — готова была и на эшафот взойти! И когда все же ее упекли за решетку, отнеслась к этому совершенно спокойно: ведь дело, ради которого она пересекла границу, было сделано. Газета доставлена в Россию и уже передана тем, от кого зависела ее дальнейшая судьба. Теперь можно было и в Сибирь отправляться.
Даже сейчас Инесса вспоминала события четырнадцатого года с улыбкой удовлетворения. Дело было сделано. А близкие… Да и кто они — эти самые близкие?
Дети под надежной защитой отца и его немалого богатства. (Денег, к слову, Александру Арманду хватило в том четырнадцатом и на то, чтобы внести за жену огромный залог. Но обретенная свобода не вернула Инессу в семью — уж слишком высокие цели перед ней стояли, не сравнимые с глупыми буржуазными ценностями вроде семьи и детей. Тем более теперь, после потери доченьки. Потери, навсегда убившей ее душу.)
А вот Владимир там, в парижской квартирке, совсем один… Некому ему и чашечки кофе подать поутру, пока она здесь, в прогнившей России, прячется. Не рассчитывать же на Надежду, которая и кофе-то сварить не умеет.
Удивительно, что Владимир никогда не укорял жену полным ее небрежением кухней и домой. Хотя он же стоит за равенство мужчины и женщины. Однако как же он преображается, когда она, Инесса, едва придя в себя после угара любви, подает ему свежий кофе с пышной пеной сливок прямо в постель! Пусть и бурчит, что она его совсем разбалует.
— Ах, мой дорогой, я согласна тебя баловать до конца дней своих…
Так, бывало, говорила ему она в те дни. И он польщенно улыбался. Но уже через несколько минут торопливо одевался и совсем другим тоном давал ей очередное поручение.
— О, с каким бы удовольствием я сейчас отправилась бы по твоему указанию… — почти простонала Инесса, — на край света, не то что на рабочую окраину! С каким бы удовольствием выслушала твои поучения, что иногда не до конца понимаю ту роль, которая мне поручена, что не хватает у меня убедительности, чтобы объяснить пролетариату его высокую обязанность!..
Письмо было забыто, как забыто было обещание уничтожить все следы переписки, которое Владимир взял с нее в тот день, когда состоялось страшное, памятное до сих пор объяснение. Чем больше он говорил, тем отчетливее она понимала, что перестала для него существовать как возлюбленная, женщина, муза. Что теперь она лишь его боевой товарищ, полезный во всех смыслах этого слова член революционного кружка, не имеющий пола.
«Без поцелуев…» О да, пусть без них, но просто быть рядом, видеть, как блещет его гений, прикасаться душой к пылающему горнилу его души…
Инесса нет-нет да и вспоминала совсем другие строки, которыми он заканчивал свои письма. Пусть по-английски, пусть, но хоть так он упоминал о той близости, которая соединила их навсегда, которую не разорвать даже сотней решительных отказов!
Что ж, ей еще повезло. Пусть он отказался видеть в ней возлюбленную, но не отказался называть ее своим товарищем! Пусть теперь его ласки для нее под запретом, но не под запретом то безбрежное доверие, которое он питает к ней. Не зря же сейчас, в новой России, освобожденной от царского гнета, он по-прежнему дает ей трудновыполнимые поручения. Не зря же пристально следит за состоянием ее здоровья, не зря помнит о том, что у нее прохудились башмаки и нужны новые, не зря поручил установить в ее квартире телефон — редкость необыкновенную даже для столицы!
Эти знаки внимания куда более ценны, чем даже сотня лет вместе…
— Да ведь мы же все равно вместе, мой дорогой! Ты по-прежнему со мной, занимаешь все мои мысли, царишь в моей душе, памяти, чувствах… Для меня ничего не изменилось, ты был и остался единственным мужчиной, кого я по-настоящему люблю.
Инесса присела к столу и взяла в руки перо. Чернил было маловато, однако ей недосуг было встать, чтобы наполнить чернильницу. Мысли, которые она могла доверить только дневнику, были важнее. Перо побежало по бумаге.
«…Теперь я ко всем равнодушна. А главное — почти со всеми скучаю. Горячее чувство осталось только к детям и к В. И. Во всех других отношениях сердце как будто бы вымерло. Как будто бы, отдав все свои силы, всю свою страсть В. И. и делу работы, в нем истощились все источники любви, сочувствия к людям, которыми оно раньше было так богато… Я живой труп, и это ужасно».
Да, сейчас, через три года после победы революции, она чувствовала себя именно такой — усталой, опустошенной, никому не нужной. Даже дети, которые, к счастью, чаще бывали с ней, чем с отцом, не грели ее душу. Только самый младший, Андрюша, так похожий на отца, своего настоящего отца…
Инесса вспомнила разговор, который состоялся у нее с Владимиром Ильичом всего два дня назад. Вернее, говорил только он, Ильич. А она слушала молча, смотрела на него и, как тогда, долгих семь лет назад в Париже, улыбалась его словам. Только он теперь и мог заставить ее улыбаться.
— Вы должны, — говорил Владимир, — просто обязаны архибыстро завершить дела и отправляться на юг, к солнцу. Мне видно, как вас утомили годы нашей борьбы, скольких они вам стоили сил.
— Но вокруг еще столько дел…
— Вам следует отдохнуть, поверьте. Дело революции требует всех наших сил без остатка, и продлится оно не год и не два. Поэтому считаю возможным вам все же ненадолго оторваться от сиюминутных забот. Ваше здоровье точно так же принадлежит революции, как и здоровье любого из нас…
Тогда Инесса ничего Владимиру Ильичу не сказала. Но все же удивилась, и сильно, когда на следующий день он прислал ей записку:
«…Грустно очень было узнать, что Вы переустали и недовольны работой и окружающими (или коллегами по работе). Не могу ли я помочь Вам, устроив в санатории? Если не нравится в санаторию, не поехать ли на юг? К Серго на Кавказ? Серго устроит отдых, солнце. Он там власть. Подумайте об этом. Крепко, крепко жму руку…»
Она решилась… После этого письма решилась. Чувствовала, что ничего хорошего не выйдет, что никакое солнце не может ей помочь, но решилась в последний раз послушаться Владимира.
Быть может, сейчас, в двадцатом, ей повезет и она вернется не просто выздоровевшей, но ожившей?
P. S. Из этой поездки Инесса Арманд не вернулась. По дороге она заразилась холерой и умерла. Тело доставили в Москву лишь на девятые сутки. Ленин встречал поезд на вокзале и потом провожал пешком траурную процессию через всю Москву. Кто знает, что он чувствовал в эти минуты…
Надежда Аллилуева. Люблю тебя, Иосиф Сталин
Надежда, не пригубив вина, поставила бокал на стол.
— Эй, ты! Пей! — прикрикнул Сталин.
— Я тебе не эй! — ответила она, чуть повысив голос, и в ту же секунду в лицо ей полетели апельсиновые корки.
Медленным, очень медленным движением, не отрывая от мужа взгляда, она убрала их с лица и стряхнула на пол. Поднялась и, ни слова не говоря, ушла из-за стола, чувствуя спиной ошалевшие, потрясенные взгляды множества гостей.
Она стремительно шла, почти бежала по темной улице. Во всех домах праздновали годовщину Октябрьской революции. Слышалась музыка, веселый смех… На почтительном расстоянии от нее, так, как она велела, не приближаясь, двигалась вооруженная охрана. Надежда шла, понурившись, кутаясь в теплое пальто, и чувствовала, как раскалывается от жуткой, невыносимой боли голова и как леденящий холод растекается по всему телу и сковывает сердце будто льдом.
* * *
— Сынок, ты должен взять себе жену только из Грузии, — мягко, но настойчиво говорила Екатерина Георгиевна Джугашвили. — Она будет послушной, милой и кроткой — как Като.
Подобные разговоры происходили уже не раз, и Иосиф, как и подобает почтительному сыну, внимательно слушал мать, думая, однако, о своем и уже отлично понимая, что никакой грузинской девушки он в жены брать не станет. Его жена будет только русской.
«Милая Като, до сих пор люблю и помню тебя, — думал он, наблюдая за матерью, слушая ее гортанный голос. — Я виноват, я убил тебя. Если бы не арест, если бы не тиф, ты была бы жива. Я не успел, не смог тебя спасти. Ты была хрупкая, как цветок, а жандармы бросили тебя в камеру, ты голодала, ты была беременна… Это все из-за меня — меня не нашли и взялись за тебя…»
— Сосо, Якову нужна мать, — ласково убеждала его пожилая женщина. — Надо, чтобы о нем кто-то заботился, чтобы он знал материнскую ласку. Да и тебе женщина нужна, ты еще молодой…
— Да, — сказал он, будто очнувшись от сна, и ласково погладил мать по руке. — Да, я женюсь, мама.
Если бы кто-то спросил Иосифа, как он мог бы описать Надю Аллилуеву, он бы не задумываясь ответил, что она полна жизни. Жизнь играла в ее лице, с губ не сходила улыбка, темные выразительные глаза горели оживлением, притягивали внимание.
Он всегда хорошо к ней относился и чувствовал ответственность за нее — с того самого дня, как она девочкой упала в море, а он вытащил ее и тем спас ей жизнь. Она так и осталась для него навсегда маленькой девочкой — но именно о ней он думал, когда выбирал спутницу жизни. Она была красива, умна, справедлива и благородна, и он не сомневался в том, что она любила его, а значит, с ней он мог чувствовать себя молодым, спокойным, защищенным, а самое главное — счастливым.
* * *
Он снова встретил ее в семнадцатом году, вернувшись из ссылки. За то время, пока он жил почти за Полярным кругом, она выросла и превратилась в удивительную красавицу. У нее нет ни макияжа, ни вычурной прически, она так естественна и невинна… Она по-настоящему непорочна, свежа и нежна, как голубка.
Он каждый день проводил в обществе Нади и ее сестры Анны. Он развлекал их, декламировал отрывки поэм, разыгрывал сценки из русских пьес. Девушки были в восторге, но Надя — он так хотел, чтобы она посмотрела на него не просто как на приятеля!
— Милый сорвиголова, — говорили ее родители. — Подумай, Наденька, он пожертвовал всей своей жизнью ради социалистических идеалов!
Так говорили они, а она слушала очень внимательно, и ему это не просто льстило — он видел в этом надежду для себя. И она неожиданно оказалась оправданной. Наденька влюбилась — потом он думал, что даже не в него настоящего, а в придуманного романтического героя, которым он ей казался. А потом пришла еще одна революция, потом Гражданская война, и в страшной нужде, в разрухе, временами даже в голоде, в стонущем от разрывов снарядов разрушенном Царицыне, куда Надя не раздумывая отправилась вслед за ним, она привязалась к нему всем сердцем — и навсегда, и он, тронутый до глубины души и польщенный ее чистым чувством — ему в то время было уже сорок, — осмелился все-таки сделать ей предложение.
Что началось потом!
Упреки, скандалы, холодное молчание Надиного отца и несчастные глаза Надиной матери, бывших его друзей по партии.
— Он идиот, кретин! — в исступлении кричала Ольга Аллилуева дочери. — Разве ты этого не видишь?
— Он вовсе не идиот! И я люблю его, мама!
— Он друг твоего отца! Как он мог, они всю жизнь дружили! Он в отцы тебе годится, а не в мужья! Тебе нет еще восемнадцати! Боже мой, он же попросту воспользовался тобой! Это же надо: у него хватило цинизма даже забрать тебя на фронт — чтобы ты там удовлетворяла его прихоти, а мы ни о чем не знали и не могли ему помешать! Борьба с белыми — вот она, такая у него, оказывается, борьба… А может быть, он изнасиловал тебя?
— Все не так, мама… Не надо, прошу тебя!
По щекам Нади катились горькие слезы… А он делал все, чтобы ее утешить, — говорил ласковые слова, окружал заботой, торопил со свадьбой, и они вместе мечтали, как хорошо заживут, когда жизнь наладится: они переедут в загородный дом, и возьмут с собой Якова и родителей Нади, и будут жить все вместе, и обязательно будут счастливы…
* * *
— Я услышала из уст одной молодой и красивой женщины, что на обеде у Калинина ты был очень обольстительным, — сказала Надя с усмешкой. — И удивительно потешным. Ты смешил всех сотрапезников, и смеялись даже те, кто испытывал робость от твоего августейшего присутствия.
— Да, мы хорошо провели время, — мирно кивнул Иосиф, не вынимая трубки изо рта. — Было весело. Зря ты не пошла. Я бы хотел, чтобы ты тоже присутствовала и разделяла со мной мои развлечения.
— Мне начинают надоедать твои заигрывания с женщинами! — вскрикнула вдруг Надя, и костяшки пальцев на изо всех сил сжатых кулачках побелели.
— Какие заигрывания, Татька, о чем ты? — Сталин говорил все так же неторопливо, не желая поддерживать и раздувать грозящий вспыхнуть огонь ссоры.
Но нежное имя, которое он дал ей, еще больше взбесило ее.
— Ты невыносимый человек, и жить с тобой невыносимо! Ты мучаешь своего сына, мучаешь меня…
Он медленно встал, положил трубку и вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь.
Чувствуя себя на грани нервного срыва, Надя крикнула вслед, в удаляющуюся равнодушную спину мужа, тонким, срывающимся голосом:
— Что ты творишь со мной? Что ты творишь со своими детьми?
— Они — твои! — послышался резкий голос в ответ.
Единственным местом, где она не чувствовала себя подавленно, вскоре стала ее комната. Она запиралась там и сидела подолгу, не выходя даже к детям. Ее тяготила необходимость отвечать на приветствия, разговаривать, шутить, ходить в академию на занятия — она больше ничего не хотела и не чувствовала.
Призрак любовниц Иосифа витал над ней, и она не могла уже сдерживаться — рыдала ночи напролет, кричала, устраивала ему скандалы, совершенно забросила детей, а он был по-прежнему с ней терпелив и мягок, и только очень редко, когда она, как сейчас, выходила из себя, он мог тоже позволить себе несдержанность. Она бесилась от его молчания, от его спокойного голоса, от его трубки, которую он покуривал постоянно, от его полуулыбки за широкими усами, с которой он смотрел на привлекательных женщин. А их было так много возле него… Так много… И у него была абсолютная власть, которой он мог пользоваться, как ему заблагорассудится.
В новой просторной квартире она как в клетке: несколько проходных комнат, на окнах толстые двойные коричневые шторы — у себя она повесила легкие занавески, — тяжелые диваны, столы, стулья… Кроватки детей, игрушки, вышитые подушки… Нет, эта квартира, которую она так хотела сделать уютной, на самом деле склеп, это могила, в которой похоронены все ее мечты, все ее устремления и надежды…
«Что со мной? Мне все надоело, мне надоели даже дети… Неужели я подумала это? Как болит голова, боже, как болит голова…»
Ей было плохо даже от того, что он старался удовлетворить любые ее причуды. Она не испытывала ни в чем недостатка, она наняла поваров, нянек и домашних работниц. Она могла заказывать любую еду, получала билеты на любой фильм в любой кинотеатр и на любой спектакль в любой театр. Вот только ее муж всегда был слишком занят и не ходил туда с ней. Он ходил с другими — и любовался балеринами и певицами. А может быть, не только любовался?
«Как же мне плохо… Эта боль невыносима, она словно разъедает меня изнутри. Как больно, нет сил терпеть… Нужно встать, пойти… пойти к Васе, он один в комнате… Иосиф поит его вином — зачем? Вася маленький, он может привыкнуть? А где Светланка? Не могу вспомнить, господи… Да, она с Яковом, он повез ее кататься на лошадях. И Иосиф, наверное, поедет… Ничего не хочу… Господи, ничего не хочу…»
Иногда они вдвоем катались на роскошном лимузине или в автомобиле с откидным верхом по Москве, по набережной ее любимой Москвы-реки. Отпуск они проводили на берегу Черного моря, чаще всего в родной для Иосифа Грузии. Они разводили костры, пели, танцевали, играли в шахматы, в теннис… Их всех связывали простые дружеские отношения, но что-то чудилось Наде, что-то мешало ей, тревожило — в этих улыбках, этом смехе, этой кажущейся открытости и близости…
Ее пытались убедить ездить на собственном автомобиле, и отказаться не удалось. Но она так стеснялась, так волновалась и нервничала, что высаживалась из автомобиля за несколько кварталов от академии — чтобы все думали, что она приехала, как все, на автобусе. Она устроилась на работу, она стала прекрасным редактором, и гордилась этим, и очень хотела, чтобы это заметил и оценил Иосиф…
Она скрывала в академии и на работе, что она жена Сталина. И была единственной, кто мог позволить себе критиковать его поступки, — и единственной, к кому он мог прислушаться…
Она приходила в ужас от некоторых его методов воспитания детей — он мог, например, затянуться своей трубкой, наполнить рот дымом, а потом выдохнуть прямо ребенку в лицо, да еще и сказать ему, плачущему: «Ничего, крепче будешь!» — но не могла не видеть, как при этом он бывает ласков и заботлив с ними. Она перестала понимать, какой он настоящий — тот отважный и заботливый Коба, в которого она когда-то влюбилась, или суровый и вспыльчивый отец семейства…
Споры между ними становились все более частыми, нервы сдавали все чаще и чаще, и бывало, что она потом не могла даже вспомнить причину ссоры. У нее так часто и сильно болела голова, что она горстями пила таблетки, и потом, когда боль отпускала, не в силах была отличить реальность от привидевшихся образов.
— Ты — не более чем шизофреничка, ты — истеричка! — кричал Иосиф.
— А ты — параноик! — отвечала она. — Тебе повсюду мерещатся враги!
Все чаще она спала у себя в комнате, а Иосиф оставался в своем кабинете или в маленькой комнатке, примыкавшей к столовой.
Она пыталась уйти, уехать в Ленинград, мечтала работать в Харькове — уже не думая о детях, стремясь только разорвать этот круг недоверия, претензий и лжи. Она увлеклась религией и стала ходить в церковь, хотя раньше и помыслить не могла бросить такой вызов мужу, — и на некоторое время обрела душевное спокойствие и надежду, но потом вновь разочаровалась и утратила их…
* * *
Экономка Каролина Васильевна рано утром, как всегда, приготовила завтрак в кухне и пошла будить Надежду. Деликатно постучав и не получив ответа, приоткрыла дверь и вошла, держа в руках поднос.
— Доброе утро, Надежда Сергеевна! — поздоровалась она, но вдруг улыбка замерла на ее губах и медленно сползла с лица.
Надя лежала возле кровати вся в крови. Вся комната внезапно показалась Каролине Васильевне багровой. Ярко-красным было все — пол, стены, занавески… Она попятилась, зажав рот рукой, но поднос чудом не выронила — потом она изумилась, поняв, что так и не выпустила его из рук.
Она издала сквозь зубы полустон-полувскрик и вне себя от страха побежала в детскую и позвала няню.
— Не будем Иосифу пока говорить, — тихо произнесла няня. — Это до утра подождет. Вот горе-то, господи…
В руке Нади был маленький «вальтер». Увидев его, Каролина Васильевна опять тихонько завыла и без сил опустилась на пол рядом с хозяйкой.
Они переложили тело на кровать — рука Нади бессильно свесилась на пол, — положили рядом пистолет, вытерли пол… Каролина Васильевна не переставала всхлипывать и старалась не смотреть в ту сторону, где лежала еще недавно живая, веселая и красивая Надя. Чайная роза до сих пор была приколота к ее волосам…
— А вдруг это он убил ее? — вдруг прошептала она, пораженная внезапной мыслью, глядя на няню полными ужаса глазами.
— Кто? — не поняла экономка.
— Он…
— Кто? Что? — И няня тоже чуть не осела на пол. — Да ты с ума сошла… Что говоришь-то?
— Нет, не мог он, — замотала головой Каролина Васильевна. — Не мог… Ругались, да, но кто ж не ссорится, дело семейное…
— Нет, нет, — не выдержав, запричитала и няня. — Он ведь любил ее, больше жизни любил… Идем, идем, — заторопилась она. — Звонить надо!
— Кому звонить? — растерянно переспросила Каролина Васильевна. — Ой, что-то не соображу ничего, мысли все перепутались…
— Всем, всем звонить! Начальнику охраны, Енукидзе, Полине…
— Какой Полине? — беспомощно спросила экономка.
— Молотовой! — прикрикнула няня и машинально, видимо, по старой памяти, перекрестилась, но тут же раздраженно, словно опомнившись, махнула рукой. — Идем, идем, спешить надо!
Прошло совсем немного времени, как в столовой собрались все самые близкие друзья Нади и соратники Сталина. Пришла вся верхушка партийного аппарата, даже Молотов и Ворошилов. Никто не нарушал тягостного молчания, никто не мог поверить в случившееся. В тишине они молча ждали.
Наконец Сталин вышел в столовую.
— Что случилось? — спросил он. — Что, я вас спрашиваю?
— Иосиф, — произнес Клим Ворошилов в абсолютной тишине. — Нади больше нет с нами.
* * *
Пройдет несколько лет, и на одном из приемов в доме Сталина речь зайдет о так давно и жестоко покинувшей его жене.
— Как это Надя могла застрелиться? — горько скажет он, покачивая головой и держа в руке бокал темного грузинского вина. — Очень она плохо сделала. Что дети, Сашико, они ее забыли через несколько дней. А меня она искалечила на всю жизнь…
Мария Игнатьева. Красный демон Тухачевский
— Собирайся, родная! Я за тобой…
Так в одночасье изменилась ее жизнь. Вчера она была дочерью машиниста депо, а сегодня стала женой красного командарма Миши Тухачевского. Маша была его первой гимназической любовью, но, где бы он ни был, он отовсюду писал ей, не давая забыть тех далеких дней в Пензе, когда гимназист класса «Г» преподнес ей цветы и прошептал:
— Я уезжаю в Москву. Но когда-нибудь я вернусь за вами, вернусь навсегда.
Маша, говоря по чести, не поверила этим словам, но и забыть юношу не смогла… Или он не позволил ей это сделать.
Вагон командующего армией был, конечно, уютным и обжитым. Он мало напоминал теплушки, которые везли на фронт солдат. Маша на станции не раз видела составы, не раз читала на закопченных деревянных стенках надпись «40 человек или 8 лошадей». Наверное, эти несколько дней были в ее жизни самыми счастливыми. Красавец и умница, командарм и орденоносец Миша был только с ней — он позволял себе отвлекаться лишь тогда, когда она спала.
Обмирая, слушала Маруся рассказы Миши о немецком плене, слушала и не могла поверить. Четыре попытки побега… И пятая, удачная!
Да разве могло такое быть? Это как же должны были немцы уважать ее мужа, как ему доверять, чтобы под честное слово отпускать его из лагеря в город! И после попытки бежать — вновь, как ни в чем не бывало, отпускать, и опять под честное слово. Перед Марусей, так он чаще называл жену, Тухачевский не кривил душой и рассказывал все без утайки. Так было заведено в доме его отца, который женился на матери по большой любви, наплевав на мнение света. Вернее было бы сказать, что он рассказывал обо всем, что уже произошло и что нельзя изменить. А вот мысли свои всегда оставлял при себе.
Мезальянс родителей, конечно, не мог не отразиться на судьбах детей. Но если старшие достаточно легко нашли себе место в жизни, то Михаил за это отца почти ненавидел временами.
Еще бы! Ведь именно из-за его, отца, женитьбы Михаилу был закрыт путь в военное училище и он вынужден был посещать гимназию. Кто бы сомневался, что учился мальчик спустя рукава при способностях весьма и весьма незаурядных. Он едва ли не с детства в совершенстве владел немецким и французским, любил астрономию и математику. Но при этом ненавидел Закон Божий.
— Помню-помню, — рассмеялась Маруся, когда Михаил впервые об этом упомянул. — Я увидела тебя возле городского сада, после того как батюшка выставил тебя с урока и велел классному наставнику сопроводить тебя до дома.
Михаил улыбнулся жене:
— А наставнику было лень одеваться, и он просто выдворил меня из гимназии, погрозив, что обо всем доложит отцу.
— Доложил?
— Нет. Запамятовал… или «не захотел портить судьбу юноше»…
— Портить судьбу?
— Да, он сам так всегда говорил, прикрывая собственное нерадение.
— И вы, конечно, этим пользовались?
— Конечно. Иначе как бы мы с Куляпко смогли провести весь день в кондитерской мадам Софи, а потом еще и привести туда вас с Глашей?
— Это тогда у вас не хватило денег и пришлось оставить форменную фуражку в залог?
По скулам Михаила заходили желваки — это было не то воспоминание, которое его веселило. Унижение от тех минут, когда отец раскрывал бумажник, отдавал ассигнации мадам Софи и забирал фуражку, вернее, то холодное презрение, каким он облил сына, не забылось до сих пор.
Маруся осеклась. Ей совершенно не хотелось расстраивать мужа. Да и кто мог знать, что такое далекое воспоминание столь сильно заденет всесильного командующего Первой революционной армией?
Повисла неловкая пауза. Маруся перевела взгляд за окно, где мелькали осенние золотые леса, — Пенза осталась далеко позади, а впереди была неведомая ей пока «линия фронта». Девушка поежилась — она была не из робкого десятка, однако о войне думать было тревожно. Но все же она решилась:
— Куда мы сейчас, Михаил?
— Бить врага, душа моя…
— Врага? Колчака?
— Нет, — наконец Михаил улыбнулся. — У революционной России много врагов. Но не думаю, что тебе так уж интересно будет узнать, кто их них именно сейчас доживает последние дни.
— Последние дни?
Маруся прекрасно знала, вернее, уже успела рассмотреть, что ее муж невероятно тщеславен, что каждой своей победе придает огромное значение, а каждое поражение склонен рассматривать только как случайность. Хотя если твои враги сплошь генералы, а ты стал командовать целой армией, получив только чин поручика… Наверное, тебе лучше знать, насколько быстрой и решительной будет грядущая победа.
— Но это, уверен, не то, о чем следует говорить с любимой женой.
Маруся прижалась к плечу мужа. Оно было таким жестким, надежным. Девушке стало удивительно спокойно — пусть они едут на какую угодно войну, но пока он рядом с ней, ей бояться нечего!
Михаил обнял жену за плечи и чуть прижал к себе. Он чувствовал, что рядом с ним не просто женщина, молодая и удивительно красивая, но истинный соратник по борьбе. Или хотел это чувствовать…
Тухачевский тоже смотрел в окно на пролетающие мимо осенние леса. Но что видел он? Наверняка не красоты природы занимали мысли командующего Первой революционной армией. И не стоящие перед ним боевые задачи. Сейчас он был ох как далек и от жены, и от вагона командарма, и от России. Слова Маруси невольно вернули его в те дни, когда он, окончив с отличием последний класс Александровского военного училища, куда отец все-таки смог его определить, получил аттестат. Да, окончил блестяще — в первой тройке по успеваемости.
«Только там, в училище, и еще в кадетском корпусе до училища я и занимался с удовольствием. Я чувствовал, что именно в этом мое призвание — стать выдающимся полководцем. Великим, именитым. Так, чтобы обо мне люди вспоминали с уважением и восхищением даже через десятки лет. Ох, какое же прекрасное время это было!»
Время и впрямь было не самым плохим — Российская империя тратила на воспитание будущих воинов немало сил и средств. Поощряла лучших из них. Кадровый военный — это было и почетно, и уважаемо, и безбедно (если, конечно, не играть в карты с утра до вечера и не волочиться за юбками). Но цель Михаила была слишком высока, чтобы разменивать жизнь на такие мелочи.
Михаил окончил училище и был представлен самому государю императору Николаю Второму. Еще одной привилегией отличников была возможность выбора дальнейшего места прохождения службы. Михаил выбрал лейб-гвардии Семеновский полк, и после прохождения необходимых процедур гвардии подпоручик Тухачевский в июле 1914 года был назначен младшим офицером в седьмую роту второго батальона.
— Эх, Маруська, — чуть раньше говорил Михаил, вспоминая о тех днях. — Какое это было чудесное время, какие надежды мы питали… Но проклятые немцы… все наши надежды расстреляли и газами задушили. Чудовищная и страшная германская война!..
— Газами? — Маруся широко открыла глаза. — И тебя тоже?
— Нет, от этого меня судьба уберегла. Хватило боев на Западном фронте.
Дальше речь его приобрела характер газетной статьи — жена поняла, что эту историю он рассказывал уже не раз и она была отлакирована и отполирована до полной гладкости, даже глянцевости.
— Я был участником Люблинской, Ивангородской и Ломжинской операций. Был ранен, за проявленный героизм пять раз представлен к награждению орденами — Святой Анны с мечами, Святого Владимира четвертой степени с мечами и бантом, Святого Станислава. Святую Анну четвертой степени «За храбрость» получил буквально накануне плена…
Маруся кивнула: Михаил часто рассказывал ей о тех годах, о плене, о скрипке. Но Тухачевский словно не видел сейчас лица жены — его рассказ тек по накатанной колее, он словно сам любовался собой — молодым героем, отчаянным храбрецом, первым из роты героев.
— В февральском бою 1915 года у деревни Пясечно под Ломжей моя рота была окружена, а сам я попал в плен. Представь себе: ночь, немцы окружили позиции роты и вырезали ее почти полностью. Нашим ротным командиром был капитан Веселаго, отчаянный сорвиголова, добровольцем попавший в 1905-м на русско-японскую. Он дрался как лев, но был убит. Говорят, когда русские потом отбили захваченные германцами окопы, на теле капитана насчитали двадцать штыковых и огнестрельных ран… А опознали капитана только по Георгиевскому кресту. Мне об этом рассказали намного позже, в семнадцатом, когда я вернулся в запасной батальон Семеновского полка.
Сам же Тухачевский угодил в плен не просто живым, но даже не раненым. Об этом он вспоминать не любил. Хотя мысленно оправдывал себя тем, что ему некуда было деться из расположения батальона, оцепленного германцами.
А вот воспоминания о последующих двух годах в плену были не в пример приятнее — уважение, которое питали к нему враги, уважение, с которым к нему относились другие пленные. Высоченный тощий француз де Голль как-то назвал его «неистовым Мишелем» — за его тягу к свободе. И еще за то, что не было дня, чтобы он, Михаил, не изобретал планов побега.
Тухачевский опустился на диванчик и усадил рядом жену. Впереди, похоже, был населенный пункт — поезд командующего замедлил ход, ложечка в стакане перестала дребезжать, шторы больше не колыхались, опали, плотно закрыв окна от любопытных глаз.
— А я рассказывал тебе, Маруся, о скрипке?
— О скрипке? Которую ты в Александровском сделал?
— Нет, о другой. О той, которую в Ингольштадте получил.
— Об этой не рассказывал. А что это за история?
Михаил довольно усмехнулся. Да, о таком приятно вспомнить и сейчас, хотя уже не один год прошел…
— А дело было так. Я человек решительный и в плену надолго задерживаться не собирался. Бежал целых четыре раза. Но ловили и возвращали.
Маруся кивнула — это она уже слышала не раз. Как слышала не впервые и о том, что его отпускали в город под честное слово. И он, Михаил, собственное офицерское слово нарушал с такой легкостью…Должно быть, цель в его глазах оправдывала средства. Как-то раз Тухачевский обмолвился, что если побег удавался, то немцы расстреливали пятерых пленных, которых выбирал слепой жребий. А если беглеца удавалось изловить, то его запирали в карцер. И все. Проходило какое-то время, и беглец снова возвращался в свой барак, по-новой давал обещание и опять уходил в город прогуляться.
«Странная логика…» — думала Маруся, слушая рассказы мужа.
— Когда меня изловили в четвертый раз, то этапировали в Ингольштадт — специальную крепость для таких же, как я, непреклонных и решительных беглецов. Форт номер девять — здесь содержались пленные, для которых определен особый режим содержания… Немцы называли их штрафниками. Раз в год пленникам дозволялось писать прошение в комитет Красного Креста, обычно просьбы эти Красный Крест не удовлетворял. Но та моя просьба была выполнена — ведь такого еще не просил никто.
— И о чем же ты просил?
— Я помню то письмо дословно: «В Международный комитет Красного Креста. Поскольку ваша организация не может облегчить жизнь простого российского военнопленного категории № 5 (неоднократные попытки к побегу), прошу из средств комитета купить мне скрипку и отправить ее в Ингольштадт. Подпоручик лейб-гвардии Семеновского полка Михаил Тухачевский». И, представь себе, скрипку доставили через два месяца. Подарок Красного Креста администрация крепости была вынуждена передать неукротимому российскому заключенному.
— А дальше? Что было дальше?
— Дальше каждый вечер в крепости звучала скрипичная музыка. С девяти до десяти вечера номерной заключенный форта номер девять играл на скрипке. Каждый день! Так, чтобы к этому привыкли все!
— Привыкли?
— Привыкли, — кивнул Михаил. — Да как! Надзиратели, которые обязаны были присутствовать на каждом концерте, сначала сидели в зале, где я играл, потом, устав от музыки, стали слушать из-за дверей. И как только это случилось, я передал скрипку другому, тоже заключенному, тоже из форта номер девять. Но другому человеку.
— А зачем?
— Да дело-то в том, что всю эту историю со скрипкой я задумывал как отвлекающий маневр — неужели ты думаешь, что заключение в Ингольштадте могло заставить меня отказаться от мысли о побеге?!
— Тебя? Конечно нет — твой дух не сломить каким-то ограниченным немчурам.
— Да, родная, именно так. Мой дух не сломить никогда и никому!
Маруся кивнула — это она знала всегда. Еще в те невероятно далекие гимназические времена Михаил был на удивление настойчивым, временами до ослиного упрямства.
— И чем же закончилась история?
— А чем она могла закончиться? Все были уверены, что играю я, а я в это время собирался вон из крепости. И сбежал всего через неделю после того смешного первого концерта…
«И кто-то за тебя поплатился жизнью… Немцам-то не отказать в педантичности и аккуратности».
Нельзя сказать, что Маруся осуждала Михаила. Ничуть. Но что-то в нем ее откровенно пугало, в том числе и эта самая решительная непреклонность. Непреклонность и еще уверенность в том, что он один знает, что лучше и что хуже. Не зря же в качестве свадебного подарка Михаил преподнес Марусе маленький револьвер. Девушка почти не удивилась — ждать от Михаила чего-то иного было почти невозможно.
— Всегда носи его с собой. Помни, что ты жена командарма. Всегда будь готова защищаться.
— Как скажешь.
Маруся кивнула.
От слов «жена командарма» на душе стало так тепло и ясно, а от слов «готова защищаться» почему-то неуютно.
* * *
«Помни, что ты жена командарма…»
Прошло немногим более полугода. Маруся уже вполне отчетливо понимала, что на самом деле значат эти слова. Меньше всего ей нужно было защищаться. А вот что нужно было куда больше — это терпеливо ждать, ждать неделями, когда муж возвратится из очередного рейда, «экспедиции», как он это называл.
Первая Революционная армия на самом-то деле существовала только на бумаге. Живую, настоящую, «боевую», как говорил Михаил, армию еще только предстояло создать. Создать, опираясь на свой небогатый опыт, прислушиваясь к мнению военспецов, но все же не следуя ему буквально.
Как-то раз Маруся нашла на столе мужа черновик приказа. Несколько раз перечитала его и ужаснулась, насколько огромной, просто чудовищной была стоящая перед Михаилом задача. Соглашаясь отправиться вместе с Тухачевским на Западный фронт, она не представляла, насколько велика разруха, во что превратилась бывшая армия Российской империи и какой путь предстоит пройти разрозненным частям, чтобы вновь стать армией.
«Приказываю всем бывшим офицерам немедленно стать под Красные знамена вверенной мне армии и уже сегодня прибыть ко мне! Неявившиеся будут преданы воен…»
Неудивительно, что по вечерам муж появляется таким измочаленным. Создать армию из ничего — это слишком серьезная задача… И решение такой задачи взять на себя может только очень уверенный в себе и своих силах человек. Наверное, поэтому Михаил почти не слушал ее рассказов о том, как голодно в Пензе, как бедствуют родители Маруси.
— Мы строим великую страну, строим на развалинах. Да, мы несем большие потери, приносим по-настоящему кровавые жертвы. Но революция, поверь мне, Маруська, приведет нас в светлое завтра.
Мария верила мужу. Верила, но время от времени одергивала себя, чтобы не задать мужу вопрос «когда?». Когда наконец наступит это светлое будущее?
Маруся, дочь машиниста, была девушкой простой, полученного гимназического образования ей было вполне достаточно. Муж не раз повторял, что ей следует учиться, побольше читать, работать над собой, избирать себе трудные цели и достигать их.
Но высокие цели Мария ставить перед собой не хотела. Или, быть может, хотела, но сил после повседневных забот не оставалось. После повседневных забот и горьких писем, которые писали ей родители.
«Моя дорогая Машенька. Пишут тебе твоя мать и твой отец. У нас все хорошо, чего и тебе желаем. Третьего дня соседка наша, Глафира Степановна, померла. Вышла из дому по воду, но не смогла поднять ведро — с голодухи сил совсем не было. А вечером и преставилась. Твоя подружка Сонечка устроилась сестрой милосердия в военный госпиталь. Какая она ни безрукая девка, но все ж таки там паек, надеется, что с голоду помереть ей не дадут. Она же, бедняжка, совсем одна осталась на этом свете. Батюшка ее еще год назад скончался, а нынешней осенью матушка и младшая сестренка померли: тиф… Спасибо тебе за муку, что прислала ты нам в прошлом месяце. Мы устроили такой пир, так радовались твоему счастью. Даст бог, судьба убережет тебя от судьбы Насти и Сонечки! За сим остаемся навеки твои мама и отец!»
Маруся плакала над такими письмами. Мама, простая женщина, жалела ее, жалела и даже половины правды не писала. Наверняка ведь и они с отцом голодают. А тем, что она привозит, с соседями делятся. Страшный-то год, разруха…
Как-то раз попыталась Маруся поговорить об этом с мужем. Михаил несколько дней подряд появлялся рано, усталый, но чем-то довольный. Вот в один из таких вечеров и рассказала она Тухачевскому о том, как бедствует его родная Пенза.
Но Михаил ее не слушал совсем. Он слышал, что она говорит, но думал о чем-то невероятно далеком, нездешнем.
— Михаил, ты слышишь меня? — окликнула его Маруся.
Тухачевский улыбнулся жене, но ничего не ответил. Он и слышал и не слышал ее. Тогда Маруся впервые задумалась о том, что для ее мужа значит их брак. Впервые, ведь раньше ей было вполне достаточно его крепких объятий, бессонных ночей в его ласках, чтобы понимать, что она нужна ему и что именно в ней он видит будущее своей семьи. Однако нынче, когда на смену эйфории первых дней пришла обыденная жизнь, ежедневные заботы, когда мир с его радостями и, куда чаще, неприятностями вторгся и властно заявил свои права, вдруг оказалось, что Михаил даже здесь, с ней, все равно неспокоен. Он, становясь мужем, не перестает быть тактиком — его мозг все так же занят решением вопроса, как выстроить свою судьбу, добиться заветной цели.
Марусе стало страшно: что, если она ему нужна тоже только для этого, для того, чтобы сделать еще один шаг к заветной цели? А потом еще один, а потом еще…
Михаил любил вспоминать, как, вернувшись в Россию в семнадцатом (неужели это было всего два года назад?), сразу же понял, что следует принять сторону большевиков, что так он сможет добиться главной своей цели — стать самым именитым военачальником.
— Понимаешь, Марусь, я ведь еще в гимназии мечтал стать не просто военным, я мечтал стать генералом.
— Помню, что старшеклассники в гимназии тебя дразнили Бонапартом… — перебила Мария.
Михаил нахмурился:
— Это не то, совсем не то. Хотя если бы мне удалось достичь чего-то подобного, с армией пройти Европу, возвеличивая свою страну… Да, от такого я бы не отказался. Ну так слушай. Вот я пересек русскую границу, вот ступил на улицы Петербурга. Нет, уже Петрограда. Я прошел от Невы вверх, может быть, несколько кварталов. Я увидел страну, которой остро, до боли, не хватает всего. Но в первую очередь не хватало, как мне тогда показалось, силы упорядочивающей. Ведь до германской войны все же было спокойно. Но куда девались толстые городовые с перекрестков? Почему Главный штаб больше напоминает сарай? Словно люди, получившие власть, добившиеся ее, не знают, что теперь с ней делать, куда приложить свои силы, чтобы страна вновь стала похожа на страну, а не на сброд бездельников…
Маруся ахнула — да, муж от нее ничего не скрывал, но его откровения были такими страшными, «контрреволюционными»… Тогда Мария не обратила внимания, что муж-то говорит шепотом.
Много позже она вновь будет вспоминать эти слова, и вот тогда еле слышный шепот найдет свое оправдание.
— К тому же как-то на улице случайно встретил я Николая Куляпко, он уже был при высокой должности. Нет, я ему не завидовал — да и отчего бы мне, Тухачевскому, завидовать карьере сына ремесленников. Но, поразмыслив, пришел в выводу, что как Николай выбрал сторону для выстраивания своей жизни, так и я должен сделать это и что сейчас мне с Куляпко и его революцией по пути.
Мария только молча кивнула. «Сейчас по пути» — этим было сказано все.
— Но мало было сделать выбор. Надо было выдвинуться. Стать не просто одним из военспецов, стать необходимым! Именно поэтому я и отправился в запасной батальон Семеновского полка, именно поэтому рассказал солдатским командирам все о своем плене и своих побегах. Именно поэтому, думаю, солдаты и избрали меня, подпоручика (подумай только, Маруська, всего лишь подпоручика!) командиром роты.
— Но ведь ты же был командиром роты там, в окопах?
— Это иное, девочка. Там командует тот, кто понимает, что надо делать. И погоны имеют совсем небольшое значение. А здесь, среди этого бывшего крестьянского сброда…
— Михаил!..
— Да, верно. Так вот, подпоручику в двадцать четыре года никогда не стать бы командиром роты в те, прежние времена, при Николае. А сейчас… И тут я понял, что сделал верный шаг. Через неполных три месяца по рекомендации все того же Николая я вступил в партию большевиков.
— Хорошо, что ни Николай, ни кто-то еще не слышит твоих слов.
— Ну почему же? Я был убежден, что именно за большевиками будущее. И я хочу принести пользу своей стране, значит, я один из них. Да я и сейчас в этом убежден — наверное, более, чем тогда.
Что-то в словах мужа пугало Марусю, но что-то и успокаивало. Может быть, ей, простой девушке из простой семьи, пусть и окончившей гимназию, не понять, что же движет такими гигантами, как ее муж? Может быть, и ей не мешало бы взглянуть на мир не с обывательской, а с иной, более высокой, точки зрения. «Приносить пользу стране» — как это важно, как торжественно звучит. А Михаил все продолжал свой рассказ:
— Ведь в восемнадцатом году не было в стране настоящей обученной армии. Ценили каждого военного специалиста, который перешел на сторону большевиков. Каждому давались огромные права — и это заставляло нас всех, военспецов, работать, не зная ни дня ни ночи. Николай, вот уж не знаю отчего, стал продвигать меня вперед так, как только мог, должно быть, видя во мне своего человека. Он даже представил меня Владимиру Ленину. Тот лишь раз взглянул на меня и сразу все понял! Это его слова: «Дайте ему армию и отправьте на фронт, пусть покажет, на что способен!» Вот так я стал командармом. Надо просто оправдывать доверие — и тогда я не только генералом, но и маршалом стать смогу…
— Красным Бонапартом? — наполовину шутя, наполовину серьезно переспросила Маруся.
— Да, красным Бонапартом. — Михаил шутки не принял, глаза его оставались строгими, далекими. — Но маршалу, помни это, Маруська, нужна в женах настоящая помощница. Не просто милая и любимая женщина, а женщина-соратник, женщина-сподвижник…
«Соратник? Сподвижник? О чем это он?»
— О чем ты, Михаил?
— Хорошо бы тебе пойти на курсы. Тебе нужны новые знания, тебе необходимо понимание курса партии, тебе следует найти свое место в новом мире. Так, как нашел свое место я.
— На курсы?
— Да что ты меня все время переспрашиваешь? Я же ясно сказал — одних гимназических познаний для жены командарма недостаточно! А для жены маршала и университетских много не будет!
Но Маруся вовсе не собиралась снова идти учиться. Да и зачем? Поддерживать мужа можно и не только высокоумными беседами с другими женами. Вот уж что меньше всего сейчас нужно ей — так это университет!
«О чем он говорит? О чем думает? В стране голод, разруха. А ему подавай жену с университетским образованием! Другая, вишь ты, не подходит!»
— Обратись в реввоенсовет… Мне обещали, что подыщут для тебя хорошие курсы для жен высшего командного состава. И не затягивай с этим.
* * *
Тогда Маруся послушно кивнула, решив, что обязательно и прямо завтра выполнит указание Михаила. Она даже уже оделась и вышла в холодный февральский полдень, когда увидела почтальона, спешащего к ней.
— Вот хорошо, Мария Игнатьевна, что я вас увидел! Письмо вам. Получите, и я сразу дальше побегу!
— Спасибо большое! — Маруся уже нетерпеливо разворачивала письмо.
Как же она соскучилась по дому, по теплому маминому участию, по суровой и сухой отцовской улыбке! Как сжимается сердце сейчас, когда вспоминает она свой последний приезд в Пензу — изможденные лица родителей, опустевшие полки в кладовой, исчезнувшие безделушки, которые наверняка были обменяны на продукты… А мамины слезы, когда увидела она жестяные банки с консервами и мешочек с рисом… Как затряслись руки отца, когда он по одной заботливо ставил банки на самую верхнюю полку кладовой.
Да, писала мама, в Пензе за месяц ничего не изменилось — родители живы и здоровы. Но умерла от голода двоюродная сестра отца, а тиф унес ее сыночка, Марусиного сверстника, который тоже, как и ее отец, пошел в машинисты.
«Не беспокойся о нас, доченька, — писала мама. — Мы здоровы, всего у нас вдосталь. Едим сытно и тебя, кровиночку нашу, вспоминаем. Ждем не дождемся, когда ты вновь приедешь…»
Руки у Маруси дрогнули. Господи, о какой же ерунде она думает, какие глупости собирается делать! Родители голодают, родня умирает, а она, дурочка, ищет курсы, подобающие жене маршала!..
Девушка вытерла слезы и торопливо вернулась домой, пусть этим домом и был салон-вагон мужа. Руки по-прежнему тряслись, словно февральский сырой холод проникал и сюда, в натопленный уют.
Маруся собрала все карточки, какие нашла. Не забыла продуктовый аттестат, который отдал муж. Проверила, хорошо ли сложила документы, плотно замоталась пуховым платком и поспешила в лавку, где обычно отоваривала карточки.
Ей надо было не только получить продукты, но и успеть на литерный поезд, который отправлялся в тыл. Второй большой станцией, Маруся это знала, была Пенза.
— Господи, только бы успеть!
* * *
Литерный отошел точно по расписанию. Проводив его, человек в длинной темно-серой шинели поспешил к авто, которое ожидало его на привокзальной площади.
— В реввоенсовет! Да поживее!
Шофер суетливо передвинул рычаг, и машина, сердито пофыркивая, прогрохотала через площадь в сторону длинной Торговой улицы. В ее торце высилось здание биржи. Бывшей биржи, точнее, теперь в нем помещался реввоенсовет фронта. Человек в серой шинели вытащил из кармана часы и открыл крышку. Да, он отлично успевает…
«Ну что ж, товарищ Тухачевский! Ваш ждет чрезвычайно неприятный разговор!»
Человек в шинели довольно улыбнулся — этот выскочка из военспецов уже всем показал, что значат на самом деле революционное самосознание и революционный задор. Показал и то, что царские вояки уже никому не нужны — их опыт восприняло новое поколение и теперь всех их можно смело отправлять в расход.
* * *
— И наконец, последнее, товарищ командарм! Реввоенсовет не умаляет ваших заслуг, мы все, как один, поздравляем вас с награждением почетным именным оружием. Победа над Колчаком — это великая победа. Но все же моральный облик большевика, победителя белой сволочи, не может не беспокоить реввоенсовет!
Тухачевский гордо выпрямился. «Моральный облик? О чем эта серая крыса? Не иначе, донесли о приезде Лидии…»
— Ваша жена, командарм, ведет себя контрреволюционно. Пока вы воюете, она мешками таскает в Пензу продукты. В стране голод, а товарищ Тухачевская, пользуясь вашим именем, разъезжает на литерных поездах…
Краска отлила от щек командарма. Да, это было куда страшнее, чем появление любовницы у первого лица армии. Это была неприкрытая контрреволюция. Понятное дело, что весь предыдущий разговор был затеян только ради этих нескольких слов. И теперь ему надо принять решение — защищать жену или нет.
— Мы даем вам три дня, товарищ Тухачевский, чтобы вы навели порядок в своей семье. Три дня!..
— Слушаюсь! — командарм щелкнул каблуками.
— И прекратите ваши царские штучки! На дворе двадцатый год, Николай Кровавый мертв, а у вас все выправка да муштра! Лучше бы вместо этого проводили политинформации!..
— Будет исполнено! — Командарм коротко кивнул, повернулся через левое плечо и вышел в бывший биржевый зал, сейчас тихий и пыльный.
Стульев не осталось — они все ушли на дрова. Лишь два огромных ореховых стола да высоченный шкаф-картотека томились в пыльном углу, дожидаясь того мгновения, когда революционный топор сокрушит их в щепки и они отправятся в коптящие буржуйки, вроде той, что пыталась согреть комнату революционно сознательных членов совета.
— Проклятые болтуны, — прошипел Тухачевский. — Чинуши…
Но в чем-то они были правы. Не дело, чтобы жена командарма, как последняя мешочница, таскала продукты в голодающий город. Люди сами виноваты в том, что бедствуют. А ее, Маруси, дело — хранить честь и заботиться об имени мужа.
* * *
Маруся вернулась от родителей через двое суток. С усилием стянула платок, размотала его и стала снимать полушубок. Руки дрожали — уж очень она замерзла в вагоне. Пусть поезд и был литерным, но вагоны не отапливались, и до родного дома она добралась за семь долгих часов. А уж возвращалась так и вовсе в обычной теплушке, куда жену командарма устроили конники, в Тухачевском как в командующем не чаявшие души. Путь обратно тоже растянулся, но тут хотя бы ее пару раз угостили горячим чаем и крупным темно-серым ноздреватым сахаром.
И вот наконец она дома. Отчего-то пусто, хотя время позднее, Михаил должен был бы уже вернуться.
Маруся сняла полушубок и протянула руки к буржуйке — огонек в ней едва теплился, но все же это было тепло, такое долгожданное. Послышались тяжелые шаги — Михаил поднимался в салон-вагон.
Маруся радостно обернулась к дверям. Вот распахнулась узкая створка, вот Тухачевский шагнул внутрь. Но вместо объятий и радостной улыбки Марусю ожидало совсем иное: тяжелая пощечина обожгла щеку.
— За что?
— Мещанка! Мешочница! Дрянь!
Маруся приложила холодную руку к вмиг запылавшей щеке. От обиды подступили слезы, но она изо всех сил сдерживалась, чтобы не заплакать. «Слезы — это слабость, недостойная жены командарма…»
Да, такое тоже он ей когда-то говорил. И, к сожалению, она отлично выучила этот урок. Хотя не выучила многих других, за что теперь, как видно, и расплачивалась.
Михаил даже не пытался сдержаться. Обычно сухой, сейчас он сыпал бранными словами, намеренно стараясь ударить ее побольнее. И, выкричавшись, наконец куда тише прошептал, нет, прошипел:
— Я же велел тебе зайти в реввоенсовет! Велел учиться! Равняться на других жен комсостава! А ты вместо этого выставила меня вором! От твоей глупости вся моя карьера может рухнуть! Ты что, не понимаешь, какую глупость совершила?
— Да какую же глупость, Миша?! Что дурного в том, что я к родителям съездила, продуктов им отвезла? Ведь пухнут от голода, умирают… Неужели ты хочешь, чтобы я осталась сиротой?
— Они сами виноваты в том, что голодают. Работать надо больше, революционную сознательность проявлять! Тогда и еда будет, все будет!..
— Сами виноваты?! — Маруся, не выдержав, тоже сорвалась на крик. — Виноваты? Да как твой язык поганый повернулся! Отец виноват, что сутками из депо не вылезает, а по рабочей карточке получает осьмушку хлеба в день?! Мать виновата, что в госпитале днюет и ночует?! Виновата в том, что санитаркам даже рабочей карточки не положено? Виноваты в том, что из дома ушло все мало-мальски ценное только для того, чтобы прокормить семью?..
Михаил молчал. Он отчего-то не задумывался о том, что крестьянские мятежи под Тамбовом, здесь, да что там, почти по всей России поднимают люди, дошедшие до крайней точки, обобранные продразверсткой не просто до нищеты, догола… Он, регулярно получавший письма от близких из Александровского — тихого имения, которое семье удалось сохранить, — ни разу не встречал там жалоб на голод, на безжалостных продотрядовцев. Мать все больше рассказывала об успехах сестер, радовалась его, Михаила, успехам…
— Я тебе не верю, ты лжешь, не может быть, чтобы все было настолько плохо. Ведь уже третий год революции идет, на местах столько успехов!
— Ты можешь не верить мне, можешь не верить собственным глазам, если вдруг окажешься на Поволжье, в Тамбовской губернии, здесь, в Пензенской… Но все еще страшнее, чем есть. А врать тебе мне незачем — я не сделала ничего дурного. Я просто повела себя как нормальный человек, любящая дочь…
У Маруси разом закончились силы, и она тяжко опустилась на изящный венский стульчик. Ивовое плетение жалобно заскрипело.
— И ни в какой реввоенсовет я не пойду… У этих неучей помощи просить? Выслуживаться? Доказывать свою пролетарскую сознательность? Мне, дочери путейца?
Михаил молчал. Он упорно не хотел слышать того, что Мария ему говорила. Страх за себя и свою карьеру, эгоистичная боязнь замараться о неприглядную действительность — вот что двигало им. И еще слова человека в серой шинели: «У вас есть три дня, чтобы разобраться с женой…»
Разобраться? Что он имел в виду? И почему три дня?
Михаил перевел взгляд за окно. Никто, кроме него и комиссара, не знал, что через три дня поезд командарма вместе со всеми формированиями будет отправлен на Дон, чтобы выбить атамана Краснова. А лучше — уничтожить его и все его войско. Но комиссар, одобривший этот план, еще не вернулся из Петрограда. А он, Тухачевский, больше никому не доводил его ни в распоряжениях, ни просто в беседе. Да и с кем он может тут беседовать? С солдатней, право от лево не отличающей? Или с этими революционно устремленными недоучками, студентами, сбежавшими «в революцию» из-за лени?
«Нет вокруг никого, с кем я мог бы хоть словом перемолвиться спокойно. Вот, думал, что жена станет мне сочувствовать и помогать, но и она оказалась…»
Михаил махнул рукой и встал:
— Как бы то ни было, Мария, но теперь ты для меня не существуешь — в церкви нас не венчали, а революционный брак развода не требует. Ты свободна!
Он ожидал чего угодно, быть может, Марусиных слез, быть может, криков, но только не того, что увидел, — ее молчаливого кивка. Девушка встала, опять набросила на голову и плечи пушистый платок, старательно застегнула полушубок и, пройдя через салон-вагон, стала спускаться по крутым ступенькам…
«Что она затеяла? — паника затопила душу Тухачевского. — Куда она сейчас пойдет? Комиссара нет, но есть его жена. Они с Маней дружны… Жаловаться на меня собралась, мещанка?»
Михаил поспешил следом. Он уже представлял, что будет, когда его вновь призовут в реввоенсовет, вновь станут тыкать в лицо, но теперь уже обвинять станет его собственная жена, которая, конечно же, вывернет перед сочувствующей комиссаршей все грязное белье, обязательно вспомнит и тот давний разговор о высоких целях, которые он, Тухачевский, поставил перед собой когда-то и ради которых способен пойти на любой компромисс.
Он ступил на верхнюю ступеньку, огляделся по сторонам. В неверном станционном свете далеких желтых фонарей не было ни души. Лишь между путями шел прочь от салон-вагона солдат в длинной шинели. Поблескивал примкнутый к винтовке штык, вровень в дулом качалось в такт шагам навершие буденовки.
«Да где же она?»
Михаил спустился на одну ступеньку, потом еще на одну. Студеный ветер мигом выдул из кителя остатки тепла. Тухачевский поежился. Куда идти теперь, где искать эту дурочку? Как защищаться от нее?
В тот самый миг, когда Тухачевский ступил на щебенку между путями, он получил ответ на все свои вопросы. Из-за салон-вагона прозвучал одинокий выстрел.
«Револьвер?»
Тухачевский бросился на звук и увидел, как на рельсы оседает Марусино тело, а в ее руке зажат тот самый, подаренный на свадьбу револьвер. Тот, что всегда должен был быть при ней.
«Ну что ж, — с немалой долей облегчения подумал Михаил. — Наказ реввоенсовета выполнен: я разобрался с женой. И быстрее, чем за три дня…»
Ивонна де Голль. Мой любимый маршал
Издалека доносился гул бомбежки, бомбы падали, по-видимому, все ближе и ближе к побережью. Впрочем, к налетам здесь уже давно привыкли, и Ивонна, научившаяся отличать по звуку различные самолеты и орудия, а также приблизительно определять, куда полетит снаряд, быстрым почерком писала письмо, не обращая внимания на усиливающийся шум за окном.
«Дорогой Шарль, нам с детьми предстоит опасная дорога, и тебе ли не знать, насколько опасная. Не подумай, что я боюсь или сомневаюсь, ехать или нет. Я полна решимости, и самое заветное мое желание — встретиться наконец с тобой. Вчера разбомбили пароход, на который мы опоздали, и я окончательно уверилась, что судьба существует и что с нами случится только то, что должно случиться и что уготовано именно нам.
И если ты получишь это письмо, это тоже будет судьба. Потому что если я доеду до Лондона, я не покажу его тебе. А если не доеду и упокоюсь на дне Ла-Манша — посмотрим, какой долгий путь проделает оно, прежде чем попасть к тебе в руки.
Я хочу сказать тебе, что твое место в моем сердце не мог занять ни один мужчина. Оно было полностью твоим с той минуты, как мы познакомились. Привычка же и дружба наши с тобой, которые появились с годами, еще более укрепили мою любовь к тебе.
Я знаю, ты всегда опасался, что я разлюблю тебя. Видит Бог, никакой причины для этого не было, но и в самом твоем опасении есть нежность. Не сомневайся. Равного тебе нет. Читай в душе и сердце моем. Я открываю их перед тобой, как всегда, чистосердечно, может быть, в мою последнюю ночь. И ты не можешь этого не понять и не почувствовать.
Очень тебя люблю. Когда мы от всей души любим, бываем жестоки. Прости же меня, если невольно когда-то причинила боль. В свое время я потеряла голову от любви к тебе. Но смогла ли стать настоящим другом, надежным всегда и везде?
Я еще хотела сказать тебе, что ты великий человек. Зачастую неудача подвигает нас на усилия, которых мы никогда бы не стали прикладывать, сложись все благополучно, и мы достигаем куда большего, чем намеревались, хотя, возможно, и не совсем того, чего желали. Я думаю, я верю, я знаю, что твои усилия увенчаются успехом, мы прогоним врагов с нашей земли, а потом, переведя дыхание и утерев пот, скажем: «Иначе и быть не могло!»
Мы все идем навстречу своей судьбе и боремся с судьбой. А значит, ждет нас победа. Единственно возможная. Другого пути для нас теперь нет.
Где-то далеко борются и русские солдаты. Может быть, оттуда в скором времени придет к тебе помощь. Может быть, ты сможешь со временем им помочь. Подумать только, в глуши, в непроходимых топях, вдали от цивилизованного европейского мира мы видим примеры такой стойкости и настоящего героизма… И я всей душой желаю вам и им большого успеха, а нам всем, кто ждет вас, — поскорее обнять своих любимых.
Нашей обманутой и растерзанной стране нужно выжить. Все остальное — проза. Кто сможет нам помочь с оружием в руках? Польша не представляет собой ничего, да к тому же она ведет двойную игру. У Англии есть флот, но нет армии. Ее авиация отстает. Поэтому мы не имеем никакой возможности отказываться от помощи русских, какой бы ужас нам ни внушал их режим.
Уверена, что у тебя много трудностей в Англии, ты должен преодолеть множество препятствий на своем пути, интриг и обмана… Кто знает, каково истинное лицо нашего дорогого союзника и каковы его реальные интересы. Все же не будем предаваться унынию и тоске, а с верой и уверенностью взглянем в будущее. Помнишь, как ты сказал и все мы с замиранием сердца слушали тебя: «Франция проиграла сражение, но она не проиграла войну! Настанет день, когда Франция вернет свободу и величие…» И мы все, как ты и призывал, объединились вокруг тебя во имя действия, самопожертвования и надежды.
Ты не мог сделать другой выбор, и я восхищаюсь тобой. Когда Франция лежала в руинах, когда всех охватило разочарование, неверие и страх, ты один оказался способным сплотить мужественных, не опустивших руки солдат и уйти с ними, чтобы продолжить борьбу. Тебя ждет победа и великое будущее! Ты покроешь себя немеркнущей воинской славой, а благодарности тебе будут возноситься в веках.
Есть много доброго, что необходимо совершить на этом свете. Ты посвятил жизнь борьбе с самым страшным врагом, которого только знает человечество. Это ли не истинное благородство? К тебе сейчас устремлены взгляды всех тех, кого терзают и убивают во Франции. Ты — наша светлая надежда, ты — наша жизнь.
Такого мужчину, как ты, я всегда искала, надеясь, что рано или поздно появится тот единственный, который станет для меня самым важным и нужным.
Я вспоминаю твои светящиеся глаза, твои слова, твой запах… Помнишь, сколько светлых дней мы провели с тобой? Как радовались и веселились на нашей свадьбе? Как ты мечтал о ребенке? Я была так счастлива, когда ты обрадовался известию о дочери… Твоя радость стала для меня вдвойне отрадной. Помнишь, чтобы спеть нашей девочке колыбельную собственного сочинения, ты вырывался с военных маневров домой хотя бы на одну ночь?
А помнишь ли ты наше венчание? Звон колоколов, радостные выкрики друзей и потом танцы до упаду… У меня голова кружилась от волнения, пламени свечей, в голове стоял настоящий туман, а ты был такой красивый в своем военном мундире, и твои родители с такой любовью, так ободряюще смотрели на меня, что я сразу почувствовала себя их родной дочерью… А потом все сливается в одном полном счастья круговороте, и всплывает в памяти только твоя крепкая рука, на которую я опиралась, сияющие глаза гостей, поздравления, прекрасная лепнина в храме, добрый старый священник, который напутствовал нас… А еще цветы. Море цветов.
Наша комната в старом доме. Большой камин. В нем потрескивает огонь, а я сижу возле этого огня, вяжу крошечные носочки для нашего первенца, набросив поверх домашнего платья шаль, и жду тебя.
Подлинная любовь не возникает только оттого, что человек решил кого-то любить. Ты любишь просто потому, что любишь. Любить из-за того, что ты так решил, — невозможно. Возможно более или менее успешно делать вид, притворяться некоторое время, но приказать сердцу невозможно, как бы мы ни пытались это сделать. Чем больше мы пытаемся приказать ему, тем неохотнее оно нас слушает.
Никакие возможные недостатки не могут отвратить наше сердце от избранника или избранницы, никакие уговоры и клятвы не способны сломить упорство сердца, которое нашло того самого, единственного.
Подлинное чувство может одарить мир вокруг самыми яркими красками, превратить человека, еще вчера совершенно постороннего, в того самого, без которого весь мир — пустыня…
А рождение детей — по-настоящему великое событие. В них находим мы продолжение себя, быть может, более совершенное. Мы отдаем им все, что знаем, чему уже научились и чему будем учиться всю жизнь, в них мы обретаем новый смысл своей жизни.
В тебе одном сосредоточен для меня весь огромный мир. Любое прикосновение к тебе приносит огромное счастье, любой разговор — огромную радость, а миг, когда ты ощущаешь ответное чувство, запоминается как самый яркий — навсегда. Любовь возносит тебя над миром, словно ты получаешь крылья и можешь парить в свободной вышине — рука об руку с ангелами.
Ты не просто мой возлюбленный, ты друг, по-настоящему близкий человек. Человек, с которым можно разделить каждый день жизни и все дни до самого последнего, подлинный спутник и в горе и в радости.
Живу надеждой на встречу. Взглянем друг другу в глаза и вместе станем строить заново свой разрушенный дом — и наше погубленное имение, и нашу Францию.
Целую тебя и обнимаю тебя, моя любовь, мой возлюбленный маршал.
Твоя Ивонна».
Ева Браун. Мой фюрер
Утро началось как всегда — с чашки кофе и беседы с Генрихом Гофманом о новых тенденциях и именах в искусстве фотографии. Потом пришла пора выдачи заказов клиентам — это время Ева любила больше всего. Пошутить и посмеяться с самыми разными людьми — что может быть лучше? К тому же в ее работе есть неоспоримый плюс: можно завести бесчисленное множество знакомств, и не только с нужными и важными людьми, но и с молодыми неженатыми красавцами. Ей уже семнадцать — пора, пора подумать о семье…
Ближе к обеденному часу Ева стояла на стремянке, разбирая фотографии. Высокая и спортивная, она легко дотягивалась до самых верхних полок. Случайно взглянув вниз, она вдруг заметила, что незнакомец со смешными усиками и большой фетровой шляпой в руках, беседовавший с Гофманом на диване в углу, не отрывает взгляда от ее ног. Ева хмыкнула про себя — своими ногами она гордилась! — клиент есть клиент, разве откажешь ему в невинном удовольствии.
— Познакомься с господином Вольфом, Ева, — обратился к ней Гофман, когда она спустилась вниз. — А это наша очаровательная фройлейн Браун, моя ассистентка и по совместительству фотомодель. Будь любезна, Ева, сходи за пивом и паштетом.
— Конечно, господин Гофман.
Девушка кивнула гостю и улыбнулась. Она ждала, что господин Вольф сейчас скажет что-то вроде «у вас очень привлекательная ассистентка», но он ничего такого не сказал и даже руку ей пожал с самым равнодушным видом.
Еву пригласили присоединиться к застолью. Она съела бутерброд, из вежливости немного выпила. Вольф не сводил с девушки глаз, засыпал комплиментами и захватывающе, остроумно рассказывал о последнем спектакле.
— Кто этот человек? — спросила она вечером хозяина ателье.
Тот изумленно воззрился на нее. Лицо его выражало полнейшее недоумение.
— Что значит — кто, малышка? Я думал, ты узнала его и знакомство тебе польстит!
Ева ничего не понимала.
— Это же Адольф Гитлер, глупенькая! Он мой старый товарищ и клиент, Вольф — его партийный псевдоним. Не знал, что ты так далека от общественной жизни… Все газеты только о нем и кричат!
Ева немного обиделась, но промолчала. Конечно, она слышала об этом скандальном политике и даже пару раз слышала его речи. Но чтобы вот так просто… здесь, на работе… познакомиться с ним! Об этом нельзя было даже помыслить! Неудивительно, что она его не узнала!
— Я покажу тебе альбомы, — сказал Гофман. — Думаю, тебе будет интересно.
Еще бы! Конечно, ей было интересно! На следующий день — к счастью, было мало клиентов — она несколько часов провела, листая эти альбомы и внимательно рассматривая каждую фотографию: «Гитлер в партийной униформе», «Гитлер в окружении штурмовиков», «Гитлер посреди ликующей толпы», «Гитлер на фоне знамен со свастикой»… Какая интересная жизнь, какие занятные люди вокруг него!
К концу дня она уже была влюблена по уши.
* * *
История имела романтическое продолжение.
Они встречались очень часто, ходили в кино, на прогулки в парк. Адольф дарил Еве вестерны своего любимого Карла Мая, и она жадно прочитывала их и тоже их полюбила — потому что их обожал он.
Адольф вел себя более чем по-джентльменски, в галантности ему не было равных. Он не позволял себе пошлостей и двусмысленностей, целовал ей руки и предугадывал любое ее желание. Очарованная Ева изнывала от желания стать ближе к нему, ощутить вкус его поцелуя, но ни о какой физической близости речи не шло, и она терзалась сомнениями: так ли уж нравится она ему?
— Женщина способна любить глубже, чем мужчина, — говорил он ей, и Ева, замирая от восторга — он признавал глубину чувств женщины, — могла полночи проплакать, уверенная, что так он намекает на свою нелюбовь к ней.
Но на следующей прогулке он говорил, что браки, берущие свое начало от плотских ощущений, обычно неустойчивы и в ней загоралась надежда: он хочет, чтобы она стала его женой и потому не торопится!
Ева очень хотела любить — и вот наконец нашелся тот, кого она могла не просто любить, а обожать. Боготворить. Она мечтала отдать ему всю себя, без остатка. Потрясенная и польщенная тем, что на нее обратил внимание такой известный человек, она не замечала ни его нервных срывов, ни экстравагантных поступков, которые в другом человеке могли бы ее напугать. Ее не отталкивали даже его заявления о том, что умный мужчина всегда должен выбирать примитивную и глупую женщину, она все равно слушала его открыв в восхищении рот, а уж на внешность возлюбленного она тем более внимания не обращала. А он был весьма и весьма далек от совершенства: мускулист, но склонен к полноте, имел впалую грудь, сутулился, был кособок и имел большие, не соразмерные с ростом ступни. Лицо его, которое могло показаться даже отталкивающим, для влюбленной девушки было самым прекрасным в мире: неприятные маленькие глаза, крупный нос, квадратные усики и желто-коричневые зубы.
— Он обладает просто-таки животным магнетизмом! — захлебываясь словами, делилась Ева с Ильзе, старшей сестрой. — От него невозможно отвести взгляда! Он так говорит! Он гений! Честное слово, гений! Он настоящий вождь нации…
Ильзе насмешливо крутила пальцем у виска, мол, что поделаешь, младшая сестренка влюбилась, куда деваться…
Ева всегда хорошо одевалась, а теперь стала уделять своей внешности особое внимание: надевала только облегающие платья и свитеры или короткие, до колен, юбки и легкие блузки — и обязательно самые модные. Она часами крутилась у зеркала, поворачиваясь то так, то этак и вызывая неодобрение сестры.
— Он лидер нацистов, Ева, — говорила Ильзе, которой эта странная связь нравилась все меньше и меньше. — А еще он почему-то твердо убежден, что знает все на свете и несет людям абсолютную истину. Ни папа, ни мама не одобрят твой выбор.
— Подумаешь, — отмахивалась Ева, придирчиво выбиравшая помаду или заколку. — Главное, что я люблю его и нам хорошо вместе.
— А замужество? Тебе ведь нужно будет выйти замуж. Родители ни за что не позволят тебе венчаться с Адольфом.
— Это все равно, — раздраженно огрызалась младшая сестра. — Им придется позволить мне это!
— Да и он, по-моему, вовсе не горит желанием жениться на тебе… — все-таки добавляла колко старшая.
* * *
Первым цветком, который он ей подарил, была желтая орхидея. Ева засушила ее и долго хранила. Она часто любовалась им, порой упрекая себя в излишней сентиментальности, — но с другой стороны, что тут такого? Первый цветок, первое проявление нежности от любимого человека…
— Моя маленькая нимфа, — называл он ее, и Ева могла многократно повторять про себя эти его слова. — Моя маленькая нимфа, из-за тебя мне стали нравиться молодые, смазливые и невинные!
Она привыкла к операм, кинотеатрам, ресторанам, к разговорам об искусстве и полете на Луну, к игре на рояле, к тому, что он иногда нежно поглаживает ее руку. Она читала книги, которые он ей давал, она научилась любить то, что любил он, она даже постаралась освоить программу национал-социализма — только чтобы нравиться ему, чтобы он всегда был с ней рядом.
Единственное, что омрачало ее безмятежную жизнь, была Гели Раубаль.
— Он все-таки не любит меня! — вся в слезах, жаловалась Ева сестре. — Да, я нравлюсь ему, он любуется мной, но пока есть она, другие женщины его не интересуют! Все называют ее пустоголовой маленькой шлюхой, но он без ума от нее! По вечерам он только у нее, он специально снял ей дом! Я с ума схожу, когда думаю, что вот сейчас, в эту минуту, они могут быть вместе! И, кажется, он делает все возможное, чтобы она не узнала обо мне.
— Ну, это естественно, а при его возможностях еще и легко. — Ильзе нежно поглаживала Еву по плечу. — Не подавай виду, что тебя это задевает. Следи за собой, будь красива, приятна, весела, и когда-нибудь он это оценит и не сможет с тобой расстаться, уверяю тебя. И прошу, только не устраивай ему сцен ревности.
— Конечно, Ильзе, я же не такая глупая! Если я когда-нибудь это сделаю, этот день будет последним в наших отношениях…
Пройдет целых три года до того момента, как Гели при трагических обстоятельствах исчезнет из жизни Евы — но не из памяти Гитлера. В один из солнечных сентябрьских дней, когда Гитлер отправится в предвыборное турне, она застрелится, и ее смерть станет настоящей трагедией для избранника Евы Браун. «В моей жизни одна только Гели внушала мне подлинную страсть, это единственная женщина, с которой я мог бы связать свою жизнь супружескими узами», — так он скажет, и Еве придется с этим смириться.
В течение еще семи лет каждое Рождество Гитлер будет приезжать в Мюнхен, запираться в комнате погибшей подруги и в одиночестве горевать о ней. Он закажет большой портрет Гели, и возле него постоянно будут стоять букеты свежих цветов… А лучший скульптор Германии вылепит ее бюст, который установят в рейхсканцелярии… А Еве придется, чтобы вернуть к себе внимание фюрера, начать ненавязчиво подражать Гели: носить такую же прическу, ходить и даже говорить, как она…
* * *
Что несколько огорчало Еву, так это то, что родители были совсем не в восторге от происходящего.
В один прекрасный солнечный они поехали прогуляться к австрийской границе и были весьма удивлены, встретив там Еву вместе с множеством каких-то совершенно незнакомых людей.
— Папа, мама, какой сюрприз! Я тут от нашего фотоателье на съемках фюрера. Позвольте представить его вам! — радостно защебетала Ева и подвела Адольфа к родителям.
— Здравствуйте, фрау и господин Браун, — галантно поклонился Гитлер и поцеловал руку матери Евы. — Прекрасная сегодня погода. У вас замечательная дочь, — добавил он с улыбкой.
Родители были совершенно очарованы фюрером — но случайно проговорилась Ильзе. Когда Ева в очередной раз приехала в дом родителей, они встретили ее отстраненно и холодно.
— Папа, мама, что с вами? — воскликнула расстроенная Ева.
— Он тебе в отцы годится, — бросила мать, не глядя на нее. — На кого ты тратишь свою молодость?
— Но, мама…
— Помолчи! Твоя сестра нам обо всем рассказала! Он обращается с тобой, как со шлюхой, да?
— Как ты можешь, мама? — пробормотала потрясенная до глубины души Ева, но тут отец протянул ей какой-то конверт.
— Передай это своему так называемому возлюбленному, — и больше он не сказал ей ни слова.
Вернувшись домой, Ева сразу же вскрыла письмо. То, что она прочитала, шокировало. Отец осмелился мешать ее счастью!
«Глубокоуважаемый господин рейхсканцлер! Я придерживаюсь, наверно, уже несколько старомодного морального принципа: дети должны уходить из-под опеки родителей только после вступления в брак. Я был бы Вам в высшей степени признателен, если бы Вы не поощряли склонность моей, пусть даже совершеннолетней, дочери к самостоятельной жизни, а побудили бы ее вернуться в лоно семьи».
Некоторое время Ева раздумывала, держа письмо в руке.
«А ведь он страшно боится, — вдруг пришло ей в голову. — Ну конечно же, он боится, несмотря на этот холодный, возмущенный и самоуверенный тон! Иначе он не отдал бы письмо мне, а передал в рейхсканцелярию или отправил лично Адольфу!»
Возмущенная до глубины души Ева порвала письмо на мелкие кусочки.
* * *
«Почему я должна все это выносить? Лучше бы мне никогда его не видеть! Он по-прежнему относится ко мне странно: может благосклонно отвечать на ласки, а может быть отстраненно холодным. Может несколько вечеров подряд проводить со мной, а может не приезжать месяцами. Погода такая чудесная, а я, любовница самого великого человека в Германии и на Земле, сижу и могу только смотреть на солнце через окно.
Можешь себе представить, милая Ильзе, он открыто рассуждает о невозможности нашего брака. А эта актрисулька, Юнити Митфорд… Она известна как Валькирия и выглядит соответствующе, особенно ее ноги. Он называет ее английской розой и идеальным образцом арийской женщины. Я вынуждена мириться с тем, что все надо мной смеются!
Фюрер производит просто сумасшедшее впечатление на женщин — вероятно, ты и сама заметила это, но мне несколько неприятно, когда пятнадцати-шестнадцатилетние девушки бросаются под колеса его автомобиля — причем действительно рискуют жизнью, — для того чтобы только прикоснуться к нему. Ежедневно он получает тысячи писем от женщин, которые хотят иметь от него ребенка… Как я все это терплю? Хотя, конечно, чего еще ждать? Он поистине великий, гениальный человек, и естественно, что его обожает вся нация…
Фюрер назначил меня своим личным секретарем, и я теперь могу присутствовать на официальных приемах. Но на людях он очень холоден со мной, и я часто из-за этого плачу.
Я очень одинока. Ему не нравилось, что я катаюсь на лыжах и занимаюсь спортом, и я перестала это делать. Немного скучно. Но у меня теперь есть дом, и я обставила его по своему вкусу: жду не дождусь, когда ты приедешь в гости и посмотришь на мое гнездышко.
А еще, ты не поверишь, от нечего делать я описываю свои наряды! Может быть, тебе это покажется глупым и несерьезным, но, с другой стороны, мой фюрер уже надарил мне столько всего, что в моей гардеробной собралась целая коллекция лучших образцов моды. Да-да, я составляю настоящий каталог: где была куплена вещь, за сколько, когда и при каких обстоятельствах. Кто знает, для чего это может потом пригодиться… Да и к тому же эти вещи мне дороги: они куплены Адольфом и напоминают о нем.
А еще, когда ты приедешь, Ильзе, я покажу тебе фильмы с собой в главной роли и фотографии — все это я снимаю сама. Ты знаешь, я так увлеклась и снимаю совершенно все подряд, всю нашу жизнь, всех гостей, которые приезжают к Адольфу. Это кажется мне очень интересным, а кроме того, забавным и полезным занятием.
Приезжай, дорогая Ильзе, я очень по тебе скучаю. Мы попросим, чтобы нас отвезли на реку, купаться. Правда, мне нужно быть осторожной, так как мой фюрер запрещает загорать — ему нравится белоснежная кожа, это по-настоящему аристократично.
Я постоянно боюсь его потерять. Я так несчастна. Пойду куплю еще снотворного и погружусь в полудрему».
Она сходила с ума от ревности — как к реальным, так и возможным привлекательным спутницам Адольфа, которые, по ее мнению, обязательно должны были существовать. И вот однажды, распалившись и накрутив себя до состояния полного помешательства, она, не помня себя, написала прощальное письмо и выстрелила из отцовского пистолета себе в шею. Может быть, хоть так, была последняя ее мысль, перед тем как спустить курок, ей удастся сравняться с Гели Раубаль — ведь она тоже застрелилась, она тоже не побоялась отдать жизнь из любви…
Страшная боль отрезвила ее. Кровь хлынула потоком из раненого горла. Ева, пытаясь кричать, едва не падая и хватаясь за кресла, буквально подползла к телефону. Вместо слов из ее горла вырывались только хриплые стоны.
— Я здесь… Я умираю… Здесь все в крови… — едва смогла она сказать шурину Гофмана, врачу Плате.
Как же она была счастлива, когда Гитлер примчался к ней в больницу с огромным букетом цветов — в полном восхищении и преклонении перед ней!
Много позже она узнала, что до того, как отправиться к ней, он подробнейшим образом расспросил врачей о том, как все было.
— Мы действительно едва успели спасти ее! — был ответ. — Еще несколько минут, и было бы поздно!
— Значит, и в самом деле она вела себя как настоящая валькирия! — восторженно сказал абсолютно счастливый Гитлер Гофману. — Ева сделала это из любви!
«Телеграмма и множество цветов от него. Моя комната похожа на цветочную лавку и пахнет так, будто ее освятили. Главное — не терять надежды, а уж терпению я научусь. Вчера он приехал неожиданно, и был совершенно восхитительный вечер. Он хочет подарить мне домик. Боюсь загадывать. Господи, сделай так!»
Теперь он нежно называл ее Патшерль — киска, ежедневно звонил и даже купил дом и подарил двух черных шотландских терьеров — Штази и Негуса. А однажды он даже взял ее с собой на прием у герцогини Виндзорской.
Высокие гости пребывали в некотором недоумении: абсолютно счастливая Ева, не умолкая, говорила о бывшем короле Англии Эдуарде, который ради любимой женщины отрекся от короны.
— Эта простушка пытается дать Гитлеру понять, что у них с бывшей миссис Симпсон, а ныне герцогиней Виндзорской очень много общего и он мог бы уже, как наследный принц, жениться на ней, а не думать постоянно о своем партийно авторитете, — насмешливо перешептывались дамы. — Однако как она навязчива и как прозрачны и наивны ее намеки…
— Говорят, если они едут купаться или на прогулку, целый взвод эсесовцев перекрывает все дороги! А еще он приставил к ней двух охранников, говорят, они ходят за ней по пятам! Наверное, он по-своему к ней привязан, раз так заботится о ней…
— Да-да, он окружил ее королевской роскошью! Говорят, она переодевается до семи раз в день и к гостям выходит только с полным набором украшений: ожерелье, брошь, браслет, часы с бриллиантами… И это днем! И не в честь приема!
— У нее столько драгоценностей? Как же, понятно, ведь в ее документах написано — секретарша, она получает целых четыреста пятьдесят марок жалованья!
— На эти деньги она себе покупает «мерседесы» и «фольксвагены»? Хорошо же живут секретарши!
— Тише, тише, она смотрит в нашу сторону! Если он узнает, что мы о ней говорили, он может даже закрыть перед нами двери своего дома! Он уже поступил так с фрау Гогенц!
* * *
В конце 1944 года Ева составила завещание, разделив имущество между родственниками и подругами. А в феврале 1945 года она переехала в бункер Гитлера — чтобы до конца остаться его опорой и единственной спутницей.
— Я всегда буду с тобой, любимый, — говорила она. — Я не покину бункер даже ради прогулки, будь уверен. Я счастлива, что наконец-то могу быть так близко к тебе.
* * *
— Война проиграна. Я убью себя, — сказал Гитлер утром 22 апреля.
— Ты знаешь, что я уйду вместе с тобой, — ответила Ева, обнимая его. — Помнишь, я говорила: если с тобой что-то случится, я умру. С нашей первой встречи я поклялась себе повсюду следовать за тобою, так же и в смерти. Ты знаешь, что я живу для твоей любви.
Советские войска были уже на подступах к Берлину.
— Офицеры бегут как крысы с корабля, — сказала Ева. — Еще и прихватывают с собой кто сколько может. Бедный Адольф…
Ильзе пожала плечами.
— Ты знаешь, — продолжала младшая сестра, — он хочет покончить с собой. Он сам сказал мне об этом. Но у него не хватает духу… Он несколько раз прощался со всеми — очень торжественно, запирался в своей комнате… и выходил обратно, так и не сумев выстрелить в себя… Я сегодня пообещала, что уйду вместе с ним…
— А я сегодня видела сон, — тихо промолвила Ильзе, так, будто слова давались ей с трудом. — Ты стоишь, охваченная пламенем, а вокруг тебя — полчища крыс…
— Я до последнего времени думала, что все закончится подписанием мирного соглашения и веселыми песнями… — задумчиво произнесла Ева. — А оказалось вот так… Помнишь, когда на него было покушение? Тогда Бог спас его. А я ведь на грани нервного срыва была, когда его увидела… Волосы седые, руки дрожат… Он почти не видел и не слышал, врачи сказали, что это все от потрясения, и голова у него так болела… А теперь? Что будет с ним теперь? Что будет со всеми нами?
— Помнишь, когда вы познакомились, я ведь предупреждала тебя… И родители были так расстроены… Если бы ты тогда послушала нас…
— Я не могла, — медленно, словно про себя, ответила Ева. — Не могла я никого послушать…
В бункере, на шестнадцатиметровой глубине под землей, время словно остановилось. Наверху шли бои, в Берлине бушевали пожары, земля содрогалась от взрывов бомб и снарядов, а стенографистки, как и все сотрудники рейхсканцелярии, были, как всегда, подтянуты, безукоризненно одеты и причесаны. Многолетняя выучка давала себя знать.
— Немецкий народ, — диктовал Гитлер, — оказался недостойным возглавляемого мною движения. Сейчас, когда мое земное бытие подходит к концу, я решил взять в жены девушку, которая доказала мне свою многолетнюю верную дружбу и прибыла в осажденный город, чтобы разделить мою судьбу. Мы оба предпочитаем смерть позору бегства или капитуляции.
* * *
29 апреля в три часа тридцать минут ночи Ева Анна Паула Браун стала фрау Гитлер.
В бункере Гитлера не было слышно взрывов и выстрелов. Здесь, глубоко под землей, все было, как раньше, когда весь мир, казалось, был у ее ног. Только церемония бракосочетания, хоть и проведенная в строгом соответствии с ритуалом, была, на взгляд Евы, слишком уж короткой и сдержанной.
Молодая женщина светилась от счастья. Она была очень красива в этот день — стройная, с белоснежной кожей, в черном обтягивающем платье…
— Сегодня особенный день, он должен запомниться нам навсегда, — шепнула она на ухо совершенно разбитому и подавленному Адольфу. — Я специально надела твое любимое платье. Я люблю тебя, мой фюрер…
Правой рукой Гитлер судорожно сжимал руку Евы, левая его рука подергивалась. Со всех сторон звучали поздравления, звенели бокалы с шампанским, но, казалось, ничто не могло вывести вождя нации из жуткого оцепенения.
«Поистине пир во время чумы, — думал Мартин Борман. — Что за комедия? Впрочем, этот спектакль — перед лицом поражения сочетаться браком со своей валькирией — вполне в духе фюрера. Эффектно, пафосно и с претензией на вечность. Видимо, теперь стоит ждать жертвоприношения и всепожирающего огня, как в скандинавских сагах, которые он обожает. Если бы это не было так трагично, я бы, пожалуй, от души посмеялся».
— Поздравляю, фройлейн! — поднял он бокал, чуть склонив голову и пристально глядя на новобрачную.
Ева лучезарно улыбнулась.
— Зовите меня теперь просто фрау Гитлер! — сказала она и отпила глоток шампанского.
«Ева Гитлер, урожденная Браун» — вывела она красивым ровным почерком на официальном бланке.
* * *
30 апреля Ева раздала свои вещи прислуге и секретаршам. Затем в сопровождении Мартина Бормана она быстро прошла из бункера к подземному гаражу на улице Геринга. Там ее ждал закрытый «мерседес».
* * *
Через несколько дней в кабинет Адольфа Гитлера войдет актер Густав Веллер. Спустя немного времени эсесовцы внесут туда же на простынях стройную красивую женщину — без сознания, в одном нижнем белье, и закроют за собой дверь. Раздастся выстрел. Охрана вбежит в кабинет. Мертвый фюрер будет сидеть за столом. Рядом на софе будет лежать мертвая Ева, возле нее — подаренный когда-то Гитлером пистолет.
Магда Геббельс. Страшна цена моей любви к тебе
Она всегда стремилась взойти на вершину общества. Это была ее мечта. Это была ее цель.
Принц Август-Вильгельм фон Гогенцоллерн за обедом у принцессы Ресс обратил внимание на очень красивую даму, которая оживленно рассказывала о чем-то своим друзьям. Дама была очень интересной: высокая холеная блондинка с холодными голубыми глазами, прекрасной фигурой и безупречными манерами. Он разглядывал ее некоторое время сквозь сигаретный дым и наконец, склонившись к ней, произнес:
— Вы делаете вид, что очень веселы и оживлены, но, похоже, умираете от скуки? Присоединяйтесь к нам! Начните работать для нашей партии. Не беспокойтесь, это не будет обременительно. В случае согласия вы станете выполнять какие-нибудь почетные поручения, оказывать время от времени помощь. Кто осмелится требовать от красивой женщины, чтобы она надрывалась? Время тогда потечет куда быстрее, и скука улетучится.
Это было очень вовремя: Магда Квандт только недавно развелась с мужем, скучала, не знала, куда себя деть, и медленно скатывалась в глубокую депрессию. Она жила в роскоши и праздности и больше всего на свете боялась превратиться в никому не интересную глуповатую дамочку.
Теперь у нее появилась возможность попробовать себя в политике!
— Кажется, вы используете в качестве символа свастику? — уточнила она, хотя прекрасно знала ответ. — Это знак мудрости и вечности.
— О фрау, вы знакомы с нашими идеями?
— Мне кажется, я очень хорошо чувствую смысл ваших идей, и они мне близки. Эта вечность, и господство сильных, и в то же время принятие своего пути, способность руководить им и быть его хозяином… Знаете, если когда-нибудь я взберусь на самый верх, мне наверняка захочется упасть вниз и исчезнуть.
— Почему же?
— Потому что я к тому моменту достигну уже всего, к чему стремилась.
* * *
Йозеф Геббельс не вышел ростом, был худощав, хромал вследствие перенесенного в юности остеомиелита и поэтому пользовался ортопедическим устройством, но он был непревзойденным оратором, умеющим очень быстро завладевать умами своих слушателей. Он был в фаворе у Гитлера — а значит, и в фаворе Магды.
Она добилась личной встречи с ним.
— Я чувствую себя заколдованной вашими язвительными речами! Именно поэтому я сгорала от желания с вами познакомиться. Вы обладаете невероятно мощной харизмой! Я буквально расплавляюсь под вашим взглядом, который меня абсолютно парализует, — я нисколько не преувеличиваю, господин Геббельс!
Польщенный ее вниманием и взбудораженный ее красотой Геббельс взял Магду на работу…
Целый год она помогала главному нацистскому идеологу сортировать фотографии и документы, и к концу этого года он был покорен и решился на признание.
— Вы очаровательны, Магда. Вы — потрясающе красивая, нежная и восхитительная. Вы поистине потрясающая! Вы — моя королева! Я как в волшебном сне, меня наполняет ощущение счастья. Я буду вас очень сильно любить. Если, конечно, вы позволите мне это…
Она, конечно, позволила, и его охватила эйфория.
— Я так счастлив, Магда! Какое это счастье — любить красивую женщину и быть любимым ею! Только вы можете подарить мне спокойствие и душевное равновесие, в которых я так нуждаюсь…
Но счастье его длилось недолго. Через несколько недель он получил от возлюбленной коротенькое письмо. Магда, давая понять, что изнывает от слез, тоски и боли, прощалась с ним навсегда. Теперь она не звонила ему и не отвечала на звонки.
Геббельс сходил с ума. Он поистине был в отчаянии.
— Я схожу с ума! Мне мерещатся ужаснейшие кошмары, — чуть ли не рыдая, делился он с самыми близкими друзьями. — Почему от нее нет никаких известий? Эта неопределенность меня убивает. Будь что будет, но я должен с ней поговорить. Я сделаю все возможное для того, чтобы мне это удалось. Я — одна сплошная боль. Мне хочется выть. Мое сердце разрывается!
Очень скоро Магда стала единственной любовницей Геббельса и очень влиятельной особой в нацистской партии. А еще через некоторое время ей предстояла встреча с самым главным человеком в ее жизни.
* * *
Магда время от времени наведывалась в штаб-квартиру НСДАП, размещавшуюся в отеле «Кайзерхоф». Как-то, когда она пила там чай вместе с десятилетним Харальдом, приехал фюрер.
— Харальд! — воскликнула она. — Ты должен немедленно выразить свое почтение фюреру! Немедленно отправляйся наверх.
— Хорошо, мама. Но пустят ли меня к нему?
— Пустят, даже не сомневайся. Господин Геббельс замолвит за тебя словечко.
Харальд отправился к Гитлеру, и его действительно пропустили к вождю партии без всяких проволочек.
— Зик хайль! — приветствовал мальчик фюрера, вытянувшись в струнку и вскинув вверх руку.
Гитлер вскинул руку в ответном жесте.
— Как тебя зовут?
— Харальд.
— Сколько тебе лет?
— Десять.
— Кто тебе сшил эту красивую форму?
— Моя мама.
— Ну и как ты себя в этой форме чувствуешь?
— Чувствую себя в два раза сильнее, — ответил Харальд, вытянувшись во весь рост.
Гитлер поворачивается к тем, кто находится рядом с ним, и говорит:
— Вы слышали? В этой форме — в два раза сильнее! Думаю, Харальд, с твоей стороны было очень любезно прийти меня навестить. А как вообще получилось, что ты сюда пришел?
— Мне сказала сюда прийти моя мама.
— А где сейчас твоя мама?
— Она там, внизу, пьет чай.
— Тогда иди и поприветствуй свою маму от моего имени. И приходи ко мне еще.
Харальд вскинул руку, прокричал: «Зик хайль» — и вышел чеканя шаг. Но через некоторое время в кабинет к Гитлеру явился Геббельс.
— Мой фюрер, разрешите присоединиться к нашему обеду моей подруге и маленькому стороннику нацистской партии, с которым вы недавно разговаривали.
— Будьте осторожны, мой фюрер, — мгновенно отреагировал Геринг. — Это бывшая супруга миллионера Квандта, настоящая маркиза Помпадур.
Глаза Геббельса сверкнули гневом, но ему ничего не оставалось, как молча ждать решения Гитлера.
— В таком случае будет ли уместно приглашать ее к нам за стол? — продолжал тот. — Не вызовет ли это ненужные слухи?
— Я бы посоветовал вам проявить осторожность, мой фюрер. С женщиной, похожей на маркизу Помпадур, нужно быть более чем осмотрительным.
— Но она пассия доктора Геббельса… Пожалуй, все-таки сделаем приятное товарищу по партии и пригласим ее…
Магда Геббельс произвела на Гитлера самое выгодное впечатление.
— Прекрасная женщина! И воспитывает замечательного молодого соратника… а ее безобидная воинственность поистине очаровательна.
Гитлер не мог отвести взгляда от ее огромных голубых глаз и, увлекшись беседой, даже опоздал в тот вечер на представление в оперный театр. Гитлер в тот вечер даже опаздывает на представление в оперный театр.
«После смерти Гели я уже подумывал о том, чтобы распрощаться с этим миром, — думал он, возвращаясь к себе в резиденцию. — Но время, проведенное в обществе этой женщины, поистине божественно. Такие чувства я никогда не испытывал по отношению ни к кому, кроме Гели. Впрочем, это всего лишь впечатление, которое не имеет никакого значения. Наверное, лишь короткая вспышка. Провидение, похоже, проявило по отношению ко мне милосердие».
Через несколько дней Магду навестил Отто Вагенер, советник и доверенное лицо Гитлера.
— Эта женщина, сказал о вас фюрер, могла бы сыграть в его жизни большую роль, пусть даже он не имеет намерения жениться на вас. Фюрер полагает, что в его работе, в его борьбе вы были бы незаменимы, так как стали бы женской составляющей, которая компенсировала бы его слишком мужские инстинкты. От себя добавлю, что вы могли бы восстановить связь между Гитлером и жизнью, ходить с ним в театры, пить с ним чай и так далее, то есть всячески способствовать тому, чтобы фюрер как можно скорее оправился от потрясения, вызванного трагической смертью его племянницы Гели Раубаль, случившейся, как вы, вероятно, знаете, совсем недавно. Вам также известно, вероятно, что фюрер закопал свои чувства в землю одновременно с ее гробом. Однако, к его удивлению, во время встречи с вами эти чувства совершенно неожиданно ожили в нем. Вы могли бы стать той идеальной подругой, о которой так часто говорит фюрер своим соратникам по борьбе.
«Наконец-то перешел к сути!»
— Но ведь для этого нужно, чтобы я была замужем! — тонко улыбнулась Магда.
— Именно так, — вернул ей улыбку Вагенер. — Причем желательно, чтобы вы были замужем за доктором Йозефом Геббельсом.
Церемония бракосочетания состоялась за несколько дней до Рождества на вилле бывшего мужа Магды. Свидетелем был сам Адольф Гитлер, а над головами жениха и невесты висел флаг со свастикой.
Наряд Магда выбирала долго и придирчиво — она стремилась и соблюсти приличия, и выделиться среди окружающих. Изысканно-простое платье из черного шелка выгодно подчеркивало ее фигуру и привлекало к ней похотливые взгляды.
Во время застолья царил хаос. То и дело прибывали какие-то люди, которые хотели пообщаться с Гитлером, и он, не очень-то желая разговаривать и невольно вызывая раздражение у окружающих, все же поднимался каждый раз из-за стола и шел что-то обсуждать в другую комнату.
А на следующий день счастливая новобрачная вне себя от ярости разорвала в клочки какую-то бульварную газету, осмелившуюся написать: «Один из нацистских главарей женится на еврейке».
— Паршивая бульварная газетенка! — прошипела она.
* * *
Гитлер часто приходил к Йозефу и Магде. Он чувствовал себя здесь как дома, а она встречала его как самого дорогого гостя и специально для него сама готовила чудесные вегетарианские блюда.
— Только в вашем доме, моя дорогая Магда, я могу быть спокоен, что меня не отравят, и есть эти вкуснейшие блюда без страха за свою жизнь, — абсолютно серьезно говорил фюрер.
Она, всегда элегантная и утонченная, учила Гитлера хорошим манерам, прививала ему вкус к красной и черной икре, заставляла слушать классическую музыку и знакомиться с творчеством современных композиторов.
Она следила за своей внешностью, пользовалась косметикой, меняла в течение дня одежду в соответствии с обстоятельствами — если надо, то и по нескольку раз в день, — и носила исключительно платья, сшитые специально для нее лучшими модельерами. Она всегда была аккуратно причесана, у нее были холеные и ухоженные руки. Она так хорошо научилась владеть собой, что однажды, когда на кухне взорвалась газовая плита, продолжала, не моргнув глазом, разговаривать со своими гостями.
Он назначил ее почетным председателем Германского бюро моды. Она очень хотела сделать немцев и немок более элегантными и прилагала к этому все усилия, борясь с однообразием в моде.
— Это неприемлемо для высшей расы. Я считаю своим долгом иметь такую красивую внешность, какую я только в состоянии себе обеспечить. Немецкие женщины должны стать как можно более красивыми и элегантными — такими, чтобы они могли затмить парижанок. Своим личным примером превратить немецкую женщину в образцовую представительницу своей расы.
Она стала прямой противоположностью традиционной немецкой женщине — скромной и послушной, не курящей, не употребляющей алкогольных напитков, довольствующейся незатейливой одеждой. И именно ее Гитлер безусловно ценил, только ею восхищался, только ей он безгранично доверял и только ей прощал и только ее ни разу не упрекнул за пристрастие к курению и крепким напиткам. Только с ней он вел себя абсолютно раскованно, только к ней обращался за советом и только к ее советам прислушивался. Она была единственной женщиной, с которой он мог говорить о политике, а только политика его и интересовала. Только ее он считал особой в высше5й степени достойной и только ее представлял как свою первую даму.
Она платила ему безграничным восхищением и преданностью.
Отношения же с любовницей Гитлера, Евой Браун, у Магды не сложились. Вернее, у Евы с Магдой.
* * *
«Белокурая дура!» — раздраженно подумала Магда.
— Вы все еще сердитесь, милая Ева, за тот случай? Право, я не думала, что вы так обидитесь! Ну же, не дуйтесь, это совершенно портит ваш внешний вид. Я поблагодарила вас за цветы не лично, а через секретаря только потому, что была слишком занята. Право же, я не имела намерения задеть вас.
— Ничего страшного. В первый момент мне показалось это не очень-то вежливым, только и всего. Но обижаться на вас я считаю излишним и странным.
— Ах, милая, я очень рада, что это всего лишь недоразумение и что оно не повредит нашим с вами теплым отношениям. Не окажете ли вы мне маленькую услугу? Будьте любезны… — Магда схватилась за поясницу. — Я немного смущена, но вы, вероятно, догадываетесь, что я опять в положении. Пожалуйста… Мне очень трудно наклоняться. Не могли бы вы развязать мне шнурки?
Ева не смогла сдержаться — лицо ее перекосилось от злости. Вне себя, она дернула за шнурок колокольчика.
— Эльза, — холодно приказала Ева явившейся на зов служанке, — помогите фрау Геббельс развязать шнурки.
И с демонстративно обиженным видом удалилась.
* * *
В ее ссорах с мужем примиряющей стороной всегда выступал Адольф Гитлер — даже если, и особенно если, дело касалось любовных похождений Геббельса, который продолжал одерживать победы над женщинами, совершенно не стесняясь жены и все меньше и меньше скрывая от нее свои романы. Магде приходилось терпеть публичные унижения — как тогда, когда она в одиночестве и ее муж с очередной пассией сидели в соседних ложах в театре! Или когда она обнаружила в собственной квартире незнакомую молодую женщину, вышедшую из спальни ее мужа. Подумать только, пришлось приглашать ее за стол и завтракать вместе с ней, поддерживая милую беседу, а потом еще и провожать на вокзал!
А эта еврейка, эта чешская актриса! Тогда они жили втроем в одной квартире, но она не могла позволить себе хлопнуть дверью и уйти от мужа, для которого это увлечение, очевидно, было серьезнее остальных. Она могла в таком случае потерять мужа навсегда, а вместе с ним и статус в обществе. Нужно иметь много, очень много терпения, думала она, зато позже, когда состарится, он будет полностью принадлежать ей… Обиды, ненависть и месть можно было отложить на потом, приберечь для более удобного случая… Тем более что через некоторое время неполноценной славянке запрещают находиться на территории Германии — не без определенных усилий Магды, ближайшей подруги самого фюрера…
* * *
К концу войны она чувствовала себя совершенно изможденной. Она ослабела и морально, и физически, она все чаще посещала больницу и проводила все больше времени в домах отдыха, неделями, а то и месяцами. Здоровье ее сильно ухудшилось. Ее мучали сильные боли в челюсти, воспалился лицевой нерв, и ее лицо частично парализовало. У нее стало пошаливать сердце, она то и дело впадала в депрессию — и лечилась проверенным средством, коньяком.
— Я сообщил фюреру, что ты тоже твердо решила остаться в Берлине и даже отказываешься передавать наших детей каким-либо посторонним лицам. Фюрер не считает, что такой поступок является правильным, но он вызывает у него восхищение. Он очень доволен нами.
— А я полагаю, это правильный поступок, Йозеф. Мы потребовали от немецкого народа совершить неслыханные поступки и отнеслись к другим народам с невиданной суровостью. Мы все понимаем, что крах неизбежен. Победители будут беспощадны к нам. Но мы не можем трусливо спасаться бегством. Все другие имеют право на это и на то, чтобы продолжать жить, а мы — нет.
— Ты всегда жила по принципу «все или ничего», Магда.
— Именно так! И сейчас, когда земля под нашими ногами зашаталась, я не собираюсь менять свои привычки. Мы связаны с Рейхом самыми прочными узами. Его победа — наша победа, его крах — наша гибель. Вместе с нашими детьми мы переедем в бункер рейхсканцелярии и останемся с фюрером до конца.
* * *
Они долго стояли лицом к лицу. Магда Геббельс и Адольф Гитлер. Он пристально смотрел на нее, она не отводила взгляда. Мышцы на его лице то и дело подрагивали. И вдруг он, к удивлению окружающих, резким движением сорвал со своего кителя золотой партийный значок. А затем настолько быстро, насколько позволяли дрожащие руки, он прикрепил его к лацкану дорогого, сшитого на заказ пиджачка Магды.
На глазах женщины выступили слезы. Она из всех сил старалась сдержать их, но ничего не могла поделать.
«Самый почетный отличительный знак, — молнией пронеслось в голове Магды. — Его ведь вручали только тем, кто вступил в партию еще до пивного путча. Очень немногие имеют право его носить… Значок же, который носил сам фюрер… О, он, конечно же, наиболее ценный из всех. Он — настоящая реликвия. А я — единственная женщина в Германии, удостоенная такой чести. Фюрер понимает, что наши дни сочтены, и в последний раз награждает тех, кого считает самыми верными друзьями…»
— Благодарю вас, мой фюрер, за оказанную мне честь, — произнесла Магда. — Я горжусь и чувствую себя совершенно счастливой, потому что Бог дал мне силы выполнить финальное действие. То, что мы можем закончить нашу жизнь рядом с вами, является для нас благословением судьбы, о котором мы не могли даже и мечтать.
Ее шестеро детей, ее малыши, скрасившие последние дни их жизни в этой норе, называемой бункером… В этих белых нарядах они похожи на ангелов… Они еще так юны и чисты. Они не должны жить в какую-либо эпоху, кроме эпохи Третьего рейха. Они не должны расплачиваться за преступления, в которых виновны их родители. Они не должны думать, что их фамилия — это их проклятие.
Они покинут этот мир вместе с ней.
Она собрала их всех в комнате, в которой они жили уже почти неделю. Она поцеловала и погладила по щеке их всех, каждого по очереди, и ей удалось не дрогнуть под их доверчивыми взглядами, когда она приказывала сделать им укол.
В шприцах был морфин, и они быстро уснули. Она обошла их всех, каждого по очереди, кому-то поправила складочки платья, кому-то — упавшую на лобик прядь волос. Она медленно вложила им в рот, каждому по очереди, раздавленную ампулу с цианистым калием.
Она, дожидаясь, пока Йозеф отдаст последние распоряжения, села за стол. Она начала раскладывать пасьянс. Он никак не сходился. Она перекладывала карты снова и снова, а по щекам ее ручьем текли слезы.
Она отправилась в кабинет мужа и стала лицом к нему. Она хотела, чтобы он выстрелил ей прямо в сердце, прежде чем выстрелит в себя.
Он так и поступил.
Ракела Гуиди. Бенито Муссолини, я пойду за тобой на край света
Стояла сухая солнечная осень — напоенная запахом трав, олив, винограда и свежего хлеба, какая бывает только в итальянской провинции. Ракела, стоя на небольшом пригорке, думала о своем новом парне — невысоком, грубом, но очень красноречивом и необузданном в страсти Бенито — сыне хозяина постоялого двора.
О том, кто с недавнего времени стал для нее всем.
Ей было шестнадцать лет, и она уже довольно долго работала в их кабачке. Она знала Бенито с самого детства, и нельзя сказать, что поначалу он ей очень уж нравился. Она считала его неотесанным.
Зато она очень нравилась ему.
А ей нравилось то, как он к ней относился.
— Я становлюсь немым, когда вижу тебя, — говорил он.
О, как это льстило! Пусть даже и не нужен он, но всегда приятно такое внимание! Прекрасно, когда в тебя влюбляются… «И прекрасно дарить любовь», — подумала Ракела, улыбнувшись и вспомнив их первую ночь.
Он не любил, когда она шла на танцы, — потому что она всегда танцевала с кем-то другим. О, как он ревновал! Он поистине неистов, этот Бенито… А чего стоили его пламенные речи, произносимые перед публикой! Взбудораженная толпа всегда начинала скандировать его имя, и она невольно испытывала гордость — ведь это за ней он так долго и безуспешно ухаживал! Его речь сменилась музыкой, и Ракела впервые позволила ему пригласить себя на танец.
— Я не могу больше спокойно на тебя смотреть, — прошептал Бенито, жарко дыша ей в ухо. — Ты так улыбаешься посетителям, а они все таращатся на тебя… Как же меня это бесит! Я сам хочу тобой любоваться и обладать тобой!
Она невольно отшатнулась, услышав такую наглость, но его глаза были просто бешеными, зрачки расширились, он с неожиданной силой привлек ее к себе, и она так испугалась, что даже не попыталась вырваться. Внезапно ее воля оказалась парализованной, и она почувствовала себя в полной власти этого человека.
— Я хочу быть с тобой. Ты уже в соку… У тебя красивые груди. Да и вообще ты красивая. И я хочу жениться на тебе. Я имею на это полное право, ведь я обратил на тебя внимание раньше других парней! — хвастливо заявил он. — Если я тебе не нужен, я брошусь под трамвай! Или нет, — тут он оглушительно расхохотался. — Если ты меня отвергнешь, я брошусь вместе с тобой под трамвай! Идем. Я буду просить твоей руки.
Бенито позвал извозчика и по дороге домой не сказал ей ни слова. Она тихонько сидела в уголке, а он то и дело щипал ее за руку.
Они приехали на постоялый двор его отца, и Бенито послал за матерью Ракелы. Вдова пришла, и последовала шумная безобразная сцена.
— Как вы ведете себя, Бенито? Я вас предупреждаю, — сказала мать, — Ракела несовершеннолетняя. Если вы не оставите ее в покое, я подам на вас жалобу и вас посадят в тюрьму!
Бенито не стал возражать и вышел из комнаты. Вернулся он через несколько минут с револьвером в руке. Это был револьвер его отца.
— Я вас предупреждаю. Вы видите этот револьвер, синьора Гуиди. В нем — шесть пуль. Если Ракела еще раз меня отвергнет, одна пуля будет для нее, а остальные пять — для меня. Выбирайте сами! — сказал он, и у вдовы Гуиди не хватило сил возразить ему.
* * *
На следующий день Ракелу отправили к тетке — в соседнюю деревню, от греха подальше. Но Бенито приезжал каждый день, преодолевая на велосипеде по двадцать километров — десять туда, десять назад. Он целовал ее при встрече и держал за руки, и она начала привыкать к нему, и он даже начал ей нравиться — вернее, начала нравиться его настойчивость, и в один прекрасный день он повалил ее на кресло, и им уже никогда не было суждено стать теми влюбленными, которые чувствуют себя неловко, час за часом смотрят, не отрываясь, друг другу в глаза или беззаботно, забавляясь, катаются в траве…
— Я нашел для нас квартиру, — сказал он однажды, с недовольным и мрачным видом. — Мне надоело ездить сюда каждый день, как на работу. Собирайся, я хочу, чтобы ты прямо сейчас переехала со мной на эту квартиру. Я хочу, чтобы ты стала матерью моих детей. И поторопись, у меня есть еще и другие дела.
Ракела не возражала и не требовала романтических объяснений. Она взяла пару ботинок, два платка, рубашку, фартук, захватила немного денег и отправилась вслед за своим избранником туда, куда он повел ее.
Она уже носила под сердцем его ребенка.
* * *
Это была первая ночь, когда они спали в одной кровати. Они поселились в самом дешевом, захудалом отеле. Ракела была взбудоражена, не могла уснуть, долго крутилась на постели и наконец, осознав, что ее беспокоит что-то еще, кроме смутной неуверенности в будущем, спросила:
— Тебе не кажется, что в этой кровати есть что-то странное?
— Зажги свет, — ответил новоиспеченный, но не венчанный муж.
В свете лампы они увидели целые полчища огромных клопов. Ракела в ужасе завизжала — и продолжала визжать все время, пока Бенито пытался разогнать их тряпкой и передавить тяжелыми башмаками.
Это была их первая ночь вместе — и последняя спокойная ночь в ее жизни. Бенито постоянно участвовал в тайных собраниях, и она все время ждала, что в дом нагрянут карабинеры и арестуют его.
Одна из ночей показалась ей особенно, бесконечно долгой. Она ждала мужа до рассвета, обхватив голову руками и всхлипывая, думая, что он либо попал в тюрьму, либо погиб. Наконец с лестницы донесся шум.
Ракела, дрожа, открыла дверь, и двое незнакомых мужчин буквально вручили ей Бенито — мертвенно-бледного, с ошалелыми глазами, они поддерживали его под руки, чтобы он не упал.
— Не переживайте, синьора, с ним не случилось ничего страшного. Он слишком много говорил этой ночью и, сам того не замечая, выпил невероятное количество кофе с коньяком, — пояснили они, извинились и покинули ее жилище.
Растерянная Ракела попыталась перетащить мужа в кровать. Не тут-то было! Он подскочил, стал бегать по квартире как одержимый, ломая все на своем пути, круша посуду и мебель, разбил единственное зеркало… Девушка бросилась к соседке, и они вместе вызвали врача.
Очнулся Бенито только к вечеру — туго скрученным веревками и привязанным к кровати.
— Что это? — закричал он. — Ракела!
— Ты буянил вчера, — она все еще не решалась приблизиться к нему. — Ты был очень пьян. Тебя привели какие-то люди.
— Немедленно развяжи меня!
— Ты не будешь больше кричать?
— Не буду, не буду! Развяжи, я тебе сказал!
Она осторожно присела на край кровати и, стараясь не причинять боли, сняла веревки с его затекших рук. Громко ругаясь, он встал, попытался растереть их, чтобы восстановить кровообращение, походил по комнате и вышел умыться.
— Неужели это я сделал? Каков разгром! — донесся до Ракелы его изумленный голос.
Когда он вернулся, его жена стояла посреди комнаты, уперев руки в бока. От ее робости и испуга не осталось и следа.
— Усвой хорошенько одну вещь, Бенито. Я никогда не соглашусь, чтобы моим мужем был алкоголик. Моя тетка пьянствовала, и я достаточно настрадалась, когда была девчонкой. Я знаю, что ты невоздержан и у тебя много неутоленных желаний, но запомни: даже женщину, если у тебя она появится, я простить тебе смогу. Но если ты еще хоть раз явишься в таком состоянии, я тебя убью. Клянусь, Бенито. И лучше не испытывай мое терпение и не проверяй на прочность мое обещание.
Похмельный, мучимый жаждой и изумленный Бенито только икнул. Хотя Ракела не очень верила в то, что ее угроза возымеет действие, с той поры он больше никогда не прикасался к спиртному.
* * *
Дни шли за днями, недели складывались в месяцы, затем в годы… Карьера Бенито стремительно шла в гору, и настал миг, когда из пылкого болтуна, заставлявшего загораться своими идеями целые стадионы, он превратился в лидера нации, сравнимого по могуществу и влиянию с Гитлером. И тогда он словно потерял голову от всеобщего обожания, от осознания собственной исключительности и превосходства над другими. Ракела потеряла счет его любовницам: Ида Дальзер, Маргерита Сарфатти и множество других, надолго не задерживавшихся в его постели… Она привыкла к его связям на стороне и огромному количеству незаконнорожденных детей. Она страдала невыразимо, но принимала это как плату за его огромную популярность и удовлетворялась тем, что именно она была официальной супругой первого лица Италии и только ее дети были рождены в законном браке…
Церемония их бракосочетания состоялась 16 декабря 1915 года в военном госпитале в Тревильо — в присутствии мэра и свидетелей. Вспоминать об этом событии Ракеле всегда было весело. Дуче, пожелтевший и исхудавший после перенесенного тифа, переминался с ноги на ногу и нервно поглядывал на нее. Его несколько тяготила официальность церемонии, и он хотел поскорее завершить начатое.
— Согласен ли ты, Бенито, взять в жены Ракелу Гуиди?
— Согласен! — тотчас ответил Муссолини.
— Согласна ли ты, Ракела, взять в мужья Бенито?
Ракела с растерянным видом молчала. Муссолини удивленно взглянул на нее.
— Согласна ли ты, Ракела, взять в мужья Бенито?
Ответа не было. Муссолини явно заволновался. По рядам гостей прокатился сдерживаемый шепоток.
— Согласна ли ты, Ракела, взять в мужья Бенито?
— Да, согласна, — наконец ответила она, смиренно склонив голову, и никто не заметил, как лукавая улыбка коснулась ее губ.
О, как ей всегда нравилось его дразнить!
* * *
Бенито уже почти доехал до Остии, когда его догнал маленький открытый автомобиль.
— Это дуче! — закричала молоденькая девушка, сидевшая на заднем сиденье, и в знак приветствия стала размахивать своей шляпкой. — Едьте за ним! — услышал Муссолини ее приказ шоферу, и это заставило его прибавить скорость.
Этого еще не хватало! Она преследует его, дуче, словно какую-то кинозвезду! Хотя, в общем, это забавно. Бенито менял направление, несколько раз из озорства еще прибавлял скорость или резко останавливался, но автомобильчик не отставал. Наконец он притормозил на круглой площади в Остии — эта восторженная красотка его заинтриговала — и стал ждать, пока она подойдет.
— Простите мою невольную дерзость, дуче, — промолвила девушка, слегка покраснев, но не опуская глаз. — Меня зовут Клара Петаччи. Я восхищаюсь вами и очень хотела бы познакомиться.
— Клара Петаччи. Хм.
У девушки были большие светлые глаза и точеная фигурка. Она выглядела очень мило в простом белом платье и соломенной шляпке с широкими полями.
Да, пожалуй, хороша.
Правильно поняв его пристальный взгляд, девушка осмелела.
— Дуче, я совсем недавно отправила вам стихи.
— Стихи? В самом деле?
— Да, стихи. Они о любви.
— Хм. Кажется, припоминаю. В ваших стихах очень много души, очень много чувств.
Девушка просияла.
— Дуче, нам пора ехать. Увидеть вас — для меня огромная радость!
Вечером она говорила с родителями только о нем, а на следующий день начала писать картину, посвященную дуче. А тем временем воспламенившийся под действием ее чар Муссолини приказывает разыскать ее.
Так в жизни Ракелы Гуиди появилась ее главная соперница.
— «Мне приснились Вы, и в моем неподвижном теле повеяло жизнью и красотой. В этом сне Вы разговаривали со мной. Ваш голос — приятный, как мелодия. Ваша улыбка похожа на теплый солнечный лучик. Не сердитесь на меня, но я все время думаю о Вас. Я Вас хочу». Да она сумасшедшая! — возмущенная донельзя Ракела держала в руке случайно обнаруженное письмо от Клары. — Она что, и вправду влюбилась в него, эта девчонка? Может, она просто глупа? Он же никогда не женится на ней… Однако с такими ненормальными поклонницами нужно быть осторожной…
Впрочем, она не особо беспокоилась по поводу измен мужа — к тому же теперь и сама стала вести себя более вольно. Но ей казалось, что Бенито испытывает по отношению к ней неприязнь и отвращение, и ее это безмерно огорчало. Она пыталась поговорить с ним, пыталась пару раз даже устроить сцену, но все ее попытки разбивались о самодовольство, равнодушие и цинизм дуче.
— Ракела, ты ведешь себя со мной равнодушно! Уже давно мы как чужие люди, и ты смеешь меня упрекать в том, что я иногда стремлюсь расслабиться?
— Иногда, Бенито?
— Черт возьми, ты говорила, что не будешь возражать, если на меня вдруг нахлынет страсть…
— Как тебе не стыдно, Бенито? Я всегда следовала за тобой по первому зову и была рядом и поддерживала тебя! Ты знаешь, что я и сейчас готова пойти за тобой даже на край света. Так почему же ты обращаешься со мной, как с ненужной вещью?
— Ну ладно, конечно же, я веду себя по отношению к тебе плохо. Но у меня есть смягчающие обстоятельства. Такой мужчина, как я, с таким количеством обожающих женщин… Как я могу удержаться? Как не свернуть с праведного пути? Все мужчины изменяют своим женам, даже сын цирюльника. И у них нет никаких оправданий. У меня же оправдание есть. Да, есть, и оно более чем весомое. К тому же она говорит, что мое тело — самое красивое в Италии!
Ракела была вне себя от возмущения.
— Когда я слышу это, думаю, что ты сошел с ума! — бросила она ему, выходя из комнаты. — Да, кстати. Если у тебя появилась молоденькая девчонка, перестань хотя бы звонить своей старухе Маргерите. Она говорила недавно, что у тебя кривые ноги…
* * *
Вторая мировая война была уже в самом разгаре, когда Бенито стремительно и как-то внезапно начал стареть. Ракела объясняла это попросту тем, что он еще больше озлобился и в сердце его не осталось места ни для каких чувств, кроме ненависти — к евреям, коммунистам, партизанам, немцам, своим любовницам и даже детям — и страха дряхлости.
— Я старею! — жаловался он ей. — Вокруг меня молодые люди, молодые женщины. Когда-нибудь они все станут променивать меня на молодых и крепких мужчин с густой шевелюрой. А я буду внушать отвращение. Но они будут продолжать видеться со мной — так, из жалости, и потому что я великий человек и дуче…
По ночам он не мог спать спокойно. Ему снились кошмары о том, как кто-то стреляет в него, один выстрел — в голову, второй — в спину, он чувствовал эти выстрелы словно наяву, видел, как он падает на сиденье автомобиля и как умирает, истекая кровью. Нервы его были расшатаны до предела, его могла вывести из себя любая мелочь.
— Клара, почему ты надула губки, а? Моя жена так себя не ведет!
— Ракела, ты глупа, как гусыня! Даже Клара умней тебя в сто раз!
Успокоить его не удавалось никому. Припадки бешенства или дикого страха сменялись безграничной грустью и равнодушием. В такие минуты единственную отраду он находил в том, чтобы оскорблять или расстраивать того, кто был в данный момент рядом.
— Я доволен тем, что у тебя тоже есть седые волосы, Клара. Это побуждает меня любить тебя еще больше.
Он любил, чтобы после таких признаний она обняла его и они поплакали вместе.
* * *
«Я умру от любви. Я покончу с собой, а иначе меня убьют они. Все меня видят — или думают, что видят, — такой, какой им хочется меня видеть. Мне кажется, что я и сама вижу себя отражающейся в одном из тех кривых зеркал, которые выставляют на ярмарках и в которых становятся худющими, низенькими или кособокими. Они называют меня маркиза Помпадур? А почему не Клеопатра? Что они обо мне знают?»
Так писала Клара в своем дневнике, томясь в ожидании известий от обожаемого Бенито. В войне назревал перелом, отношения с немцами усложнились, и наконец настал день, когда Муссолини, арестованный сначала королем Италии и сбежавший из-под стражи, стал пленником немцев.
«Я просила его не ездить к королю. Туда нельзя было ехать. Как я боялась, что они станут играть в футбол его головой! И я оказалась права. Господи, пожалуй, я самый любящий, верный и преданный ему человек. Разве можно сравнить меня с его женой? Но она тоже любит его… Она приходила ко мне, и после взаимных упреков и оскорблений, когда мы наговорили друг другу кучу мерзостей и даже чуть не подрались, мы обнялись и горько плакали над нашей судьбой и над судьбой Бенито… Она тоже в отчаянии. Мы боимся, что Бенито уже никто не сможет спасти.
Кто любит, тот умирает. Я следую своей судьбе, а моя судьба — это он. Слишком много людей повернулось к нему спиной, и я не могу поступить по отношению к нему так же. Я никогда его не брошу, что бы ни произошло, хотя знаю, что мне не удастся ему ничем помочь».
* * *
В самый страшный час на край света за Муссолини отправилась не Ракела, а Клара. Попытки спрятаться в колонне эсесовцев ни к чему не привели — близ деревни Донго итальянские партизаны узнали дуче.
В четыре часа следующего дня их повели на расстрел. Бенито был угрюм и апатичен, Клара не переставая плакала. Став у стены, возле которой должна была оборваться их жизнь, она очень тихо произнесла:
— Ты доволен тем, что я следовала за тобой до самого конца?
Раздались выстрелы, и она не успела услышать ответ.
* * *
«Дорогая Ракела!
Я уже достиг последнего периода своей жизни, последней страницы своей книги. Мы, возможно, уже никогда больше не увидимся. Вот почему я пишу тебе это письмо. Я прошу у тебя прощения за все то зло, которое я тебе, сам того не желая, причинил. Тебе ведь известно, что ты — единственная женщина, которую я действительно любил. Я в данный торжественный момент клянусь тебе в этом перед Богом и перед нашим Бруно. Ты знаешь, что нам предстоит направиться в Вальтелине. Попытайся вместе с детьми пересечь границу Швейцарии. В этой стране у вас начнется новая жизнь».
Марита Лоренц. Мне приказано убить команданте Кастро
Порт был пуст — мало кому пришло бы в голову войти в воды мятежной Кубы. А уж капитанам океанских лайнеров, ведущим корабли из Европы в Нью-Йорк, — тем более. Однако один такой капитан нашелся. Лайнер герра Лоренца вошел в воды Гаваны в феврале.
Она вышла на палубу, вдохнула воздух полной грудью. Господи, нет другого места на свете с такими же пряными запахами, таким нежно-жарким солнцем!..
Марита едва заметно улыбнулась. Как же она была права, когда убежала из дому, спрятавшись в шлюпке! Разве не о том пишут в десятках приключенческих романов? Решительный главный герой тайком пробирается на борт, прячется в самом дальнем и темном углу и появляется за миг до катастрофы, чтобы спасти корабль, капитана, команду, мир… и себя, конечно. После этого, кто бы сомневался, главный герой становится другом и любимцем всей команды. Его жизнь превращается в одно бесконечное увлекательное и, главное, беспроблемное приключение.
Должно быть, серая и промозглая европейская зима подтолкнула Мариту, заставила вспомнить о героях Жюля Верна и Эмилио Сальгари. Или, быть может, пылкий характер, уставший от размеренных дней в доме деда, толкнул ее на это. Но как бы там ни было, Марита тайком пробралась на лайнер отца, ей пришлось прятаться почти сутки. Возвращать ее домой было бы глупо — не входить же в порт маленького островного государства посреди Атлантики только для того, чтобы высадить незваного пассажира?
Капитан Лоренц, подумав, решил даже не устраивать дочери выволочку — что толку попусту сотрясать воздух? Тем более что Марита-то пробралась на его лайнер!
К удивлению девушки, отец не стал предпринимать никаких действий. Его лайнер не сошел с курса, корабль неторопливо приближался к Соединенным Штатам, шторма обходили Атлантику стороной…
— Ну что ж, дочь, — капитан Лоренц смотрел в сторону берега. — Вот твое первое поручение. Думаю, с минуты на минуту на борт поднимется таможенная служба… Если она, конечно, есть у этих нищих повстанцев. На сегодня ты — доверенное лицо капитана. Встречай их, проведи по кораблю, если они выразят желание. Одним словом, сделай так, чтобы власти Гаваны запомнили лайнер Лоренца как честное круизное судно и не препятствовали нам более. Ни сейчас, ни в будущем.
— Слушаюсь, мой капитан! — Марита шутя взяла под козырек.
Капитан нахмурился. Но промолчал: после стольких нарушений устава было бессмысленно делать дочери замечания.
Не успела за герром Лоренцом закрыться дверь в каюту, как по трапу загрохотали тяжелые башмаки. Бородатые повстанцы в выгоревшей военной форме без знаков отличия поднимались на борт.
Марите показалось, что это не таможенная служба и вообще не какие-то представители портовой власти. Судя по лицам, этим парням было просто любопытно, как устроен гигантский круизный корабль.
Девушка стояла почти у трапа, когда наконец бородачи поднялись наверх. «Да, это настоящие мужчины — сильные и спокойные, страстные и уверенные в себе. Не чета унылым студентам, считающим пфенниги и решающим, достойна ли спутница кружки пива или второй чашки кофе…»
Размышления Мариты прервал гигант, который шел первым.
— Я доктор Кастро, — произнес бородач на ломаном английском. — Пожалуйста, могу я… я хотел бы посетить ваш прекрасный корабль… Возможно, и увидеть капитана…
Марита улыбнулась, но не плакатной бездушной улыбкой, а по-настоящему. В ее карих глазах зажегся теплый огонек, милые ямочки украсили щеки.
— Но при одном условии. Вы не возьмете с собой ваши игрушки.
Марита указала на автомат на плече доктора Кастро. Тот кивнул и, не сказав ни слова, за ремень стащил оружие с плеча, не глядя отдал его кому-то из стоящих сзади.
— Прошу вас, господа! — Девушка сделала несколько шагов по палубе, приглашая пусть незваных, но все же гостей проследовать за собой.
Позади раздалось несколько слов на певучем звучном языке — гигант доктор Кастро отдавал приказы. Марите было ужасно любопытно, что он говорит и вообще что происходит за спиной, но она сделала над собой усилие и не обернулась. Отчего-то ей было вовсе не страшно.
Шаги за спиной приблизились.
— Как мне называть вас, фройлейн?
— Я Марита Лоренц, дочь капитана этого лайнера. Полагаю, отцу будет любопытно побеседовать с вами.
— Фройлейн Марита…
Удивительное кубинское солнце заливало палубу, на набережной в легком ветерке колыхались листья пальм, пряные запахи с берега кружили голову. Или она закружилась в тот миг, когда бородач взглянул Марите в глаза?
— Прошу вас. Вот палуба второго класса, выше — палуба первого…
— А куда вы ведете меня?
— К капитанскому лифту. — Марита пожала плечами. — Ведь вы же изъявили желание пообщаться с капитаном. Да и Уложение о таможне предписывает, чтобы начальник таможенной группы представился капитану.
— Да вы бывалый морской волк, фройлейн…
Марита покачала головой — какой он все-таки странный, этот господин Кастро. Ну разве может дочь капитана океанского лайнера ничего не знать о море, портах, таможнях и прочих совершенно простых и понятных любому вещах?
— Называйте меня по имени, герр доктор.
Марита не оборачивалась. Но даже спиной она ощущала горячий, нет, обжигающий взгляд спутника, который скользил по шее, спине и вполне определенно не заканчивался на талии. От одной мысли девушку опять бросило в жар.
«Господи, да что это со мной? Почему от взглядов этого огромного, так непривычно и загадочно пахнущего мужчины у меня подкашиваются ноги? Почему ужасно хочется обнять его, зарыться носом в волосы на затылке?..»
Двери капитанского лифта закрылись. За решеткой плавно поплыла вниз палуба, потом появился и пропал светильник, установленный в шахте между перекрытиями. «А он прав, я действительно бывалый морской волк… — подумала Марита. — Этот повстанец подарил мне второе зрение. Я словно заново узнаю все вокруг. Так странно…»
Размышления девушки прервало странное ощущение: к ее спине прижалось огромное, пышущее жаром тело, широкие мужские руки на миг сжали ее плечи, шею согрело дыхание.
— Что вы себе позволяете, доктор Кастро?
Но в голосе Мариты не было возмущения. И ее спутник сразу это почувствовал.
— Вы столь прекрасны, мисс. Столь осведомлены. Быть может, вы согласитесь стать моим личным переводчиком здесь, в Гаване?
Лифт остановился. Всего несколько шагов отделяли теперь их от капитанской каюты. Несколько шагов и, значит, всего несколько секунд.
— Об этом, думаю, не стоит и говорить, доктор Кастро. Тем более что испанского я совсем не знаю…
Двери капитанской каюты распахнулись.
— Господин капитан, разрешите представить вам доктора Кастро, начальника таможенной службы порта.
Капитан поднялся из кресла. Марита с улыбкой смотрела, как отец приближается к этому гиганту. Пусть он был почти на две головы ниже, но оставался совершенно невозмутимым. Да и чему удивляться? Высокому бородатому парню в выгоревшей военной форме?
Да и разница в росте, похоже, была не такой уж большой — отец определенно смотрел на гостя свысока.
— Капитан, примите уверения в моем искреннем уважении.
— Доктор Кастро? Начальник таможенной службы?
Кубинец улыбнулся:
— Ваша дочь так считает. Меня зовут Фидель Кастро Рус… Соратники называют меня «команданте»…
Марита едва слышно ахнула. Мужчины обернулись.
— Не пугайтесь, фройлейн. Молва меня не щадит, это верно. Но теперь вы сами видите, где правда и где ложь…
Девушка вспомнила объятия в лифте. Ох, в одном слухи определенно не врали — команданте не мешкает в выборе женщин. И не стесняется в способах обольщения.
— Прошу, команданте. Марита, подай закуски на террасу.
У капитана круизного лайнера было множество привилегий, в том числе и своя капитанская палуба, которую герр Лоренц называл то террасой, то балконом. Правда, только в присутствии «сухопутных крыс».
— Да, папа.
Марита присела в книксене. Или в том, что можно было за него принять. Мужчины снова переглянулись.
— Вы изумительно воспитали дочь, капитан!
— Эта честь больше принадлежит ее матери, команданте. Так о чем вы желали со мной говорить?
Марита поняла, что собеседникам лучше не мешать — мужские разговоры для мужских ушей. Так любил повторять отец. Пусть Марита была с этим не согласна, но спорить… Это всегда успеется.
Девушка расставила на скатерти тарелки, выставила бутылку знаменитого рома «Семь якорей», рюмки. Поставила пепельницу — отец не курил, но гость, команданте Кастро, похоже, дымил, как труба большого пароходного котла.
«Команданте… Команданте Кастро…» Марита вновь и вновь повторяла имя кубинца. Какая-то удивительная музыка ей была слышна, аромат далеких стран и неведомых земель. Обещание необыкновенных приключений, событий, о которых будут вспоминать долгие и долгие годы… Обещание необыкновенной любви…
До чего же юные девушки впечатлительны, до чего романтичны! Кто знает, как бы поступила Марита, если бы в те минуты увидела свое будущее… Кто знает, как бы это изменило историю…
Мужчины беседовали о высоких материях: революции, необходимости построения государства по иным принципам, более человечным и более экономически разумным. Девушка участия в беседе не принимала — она прислушивалась к тому, что происходит вокруг, как бородатые кубинцы сначала расходятся по всему кораблю, а потом поодиночке спускаются вниз, к таможенному катеру. Слышала, как матросы лайнера переговариваются вполголоса, удивляясь благовоспитанности и даже определенной робости кубинских повстанцев.
И тут до ее слуха донесся ответ на их невысказанный вопрос. «Команданте», беседуя с отцом о будущем, проговорил:
— Туристы, капитан… Они всегда будут главной статьей дохода для Кубы. Туристы и наш прекрасный климат.
Капитан Лоренц сдержанно кивнул. Климат Кубы славился всегда. Климат и казино.
— Мы взяли страну в свои руки не для того, чтобы превращать ее в мусорник. И, поверьте, я не буду мямлить и сдерживаться, если узнаю, что мои соратники устроили где-то побоище. Наша страна прекрасна. И заслуживает только лучшего.
— Да, команданте. Куба великолепна…
— Так, быть может, вы станете первым из капитанов кубинского флота?
Герр Лоренц отрицательно качнул головой:
— Команданте, я не хочу вызвать ваш гнев, но вынужден отказаться. Оставим сейчас в стороне мои мотивы…
— Тогда я хотел бы, с вашего, разумеется, разрешения, предложить вашей дочери место моего переводчика. Кубе нужны образованные люди.
Марита обмерла. Неужели сейчас вот так, в мимолетной беседе за рюмкой рома, решится ее судьба? Отчего-то она уже знала, что вся ее жизнь отныне будет связана с Кубой и этим гигантом в выгоревшей форме. Знала, что жизнь эта изменилась навсегда в тот миг, когда она указала на автомат в руках команданте.
— И вновь я вынужден вам отказать. Марита еще слишком молода. Кроме того, лайнер к вечеру должен покинуть ваши воды, нас ждет Нью-Йорк, а мою дочь — университет…
Неужели она ощутила досаду при этих словах отца? Досаду, а не облегчение?
— Очень жаль, капитан. Однако я вас понимаю — у вас прекрасная дочь, и вы, вне всякого сомнения, мечтаете о том, чтобы она была счастлива…
Команданте учтиво поклонился Марите. И тут же девушка ощутила, что под столом ее коленку сжала горячая рука.
«Что ты делаешь, глупый доктор Кастро? Ведь отец рядом!»
— Вы правы, команданте, я мечтаю о счастье для своей дочери. И потому не скажу сейчас вам ни «да», ни «нет». До ее совершеннолетия еще два года. И эти два года, полагаю, должны для нее пройти в выборе будущего жизненного пути.
— Мудрость отца — залог счастья детей. Так говорит наш народ…
Горячие пальцы еще раз сжали колено Мариты. «Ох, команданте, не надо искушать судьбу…» Девушка улыбнулась отцу и перевела взгляд на спокойные воды гавани. От теплого воздуха чуть колыхались контуры старинной испанской крепости у дальнего равелина. Напоенный пряными ароматами ветерок коснулся щеки, шевельнул локон и улетел прочь, подгоняемый неведомыми силами.
«Как было бы прекрасно, если бы когда-нибудь я смогла здесь жить…» Марита перевела взгляд с гавани на город вдали. Белостенные особняки спускались почти к самой воде, купаясь в оправе густой зелени. Отсюда не были видны стены, наверняка в рытвинах от выстрелов, улицы, изрытые окопами. Хотя, быть может, все это был лишь плод ее воображения и на самом деле все обстоит совершенно иначе: спокойные обитатели особняков собираются ужинать в кругу семьи, накрывают столы на верандах, уже окутанных вечерней тенью, и вполголоса беседуют о том, каким теплым выдался в этом году февраль.
«Да, я хотела бы здесь жить… — вновь подумала Марита. — Но не одна, конечно…»
Судя по тому, как спокойно и вольготно чувствовала себя большая мужская рука у нее на коленке, ей нашлось бы, с кем разделить здесь свою жизнь.
— Однако мне пора, капитан. — Команданте поднялся из плетеного кресла. — Не следует задерживать ваш лайнер. Расписание судов необходимо соблюдать неукоснительно. Иначе не видать Кубе туристов…
— Не буду вас задерживать, доктор Кастро. Я провел незабываемые минуты в вашем обществе, но расписание движения судов, вы правы, вещь бесспорная.
Герр Лоренц поднялся из своего кресла и протянул команданте руку. Тот ответил крепким пожатием, пусть рука капитана и утонула в его широченной ладони.
— Моя дочь проводит вас, команданте. Рад был знакомству.
Марита вскочила. Отец ненамеренно, но угадал ее желание — проводить, быть может еще раз в тесноте лифта ощутить тепло его тела, увидеть широкую белозубую улыбку перед тем, как проститься навсегда.
Кастро спокойно вошел в капитанский лифт, девушка поспешно закрыла решетчатую дверь.
Нет, объятий не было. Кастро прошептал:
— Дорогая, ведь у вас же в Нью-Йорке есть квартира?
— Да, — Марита недоуменно кивнула.
— Запишите мне свой номер телефона. Пусть мы не сможем видеться, но хоть изредка сможем обменяться парой фраз, Алеманита — маленькая немка.
Марита послушно взяла огрызок карандаша и записала цифры на картонной обложке порядком истертого блокнота. Лифт остановился. Команданте прикоснулся заросшей щекой к руке девушки.
— Адьос, кариссима!
— Прощайте, доктор Кастро…
Вряд ли команданте, сбегая вниз к таможенному катеру, слышал эти слова. Но Марита, раз за разом повторяла про себя звучное «кариссима».
«Жаль, что мы больше никогда не увидимся, доктор Кастро…»
Загремела в клюзах якорная цепь — еще несколько минут, и лайнер покинет Кубу. Впереди Нью-Йорк. Отец говорил, что подыскал уже для нее, Мариты, приличный университетский курс, который даст ей профессию и позволит самой выбирать свой путь.
Впереди Нью-Йорк, где она будет совсем одна. Где ей предстоит еще долго-предолго заставлять себя забыть жар тела и нежность объятий бородатого команданте.
* * *
Вот уже две недели Марита жила в Нью-Йорке. Отец и впрямь нашел для нее отличный курс — иностранные языки всегда кормили. Вот уже почти две недели Марита прилежно осваивала параллели в языках и отличия в синтаксисе. Ей было интересно, она чувствовала, что окунулась в совсем другую, не унылую и рутинно-повторяющуюся, а живую и неожиданно-поворачивающуюся жизнь. Воспоминание о порте Гаваны не то чтобы стерлось из памяти совсем, но определенно поблекло, удалилось. Еще немного, и оно станет таким же далеким, как все остальные воспоминания: холод рождественских дней, узенькие улочки родного города, прощальный поцелуй бабушки…
Дни теперь начинались со звонка будильника — отец не захотел, чтобы Марита переселилась в кампус, вот и приходилось вставать почти на час раньше, чтобы успевать к первой лекции. Немецкая любовь к порядку и пунктуальность делали свое дело: она не могла опоздать, не могла просто не появиться в университете. Новая жизнь властно брала девушку в плен. Марита чувствовала, что становится частью совсем другой страны, нового мира — нет, Нового Света.
Успокоенный за судьбу дочери, капитан Лоренц отбыл в новый круиз, теперь из Нью-Йорка на остров Тенерифе и в Лондон. В этот раз вместе с ним отправилась в путешествие и мать Мариты. Уютная квартирка в Бронксе почти весь день стояла пустой — и только по вечерам теплым светом встречала уставшую Мариту.
Вот и сейчас девушка заварила чашку чая и, завернувшись в связанный бабушкой плед, читала поэму Тениссона. Звучные строки сейчас совершенно не трогали душу.
И тут раздался телефонный звонок. Отчего-то Марита вздрогнула. Сняла трубку и обратила внимание, что рука предательски дрожит.
— Слушаю вас.
— Алеманита, это вы?
Его голос… Голова у девушки закружилась, из закрытого окна потянуло морским бризом.
— Команданте…
— Когда ты приедешь, алеманита, кариссима?
Марита растерялась. Отец с матерью далеко, связи с ними никакой нет. Разве что отправить телеграмму и ждать ответа…
— Отец и мама в плавании. Я не знаю, когда они появятся. И спросить мне больше не у кого…
— Не спрашивай, красавица. Погости недельку в Гаване и возвращайся. Никто и не заметит, что ты уезжала!
— Но университет…
Кастро не слушал:
— Одним словом, собирайся. Через час за тобой заедут.
Марита поняла, что спорить бесполезно. Она попыталась собраться, но мысли разбегались. Сначала положила в сумку учебники, потом, сообразив, вынула их. Вспомнив, как тепло и солнечно на Кубе, начала искать шляпу… Одним словом, когда в дверь деликатно постучали, Марита поняла, что у нее хватило здравого смысла только на то, чтобы переодеться.
Вскоре лимузин мчал по вечерним улицам, затем гудели турбины самолета, а потом Марита шагнула на бетон аэродрома в Гаване.
Другая жизнь, нет, другой мир окутал ее. Бархатное тепло тропической ночи, ароматы согретых за день трав, цокот равнодушных кузнечиков…
— Фройлейн, не мешкайте. Команданте ждать не любит.
И, только усаживаясь в личный автомобиль Кастро, Марита заметила, что в руках зажат карандаш. «Что это? Зачем? Что я делала?»
Угодливая память подсказала, что у девушки хватило здравого смысла написать родителям записку и оставить ее на трюмо матери. Отчего-то память упорно отказывала Марите — она не помнила, что написала.
«Быть может, я все-таки вспомню, что там было… Ну, в крайнем случае, через неделю вернусь и прочту».
Но сердце подсказывало, что Марита лжет сама себе — не вернется она через неделю в тихий Бронкс. Да и через месяц вряд ли. Уж слишком дрожал от нетерпения голос Кастро на другом конце провода, уж слишком быстро она ступила на землю Кубы.
Тем временем автомобиль затормозил у отеля. Красные дорожки, сияющий огнями лифт, коридор с охранниками… Дверь номера распахнулась, и Марита утонула в объятиях команданте.
— Ну вот наконец и ты…
Никто и никогда так не обнимал Мариту. Нежно и сильно, осторожно и безжалостно. Никогда она не чувствовала себя настолько нужной, настолько желанной, настолько… единственной.
Тепло его тела зажгло в ней какой-то странный огонь — он не обжигал, но сводил с ума, не причинял боль, но лишал возможности здраво мыслить.
— Доктор Кастро…
— Фидель… Для тебя я навсегда Фидель…
Он на минуту разомкнул объятия, чтобы позволить Марите сделать пару шагов в глубину номера. Девушка послушно прошлась по мягким «капиталистическим» коврам, огляделась.
Команданте Кастро явно здесь жил, и жил уже не один день. Несмотря на то что в номере убирали, это была настоящая холостяцкая берлога. Везде пепельницы, на столе разбросаны бумаги, запах табака, должно быть, не выветрится уже никогда…
Фидель потянул Мариту в спальню. Та сделала несколько неуверенных шагов, ее взгляд уперся в автомат, который лежал под кроватью.
— Не обращай внимания, алеманита…
Она почувствовала тепло губ на шее, а потом, повернувшись, ответила на его поцелуй. «Нет, никогда мне уже не увидеть Нью-Йорк». Это была последняя связная мысль перед тем, как Марита окунулась с головой в пучину страсти.
* * *
Шел четвертый месяц жизни Мариты в Гаване. Каждое утро теперь начиналось с запаха сигары, поцелуя в лоб и слов Фиделя: «Я пошел разбираться с Кубой…»
Иногда команданте пропадал по нескольку дней, иногда появлялся сразу после заката. Родители Мариты уже даже не пытались ее отговорить. Да и чего стоили их слова?
Фидель как-то долгих пять часов беседовал один на один с герром Лоренцом, пытался уговорить его тоже перебраться на остров, взять в свои руки туризм на Кубе… Конечно, мужчины ни до чего не договорились, но с тех пор Фидель не раз повторял, что именно таким человеком хотел бы быть, жестким, но не жестоким, уверенным в каждом своем поступке, но при этом ничему не удивляющимся и ничего не боящимся. Девушке оставалось только молча гладить любимого по плечу.
Иногда, особенно когда Фидель исчезал надолго, Марита чувствовала свое оглушительное одиночество. Уже не радовали букеты цветов, которыми он неизменно заваливал постель после долгих отлучек. Пора было становиться на ноги. Но как?
И Марита начала с самого простого — она стала учить испанский. Вскоре она узнала, что в отеле, кроме команданте, живет немало его соратников и соратниц. Да-да, боевых подруг. Кое с кем из них он, определенно, был когда-то близок, а Селию Санчес даже называл своим ангелом-хранителем. Марита узнала об этом от самой Селии.
— Нет, детка, — сказала та, покачав головой. — Я не ревную Фиделя. Я была его другом и осталась его другом, я была его спутницей в самые трудные дни, и мы оба помним об этом. Но сейчас ему нужна другая женщина… И поэтому появилась ты. Глупо было бы всю жизнь прожить, как в палаточном городке. Глупо, да и невозможно. Теперь Фидель глава страны, и не может быть пути назад. Ни для кого из нас.
Но так, конечно, думали не все. Как-то раз девушку прямо на улице остановила какая-то здорово нетрезвая девица и закатила ей звонкую пощечину.
— Это ты, шлюха, украла нашего Фиделя!..
Марита даже не сообразила, что сказать, не попыталась дать сдачи. Девица, залившись слезами, убежала. А Фидель поздно вечером, услышав об этом, чуть смущенно произнес:
— Но чему ты удивляешься, любовь моя? Куба — страна страсти, здесь даже воздух пропитан вожделением. Конечно, ты украла меня у всех. И в первую очередь украла у меня мое сердце… Не печалься, я даже не знаю, о ком ты говоришь.
— Я чувствую себя такой никчемной, никому не нужной, — прошептала Марита.
Но Кастро преотлично расслышал ее слова.
— Кариссима, ты самая нужная и самая важная женщина в моей жизни. Что бы ты ни делала, ты будешь мне нужна! Захочешь — я сделаю тебя даже королевой Кубы!
Марита сморгнула подступившие слезы.
— А за это я сделаю тебя отцом!..
Фидель недоуменно посмотрел на девушку. Но молчал всего несколько секунд. Потом лицо его прояснилось.
— Алеманита, любимая… Ты ждешь ребенка?
— Да, команданте…
— Господи, какое счастье! Теперь ты точно станешь королевой!.. Обещаю, что я уберегу тебя от всех бед! Тебя и нашего будущего сына!
Марита взглянула на Фиделя. Он и в самом деле был неподдельно счастлив. Кастро вскочил, начал мерить шагами гостиную, что-то бормотал — должно быть, репетировал очередную речь. Или молился, но так, чтобы никто не догадался.
* * *
Марита проснулась от прикосновения губ Фиделя.
— Алеманита, я ушел разбираться с Кубой…
Девушка кивнула — так бывало уже много раз. И сегодняшнее утро ничем не отличалось от любого другого. Но сейчас ей отчего-то пришло в голову спросить:
— Когда вернешься, команданте?
— Наверное, послезавтра. — Он чуть виновато взглянул Марите в лицо. — К сожалению, есть еще дела, которые откладывать я не могу. Куба мне этого не простит.
— Я понимаю, иди…
Такой разговор тоже начинался не в первый раз и всегда заканчивался одним и тем же: «Куба не простит» — «Я понимаю». Марита не стала провожать Фиделя, как обычно делала по утрам. Она повернулась на другой бок и попыталась уснуть.
Солнце уже было довольно высоко, когда девушка наконец нашла в себе силы встать и умыться. Она удивилась тому, сколько проспала. Завтрак, как обычно поданный утром, уже успел остыть.
Есть отчего-то не хотелось. Девушка взяла стакан молока и подошла к зашторенному окну.
Там, внизу, была прекрасная Гавана, а впереди, сколько хватало глаз, простирался океан. Бесконечный, свободный…
— Нет, — Марита усмехнулась собственным мыслям. — Это еще не океан… И не свободен он вовсе. Зажат между берегов так же, как зажат каждый из нас в кругу своих обязанностей… Пусть со стороны кажется, что волен делать все, что угодно..
Вкус молока показался странноватым — должно быть оттого, что сегодня она пила его совсем холодным. Глоток, другой… Но жидкости в стакане было все еще слишком много.
— Нет, не хочу больше. — Марита решительно поставила стакан на стол и, отвернувшись от окна, потянулась за раскрытой книгой.
Но стены вдруг наклонились, потолок стал стремительно падать, в ушах тихонько засвистело. А потом все стихло — звуки ушли, свет померк, воздух перестал поступать в легкие.
* * *
Марита очнулась от яркого света, который заливал все вокруг, слепил, мешал понять, где она и что происходит.
— Она пришла в себя…
И голос был незнакомый, и звучал очень странно — словно в огромном зале. Девушка попыталась пошевелиться.
— Лежите, лежите… Вам показан абсолютный покой…
Наконец Марита смогла перевести взгляд. Рядом с ослепительно-белой постелью, на фоне слепяще-белых стен сидел совершенно незнакомый блондин в накрахмаленном белом халате. Очки в золотой оправе не давали возможности разглядеть его лицо, прятали глаза за бликами жемчужного света.
— Где я? Что со мной?
Но блондин вместо ответа сам задал вопрос:
— Что вы помните? Как вас зовут, скажите?
Чудовищные уколы боли от самого крошечного движения не могли, тем не менее, сломить характер Мариты.
— Где я? Кто вы такой?
Пусть в этом не было ни капли здравого смысла, но девушка понимала: она должна показать, кто хозяин положения. Блондин как-то странно качнул головой, словно показывая кому-то за спиной Мариты, что так и не получил ответа на столь важный для него вопрос.
— Так где я? И какого черта вы пялитесь на меня, как на душевнобольную?
Блондин понял, что больше отмалчиваться не получится. Зачем-то встал, обошел стул, на котором сидел, и, взявшись за спинку, заговорил:
— Мисс Лоренц, вы в госпитале, в… Нью-Йорке. Вам стало дурно, и гостиничная прислуга вызвала доктора…
— Мистер, — голос Мариты с каждой минутой звучал все увереннее. Она даже чувствовала, что у нее появились силы сопротивляться ударам боли. — Пусть я и в госпитале, но наверняка не в сумасшедшем доме. Каким образом гостиничная прислуга на Кубе могла вызвать доктора из Нью-Йорка? И какого черта я, если я в Нью-Йорке, оказалась в каком-то отеле? У меня здесь живут мама и отец, брат…
Неизвестный закусил губу. Девушка недобро усмехнулась.
— Что молчите? Проговорились? Так где я? И что со мной?
— Вы… в Нью-Йорке…
— Ох, как же вам не надоест врать… — Марита потянулась.
Боль не уменьшилась, но теперь она уже понимала, что болит не все тело, только внизу живота — словно кровоточила гигантская рана, которую кто-то недобрый и невидимый время от времени поливал морской водой. Теперь уже ей пришлось закусить губу — чтобы не закричать в голос.
— Вы правильно все поняли. Это больница, вернее, госпиталь… Да… в Нью-Йорке. Вас ночью доставили самолетом из Гаваны.
Марита чувствовала, что это уже почти настоящая правда.
— Что со мной произошло? Где Фидель? Он знает?
— Вам… стало плохо, и служащие гостиницы вызвали доктора…
— Ох, я это уже слышала…
— Но это правда… — Блондин был как будто слегка растерян. — А доктор, когда понял, что не может привести вас в чувство, решил, что вам могут помочь здесь, на материке. И вызвал самолет…
Марита еще раз попыталась пошевелиться. Теперь ей это удалось, хотя боль была невероятно острой.
— Не шевелитесь, вам вредно!..
— Еще раз спрашиваю: где Фидель? Он знает, что со мной произошло?
— Ни о каком Фиделе я ничего не знаю, — с досадой проговорил незнакомец.
Он в сердцах махнул рукой и вышел из крошечной ослепительно-белой палаты. Марита попыталась осмотреться. Окно было открыто, но плотные белые занавеси не давали разглядеть, что за ним. Белый линолеум, светлые крашеные стены, белый линолеум на полу. Больничная тумбочка, на ней стакан с водой. У постели металлический, тоже выкрашенный белой краской стул.
— Да-а, похоже, я и в самом деле в госпитале…
И только тут она вспомнила все — поцелуй, молоко, ставшую уже привычной тяжесть малыша…
Руки сами собой опустились вниз — именно туда, где было так оглушительно больно. Живот был непривычно плоским. Марита провела по телу сначала вниз, потом вверх, потом еще раз положила обе ладони на живот. И только тогда смогла взглянуть в глаза правде: да, ребенка она потеряла. О, что же произошло? Что такого с ней могло случиться в спокойном и тихом гостиничном номере? И где, черт его подери, Фидель? Где команданте, который обещал сделать ее королевой и защищать от всего мира?
Звук открывшейся двери заставил ее вздрогнуть. Тот, кто вошел, был невероятно зол, раздражен, охвачен гневом… Но все же это не был кто-то из знакомых ей людей. Чужие тяжелые шаги, шумное дыхание.
«Толстяк, наверное… Ну и сидел бы себе дома, что ж его понесло по госпиталям бегать?»
— Мисс, как вы себя чувствуете? — На белый стул опустился и в самом деле весьма грузный господин.
— Отлично… Как себя может чувствовать человек, очнувшийся на больничной койке?
— Мисс, не заставляйте меня повышать тон, отвечайте на вопросы…
— И не подумаю. — Если бы Марита не лежала, а хотя бы сидела, она могла бы презрительно пожать плечами. — Кто вы такой? И по какому праву вообще появились здесь?
— Девушка, я не посмотрю, что вы тяжело больны. И приложу максимум усилий, чтобы следующие двадцать лет вы провели в тюрьме. Если, конечно, не начнете сейчас вести себя как разумный человек.
— Ну тогда и вам придется вести себя как разумному человеку… И ответить на мои вопросы.
— ЦРУ отвечает только тогда, когда считает нужным!
Несколько месяцев, проведенных на острове Свободы, должно быть, сильно изменили взгляды девушки. Или осознание утраты было столь невыносимым, что на угрозы ее собственной жизни страха уже не осталось.
— Ах, ЦРУ… — Марита закрыла глаза.
Этот одышливый хам мог грозить ей чем угодно… Теперь это все не имело никакого значения… Ей стало ясно, что Фидель ничего не знает, что ее попросту отравили и украли. Вернее, отравили для того, чтобы украсть.
Марита понимала даже, зачем это сделали. Когда-то команданте сам ей рассказал, что на его жизнь покушались уже не единожды. Улыбки превосходства на его губах она не видела, но насмешка в голосе была отлично слышна.
Стоял изумительный вечер. Солнце только что село, и Гавану быстро окутали сумерки. Марита подошла к окну, чтобы отдернуть штору.
— Не делай этого, алеманита.
— Почему?
— Враг не дремлет. Будь осторожнее.
— Да почему же, Кастро? — иногда, очень сильно разозлившись, она могла назвать его по фамилии.
— Девочка, на мою жизнь уже покушались столько раз, что я почти сбился со счета. Пусть лучше будет душно, чем опасно.
Сейчас, вспомнив слова команданте, Марита нашла в себе силы удивиться тому, как долго ничего страшного не происходило, как долго она пряталась в обманчивом ощущении безопасности. Нет, как долго Фидель ее прятал.
«И теперь эти убийцы нашли наконец лазейку… Интересно, какие они теперь придумают оправдания для своих мерзких делишек?»
Марита ощутила боль, но теперь уже в душе. Разведка использовала ее чувство, она, не задумавшись ни на миг, посчитав допустимой потерей, уничтожила ребенка Фиделя. И самым отвратительным был холодный расчет, с каким ЦРУ распоряжалась жизнями человеческими…
«Убийцы… Грязные расчетливые убийцы. Ну что ж, послушаем, что вы скажете… Я-то свой ответ уже знаю… Теперь интересно будет послушать вас!»
Толстяк молчал. Марите надоела эта игра, и она попыталась отвернуться. Тело отозвалось злой болью, но что была эта боль по сравнению с тем, что происходило у нее в душе? Слезы, которые вот-вот должны были пролиться, девушке удалось каким-то чудом сдержать.
«Сейчас начнет рассказывать мне о том, как Фидель меня предал. А вот они, мудрые и заботливые, смогли сохранить мою жизнь и здоровье…»
Марита ощутила, как на смену отчаянию пришла злость — холодная и расчетливая. И еще: что она вовсе не жертва, она орудие. И пусть всесильное управление пытается использовать ее в своих целях. Она сможет, научится, придумает, как обвести их вокруг пальца. Как сделать так, чтобы в результате в дураках остались они сами.
«Я смогу защитить тебя, мой Фидель. Пусть не всегда и не навсегда. Но хоть сейчас. Да, я не смогла защитить нашего малыша. Но тебя-то смогу, клянусь!»
Первым не выдержал толстяк. Голос его смягчился, интонации надсмотрщика куда-то исчезли:
— Ну-ну, детка, давай поговорим…
— Я жду ответа на свои вопросы…
— Что ж, пусть будет так. Правда, увы, слишком горька, но если ты хочешь этого сама…
— Да, я хочу услышать всю правду.
«Наверняка ведь ни слова правды мне не услышать. Хотя и в сплошном потоке лжи я смогу найти зерна правды. Думаю, достаточно будет каждое его слово выворачивать наизнанку…»
— Так вот, после твоего бегства родители очень беспокоились о тебе.
«Интересно, а он знает, что я отцу звонила как минимум раз в неделю? И что он гостил у команданте?»
— Моего бегства…
— Да, бегства. Мать даже думала, что не переживет твоего исчезновения. И пришла к нам, желая получить помощь в поисках дочери…
«Бедная мама… Как же они на тебя давили…»
— Мы, конечно, далеко не сразу вышли на верный путь…
«Кто-то пронюхал, как судно отца останавливалось в Гаване…»
— И еще бы очень долго тыкались в поисках тебя. Но, к счастью, наш доктор оказался неподалеку, когда служащие отеля стали искать врача…
Девушка невесело усмехнулась:
— Что случилось? Почему они стали искать врача?
— Твой любовник тебя отравил… — Толстяк пожал плечами, словно он каждый день расследовал подобные дела и ему не впервой было уведомлять о подобном жертву отравления. — Ты упала в обморок. К счастью, служащие отеля довольно быстро тебя нашли…
Эту тираду Марита даже не попыталась перевести, ей все уже было ясно.
— Что с ребенком?
— Ты потеряла его… Зелье, которое твой команданте подмешал тебе в еду, вызвало роды, но ребенка спасти не удалось…
И вот теперь Марита почувствовала, как слезы хлынули потоком — единственное, что ее сейчас хоть в малой степени успокаивало, поддерживало в этой жизни, — желание отомстить. Не Фиделю, который не помнил себя от радости, узнав, что скоро станет отцом, а этим бессердечным негодяям, которые ради своей цели не жалеют никого.
— А что со мной? Почему мама и отец до сих пор не навестили меня?
— Доктора до сих пор опасаются за твою жизнь. И потому позволяют визиты весьма неохотно…
«Ни слова правды, ни словечка… Ну что ж, господа разведчики, вы сами напросились. Теперь и виноватых ищите среди своих!»
— Меня отравил Фидель?
— Да, это доказано.
— И чего вы теперь хотите от меня?
— Детка, это не мы хотим. Этого ты должна хотеть… Не буду морочить тебе голову… Скажи мне, ты хочешь ему отомстить?
— Отомстить… Да, я хочу отомстить.
«Никому смерть моего малыша не сойдет с рук, клянусь. Так что местью я буду наслаждаться… Каждым ее мигом…»
* * *
И вот опять перед ней раскинулась красавица Гавана. Океанский ветер трепал листья пальм, полосатые маркизы колыхались, не столько закрывая окна от свирепого летнего солнца, сколько набрасывая ежесекундно меняющуюся тень.
Марита шла знакомой дорогой, считая шаги. Через двадцать шагов будет поворот к площади, потом, через двести с лишним шагов по брусчатке, ей надо будет повернуть и войти в густую тень, которую отбрасывает тот самый отель, где до сих пор наверняка ее ждет Фидель, потом тридцать с чем-то шагов до главного входа.
«И тогда пути назад для меня не останется… Поверит ли он мне? Или вместо моего команданте я увижу отряд барбудас, которые вскинут автоматы, как только я выйду из лифта?»
На самом деле Марита понимала, что путь назад был отрезан в тот самый миг, когда она сказала: «Да, я хочу отомстить». Месяцы подготовки не прошли даром — теперь девушка легко могла распознать тех, кто следил за ней. И американцев, и кубинцев. Но ей было все равно — пусть бы за ней следила вся страна. Сейчас ее беспокоило только мнение одного-единственного человека. И это точно был не ее отец и не директор ЦРУ.
Гостеприимно распахнулись двери отеля, и учтивый швейцар произнес:
— Приятно снова видеть вас, фройлейн.
Марита кивнула в ответ. Да, ей тоже было приятно вновь войти в этот холл, процокать каблуками по мрамору до самого лифта, с удовольствием ощутить, как он поднимает ее к заветному этажу.
Шаг, еще шаг, еще…
Вот та самая дверь с полированной до блеска ручкой. Вот она распахивается, хотя Марита не успела даже ее толкнуть.
— Алеманита, любимая…
Фидель буквально втянул девушку в номер. Он хотел что-то сказать, но Марита его перебила:
— Мне приказали убить тебя, доктор Кастро.
И раскрыла ладонь. В крошечном флаконе перекатывались три желтые капсулы.
Примечания
1
Письма Ивана Мазепы цитируются в переводе Т. Г. Таировой-Яковлевой.
(обратно)2
Эту историю нам рассказала М. Романова, много лет упорно восстанавливающая историю своего рода.
(обратно)3
Письма Фридриха цитируются в переводе рукописей из личного архива.
(обратно)4
Цитируются сохранившиеся письма и дневниковые записи Инессы Арманд разных лет.
(обратно)




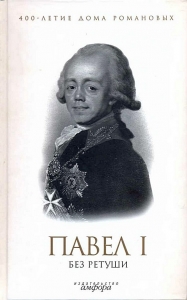
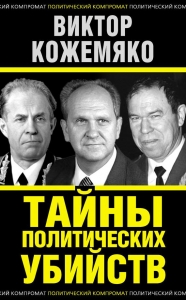
Комментарии к книге «Любовь в объятиях тирана», Сергей Реутов
Всего 0 комментариев