Ромэн Яров ТВОРЦЫ И ПАМЯТНИКИ Рассказы об инженерах БОНЧ-БРУЕВИЧ ШУХОВ ГРАФТИО ГАККЕЛЬ ГОРЯЧКИН
Современная научно-техническая революция была бы невозможна, если бы на рубеже двух веков
…не были построены первые гидроэлектростанции…
…не поднялись в небо первые самолеты…
…не побежали по земле первые автомобили…
…не ушли в эфир с первыми сообщениями радиоволны…
…не произошел решающий переворот в методах сельскохозяйственного машиностроения.
Пяти крупнейшим русским инженерам-творцам посвящена эта книга. Каждый из них стоял у истоков развития отдельной отрасли промышленности (или сразу нескольких), ныне развившихся до гигантских размеров. Каждый из них в тот момент, когда произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, был вполне сложившимся специалистом. Но только в условиях нового, молодого социалистического государства одаренные инженеры и ученые сумели полностью раскрыть свой талант и осуществить свои идеи.
Инженеры эти…
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ БОНЧ-БРУЕВИЧ (1888–1940). Член-корреспондент Академии наук СССР, создатель первой радиолампы в нашей стране и первого устройства для передачи в эфир человеческого голоса, автор множества других работ, один из основоположников отечественной школы радиотехники, человек, выполнявший непосредственные указания Владимира Ильича Ленина.
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ ШУХОВ (1853–1939). Почетный член Академии наук СССР, Герой Труда, один из первых лауреатов Ленинской премии (1929 г.), заслуженный деятель науки и техники. Человек, сочетавший в себе поразительный изобретательский талант с четкостью мышления большого конструктора. Конструкции Шухова — это множество башен, опор, резервуаров, маяков, антенн…
ГЕНРИХ ОСИПОВИЧ ГРАФТИО (1869–1949). Академик, человек, всю жизнь посвятивший созданию гидроэлектростанций. По разработанным им проектам и под его руководством были построены первые в нашей стране гидроэлектростанции — Волховская и Ниисесвирская.
ЯКОВ МОДЕСТОВИЧ ГАККЕЛЬ (1874–1945). Профессор доктор технических наук, создатель первого в нашей стране самолета с бензиновым двигателем и первого в мире магистрального тепловоза. Автор множества изобретений, относящихся к разным отраслям техники.
ВАСИЛИЙ ПРОХОРОВИЧ ГОРЯЧКИН (1868–1935). Почетный академик Академии наук СССР, действительный член Академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, основоположник науки о сельскохозяйственных машинах — земледельческой механики. По его инициативе был учрежден Всесоюзный научно-исследовательский институт сельскохозяйственной механики (впоследствии сельскохозяйственного машиностроения).
Эти пять русских инженеров, кроме знаний и энергии, обладали еще и огромной прозорливостью, которая позволила им из множества существовавших технических проблем отобрать наиболее перспективные и необходимые для дальнейшего успешного развития новой, социалистической Республики.
Голос в эфире
«…Этот Бонч-Бруевич… по всем отзывам крупнейший изобретатель. Дело гигантски важное (газета без бумаги и без проволоки, ибо при рупоре и при приемнике, усовершенствованном Б.-Бруевичем так, что приемников легко получим сотни, вся Россия будет слышать газету, читаемую Москве)…»
В.И. ЛенинТемно, страшно…
Декабрьская ночь в Петербурге тянется бесконечно. Как давно кончился день, как далеко еще до того момента, когда слабый, холодный утренний свет забрезжит в окнах… Инженерный замок погружен во тьму; глубокая тишина окутала учебные классы, спальни, двор Николаевского военно-инженерного училища. Лунный свет падает на лица юнкеров; изредка кто-то из них вскрикнет во сне, что-то невнятно проговорит. Восемнадцатилетним юношам, не привыкшим еще к суровому армейскому распорядку, снятся родные дома. И только размеренные шаги дежурных, обходящих длинные, гулкие коридоры, нарушают всеобщее спокойствие.
Юнкер первого взвода второй роты Петр Остряков дежурил в эту ночь впервые. Ему было очень не по себе: всякий раз, когда приходилось сворачивать за угол или пересекать огромные залы, в углах которых гнездилась темнота, сердце его замирало. Первое, с чем знакомились воспитанники училища, едва попав в него, была зловещая история старого замка. В суматохе дневных дел никто о ней и не вспоминал, но сейчас, ночью, все страшное лезло в голову.
История старого замка
Павел, сумасбродный и вздорный правитель, не любил свою мать, императрицу Екатерину, и все, что было с ней связано. Слишком долго держала она его в стороне от государственных дел, слишком резко и откровенно пресекала все его попытки принять в этих делах участие. Только-только воцарившись, Павел решил уехать из ненавистной резиденции — Зимнего дворца. Но куда? В Петербурге не было больше места, достойного пребывания царской персоны. Значит, надо построить, решил Павел, причем такое, которое было бы надежно защищено от любого нападения с любой стороны. На острове, образованном реками Мойкой и Фонтанкой и специально выкопанными рвами, начали возводить замок. Ровно четыре года — почти все время короткого царствования Павла — продолжалась эта работа. Шесть тысяч человек трудились днем — под лучами солнца, в дождь и пургу — и ночью, освещаемые факелами. Лучшие декораторы украсили замок, лучшие художники написали для него картины, лучшие мастера делали люстры и канделябры; множество статуй, ваз, гобеленов привезли из Рима. Наконец все было расставлено, развешано, помещено. 1 февраля 1801 года Павел переехал в замок, получивший название Михайловский от расположенной в нем церкви святого Михаила. Караулы в Зимнем дворце были отменены и стали назначаться в новом жилище императора. А в нем даже стены еще не успели просохнуть. На первом придворном балу лица собравшихся трудно было разглядеть: густой туман окутывал залы, и только неровное пламя свечей выхватывало из него отдельные фигуры. Все это сочли плохим признаком. И верно, полутора месяцев не минуло, как Павла в собственной спальне задушили придворные. Не помогли рвы, караулы и шесть пушек на бастионе…
Павлу простили бы сооружение дорогостоящей игрушки — замка. В конце концов, деньгами государства и трудом народа император вправе распоряжаться как хочет.
Ему простили бы нелепые указы, вроде внезапного запрещения круглых шляп или лакированных ботинок. Ведь можно и в этом усмотреть проявление высшей государственной мудрости.
И многое другое простили бы самодержавному владыке крепостной страны.
Но вина его — перед сановниками — заключалась з том, что, повинуясь минутному капризу, мог он любого царедворца вдруг взять да и сослать в Сибирь. И никто из них не был уверен в своем будущем.
Еще более крупную провинность совершил незадачливый император, разорвав союз с Англией и начав заигрывать с первым консулом Франции Наполеоном Бонапартом. Русские помещики продавали Англии хлеб, и, стало быть, их интересы могли жестоко пострадать. Не говоря уж о том, что во Франции пока еще была республика, французы отрубили голову своему королю, и русская придворная верхушка задыхалась от страха и злобы.
А новому императору — Александру — Михайловский замок был не нужен. Его вполне устраивал Зимний дворец. Он тут же приказал свернуть все гобелены, упаковать статуи и вернулся в старое, обжитое место. Так и остался стоять Михайловский замок мрачным памятником деспотизма и самодурства. И что с ним делать, никто не знал. Он переходил из рук в руки — одно время даже служил гостиницей для мусульманских купцов, — а потом Николай Первый распорядился передать его военно-инженерному ведомству и впредь именовать Инженерным. В нем и разместились Николаевская военно-инженерная академия и училище.
Вместо привидения
Что-то тускло отсвечивает в темноте, что-то отделяется от стены. Ах нет, это остатки былой роскоши — мраморные наличники дверей, зеркала, фигуры барельефов. Чего же бояться юнкеру первого взвода второй роты Петру Острякову? За плечами у него винтовка, и другие дежурные тоже не спят. Достойна ли будущего офицера русской армии сама мысль о существовании привидений? Но ночь так темна, а в замке столько неизвестных подземных ходов — и тень убитого императора, может быть, бродит по ним. Чтоб успокоиться, дежурный открыл дверь в спальню своей роты. И замер от ужаса…
Фигура в белом копошилась возле одной из кроватей. Вот оно, привидение, проникшее тайным подземным ходом, блуждает среди спящих!.. Но дежурный обязан охранять покой остальных, а в случае опасности бить тревогу. Из царства ли теней явилась эта фигура, или она живой человек — ей не поздоровится. Сорвав с плеча винтовку, Остряков медленно приближался. Привидение выпрямилось. Лицо его осветила луна. Остряков увидел не пустые глазницы и не оскаленные зубы. Четко очерченный профиль, прямой нос, чуть покатый лоб. Да это же сосед по спальной комнате Михаил Бонч-Бруевич в одном белье ищет что-то под кроватью. Винтовка выпала из рук Острякова, громко ударившись прикладом об пол. Звук этот вернул дежурного к действительности; он быстро огляделся по сторонам. Все спят по-прежнему; только один привстал на кровати и тут же повалился обратно.
— Бонч, — прошептал дежурный, — вы что, с ума сошли?
— Тихо! — Бонч-Бруевич приложил палец к губам. — Ваше появление очень кстати. Берите-ка ящик да тащите в умывальную комнату. Там поставите на стол, где мы пуговицы кирпичом чистим.
Он с трудом вытащил из-под кровати какой-то ящик, поднял. Остряков машинально подставил руки — и присел под тяжестью ящика. Бонч-Бруевич повернул его лицом к дзери.
«Опять я делаю то, что хочет Бонч. И не приказывает — а не подчиниться будто бы нельзя. Чем он берет: улыбкой, легкостью, независимостью суждений, стремлением во всем разобраться самостоятельно? Непонятно, — думал Остряков, прижав ящик к животу, медленно шагая по коридору. — И ведь, кроме неприятностей, ничего не ждет».
Что такое искра
А Бонч-Бруевич чувствовал себя весьма уверенно. У него и мысли не возникало о том, что он совершает нечто предосудительное. Кому, в самом деле, может не понравиться научный эксперимент. Взяв какие-то предметы, разложенные на кровати, вдев босые ноги в сапоги, не накинув ничего поверх белья, он легкими шагами мчался по коридору, опередив тяжело ступавшего Острякова.
— Бонч, — жалобно произнес тот, — ведь сейчас спать полагается.
— Тащите осторожней, — невозмутимо ответил Бонч-Бруевич, — а то они у вас в руках развалиться могут. Там аккумуляторы. Ставьте их под зарядку.
— Сейчас дежурный офицер придет, и нас обоих выгонят из училища.
— Ничего, он уже сделал свой обход. Зато профессор Лебединский получит объяснение того, что собой представляет электрическая искра.
Остряков только тяжело вздохнул. Так и есть — этот выдумщик захотел теперь найти объяснение того, чего не знает сам профессор Лебединский.
Курс физики начался в училище несколько месяцев назад. Невысокий человек, одетый в штатское, — профессор Владимир Константинович Лебединский — взошел на кафедру и принялся излагать законы механики. Бонч-Бруевич слушал, записывал, но ничего, что можно было бы проверить, чем стоило бы заняться, не находил. Великие классики — Ньютон, Галилей и другие — хорошо потрудились еще несколько столетий назад. К стройному зданию механики, воздвигнутому ими, трудно добавить что-либо. А ставить опыты для того, чтобы лишний раз подтвердить давно открытую и многократно проверенную истину, вряд ли интересно. Но все переменилось, когда профессор Лебединский перешел к электротехнике.
Похоже, другой человек стал появляться на кафедре — взволнованный голос, собственный интерес к опытам, — как будто он сам еще не все знает до конца, старается разобраться, не только учит, но и учится. И не скрывает своего восторга. Совершенно новая область познания!.. Чуть ли не каждый год фундаментальные открытия!.. Электромагнетизм, индукция, электромагнитные волны, не видимые глазом, но такие реальные, получившие уже сегодня великолепное техническое применение. Электромоторы — маленькие, компактные — везде и всюду заменяют громоздкие паровые машины, вторгаются туда, где эти машины никогда бы не удалось использовать, А изобретение последних десятилетий — радио! Связь без проводов на неограниченное расстояние — разве не чудо, но на абсолютно материальной основе. Об электротехнике можно рассказывать только с воодушевлением. И только очень черствый человек не испытает того же.
Накануне этой странной ночи Лебединский вообще пришел одетый как на праздник.
— Этой лекции я ждал давно, — объявил он, внимательно оглядывая притихших юнкеров, — Сегодня речь пойдет об очень важном явлении, природа которого еще не раскрыта, — об электрической искре.
Медленными, почти торжественными движениями профессор укрепил на кафедре стойку с двумя электродами, подал знак ассистенту. Тот включил рубильник. Между электродами с треском проскочила большая синяя искра.
— Ну и что, — спокойно заметил кто-то из слушающих. — Обыкновенная вольтова дуга.
— Ошибаетесь, — профессор предостерегающе поднял палец. — Вольтова дуга — это лишь частный случай электрической искры — явления гораздо более обширного. В природе искры очень много сложного и непонятного. Вот смотрите…
Сигнал ассистенту, электроды освещаются ультрафиолетовыми лучами, искра становится мощней и ярче. Слабее освещенность — слабее искра. Как будто бы все ясно и понятно.
— Но может получиться и совсем обратный эффект! — драматически восклицает профессор, слегка перемещает электроды.
И юнкера с изумлением наблюдают, как слабый свет усиливает искру, а мощный, наоборот, гасит.
— Это явление, — говорит профессор, — первым заметил я. Во всяком случае, никаких ссылок на что-либо похожее в научной литературе мне встречать не приходилось. Электрическая искра используется в только что появившихся аппаратах — радиопередатчиках — для возбуждения колебаний. У радиотехники огромное будущее, и поэтому все, что связано с электрической искрой, заслуживает самого пристального внимания. Я назвал открытое мной явление «эффектом Лебединского». Должен сказать, что объяснить его пока что трудно.
Бонч-Бруевич, вопреки всем правилам поведения в военном училище, немедленно вскочил с места.
— Разрешите вопрос, господин профессор? Кому трудно объяснить — нам или вообще?
— И вам, и вообще, — ответил профессор. Громко и пронзительно зазвучал в коридоре горн.
Занятия окончены. Юнкера один за другим выходили из класса. Бонч-Бруевич как бы утратил свою обычную живость, взгляд его стал задумчивым.
— Не обращай внимания, — говорили друзья, полагая, что он обижен ответом профессора.
Бонч-Бруевич молчал.
Открытие не состоялось
И только теперь Остряков понял, что задумал этот сумасброд. Открыть природу электрической искры и объяснить ее профессору Лебединскому. Ну и ну!.. Как назвать такое намерение — смелым, дерзким, самонадеянным? Бонч-Бруевич или безумец, или человек незаурядный. Иначе ему и в голову бы не пришла мысль о такой проделке.
Смирившись со всем, повернув фуражку козырьком назад, а штык сдвинув за спину, Остряков потащил аккумуляторы к штепселю на стене. В замок подавался постоянный ток от расположенной рядом учебной электростанции Офицерской электротехнической школы, и заряжать аккумуляторы можно было прямо от сети. Бонч-Бруевич тем временем монтировал стойку для электродов.
И вдруг в коридоре послышались тяжелые шаги. Оба юнкера притихли. В ночной тишине казалось, будто движется статуя. Реальность оказалась хуже: к шуму шагов примешался звон шпор, дверь умывальной распахнулась, на пороге появился дежурный офицер. Перепуганным естествоиспытателям показалось, что вслед за ним сюда спешит все начальство училища.
— Что здесь происходит?
— Разрешите доложить, господин капитан. — Бонч-Бруевич, стоя в одном белье, вытянулся, взял под козырек несуществующей фуражки. — Испытываем искровой разрядник. А это аккумуляторы. Собственной конструкции.
— Собственной? Хм! Кто разрешил?
— В уставе нет запрещения иметь собственные аккумуляторы…
— Юнкер, отставить возражения! В уставе нет запрещения иметь гремучую змею, но это не значит, что вы можете поместить ее у себя под кроватью. Одним словом, достаточно. О вашем поступке я доложу начальнику академии и училища. Он решит вопрос о вашем пребывании здесь. Забирайте свое имущество и немедленно отправляйтесь спать. А вы, никуда не годный дежурный, — капитан повернулся к Острякову, — вы, будущий офицер, поглядите-ка на себя в зеркало. Штык болтается, фуражка сидит кое-как. Пять суток карцера!
Дежурный офицер вышел. Юнкера печально поглядели друг на друга и разошлись. Желание продолжать опыт пропало.
«Хотите работать серьезно!»
Бонч-Бруевич плохо слышал, что говорит профессор Лебединский, и совсем не замечал взглядов, которые тот изредка бросал на него из-под густых черных бровей. Мысли юнкера были печальны. Уходить сейчас, когда он уже втянулся в эту жизнь, когда суровый военный распорядок ощущается уже не как тяжкое бремя, а как способ самым лучшим образом организовать свой день; когда, наконец, занятия становятся все интересней. И куда ехать. В Киев? Отец скажет: был ты в коммерческом училище — не понравилось; попал в одно из лучших военно-инженерных — тоже не по тебе пришлось. Чего же ты, в конце концов, добиваешься, к чему стремишься? Как объяснишь, что теперь он уже ясно знает, чего хочет, и если бы не эта мальчишеская выходка! Опять звук горна. Он кажется сейчас необыкновенно волнующим. Юнкера поднялись с мест.
— Господин Бонч-Бруевич, — негромко произнес профессор Лебединский, — прошу подойти ко мне. Все остальные могут быть свободны.
Сорокалетний профессор вглядывается в прозрачные серо-голубые глаза стоящего перед ним семнадцатилетнего юноши. Что означает этот ясный, спокойный взгляд? Дерзость? Да, пожалуй, но совсем не ту, смешанную с трусостью и наглостью, которая только и остается прижатому к стенке шалопаю. Здесь чувство собственного достоинства, уверенность в своей правоте, ощущение независимости, внутренней свободы, правильности сделанного. Редко кто так держит себя.
В тот момент, сидя за кафедрой и рассматривая юнкера, профессор и предположить не мог, что этот юнкер станет его любимым учеником, а потом и другом, что долгие годы предстоит им работать вместе, вместе шагать через мучительно тяжелые испытания, вместе страдать, вместе добиваться успеха.
— До меня дошли сведения, — сказал наконец Лебединский, — что вы монтировали ночью в умывальной прибор для получения электрической искры. Верно?
— Верно.
— Зачем?
— Чтоб изучить природу этого явления.
— Вы могли делать то же самое днем, в кабинете, на подготовленном оборудовании.
Бонч-Бруевич опустил голову.
«Ведь это же мальчишка, — подумал Лебединский, — несмотря на погоны и выправку. Ему нужна таинственность. Да, но не в индейцев он стал играть и не в разбойников, а взялся с ходу решать одну из серьезнейших проблем электротехники. Именно здесь область его интересов, если отбросить смешные обстоятельства. Значит, надо дать ему возможность серьезно работать. Кто знает…»
— Благодарите судьбу, — сказал Лебединский, — что все это произошло именно в инженерном училище. В любом пехотном вас бы немедленно разжаловали в солдаты. Здесь на вещи смотрят шире, понимают, что не все можно уложить в казарменные рамки. Тем более творческий поиск. То, что вы сделали, это шалость, каприз, который может смениться завтра любым другим, или проявление постоянного и глубокого интереса?
Бонч-Бруевич не ответил. Он вспомнил Киев, родной дом над Днепром, сад, береговые кручи — и опыты по передаче сигналов на расстояние без проводов. Все были под свежим впечатлением событий только что закончившейся русско-японской войны. Но его интересовали не батальные эпизоды, а новое (хотя со времен опытов Попова прошло уже десять лет) средство связи — радио. Как были изумлены друзья, домашние, услышав сигналы, как они оглядывались, нагибались, раздвигали кусты и траву в поисках спрятанных проводов. Но ведь об этом не рассказать.
— Вы хотите заняться физическими опытами? — прервал молчание профессор.
— Очень хочу.
— Хорошо, я поговорю с начальником академии и училища. Возможно, генерал-лейтенант Крюков разрешит вам самостоятельно работать в лаборатории. Я еще пока не знаю ваших способностей. Может быть, вы будете вспоминать декабрь 1907 года как время начала своей научной деятельности. Но хочу предостеречь от повторения подобных вещей. Наука требует самого серьезного отношения, и нечего даже думать о том, что можно с наскоку решить хотя бы незначительную задачу. Тем более что таких и не бывает. Карцер дежурному, кстати, заменен тремя нарядами вне очереди. И не храните впредь аккумуляторы под кроватью.
Ни одного пустого дня…
Вот и выпуск подошел; последние дни в училище. Комиссия кончила работу поздно вечером, но юнкера — теперь уже офицеры — долго не расходились: курили, обсуждали свои назначения, перспективы, делились планами. Бонч-Бруевич внезапно отделился от своих товарищей, выскочил на середину широкого коридора, отдал честь медленно идущему Лебединскому.
— Бонч, — грустно сказал Лебединский, — зачем вы попросились в Иркутск? Из восьми радиотелеграфных рот русской армии можно было выбрать что-нибудь более близкое. Мне жаль расставаться с вами, скажу откровенно: я преподаю не первый год, но такого слушателя, как вы, у меня еще не было.
— Я очень тронут, но мне хочется посмотреть дальние места, дикую природу, Байкал.
— Так вы романтик! — сказал профессор. Одобрение, легкая ирония, может быть, даже грусть по ушедшей молодости — все можно было угадать в этой короткой фразе. — Ну что ж, счастливый путь! Через три года вернетесь — милости прошу. Постарайтесь и там создать себе условия для занятий. Я дам вам рекомендательное письмо к начальнику обеих сибирских рот искрового телеграфа подполковнику Ивану Алексеевичу Леонтьеву. Он страстный энтузиаст радио. Не теряйте времени; в молодости кажется, что его безгранично много, но проходят годы, и вы убеждаетесь, что серьезная работа требует всей жизни, а она коротка. Ни одного пустого дня — вот вам мое напутствие.
…Пыльная сибирская дорога. Скрип колес, запах лошадиного пота, медленно тянущийся обоз из девяти двуколок. На них размещено все оборудование полевой радиостанции: искровой передатчик и детекторный приемник. Об электронных лампах никто и не подозревает. Остановка. Операторы — «слухачи» — надевают поверх солдатских фуражек наушники, станция начинает работу. Вся аппаратура изготовлена двумя иностранными фирмами: немецкой «Телефун-кен» и английской «Маркони». В эфир передаются сигналы по азбуке Морзе. Принимать их на слух очень тяжело. Искровой разряд, вызывающий колебания электромагнитных волн, сопровождается сильными шумами. В примитивных детекторных приемниках очень трудно отделить нужный сигнал от сигналов других станций и атмосферных помех. Приемники малочувствительны, передатчики нестабильны в работе — все это приводит к тому, что новое средство связи никак не может считаться надежным. Да и дальность действия полевой радиостанции невелика — всего тридцать километров. Солдаты страдают, у них болят уши, а командиры, как и раньше, предпочитают пользоваться вестовыми.
Все это надо менять, но сколько требуется опыта, умений, знаний! К счастью, подполковник Леонтьев достоин высокой оценки Лебединского.
«Ни одного пустого дня», — Бонч-Бруевич листает самые последние радиотехнические журналы, которые подполковник выписывает сюда, в глухую Сибирь.
«Не теряйте времени», — подполковник собрал офицеров на семинар — обсудить последние новинки радиотехники. Появилось сообщение об электронных лампах. Принцип известен, но как его реализовать?
«Серьезная работа требует всей жизни», — Бонч-Бруевич углубляется в учебники высшей математики, которые дал ему подполковник. Без этого невозможно понять законы распространения электромагнитных волн. Через рутину армейского быта, через однообразие будничных дел, сопротивляясь спокойному течению жизни, готовит себя молодой инженер к подъему на вершину творческой работы. Улыбаясь, вспоминает он теперь наивного мальчишку, который хотел за одну ночь найти объяснение сложному явлению природы. Дай бог, чтоб только удалось заложить фундамент для последующих дел, войти в суть проблем, подготовить себя!
…И вот уже три сибирских года позади. Бонч-Бруевич взбегает по лестнице петербургской квартиры профессора Лебединского. Сердце его радостно колотится.
Лебединский обнимает пришедшего, ведет к себе. В кабинете, смеясь, оглядывая возмужавшего офицера, хлопая его по плечу, профессор расспрашивает о прошедшем, о планах, намерениях. «А не бросили ли вы опыты с искрой? Не бросили! Полковник Леонтьев помог? Вот видите, я же говорил, что это замечательный человек! Хотите поступать в офицерскую электротехническую школу? Это, безусловно, необходимо сделать, а я могу помочь. Намерены продолжать опыты? Рад буду предоставить все, чем располагаю».
Тысяча девятьсот двенадцатый год. Бонч-Бруевич начинает свой путь в науке. Недоверчивые, многоопытные, знающие, сколь тяжело добывается каждая крупинка новых сведений, ученые не склонны полагаться на авторитеты; никакие уверения не убедят их ни в чем. Эксперимент — вот основа их веры. И обязательно — воспроизводимый. Если в Лондоне доказано, что под влиянием магнитного поля в движущемся проводнике возникает электрический ток, то при тех же условиях тот же результат должен быть получен и в Петербурге, и в Сиднее, и в любом другом уголке земного шара. Если эксперимент невоспроизводим, значит это шарлатанство. Ученые строги, ибо природа совсем не легко отдает свои тайны.
В эту среду ослепительным метеором врывается молодой офицер. Он талантлив, он беспредельно любит науку и готов посвятить ей всю жизнь. Веселый, жизнерадостный, энергичный — он сверхсерьезен в своем отношении к науке. И это дает результаты. В 1913 году журнал Русского физико-химического общества публикует статью Бонч-Бруевича о воздействии света на искру. Общество присуждает ему одну из своих премий, принимает в члены.
Прекрасно жить! Молод, занят тем, что поглощает все его интересы, и люди вокруг именно такие, с какими хочется иметь дело.
Так проходит год, другой…
И вдруг… Шапки газетных полос: «Убийство австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда!», «Австрия предъявила ультиматум Сербии», «Приказ о всеобщей мобилизации»…
Бонч-Бруевич занят наукой, но… Война! И какое дело начальству до его увлечений, планов, перспектив! Для кадрового офицера нет ничего, кроме служебного долга.
Уши войны
Желтиково поле — огромный пустырь — обрывается у самого волжского берега. Козы щиплют траву, бродят куры. Изредка в их стайки влетает ошалелая дворняга, и куры опрометью разбегаются. Лай, кудахтанье — из ближайшего низенького домика с палисадником мчится хозяйка. Собака, поджав хвост, бросается в сторону, исчезает. Опять тишина. Скот пасется между мачтами и обтяжками, будто это деревья, старухи спешат в церковь, купцы — в свои тесные, низкие лавки. Что там выстроенная радиостанция? Устоявшийся быт пока еще не смогла изменить даже война. Что же делать здесь, в Твери, ему, поручику Бонч-Бруевичу? Да, он офицер, которому положено без колебаний выполнять приказ, особенно в военное время. Да, газеты переполнены статьями о последней, решающей схватке между славянами и тевтонами, корреспонденциями с театра военных действий, списками погибших. Да, необходимо, чтобы эта радиостанция работала. Сто лет прошло с тех пор, когда Наполеон Бонапарт мог, сидя на холме, в подзорную трубу наблюдать, за ходом решающего сражения. Нынче фронт протянулся на тысячи километров, миллионные армии брошены друг против друга. В болотах Восточной Пруссии, в лесах Польши, на полях Галиции, в речных долинах Франции умирают ежедневно тысячи людей. Европа, достигшая, казалось, вершин цивилизации и прогресса, рассечена двумя кровавыми полосами. Ничего похожего человечество еще не переживало. Не умолкая, грохочут пулеметы. Снаряды крупнокалиберных дальнобойных орудий разом уничтожают целые подразделения. Беспрерывно движутся к линиям фронтов эшелоны с пополнениями; вдоль передовых позиций снуют автомобили; расположение вражеских войск высматривают с аэропланов. И в этой войне, где нашла себе ужасное применение самая современная техника, связь должна соответствовать мобильности и огневой мощи. Сидя в окопе, командир может отдавать приказания по полевому телефону, но как разработать вместе с союзниками — Англией и Францией — стратегические планы, координировать действия, быть в курсе всех намерений, если от них отделяют враждующие державы — Германия и Австро-Венгрия — и линии фронтов? Но о такой передаче информации по проводам не может быть и речи. Остается радио. Конечно, Тверь — захолустье, но более удобное место вряд ли найдешь. В Москве, на Ходынском поле, и в Царском Селе под Петроградом построили мощные передающие искровые радиостанции, а для приема сообщений из-за границы выбрали Тверь. И не случайно. В Москве или Петрограде приемной радиостанции мешала бы работа передающих. Тверь же достаточно удалена от обеих столиц и находится в то же время на связывающей их магистрали.
Разбежаться — и удариться в стену!
Служебный долг ясен и неоспорим. Но вот окончен монтаж, взметнулись в небо мачты, несущие антенну, прочно врыты в землю крепящие их тросы-оттяжки, построены три дощатых барака — техническое помещение, солдатская казарма и домик для начальника станции капитана Аристова и его помощника поручика Бонч-Бруевича. Теперь остается лишь следить за тем, чтобы радиостанция действовала исправно. Работа несложная. Если ею ограничиться, то сегодняшний день будет похож на вчерашний, грядущий месяц — на минувший, год станет неотличим от года, и в конце концов вся жизнь окажется прожитой впустую. Смириться с этим? Сейчас, когда тебе всего двадцать пять, когда голова полна замыслов и кажется, что сил хватит на все? Успокоиться после того, что было? Набирать силы, готовиться к разбегу, разбежаться — и удариться в глухую стену? И Москва рядом, и до Петрограда недалеко, но ощущение такое, как будто все перенесено на столетия назад, во времена тверских удельных князей. Станция расположена за чертой города, дороги к ней нет, электрического освещения тоже нет. Ну хоть бы пара станков была. Ведь опыты надо ставить. И этого нет. Но зато… Попадались же на его пути люди, сочувствующие замыслам, помогающие, направляющие на верный путь. Профессор Лебединский, подполковник Леонтьев… Хороших людей много. Почему бы и капитану Аристову не принадлежать к их числу? В конце концов любой специалист не может оставаться равнодушным к перспективам своей профессии.
Начальник и помощник
— Заходите, прошу вас. — Капитан Аристов, пожилой, среднего роста человек, распахнул дверь. В глубоко сидящих глазах его затаилась подозрительность.
Сели за стол, в первый раз за несколько месяцев разговорились.
— Скучно здесь, — сказал Бонч-Бруевич.
— Солдат да офицер — царю защитники, — приняв серьезный вид, ответил капитан. — Конечно, в Петрограде веселее. Оно и понятно, ваши годы молодые…
— Да не в том дело, — возразил Бонч-Бруевич. — Мне и в Иркутске было веселее. Я там после окончания училища служил в первой роте Сибирского искрового телеграфа. Тайга, глушь — и тем не менее опыты по исследованию искры проводил. Но искра — это уже пройденный этап. Мировая радиотехника выходит на новый уровень. Вы сами знаете, сколь ненадежны детекторы, как плохо усиливают они сигналы в приемниках. Последнее направление технической мысли идет по пути создания электронных ламп…
— Иркутск, Иркутск, — не дослушав, перебил капитан. — А я ведь не так далеко от вас — по тем масштабам, конечно, — служил. Поселок Нижне-Тамбовский на Амуре, как раз между Хабаровском и Николаевском. Маленькая у меня радиостанция была — всего пять киловатт мощности. Но зато, бывало, встанешь чуть свет — и к реке. А от нее утренний туман идет. Удочку кинуть не успеешь, как уже клюет. И девать-то рыбу, представьте, некуда — засолю да и солдатам отдам. А огород какой у меня был! Вы таких и не видали. Солдат один попался, отлично знал это дело…
Капитан даже сощурился от восторга.
— Но хоть какие-нибудь опыты вы там ставили?
— Что еще за опыты! Начни только — сразу испортишь что-нибудь. Нет уж, мы по инструкции, по инструкции. Там все, что надо делать, записано, а чего нет, того и делать не надо. И здесь так будет. Инструкцию начальство составляет, а ему высший смысл открыт, нам недоступный. От инструкции сам я не отступлю и другому не позволю. А хозяйство завести и здесь можно. Правда, на Амуре места все же побогаче будут…
У Бонч-Бруевича пропало желание поддерживать разговор. Он сухо распростился, ушел и в тот же вечер написал рапорт в Петроград с просьбой перевести его в Электротехническую школу.
Через несколько недель солдат, щелкнув каблуками, подал Бонч-Бруевичу пакет из Главного военно-технического управления в Петрограде. Поручик немедленно сорвал печать.
«…В ответ на Ваш рапорт с просьбой о переводе… учитывая ту исключительную роль, которую призвана сыграть Тверская радиостанция в трудных условиях военного времени… невозможность каких-либо исследований до победоносного окончания войны… Вам в переводе в Петроград отказано…»
Нельзя ждать
Бонч-Бруевич скомкал конверт, забарабанил пальцами по столу. Солдат у двери продолжал стоять навытяжку. «Идите», — кивнул ему Бонч-Бруевич и стал в волнении шагать по комнате. Отказано… Значит, сидеть тут, заниматься однообразным, скучным делом, делить компанию с тупым и недалеким служакой капитаном Аристовым, вся жизненная философия которого предельно проста: начальству надо угождать, бога бояться, царя любить, ни в коем случае не вмешиваться в заведенный порядок или стараться выдумать что-то новое. И это при всей отсталости, которая царит в русской армии! За те несколько лет, что прошли со времени его службы в Иркутске, очень мало что изменилось. Конечно, какое-то развитие есть. Сейчас уже не восемь искровых (радиотелеграфных) рот — больше. Но ведь и условия мировой войны исключительно тяжелы. Они требуют четкой и быстрой связи. Искровые передатчики обеспечить ее не могут: нужны ламповые. А их нет. Неужели надо с этим мириться, неужели, подобно капитану Аристову, ждать, пока кто-то что-то с одобрения начальства придумает? Неужели и он, поручик Бонч-Бруевич, тоже станет ждать? Не бывать этому! Верно, капитан Аристов будет мешать; верно, поддержки из Петрограда не дождешься. Но если у тебя есть истинный талант — значит, он должен проявиться в любых, даже более сложных обстоятельствах. Условия могут быть и благоприятными, и плохими, на преодоление преград может уйти больше или меньше энергии, но если человек по-настоящему хочет и если общество заинтересовано в его работе, он своего добьется. Новое вообще редко пользуется всеобщей поддержкой — именно потому, что оно новое. Да и здесь должны найтись люди, которые помогут ему в работе над созданием первой русской радиолампы. Глушь, конечно, но не пустыня же. И здесь есть те, кто понимает, что такое надежная радиосвязь для страны, кого можно увлечь своим энтузиазмом. Надо только их разыскать.
Просто энтузиасты
Вот этого уж Бонч-Бруевич никак не ожидал — едва только он раскрыл рот, как швейцар вскочил со всей живостью, какую ему позволяли годы, вытянул руки по швам и отчеканил:
— Рядовой первой бригады четырнадцатой пехотной дивизии Петр Фролов…
— Оставьте это, — поморщился Бонч-Бруевич. — Покажите мне, как пройти в кабинет физики. Или проводите, если можете.
— Так точно, господин поручик, могу. Через пять минут, как звонок дам.
Прихрамывая, ветеран русско-турецкой войны — он успел рассказать, как под водительством генерала Драгомирова переправлялся через Дунай, — шел впереди. Гимназисты младших классов провожали Бонч-Бруевича восторженными взглядами; да и старшие тоже смотрели с почтением. Это радовало. Поручик знал, что форма царского офицера не пользуется у свободомыслящих выпускников гимназий особой любовью. Но сейчас в каждом военном хотят видеть героя.
— Вот тут. — Швейцар распахнул высокую дверь. Бонч-Бруевич вошел. Как будто он перенесся во времена своей учебы, в Инженерный замок. Ряды столов, стеллажи вдоль стен. Блестят за стеклами медные цилиндры, неподвижны катушки, покачиваются длинные нити с грузами. Сесть за тот стол, что в углу, — и все сразу оживет в памяти. Но с кафедры уже спускается стройный молодой человек. Там, в коридоре, учителя глядят настороженно, изучающе. Этот, несмотря на такой же синий вицмундир, приветлив.
— Поручик Бонч-Бруевич…
— Левшин, преподаватель физики. Садитесь за любой стол. Нам никто не помешает — этот час у меня свободен. А хотите, пойдем в комнату за кабинетом.
— Не будем терять времени… — Бонч-Бруевич сел, положил ногу на ногу, задумался.
С чего же начать? Предмет — предметом, но в курсе ли последних достижений науки этот учитель? Их ведь в программе нет! И электротехника в его изложении все еще лишь интересная новость, а о радиотехнике он и вовсе имеет самое смутное представление? Допустимо такое? Вполне. Капитан Аристов избавил поручика от восторженного отношения к людям.
— Вы знаете, что в окрестностях города выстроена радиостанция? Мачты трудно не заметить.
— Ну да, конечно. Я являюсь помощником ее начальника и пришел к вам за поддержкой.
— Рад буду, если смогу, — удивленно сказал Левшин.
— Один вопрос для начала. Вы знаете, что такое электронная лампа?
— Наконец-то! — Учитель хлопнул ладонью о стол. — Наконец-то я познакомился с человеком, который произносит слово «электрон»! Дошел, значит, свежий ветер и до нашей Растеряевой улицы!
— Так вы в курсе последних достижений науки?
— Я полагал, что в этом городе я единственный человек, кто в курсе. Слава богу, нет! Чего же вы хотите?
— Я хочу сконструировать и испытать электронную лампу.
— Ого!.. — воскликнул Левшин. — Скромное заявление! Первым в России сделать такую работу! И, как я догадываюсь, у вас, кроме желания, ничего нет? То есть оборудования, опытных людей? Проведение экспериментов ведь абсолютно не входит в задачу вашей станции, не так ли?
— Именно так. И тем не менее. Я не прожектер, прекрасно понимаю всю трудность задачи, а оборудования у меня даже меньше, чем вы думаете. Нет и поддержки официальных инстанций. Здесь недалеко, в Иваново-Вознесенске, хранится вывезенное имущество Рижского политехнического института. Я просил предоставить его мне. Какая разница, где ему находиться — в Иванове ли, в Твери. Здесь, меж тем, польза была бы огромная. Не разрешили. Теперь думаю набрать приборы из разных мест — кто что предоставит. Нужны насосы для откачки воздуха, а для изготовления герметической замазки — химикалии.
— Еще один вопрос — последний. Почему вы обратились ко мне, скромному учителю физики, и рассчитываете впредь, вероятно, не на сильных мира сего? Тверь большой промышленный город: есть сталелитейный, вагоностроительный заводы. А предприятие товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий! Десять тысяч рабочих! Один только кутеж Морозова требует в сотни раз больше денег, чем все расходы по вашему проекту.
— Я думал об этом, — ответил Бонч-Бруевич. — Фабрикант может выбросить миллион на прихоть, но на мое дело не даст ни копейки. Оно же не сулит доходов. Деньги дай, а окупятся ли они, неизвестно. Нет, с капиталистами мне не по пути — они люди жестокие; в случае неудачи растопчут. А неудача возможна, хотя я верю в себя. Новое в науке дается с трудом. Мне нужны энтузиасты, люди бескорыстные, понимающие, что немедленных результатов может и не быть, что исследование нового имеет огромную ценность даже само по себе.
— Меня восхищает ваша решимость, — сказал Левшин, — и, конечно, я дам воздушный насос. Никогда не предполагал, что гимназические приборы могут пригодиться для серьезного дела. А что касается химикалий, то… Вот что! Я познакомлю вас с владельцем местной аптеки. Он старый, добрый и умный человек, любит помогать тем, в ком видит способности. Конечно, он не разбирается в проблемах радиотехники, но задачу в целом поймет и вас поддержит.
…И хоть капитан Аристов категорически запретил вносить в техническое здание станции посторонние предметы, Бонч-Бруевич ликовал. Пусть нельзя переместить в здании часть перегородок и освободить две комнаты для лабораторных работ, но никто не может запретить ему проводить опыты в своей крохотной комнатенке, тем более когда на его стороне такие люди, как и учитель Левшин, и старый аптекарь, и директор завода осветительных радиоламп в Петрограде Добкевич, который дал еще два пароструйных насоса, вольфрамовые нити накала, трубки, ртуть, резину. Ничего нельзя было бы сделать, если бы не встречалось на пути так много хороших людей, если бы не заражались они энтузиазмом, если бы их самих не захватывал творческий порыв. И, кроме того, есть еще музыка. Все можно вынести из комнаты, оставить лишь кровать и большой черный рояль. Когда совсем скверно становится на душе, когда не идет работа и невмоготу переносить тупость капитана, музыка успокаивает, вселяет бодрость и уверенность. Есть высшие ценности духа, и над ними не властен никто…
Париж работает!
Капитан Аристов волновался тем временем все больше и больше. «Ну и беспокойного же помощничка бог послал!» — думал он, глядя на Бонч-Бруевича, разговаривающего с солдатами о каких-то лампах, о которых он сам, начальник станции, и слыхом не слыхивал. А тут еще неизвестное оборудование прибывает, которое ни в какой описи не значится. Правда, помощник держит его у себя в комнате, но все равно непорядок. Посторонние люди — учитель с аптекарем — повадились на станцию ходить. Уж не социалист ли этот самый Бонч-Бруевич? Избави бог! Сердце капитана трепетало.
Ртутный насос стоял рядом с кроватью Бонч-Бруевича; нужно было периодически переливать ртуть из нижнего резервуара в верхний.
Несколько ночных недосыпаний, отравление парами ртути — и Бонч-Бруевич заболел. В конце 1915 года он целый месяц провел в постели. Ночами он не спал, думал.
Работа уже подошла к концу. Теперь оставалось испробовать радиолампу. Сделать это так, чтобы капитан не знал, было невозможно. Денщик Яков Бобков, произведенный в лаборанты, мог крутить колесо воздушного насоса, чтобы привести его в движение. Но один этот насос не создавал нужного разрежения в лампе, требовалось, чтоб работал еще и ртутный. А этот приводился в действие только электромотором. Так как на станции электричества не было, то для работы электромотора нужно было запустить бензиновый двигатель. И капитан Аристов все немедленно бы узнал, потому что бензиновый мотор работал только тогда, когда надо было заряжать аккумуляторы, и в этот момент над столом капитана загоралась красная лампочка. Так что затеваемое испытание — прием сигналов с Эйфелевой башни — незамеченным не останется. Ну и пусть! Бонч-Бруевич размышлял недолго. Если для того, чтобы испытать первую русскую радиолампу, надо пойти на конфликт с тупым и недалеким служакой, он это сделает.
Капитан Аристов завтракал в своей комнате, как вдруг над столом его загорелась красная лампочка. Это означало, что заработал бензиновый двигатель, единственный на станции. В такое время работать ему не полагалось. Опять этот проклятый помощник! Не дожевав кусок, капитан выскочил из дому. Картина, которую он увидел, была совершенно невероятной. Унтер-офицер роты радиотелеграфистов Кабошин просовывал в форточку квартиры Бонч-Бруевича ввод от антенны. Он перенес этот ввод из технического здания! Неслыханное нарушение служебной дисциплины! Капитан немедленно вернулся домой, надел полную парадную форму, чтобы подчеркнуть официальность визита, и отправился к своему помощнику — потребовать отчета обо всем происходящем.
Но уже все понятия о дисциплине будто бы исчезли. Навстречу капитану с крыльца сбежал ефрейтор Бобков, не переводя дыхания, отчеканил: «Так что их благородие господин поручик приказали вам доложить: Париж работает» — и убежал обратно.
Капитан вошел в комнату. Раздавались громкие звуки позывных с Эйфелевой башни; ефрейтор Бобков крутил колесо воздушного насоса, бензиновый мотор приводил в движение насос ртутный (вот отчего загорелась лампочка над столом капитана), а поручик Бонч-Бруевич охлаждал водой замазку и сургуч, соединявшие края лампы и насоса.
Капитана не поразило ни то, что он видит своими глазами первую русскую радиолампу, ни то, что сигналы Парижской радиостанции слышны так четко и громко, как никогда. Помощник начальника станции, не ставя в известность самого начальника, совершил служебное преступление: перенес антенный ввод из технического здания к себе в комнату. В таких условиях нельзя быть уверенным впредь, что удастся обеспечить нормальную работу радиостанции. Здесь должен остаться кто-то один — или начальник станции капитан Аристов, или его помощник поручик Бонч-Бруевич.
Таков был ход мыслей капитана, который он тут же изложил в рапорте Главному военно-техническому управлению. «Или он, или я», — написал капитан и подчеркнул эти слова жирной чертой.
Все это слишком хорошо
В Петрограде, однако, на рапорт капитана реагировали совсем не так, как он ожидал. Ценность опытов Бонч-Бруевича в Главном военно-техническом управлении поняли отлично. Уехать пришлось капитану. Ему подыскали новое место, но он никак не мог примириться с тем, что в Главном военно-техническом управлении решили оставить на Тверской станции не его, старого служаку, а этого мальчишку, который не считается ни с какими инструкциями и к начальству непочтителен. С поручиком он не простился.
А Бонч-Бруевич чувствовал себя легко и свободно. Работа станции шла по заведенному распорядку, но никто не косился подозрительно, не бросал хмурых, тяжелых, неприязненных взглядов. И солдаты тоже довольны. Теория радиотехники была для них, конечно, книгой за семью печатями, но энтузиазм поручика, чистоту его побуждений и высоту замыслов рядом с угрюмой тупостью капитана Аристова видели они превосходно. И старались. Смышленые деревенские парни становились монтажниками, слесарями, антенщиками. А с Яковом Бобковым Бонч-Бруевич вообще решил не расставаться. Так что все шло хорошо, опытам можно было уделять гораздо больше времени, чем раньше. Одно тревожило. Кого пришлют на место капитана Аристова? Как сложатся отношения с новым начальником? Не будет ли он еще хуже? И потому Бонч-Бруевич никак не решался перенести оборудование для опыта из своей маленькой квартирки в здание станции, хотя это становилось необходимым, потому что объем работы возрастал.
…Капля олова повисла на кончике паяльника. Бонч-Бруевич медленно приблизил его к тонкой нити. Момент очень ответственный. Бонч-Бруевич задержал дыхание. Тихо скрипнула дверь за стеной. «Господин поручик», — сказал чей-то голос. Знакомые интонации прозвучали в нем, но Бонч-Бруевичу было не до того; он раздраженно мотнул головой. «Михаил Александрович», — сказал тот же голос, но уже громче. Бонч-Бруевич обернулся. Паяльник выпал из его рук; хрустнуло разбитое стекло. Перед Бонч-Бруевичем стоял старый и давний друг — штабс-капитан Владимир Михайлович Лещинский. Всего на год раньше кончил Лещинский Николаевское военно-инженерное училище, вместе с Бонч-Бруевичем служил он в Сибирской радиотелеграфной роте. После Иркутска потеряли друг друга из виду. И вот встретились…
— Какими судьбами? — Бонч-Бруевич пожимал крепкую руку штабс-капитана и никак не мог отпустить ее.
— Приехал станцию принимать. Я был просто поражен, когда узнал о том, что вы с кем-то не ужились. Резкий конфликт, рапорт о невозможности совместной работы…
— Вот она, наша разлучница! — Бонч-Бруевич показал на стоящую в углу самодельную радиолампу.
Лещинский приблизился, внимательно разглядывая ее, легонько постучал пальцем.
— Расскажите мне в подробностях, что же у вас произошло.
— …И следствием того, что с помощью этой вот, мною сконструированной и построенной, радиолампы я здесь, в Твери, слушал Париж, и явился рапорт капитана о невозможности нашей совместной деятельности. Не знаю, как к этому отнесетесь вы, но работу свою я бросать не намерен.
— Как отнесусь! — Лещинский пожал плечами. — Я же вас не первый год знаю. Да и вы меня. Думаю, что прежде всего нужно помещение. Ну что это такое — из квартиры устраивать лабораторию.
— Я давно уже просил две комнаты.
— Это скромно. Меньше, чем тремя, не обойтись. Оборудование нужно?
— Прежде всего — хороший двигатель.
— А люди? Вы же не можете всю работу проделывать сами.
— Электромеханики-то здесь найдутся. Хуже было со стеклодувами. Но не далее как вчера их оказалось сразу несколько. Аптекарь — тот самый, что помогал мне химикалиями, — бутылки и пузырьки для своих снадобий получал со стекольного завода, расположенного неподалеку, в Клину. Всех, кто там работает, он хорошо знает. И вдруг встречает двух стеклодувов, одетых в солдатскую форму, на улицах Твери. В чем дело? Оказывается, они мобилизованы, приписаны к запасному пехотному полку, расквартированному здесь, и завтра их отправляют на фронт. Аптекарь, как это узнал, сразу ко мне. «Кто будет делать бутылки?» — кричит. Я немедленно связался с командиром, солдат обещали отправить в распоряжение станции. Да, вот что еще очень важно. Лебединский эвакуировался вместе с Рижским политехническим в Москву и часто у меня бывает. Помогает советами. Жалеет, что сейчас трудно вести переписку с генералом Ферье. Они ведь лично знакомы. Генерал — крупнейший французский радиотехник, многое мог бы подсказать.
— А вы не хотите сами с ним познакомиться?
— Каким образом? — изумился Бонч-Бруевич.
— Отправиться в командировку во Францию. Я постараюсь добиться в Главном военно-техническом управлении, чтобы это разрешили. Скажем, месяца на два. К вашему возвращению постараюсь все организовать так, чтобы можно было начинать работать в новых условиях.
— Но ведь война идет…
— Да, конечно. И именно поэтому командировка особенно необходима. Нужнее, чем в мирное время. Так я и скажу, когда буду доказывать необходимость ее начальству в Петрограде. Сложно, конечно, даже географически, придется ехать через Скандинавские страны. Что поделаешь…
Бонч-Бруевич не отвечал. Все это было слишком хорошо, чтобы сразу верилось,
Не иллюзия ли?
Осенью 1916 года Бонч-Бруевич уехал во Францию. Вернулся он через три месяца окрыленный. Производство радиоламп во Франции, да и в Англии изучено досконально. Теперь все силы, весь опыт, все знания надо употребить на то, чтобы и отечественная радиопромышленность развивалась полным ходом.
А на родине Бонч-Бруевича ждала новая, не совсем понятная ситуация. Казалось, все теперь за него. Лещинский не просто старый друг, но очень умный, дальновидный, с полуслова все понимающий человек. И точно такими же стремлениями охвачен, и организатор хороший. Есть помещение; все оборудование, что попадает на станцию, в первую очередь идет к Бонч-Бруевичу. И вот уже получилось так, что на радиостанции, у которой, казалось бы, только одна задача — принимать сообщения, создалась целая научно-исследовательская лаборатория, никаким штатным расписанием не предусмотренная. Ее назвали «Внештатная», а чтобы было чем покрывать расходы, взяли у Главного военно-технического управления заказ на партию ламп и сто комплектов ламповых приемников. И солдаты старательны и послушны — кажется, даже весьма довольны своей участью, резко отличающейся от участи остальных солдат Российской империи. Здесь отношения между ними и офицерами весьма демократичны, напоминают, пожалуй, те, что существуют между очень знающими инженерами и толковыми рабочими.
И все же его не покидало ощущение, что лабораторией своей он создал себе иллюзорное убежище и пытается уйти в него. А сделать это не удастся — все вокруг свидетельствует о том, что на третьем году войны страна идет к небывалому потрясению. Достаточно отправиться в город, чтобы увидеть это воочию. У хлебных лавок — озлобленные толпы; многие продукты вообще исчезли. Солдаты группируются кучками; отдадут честь, а минуешь — дерзкие взгляды сверлят спину, «Что-то должно произойти!» — эта мысль владеет всеми.
Царя скинули!
Утром 28 февраля 1917 года на рядом расположенной ткацкой фабрике смолк вдруг обычный оглушающий грохот. Разом остановились все станки. Пронзительно завыла сирена. И понеслось давно ожидаемое и все же невероятное: «Царя скинули!» Огромная толпа двинулась в город. Михаил Александрович в смятении ушел к себе в лабораторию. Все верно — династия Романовых отжила свой век; она — тормоз на пути развития страны, даже, пожалуй, его личных планов, — но он офицер, и многие годы воспитывали в нем чувство преданности императору. Пусть бездарный, пусть ничтожный, но символ. А теперь даже не запретишь солдатам идти вслед за рабочими — не послушаются.
И вечером он уже знал, как к вышедшим с ткацкой фабрики Залогина присоединялись рабочие со сталелитейного и вагоностроительного заводов; как арестовали директора Морозовской ткацкой фабрики черносотенца Маркова; как появились над толпой первые красные флаги с надписями «Долой войну!» и «Да здравствует революция!» и зазвучали революционные песни; как встала на пути идущих рота, и офицер что-то скомандовал, но солдаты, не думая даже выполнять, разбили строй, смешались с рабочими и дальше двинулись вместе.
Стихия
Бонч-Бруевич проснулся от какой-то неосознанной тревоги. С улицы доносился шум взволнованных голосов. Не зажигая света, Михаил Александрович выглянул в окно. Зимняя ночь глуха и темна, но где-то совсем рядом мелькают огоньки, выхватывая из темноты фигуры людей. Сомнений нет — среди солдат что-то происходит.
Кто-то чуть слышно постучал. Бонч-Бруевич откинул крючок. Лещинский.
— Михаил Александрович, солдаты отправляются на митинг в Желтикову рощу. Туда идут в полном составе 57-й и 196-й пехотные запасные полки. Наши тоже все, кроме дежурных. Это стихия; на пути ее встать нельзя. Но проследить за тем, чтобы в сохранности осталось имущество, чтобы станция продолжала нормально работать, мы обязаны.
Лещинский и Бонч-Бруевич вышли на крыльцо и смотрели на исчезающих в ночной темноте солдат.
Офицеры стояли молча; у них не спрашивали разрешения. Утром они узнали, что солдаты решили присоединиться к рабочим. Не требовалось, чтоб кто-то об этом докладывал; достаточно было взглянуть на движущиеся из желтиковских бараков толпы людей, которые были одеты в солдатскую форму — шинели, серые смушковые папахи, Солдаты, бредущие толпой, — это резало глаз кадровых офицеров. Но сейчас уже никто не мог ничему противостоять. Городовые и околоточные разбегались, прятали форму; не успевших скрыться солдаты арестовывали. Освободили заключенных из тюрьмы, захватили губернатора фон Бюнтинга, злобного и тупого человека, которого ненавидел весь город, и повели с собой к зданию городской думы. То здесь, то там над морем голов виднелись лозунги «Долой войну!», «Да здравствует революция!».
Странное время
И вот странное время наступило. Внешне все осталось прежним — радиостанция работала, слухачи и мотористы исполняли обычную службу: дневалили, стояли в караулах; во время тактических учений атаковали железнодорожную насыпь, за которой засел воображаемый противник. По всей русской армии прошли выборы командного состава, многих офицеров потрясшие до глубины души. Солдаты выбирают своих командиров — невероятно! В положении Лещинского и Бонч-Бруевича ничего не изменилось. Оба так и остались руководить станцией. Солдаты уважали этих двух людей не за служебное положение, испытывали к ним привязанность, как к умным, знающим, готовым подсказать и научить. Так что дела как будто бы шли хорошо.
И все же тревожно проходили летние и осенние месяцы 1917 года. Газеты приносили сообщения об июльском выступлении большевиков и их уходе в подполье, о движении на Петроград генерала Корнилова. Разные силы противодействовали друг другу, и Февральская революция была только началом их борьбы. Да и не обязательно следить за событиями в столице, достаточно посмотреть, что делается здесь, в Твери. Война продолжается, и ни один из вопросов, оставленных в наследство царем, не решен, Власть как будто бы принадлежит городской думе, но реально поддерживают ее немногие; достаточно послушать рабочих, чтобы понять: все они — за Совет рабочих депутатов и готовы выполнять только его распоряжения; точно так же как солдаты подчиняются только Совету солдатских депутатов. Две власти, не признающие друг друга! Так долго продолжаться не может; надвигается неслыханная борьба. Что же делать ему, штабс-капитану Бонч-Бруевичу, ученому по натуре, офицеру по воспитанию?
В эту пору во многом помог ему разобраться старый учитель, ныне просто друг, Владимир Константинович Лебединский. Он теперь перебрался в Москву и в Твери бывал часто. В этот год все жили политикой; об этом разговаривал и профессор со штабс-капитаном.
— Ваша деятельность являет собой пример того, как талантливый человек создает вокруг себя атмосферу всеобщей одаренности. Вы начинали, не пользуясь ничьей поддержкой, и в трудных условиях добились того, что работа ваша была признана важной и нужной. К вам съехалось много специалистов.
— Да. И меня радует, что наша радиостанция оказалась крохотным островком во всем этом море взаимного озлобления солдат и офицеров, их недоверия друг к другу. Но в чьих же руках окажется власть?
— Полагаю, — следовал твердый ответ, — что она перейдет к большевикам.
— Да вы уж сами не в сочувствующие ли большевикам записались? — изумлялся Бонч-Бруевич.
— Нет, — спокойно отвечал Лебединский, — просто я более чем когда-либо вглядываюсь в общественную жизнь нашей страны, думаю, сравниваю, читаю историю. Будем рассуждать реально. Массы не разбираются в тонкостях программ политических партий, но есть две вещи, ясные самому безграмотному мужику. Первое — народ устал от войны, цели которой ему чужды и непонятны. Второе — население России, стало быть и армия, состоит в основном из крестьянства. А для крестьянства проблема землевладения давняя и мучительная. Ни одна партия не предлагает столь быстрого и радикального решения обоих этих вопросов, как большевики. Я думаю, что вскоре мы увидим их у власти.
— Будет ли у меня возможность продолжать свою работу?
— Скорей всего, да. Большевики, как мне кажется, люди действия; они непременно захотят вытащить страну из той трясины, куда загнал ее батюшка-царь. На кого же, если не на специалистов вашего уровня — в любой области, — вынуждены будут они опереться?
— Значит, если это произойдет, большевики должны будут протянуть мне руку, невзирая на офицерство, — и я должен буду ответить тем же?
— Да, я так считаю.
Что-то прояснялось от таких бесед, но пока действительность не радовала. Все как будто бы разваливалось — и даже по маленькой лаборатории было это видно. Заказы на лампы отменили; солдатам, превратившимся в рабочих, нечем стало платить. Само существование лаборатории повисло в воздухе. Но уже близко были грозные события.
Октябрь
В Петрограде рабочие, солдаты и матросы штурмом взяли Зимний дворец; в Москве несколько дней продолжались ожесточенные сражения. В Твери для установления новой власти не пришлось сделать ни одного выстрела, ни одна капля крови не пролилась. Да и кто стал бы стрелять? В этом городе, где расквартировано было двадцать тысяч солдат, поголовно стоящих за большевиков; где до войны насчитывалось двадцать пять тысяч рабочих, у Временного* правительства не было никакой опоры. Разве что юнкерское кавалерийское училище. Но представители революционного комитета предупредили начальника училища, что если юнкера выступят или их попытаются отправить в Москву, то меры будут приняты самые решительные. Юнкера не выступили. Части Красной гвардии заняли вокзал, почту, телеграф, радиостанцию. Солдаты, командующие радиостанцией, офицеры, перешедшие на роль технических специалистов, — все это шло вразрез с вековыми традициями. Но теперь уже ясно было, что от старого камня на камне не останется. 28 октября власть перешла в руки Тверского Совета рабочих и солдатских депутатов.
Перелом
Первые несколько послеоктябрьских месяцев не принесли Тверской радиостанции ничего хорошего. Заказы на приемники были отменены. Шла стихийная демобилизация, солдаты разъезжались. Конечно, заключение мира с Германией и начинающаяся гражданская война требовали от нового правительства столько сил, что не до какой-то там радиостанции. Так думали все. Но все же, неужели столь нужное и важное для страны дело, на которое потрачено столько усилий и труда, заглохнет? Мысль об этом была непереносимой…
Лето шло к концу — четвертое тверское лето Бонч-Бруевича. Ветер гнал по полю пыль; начинались дожди. Незнакомый человек шел по территории станции, внимательно разглядывая антенны, бараки, техническое помещение. Лещинский подумал, что раньше он просто приказал бы солдатам задержать неизвестного до выяснения его личности. Теперь солдат нет — они разъехались по своим деревням, — а те, кто остался, стали стеклодувами, монтажниками и слесарями. Но порядок начинается с мелочей, и если не знать, кто тут бродит, то завтра начнут махать рукой и на более существенное.
— Простите. — Лещинский подошел к неизвестному. — Вы кто?
— Николаев Аким Максимович. Член коллегии Комиссариата почт и телеграфов. — Незнакомец вынул мандат. — Мы знакомимся сейчас со всем хозяйством Комиссариата, в том числе и с радиостанциями. А вы?
— Начальник станции Лещинский.
— Прошу показать мне все, чем располагаете. Лещинский одернул китель со следами споротых погон.
— Что ж, пойдемте.
Это была не первая станция, которую посетил Николаев, и она ничем не отличалась от остальных. Мощные столбы антенн уходят высоко в небо. У вершины они кажутся спичками. Легкое гудение в бараке, где стоят приемники, и странное ощущение, будто воздух заполнен чем-то, что ни уловить, ни даже определить нельзя. Несколько слухачей. Небогато, но все в сохранности. Теперь, когда приходит в негодность то, что не успело разрушиться в мировую войну, и это подарок. Неожиданно Лещинский широким жестом распахнул какую-то дверь, сказал:
— Это для души. Маленькая радиолаборатория, где мои товарищи по службе занимаются исследованиями.
Николаев вошел. Несколько человек, сидящих у столов, при его появлении встали, представились. Николаев пожал всем руки. Бонч-Бруевич, коротко остриженный, молодой, красивый, глаза грустные, задумчивые. Профессор Лебединский, седая голова, черные усы, бодр. Остряков, Леонтьев… Что за люди? С волнением смотрят они на него. Ни на одной радиостанции Николаев не видал еще таких комнат «для души». На столах стояли измерительные приборы, приемники, трансформаторы. Николаев пристально вглядывался во все это. Лампочка необычной формы вдруг привлекла его внимание. Он взял ее в руки, повертел.
— Что это? Я таких ламп не видел ни во Франции, где работал в одной радиолаборатории, ни на наших заводах, куда завозили французские радиолампы.
— Это не французская, — сказал Лещинский. — Ее разработал и создал Михаил Александрович Бонч-Бруевич. Целиком из отечественных материалов.
Николаев, не выпуская лампы, поглядывал то на нее, то на стоящего рядом Бонч-Бруевича. Какая неожиданная находка! Положение со связью в стране отчаянное. Нет ничего проще, чем оборвать телеграфный провод или спилить столб; белогвардейцы, интервенты, просто бандитские шайки начинают с этого. Прежде чем стрелять, они лишают республику связи, без которой не может работать только-только складывающийся государственный механизм. Выручает радио. Но запасы французских ламп подходят к концу; возобновить их из-за блокады нельзя. Значит, и радио скоро выйдет из строя. И вдруг в такой глуши, неожиданно, непредвиденно — отечественная радиолампа! Стены барака дощатые, неоштукатуренные, сухие. Одна огромная щель, другая, третья… Как здесь, должно быть, свистит ветер зимой, разогнавшись на огромном поле, как холодно и неуютно! И каким же невероятным энтузиазмом надо обладать, чтоб в таких условиях осуществить создание радиолампы — дело, требующее дорогих материалов, высокой культуры производства и отработанной технологии!
Вечером в кабинете Лещинского собрались все те, кто утром был в лаборатории.
— Ну что долго говорить, товарищи, — произнес Николаев. — Надо делать радиолампы. И в большом количестве.
— Как их делать? — мрачно ответил Лещинский. — Стеклодув один, оборудования нет, все на ручной работе построено. За десять дней, ежели всем взяться, штук пять, пожалуй, изготовим. Вместо тех сотен и тысяч, которые необходимы.
— А если бы у вас было подходящее помещение, станки, оборудование, энергия, о питании не надо было бы думать — всем бы обеспечивал завхоз, — тогда можно было б покрыть потребность в лампах?
— И даже перекрыть! — воскликнул Бонч-Бруевич. — Но что касается условий, это, извините, фантазией отдает.
— Хорошо, — сказал Николаев, — давайте пока отложим разговор. Я доложу народному комиссару Подбельскому обо всем, что здесь увидел, и вместе пойдем к Владимиру Ильичу. Уверен — поддержка будет.
Еще несколько дней прошло. И однажды у квартиры Лещинского остановился небольшой черный автомобиль, из него вышел человек в холщовом пиджаке, сказал коротко:
— Здравствуйте. Я народный комиссар Подбельский. Николаев докладывал о том, что здесь проделана очень интересная работа. Покажите.
Так же, как Николаев, он осмотрел все; долго, с хмурым видом наблюдал за работой стеклодува. Тот качал ногами воздух из мехов, идущий к горелке; руками вертел в пламени горелки стеклянную трубку, ртом выдувал из нее шар.
— Действительно, кустарщина, — сказал Подбельский, когда все вышли из барака. — А лампы стране необходимы. Давайте посовещаемся. — И он остановился под ближайшей мачтой. — Что нужно, чтоб выпускать в месяц примерно тысячу ламп?
— Стекло, вольфрам, никель, алюминий — все из Петрограда. — Бонч-Бруевич загибал пальцы на руках. — Газ — его надо возить оттуда же. Но как быть с транспортом?
— Дадим столько вагонов, сколько нужно. Что еще?
— Электроэнергия. Здесь, в городе, постоянный ток — он не годится. Надо построить электростанцию.
— Вот это абсолютно нереально. Дешевле и проще переехать в другой город. Здесь вам дело не поставить. А им очень интересуется Владимир Ильич. Еще раз продумайте свои нужды и приезжайте в Москву — завтра, к двенадцати часам, в наркомат. В пределах возможного постараемся обеспечить.
Автомобиль наркома пропылил по Желтикову полю, нырнул под железнодорожный мост. Бонч-Бруевич долго смотрел вслед старенькому лимузину.
Судьба
В эти августовские дни 1918 года судьба Бонч-Бруевича начала круто поворачиваться. Но он сознавал, что главное — не в предстоящей перемене места и даже не в расширении масштабов работ. Жизнь его стала неразрывно связана с развитием отечественной радиотехники. Он чувствовал это и прежде, но тогда был один; и за право вторгаться в неисследованные области, за право сказать свое слово в технике приходилось бороться с тупыми служаками и равнодушными чиновниками. А помощь шла не от государства — от людей просто добрых, просто радующихся появлению на своем горизонте энтузиаста, Добиться же поддержки сверху, да еще полного понимания задач, которые он ставил перед собой, — об этом и не мечталось. И вдруг глава нового государства находит время ознакомиться с работами, и они признаются делом огромной важности, и связь твоей личной судьбы с судьбой отечественной радиотехники признана нерасторжимой. Стране нужен Бонч-Бруевич, нужна его работа. Кто-нибудь когда-нибудь из прежних русских инженеров или ученых слышал что-нибудь подобное? На долю некоторых, может быть, и выпадала иногда царская милость, но в гораздо большей степени простиралась она на лакеев, на царедворцев. Юность позади; минуло тридцать — есть знания, умение, опыт — и как хорошо, что приход всего этого богатства по времени совпал с молодостью нового государства! Все только рождается, создается. Ничто не успело еще окостенеть — и перед тобой прямая, открытая дорога. Сделай все, что можешь, больше того, что можешь, — и это будет оценено, и никто не посмотрит на твой труд тупыми, равнодушными глазами, ни в ком не вызовет он хитроватой завистливой усмешки. Сейчас время энтузиастов. Редки такие полосы в истории, и счастлива судьба живущего в эту пору.
На восток
Несколькими днями спустя Лещинский уехал в Москву. Возвращения его ждали нетерпеливо, с тревогой. А ну как откажут? Идет гражданская война, до того ли сейчас, чтобы развивать радиопромышленность. Год назад, когда вооруженной внутренней борьбы в стране не было, на станцию приезжали представители Временного правительства, смотрели, хвалили, обещали помощь, да с тем и отбыли. И ни слуху ни духу. Не повторится ли вновь эта история?
Лещинский пробыл в отъезде всего один день. Когда он вернулся, к нему бросились с расспросами. Не отвечая, не торопясь, с необычным, сосредоточенным выражением лица он прошел в свою комнату и стал выкладывать на стол документы, проездные билеты, деньги. Собравшиеся со странным чувством глядели на эту бумагу. Значит, реальность. Надо подниматься и трогаться. Еще один существенный этап жизни завершен.
— Все подтверждается, — сказал Лещинский негромко. — О наших делах доложили Ленину. Он ими живо заинтересовался. И над чем мы работаем, и как живем, и как сделать, чтобы время наше уходило только на непосредственную работу и ни в коем случае на стояние в очередях. Короче говоря, вот мандат, по которому нам предоставят любой дом в любом городе, выбранном нами, вот деньги, вот документы на проезд. Михаил Александрович, собирайтесь, завтра поедем искать новую обитель. Я думаю, найдем ее на Средней Волге. Нам нужен город, в котором много промышленных предприятий, чтоб можно было размещать заказы; близко находящийся к Москве и Петрограду, не очень голодный. Думаю, поедем в Нижний. И заводов много, и связь с Москвой и Петроградом хорошая. К тому ж на двух реках стоит — значит, продукты подвозят.
В Нижнем Новгороде им предложили три помещения на выбор: бывший военный склад, бывший вдовий дом и трехэтажное здание с большим подвалом на берегу Волги, где раньше помещалось образцовое епархиальное общежитие. Склад был слишком велик — трудно выгородить лаборатории; вдовий дом наоборот — убого жили старушки. Вот ста семидесяти семинаристам было хорошо. Посланцы Твери долго ходили по коридорам, сразу прикидывая, где можно будет расположить то, что привезут с радиостанции, где вывезенное еще в начале войны оборудование Рижского политехнического института, которое наконец-то им передают. Вот только сейчас, разглядывая помещение, вдыхая воздух, пропитанный запахами заброшенного жилья, они до конца смогли осознать, что предстоит. Поставленная задача очень сложна. Потребность в лампах огромная, а возможности для производства весьма ограничены. А ведь из беглого знакомства с городом и зданием ясно становится, что почти все здесь проблема. Газ придется везти из Петрограда в баллонах; электричество подается с перебоями. Дом запущен; его надо не только приспособить под то дело, о котором строители в свое время и подумать не могли, но и хотя бы утеплить комнаты. Идет зима, бытовые неудобства не способствуют творческому подъему, а проблема далеко не исчерпывается созданием одной опытной партии ламп. Здесь придется осесть надолго — значит, заняться теорией. Разработать методику расчета катодных ламп, создать технологию их изготовления, да и саму конструкцию додумать до конца. Кто знает, сколько лет предстоит прожить и проработать в этом городе. Но выбора нет, а будет зато одно из самых лучших занятий на свете — создавать все собственными руками, с самого начала. Бонч-Бруевич хлопнул ногой по отставшей половице; эхо как бы вприпрыжку побежало по коридору, гулом отзываясь в пустых, с распахнутыми дверями комнатах.
— Значит, подходит? Останавливаемся на этом?
— Подходит.
…И вот то, что целых четыре года собиралось по крупице — прибор ли это, маленький станочек, — все снимается с устоявшегося места, складывается в ящики. Бывшие военные радиотелеграфисты, а теперь вакуумщики, монтажники, электрики укладывают свои скудные пожитки. Тверская станция будет вновь заниматься только приемом сообщений. Она опять становится тем же, чем и была вначале, чем и быть бы ей всегда, если б не появился на ней беспокойный, пытливый, ищущий человек — Михаил Александрович Бонч-Бруевич.
Маленький паровозик вытащил три вагона на внутренние пути ткацкой фабрики; рабочие ее — многие часто расспрашивали о радиотехнике — помогли погрузиться. Вагоны перегнали на станцию; прицепили к эшелону. Прощай, Тверь! С маленького выпрошенного насоса, с утильного вольфрама, с оборудования под кроватью, со взятой в долг замазки, с молчаливого сочувствия солдат их благородию господину поручику, который тоже от начальства терпит, началось все. А теперь — вагоны с имуществом; множество народа, а впереди большое здание, где хватит места и для лабораторий, и для производственных помещений. Людей будет много, оборудования много, и масштаб работы — все больше и больше, потому что дело, которое он начал в одиночестве четыре года назад, важное и нужное, его поддерживает глава государства Владимир Ильич Ленин.
«Приветствуем славного работника…»
Не прошло и месяца со времени переезда в Нижний Новгород, а Аким Максимович Николаев уже навестил лабораторию. Здесь царил хаос перестройки, Подвал был весь в ямах — под основание электродвигателей; на первом этаже грудились станки деревообделочной и механической мастерских. Лучше было в лабораториях второго этажа; там разместилось оборудование, вывезенное из Твери. Но и оно сильно пострадало в дороге.
— Зимой еще тяжелее будет, — сказал Бонч-Бруевич, увидев расстроенное лицо Николаева. — Вряд ли отопление успеем наладить.
— Еще раз могу повторить: любая поддержка вам обеспечена. Владимир Ильич часто спрашивает меня о вашей работе. Всякая мелочь, связанная с вами, его интересует… Это, естественно, накладывает на вас очень большие обязательства.
— Мы знаем. И к седьмому ноября первую партию ламп постараемся сделать.
Для того чтобы быстро выполнить задание, одной практической работы было мало: требовалось призвать на помощь теорию. Но откуда теория, когда лампы только-только создавались. Тем не менее и в этой области Бонч-Бруевич обладал немалым опытом. Он изучил теорию на французских лампах, которые начали поступать в большом количестве в Россию еще во время мировой войны. Инструкций и пояснений к новой аппаратуре не было; солдаты, привыкшие иметь дело с простенькими кристаллическими детекторами, пугались одного вида хрупких стекляшек. Сведения о процессах, происходящих в лампах, содержались в толстых университетских учебниках физики. Смешно было бы говорить о том, чтобы армейские связисты могли пользоваться этими учебниками. Вот тогда-то Бонч-Бруевич по заказу Главного военно-технического управления и написал брошюру: «Применение катодных реле в радиотелеграфном приеме». В этой первой в России книге об электронных лампах просто и доступно рассказывалось о сложнейших процессах, происходящих в лампе. В течение нескольких лет книга была единственным пособием для радиоспециалистов.
Михаил Александрович вновь вернулся к теории. Когда все основные закономерности работы ламп были установлены, ясной сделалась и технология. К 7 ноября 1918 года первая партия отечественных радиоламп ПР-1 — «Пустотное реле первого типа» — была готова. Обещание, данное Подбельскому, Бонч-Бруевич выполнил. Лампы увезли в Москву. Через несколько дней Бонч-Бруевичу вручили телеграмму, С волнением он сорвал ленту: кто знает, что может содержать телеграмма в такое тревожное время. «Приветствуем славного работника Бонч-Бруевича. Поздравляем радиолабораторию первой работой» — так откликнулись радиоспециалисты Москвы.
Пока что метры
Когда сегодня мы слышим из приемника голос диктора, нам кажется, что так было всегда, что история радиотехники началась с передачи человеческой речи. Эта иллюзия вызвана кажущейся простотой, с которой можно услышать голос: поворот рычажка — и все. Путь к этой простоте был долог и труден. Первые несколько десятилетий радисты могли передавать и принимать только короткие телеграфные сигналы по азбуке Морзе. Новое средство связи так и называлось — радиотелеграф. Чтоб передавать и принимать человеческий голос, нужно было создать радиотелефон. Этой проблемой занимались во всех технически развитых странах мира. Думал о ней и Бонч-Бруевич.
Конец февраля 1919 года. За окнами тишина, безмолвие, лишь ветер свистит. Крутой обрыв, поросший закутанными в снег деревьями, спускается к Волге. Белая гладь замерзшей реки незаметно переходит в заснеженное поле другого берега. Это хорошо, что так тихо вокруг. В одном конце длинного коридора радиолаборатории Бонч-Бруевич, держа у рта микрофон, повторяет: «Раз, два, три, четыре…» И снова, снова, снова… Сотрудники его в другом конце коридора слышат эти слова. Так, преодолевая расстояние всего лишь в 40 метров, начинает свой путь в эфир человеческий голос.
В лаборатории было холодно — лопнули трубы, Михаил Александрович сидел в пальто, шапке и сосредоточенно думал. Для решения поставленной задачи нужна мощная лампа. Во время работы она будет сильно нагреваться. Как справиться с этим «паразитным» теплом? На Западе в конструкции ламп используют тугоплавкие металлы — тантал и молибден. Но в России и до войны эти металлы не выплавлялись и не прокатывались, а сейчас, в условиях блокады и разрухи, их и вовсе немыслимо получить. Да и все равно принципиального решения они не дают, ибо мощность ламп даже с анодом из тугоплавкого металла можно повышать ограниченно. Нужен иной путь.
Вечерами все погружается в темноту. Не то что тантала и молибдена — топлива и хлеба нет. Из промышленных предприятий работает лишь радиолаборатория и Сормовский завод. Но ведь надо! В самой глухой деревне крестьяне должны слышать голос Москвы.
Предложенное решение было простым.
Вместо тантала анод был сделан из меди — в форме трубки. К трубке присоединялся шланг, идущий от водопроводного крана. Во время работы анод охлаждался водой. Как будто бы несложно, но до Бонч-Бруевича это в голову не приходило никому.
Теперь работа пошла быстрее. Бонч-Бруевич собрал у себя в лаборатории первый мощный радиопередатчик. 11 января 1920 года в маленьком одноэтажном домике нижегородской приемной станции собрались несколько человек. Включили приемник. Ровно в десять часов вечера зазвучал мерный и внятный человеческий голос, читающий текст из какой-то книги. Потом собравшиеся услышали пение, потом свист, за ним какие-то странные слова, состоящие из шипящих звуков, которые при разговоре по проволочному телефону всегда очень трудно разобрать. На этот раз все было слышно великолепно. Несколько мгновений люди ошеломленно глядели друг на друга. Они первые услышали человеческий голос, идущий из эфира. Председатель комиссии наконец опомнился, схватил телефонную трубку.
— Михаил Александрович? Поздравляю вас! Все слышно великолепно, даже лучше, чем по проводам. Успех, полный успех…
— За поздравления спасибо, — усталым голосом отвечал Бонч-Бруевич. — Что же касается полного успеха, то до него еще далеко. То, что вы слышали сегодня, — всего лишь эксперимент, одно звено длинной цепи. Следующее — передача из Нижнего в Москву.
Теперь — километры
В феврале 1920 года Бонч-Бруевич сказал инженеру Листову:
— Владимир Николаевич, настало время попробовать провести передачу на Москву. Сперва у нас было сорок метров, потом четыре километра, теперь будем пробовать на пятьсот километров. Поезжайте в Москву, будете оценивать слышимость. Вот письмо к Николаеву; он в курсе всех наших дел.
Листов вошел к Николаеву, подал письмо; заметив, что тот не один, сказал: «Я выйду, подожду, пока вы освободитесь». — «Постойте», — поднял руку Николаев, углубился в письмо.
— Ай да молодцы нижегородцы! На Москву, Феликс Эдмундович, собираются голос передавать.
Листов понял, что перед ним Дзержинский.
— Очень хорошо, — спокойно сказал Дзержинский. — Надо сообщить об этом Владимиру Ильичу, обрадовать. Где вы будете принимать передачу?
— На ходынской радиостанции, — быстро сказал Николаев.
Дзержинский снял телефонную трубку.
Дзержинский, Николаев и Листов ехали к глухой московской окраине долго — через Пресню, мимо Ваганьковского кладбища, где из сугробов торчали кресты, мимо ветвящихся железнодорожных линий, мимо деревенских домиков. Хорошевское шоссе, вымощенное булыжником, было узким, пустынным. Наконец вдали показались верхушки антенн. Машина, свернула, подъехала к красному кирпичному зданию радиостанции.
Листов распаковал привезенную из Нижнего аппаратуру, подключил к антенне. Прошло всего лишь минут десять с момента их приезда, но вот уже дверь радиостанции открылась и вошел Владимир Ильич Ленин. «Насколько же велик его интерес к нашим работам, — подумал Листов, — если он оставляет все дела, которых у него должно быть великое множество, и срочно прибывает сюда, чтоб самому присутствовать при первом опыте междугородной радиотелефонной передачи!»
Листов включил телефон приемника, и все услышали голос Бонч-Бруевича, произносящий отчетливо: «Раз, два, три, четыре». Ни одно слово из того, что произносилось за сотни километров отсюда, не осталось неразобранным. Слышимость была отличная.
Воодушевление овладело всеми, уезжать не хотелось. Осмотрели внимательно все станционное хозяйство. Уехали, когда было уже очень поздно. Листова подвезли на машине к дому, где тот должен был остановиться.
— Передайте Бонч-Бруевичу, — сказал Ленин на прощание, — что работа его очень нужна. При малейших затруднениях пусть обращается прямо ко мне.
Полная поддержка
Трудностей у Бонч-Бруевича хватало. Об одной из них он и написал Ленину. Через два дня Бонч-Бруевич получил ответное письмо, которое хранил, как величайшую ценность, до конца жизни.
«5/11 1920 г.
Михаил Александрович!
Тов. Николаев передал мне Ваше письмо и рассказал суть дела. Я навел справки у Дзержинского и тотчас же отправил обе просимые Вами телеграммы.
Пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам глубокую благодарность и сочувствие по поводу большой работы радиоизобретений, которую Вы делаете. Газета без бумаги и «без расстояний», которую Вы создаете, будет великим делом. Всяческое и всемерное содействие обещаю Вам оказывать этой и подобным работам. С лучшими пожеланиями.
В. Ульянов (Ленин)»
Бонч-Бруевич прекрасно понимал: помощь, поддержка основана на вере в то, что он может выполнить порученное задание. А оно уже приняло форму правительственного постановления. 17 марта 1920 года Владимир Ильич подписал «Декрет о строительстве Центральной радиотелефонной станции».
«1) Поручить Нижегородской радиолаборатории Наркомпочтеля изготовить в самом срочном порядке не позднее двух с половиной месяцев Центральную радиотелефонную станцию с радиусом действия 2000 верст.
2) Местом установки назначить Москву и к подготовительным работам приступить немедленно».
— Две тысячи верст, — говорил Бонч-Бруевич Лебединскому, — расстояние огромное. Вы в курсе всех заграничных работ, там есть что-нибудь подобное?
— Отрывочные и редкие сообщения о передаче через Атлантический океан есть, — отвечал Лебединский, — но, в общем, вряд ли там ушли далеко вперед по сравнению с нами, несмотря на нашу разруху. Если б было иначе, мы бы принимали передачи, слышали голоса или музыку. Но эфир пуст.
— Пожалуй, начнем его заполнять…
Летом 1920 года два раза в неделю, днем и вечером, Нижний Новгород начал передавать в эфир человеческий голос. Все радиолюбители, услышавшие его, должны были немедленно извещать об этом радиолабораторию.
Тысячи километров
И вот снова Хорошевское шоссе. Но теперь уже передатчик, который по нему везут, в легковой машине не разместишь. Это самый мощный аппарат из всех, что собирал Бонч-Бруевич. По шоссе катит грузовик. Сегодня должен состояться первый опыт сверхдальней международной радиотелефонной связи. Москва будет разговаривать с Берлином. Наш представитель на немецком переговорном пункте. Вот уже 6 часов — время, назначенное для приема, а ничего еще нет. Неужели что-то сорвалось? Он ловит насмешливые взгляды немцев, нервничает. А в это время в Москве спешно составляют текст передачи. И вдруг на берлинской станции в наушниках раздается ясное и четкое: «Алло, алло! Говорит московская радиотелефонная станция». И диктор переходит на немецкий язык. Рекорд дальности радиотелефонного сообщения установлен!
Разговор с Берлином услышали многие. Телеграфировал Ташкент: «Слушали московский радиотелефон. Результат разговора; голос ясен, громок, даже бьет в мембрану телефона, но по случаю сильных грозовых разрядов принять весь разговор не удалось». Из Иркутска сообщали, что человеческую речь в приемнике объяснили сперва влиянием работы городского телефона, однако, услышав слова: «Опыт Нижегородской радиолаборатории показал…», поняли, кто и откуда передает. А на далекой северной станции один радист, услышав голос в наушниках, выскочил из домика и побежал куда глаза глядят. Он решил, что сошел с ума.
Вести эти радовали Бонч-Бруевича. Смешно, конечно, когда люди сразу не соображают, что к чему, но до Иркутска и Ташкента дальше, чем до Берлина, а человеческий голос дошел и туда. Он вспоминал Иркутск времен своей молодости, радиотелеграфную роту, трясущиеся двуколки. Однажды ему надоела эта тряска, он решил построить дорогу. Но чем мостить ее? Решил замостить ее сухим торфом. Вечная страсть все делать по-новому на этот раз сыграла с ним плохую шутку, В один жаркий день дорога вспыхнула, как спичка, и сгорела. Сколько было сначала огорчения, а потом смеха. Способен ли он сейчас так бесшабашно, неистово веселиться? Почти весь седой, утомленный, с красными от бессонных ночей глазами человек. Уйти бы на неделю на лодках в Моховые горы или даже на Керженец, ловить рыбу, рано вставать, сидеть у неподвижной воды, смотреть, как мутная пелена тумана рассеивается, распадается на клочья, которые тают, превращаются в легкие облачка, как поднимается веселое утреннее солнце. Или гулять с шестилетним сыном, рассказывать ему вместо сказок прочитанные когда-то романы Дюма или Жюля Верна. А может быть, любоваться коллекциями палехских шкатулок? Или перебирать клавиши большого черного рояля. Знакомые музыканты удивляются: «У вас, Михаил Александрович, идеальный слух. Вы сочетаете в себе абстрактное мышление ученого, конструкторские способности инженера и обостренное эмоциональное восприятие художника». Да, все это так. Но впереди главное дело жизни…
Голос в эфире
Весной 1921 года на Вознесенской улице в Москве — маленькой, застроенной деревянными домишками, расположенной почти на окраине — за Курским вокзалом, — появились бригады плотников. Они ставили две огромные, самые высокие в России антенны — по сто пятьдесят метров каждая. Это была не Тверь восемь лет назад: никто новому сооружению не удивлялся. Все знали, что здесь, на пустыре, должна быть создана Центральная радиотелефонная станция. Строили ее и зимой и летом. На огромной высоте рабочие, продуваемые холодными зимними ветрами, проводили целые дни. И вот готов небольшой белый домик, внутри его передатчики, над усовершенствованием которых Бонч-Бруевич работал до самого последнего момента, стараясь повысить мощность их до такой степени, чтоб больше не нужно было пока строить в Москве другие станции.
15 сентября 1922 года газета «Известия» напечатала сообщение: «…Всем. Всем. Всем. Настройтесь на волну 3000 метров и слушайте. В воскресенье, 17 сентября, в 3 часа дня по декретному времени на Центральной радиотелефонной станции Наркомпочтеля состоится первый радиоконцерт. В программе — русская музыка…»
Михаил Александрович мог своими словами пересказать музыку самых сложных произведений, да так, что музыканты удивлялись тонкости и глубине его восприятия. Теперь он сам составил программу концерта. Мало было чувствовать только музыку — надо было еще с не меньшей точностью чувствовать, на что способна созданная долгими годами упорного труда аппаратура, как она будет себя вести, что донесет до слушателей без искажения, надо было не ошибиться в выборе. Программу первого концерта составили произведения Бородина, Чайковского, Римского-Корсакова, Глиэра, народная песня.
Атомная энергия еще не была открыта, до полетов в космос было очень далеко, но XX век уже два десятилетия изумлял человечество одним техническим чудом за другим. Вот и новое, немыслимое — голос в эфире. Как бы ни складывалась судьба, какие бы испытания ни выпадали, это счастье — дожить до такого воплощения человеческого могущества.
Тихая, засыпанная опавшими желтыми листьями улица заполнилась людьми. Инженеры, гости, артисты, взволнованные, не предполагавшие никогда, что аудиторией их может быть вся страна. Корреспонденты, отечественные и зарубежные. Щелкают затворы фотоаппаратов.
— Может быть, и в Америке услышат, — говорит юная аккомпаниаторша. — Там сейчас мой папа.
Черное концертное пианино выкатили во двор станции. В комнате неизбежно возникли бы искажения звука. На пианино — микрофон.
Три часа дня. Гости отходят от рояля, идут к приемникам на станции, а большинство отправляется к приемнику, стоящему неподалеку в поле, на пне. День тихий, солнечный, слабый ветерок шуршит листвой. Михаил Александрович Бонч-Бруевич подошел к микрофону. Все собравшиеся здесь будут вспоминать этот день, и самые молодые память о нем пронесут через всю жизнь. Но его ощущения не похожи ни на чьи, Это вершина: что бы ни предстояло ему еще осуществить, более значительного момента у него уже не будет. Это итог предыдущего — учебы, службы, тяжелых лет в Твери, беспрерывного напряжения всех сил в Нижнем Новгороде. У человека нет органов, передающих и воспринимающих радиоволны, но вот сейчас он как бы чувствует движение их с огромных антенн, их рывок ко всем континентам земного шара, в невообразимые дали космоса. Михаил Александрович Бонч-Бруевич — юнкер, офицер, энтузиаст, ученый, первый советский радиоинженер, помолчал в волнении, наконец решился:
— Алло! Слушайте. Говорит Центральная радиотелефонная станция. Начинаем концерт…
Тихий гений
«…Основная особенность творческого ума Шухова, которая проходит красной нитью во всех его изобретениях, — это достижение минимума затраты энергии при максимуме результатов».
Профессор П.К. Худяков«Вы — математик!»
…Миновали невысокую часовенку Николаевского моста. Проезжающие крестились возле нее; некоторые, сходя с экипажей, кланялись. Извозчик свернул и покатил по набережной Васильевского острова, вдоль ряда двухэтажных домов. Стучали по булыжникам железные шины колес, поскрипывали рессоры. На Неве стояли суда — с трубами и свернутыми парусами. Вдоль берега тянулись дебаркадеры, низенькие деревянные домики с окнами у самой земли и спасательными кругами на стенах. Чугунные тумбы отделяли тротуар от пологого спуска к воде. Громыхая, снизу поднимались телеги; мужик в красной жилетке и выпущенной белой рубахе монотонными движениями черпал ведром воду, выливал в бочку.
— Вот, барин, — сказал извозчик, — угол набережной и Седьмой линии.
Молодой человек, сошедший с пролетки, был в инженерной форме — совсем еще новой, не обмявшейся. По тому, как он поглядывал то на рукава, то на брюки, видно было, что носит ее всего несколько дней. Он нашел нужный дом и дверь, постучал. Слуга со строгим лицом возник на пороге.
— Господин действительный статский советник изволит принимать по субботам с двух до четырех часов пополудни.
— Доложите ему, что инженер-механик Шухов срочно просит.
Слуга ушел в глубину большой квартиры, вернулся:
— Пожалуйте…
Навстречу, прихрамывая, размахивая руками, шел человек, которого Шухов до этого видел всего лишь несколько раз в стенах Московского технического училища. Студенты перешептывались за его спиной.
— Чебышев…
— Великий математик…
— Почетный член педагогического совета…
— Академик Петербургской и Парижской академий наук…
— Французы с большим разбором принимают в свою академию иностранцев. Всего восемь таких. Чебышев среди них…
Чебышева сопровождал обычно директор училища Виктор Карлович Делла-Вос. Казалось, невероятно огромная дистанция отделяет всемирно известного ученого от скромного студента. И вдруг…
Шухов сел, осмотрелся. Небогато. На гладком письменном столе два односвечовых подсвечника, бронзовое пресс-папье в виде коня. Несколько стульев с прямыми ножками, деревянными, с плавным изгибом спинками и бело-зеленой полосатой обивкой. Роскошью и не пахнет. О Чебышеве говорят, что он на личные нужды деньги тратит неохотно, зато на модели не жалеет. И верно, под стеклом вдоль стен — паровозики, мельницы, кораблики и множество механизмов. Все это блестит в ясном свете майского петербургского утра.
— Обычно посетители приходят, чтобы изложить свою просьбу, — начал смущенно Шухов. — Но у меня никакой просьбы. Виктор Карлович, узнав, что я еду в Петербург, сказал, чтоб я воспользовался случаем и зашел к вам. Вы хотели говорить со мной.
— Он предупредил, о чем?
— Нет.
Чебышев сел по другую сторону стола и, подперев подбородок кулаком, ероша седые бакенбарды, стал внимательно разглядывать Шухова. Тот опустил глаза, юношеское, с нерезкими еще чертами лицо покрылось краской.
— Так, — сказал Чебышев. — Судя по недавно надетой форме, курс вашего обучения закончен. Чем намереваетесь заняться, господин инженер-механик?
Шухов вынул из кармана бумагу, протянул собеседнику.
Чебышев развернул глянцевитый лист, глаза его быстро побежали по строчкам, выписанным черной тушью.
«Мая 8 дня 1876.
Господину инженер-механику Императорского технического училища Владимиру Шухову.
В настоящем мае месяце отправляются в командировку в Америку профессора: Ф.Е. Орлов, П.П. Панаев, А.И. Эшлиман, инженер-механики В.А. Малышев и Д.И. Советкин для изучения Филадельфийской выставки и ознакомления с более известными заводами, фабриками и искусственными сооружениями…
С целью содействия означенным лицам по собиранию научных материалов для отчетов, а равно для составления по их указаниям чертежей интересных в техническом и чисто научном отношениях предметов я вошел с ходатайством о прикомандировании… трех техников, окончивших с успехом курс в Императорском техническом училище… в полной уверенности, что означенная поездка молодых людей принесет как им самим, так и училищу несомненную пользу. В заседании педагогического совета, состоявшегося 30 истекшего апреля, Вы избраны в число обозначенных трех лиц, а посему, считая для себя приятным долгом сообщить Вам об этом, покорно прошу письменного ответа в возможной скорости о том, желаете ли Вы воспользоваться предоставленным Вам правом.
Д и р е к т о р».
— И как же, — Чебышев вернул юноше бумагу, — желаете ли вы воспользоваться?
— Я сначала колебался, — произнес ШухоЕ. — Уезжать на год, знаете ли, нелегко. Но Виктор Карлович сказал мне, что никогда бы он не то что директором училища не стал, а просто сколько-нибудь сносным инженером, если бы в молодости не проработал на одном из французских заводов целый год простым рабочим. И вот я еду в Филадельфию. Товарищи мои прямо из Москвы отправятся в Варшаву, в канцелярии генерал-губернатора получат деньги и заграничные паспорта. А у меня в Петербурге родители, я заехал попрощаться с ними. Затем тоже еду в Варшаву, и оттуда все вместе в Гамбург, на корабль.
— Вы хотите стать инженером?
— Я уже им стал. — Шухов пожал плечами.
— Буду краток, — продолжал Чебышев. — Я видел ваши студенческие работы. Они посвящены прикладным темам, но редко мне приходилось встречать за долгую преподавательскую практику более удачное использование математики, более глубокое понимание связи ее с технологией. И я убедился, что вы по природе своей, по складу мышления не практик. Математик — вот вы кто, господин инженер-механик. Я хотел видеть вас, чтобы предложить сотрудничество. Ассистент профессора прикладной математики Петербургского университета. Устраивает вас? Жалованье — триста рублей, содержание — двести рублей. Итого — пятьсот рублей в год. Ну и работа со мной — смею надеяться, неплохим математиком — тоже честь.
«Наверное, в устах обычного человека это звучало бы как хвастовство. Но математика приучает к точным оценкам, в конце концов даже собственных свойств». Такие мысли пронеслись в голове молодого инженера, а Чебышев между тем продолжал:
— Вы полагаете: «Я еду изучать инженерное искусство — зачем же мне математика?». И я в свое время бывал за границей, изучал промышленное производство на различных заводах. И среди моих работ есть такие, как «Об одном механизме», «О зубчатых колесах». И мой параллелограмм[1] для паровой машины везете вы на выставку. Тем не менее я предпочитаю оставаться в области теории. Быть практиком — это значит загромождать свой мозг множеством проблем, связанных с конкретным выполнением того или иного предложенного математикой способа. Я этого не хочу. Меня интересует метод, а не его конструктивное воплощение. Если вы не примете мое предложение, вам придется решать промышленные задачи, но при этом учить рабочих преодолевать сопротивление сомневающихся и просто врагов, заботиться о качестве материалов, искать в своих решениях не самое лучшее, а самое дешевое…
Разгорячась, припадая на левую ногу, Чебышев ходил вокруг стола; гладкие его волосы растрепались, он размахивал руками от волнения, шепелявил.
— А если использовать математику для того, чтобы находить и самое лучшее, и самое дешевое решение? — робко спросил Шухов.
Чебышев, успокоившись, сел вновь за стол.
— Не знаю. Я очень люблю математику, и все другие занятия по сравнению с ней кажутся мне менее достойными. Это, конечно, мое личное ощущение, у вас могут быть совсем иные взгляды. Одно бесспорно: истинный математический талант — редкость большая. У вас, мне кажется, он есть, и было бы жаль, если бы вы не дали ему развернуться. Отложим на год завершение нашего разговора. Вернетесь — милости прошу ко мне для окончательного ответа. Не забывайте об этом и все, что вы там увидите, оценивайте с точки зрения ответа, который вам предстоит дать.
— Не забуду, — сказал Шухов.
…Он шел по набережной, разглядывая игру бликов на холодной воде, дымки из труб пароходов, в ушах его стоял пронзительный, сердитый прощальный возглас академика: «Вы — математик!» А в душе своей он искал немедленного ответа. Принять предложение? Тихий кабинет, жизнь среди формул. Это своего рода уход от реальности. Или же действительно преодолевать все те трудности, о которых говорил Чебышев, — но зато живая деятельность. Что лучше? Посмотрим, каково это — люди, заводы, машины. Год впереди. «Летом 1877 года я вернусь на родину с готовым решением».
«Прошу вашего совета»
Североамериканская республика праздновала столетие своего существования.
Изо всех окон высовывались полосатые, с тринадцатью звездами флаги. Бухали колокола, в небе взрывались петарды. Тротуары заполнил народ: принарядившиеся горожане в широкополых шляпах, сюртуках и круглых панталонах, негры, дети с длинными локонами.
Возле столба, на фонаре которого была надета поразившая Шухова огромная шляпа, стояла неподвижно группа индейцев в меховых, узорами расшитых костюмах. По мостовой шли части Национальной гвардии, солдаты, моряки. Чуть ли не половину каждого полка составляли музыканты.
От гула огромных барабанов, звона литавр, рева труб у Шухова слегка закружилась голова. К тому ж последние дни стояла нестерпимая жара. Шухов потянул своего спутника за рукав.
— Сейчас, сейчас, — не поворачиваясь, сказал гот. — Военные уже прошли, начинается шествие клубов и обществ. Да вот посмотрите, Орден храмовников идет. Ну где вы еще такое увидите…
Вслед за ушедшими войсками двигались люди в ярко-синих тогах, с огромными красными крестами на груди, высоких ботфортах, треугольных, с перьями, шляпах. На боку каждого покачивалась шпага, через шею был переброшен масонский знак.
— Да, — воскликнул Шухов, — такого действительно не увидишь!. И все-таки надо идти. Выставка ведь не закрыта; сегодня моя очередь давать объяснения у стендов нашего училища.
Спутник Шухова вздохнул и пошел рядом.
Человека этого звали Александр Бари. Инженеры из России познакомились с ним совсем недавно в Бостоне, куда отправились осматривать знаменитый Массачусетский технологический институт.
В гидравлической лаборатории к ним подошел черноглазый, черноволосый молодой человек.
— Счастлив слышать русскую речь, господа! — воскликнул он. — Счастлив видеть здесь своих соотечественников! Позвольте представиться — Александр Бари, приехал знакомиться с американской промышленностью. Сейчас на правах вольнослушателя посещаю лекции и лаборатории института.
Вечером Александр Бари пришел в отель к русским инженерам. А через несколько дней занятия кончились, и он перебрался в Филадельфию к соотечественникам. Общительный, легко сходящийся с людьми, он вызвал к себе всеобщее расположение. Маленькая группа охотно приняла его в свою компанию. Шухову казалось, что Бари старается сблизиться с ним больше, чем с остальными. Может быть, потому что они люди почти одного возраста? Конечно, с пожилыми профессорами ему говорить не о чем. Но есть и другие выпускники…
Шухов и Бари перешли высокий Честнетский мост. Под деревьями обширного Фермоунтского парка было не так жарко — да и от озерца, вокруг которого расположились причудливые здания выставки, веяло прохладой. В обширном здании для машин было сравнительно пусто: сегодня люди больше интересовались тем, что происходит на улицах. Чуть-чуть подрагивал пол. Это работал самый мощный (1400 лошадиных сил) двигатель в мире — паровая машина механика Джорджа Карлисса. Гудел гигантский вентилятор. Шухов приколол на грудь значок Русского отдела выставки и подошел к стендам Московского технического училища. Здесь была небольшая паровая машина с регулятором конструкции Чебышева, продольно-строгальный станок — изделие завода при училище, — чертежный прибор, инструменты для обучения столярному и слесарному делу, учебные пособия, модели механизмов…
— Владимир Григорьевич, — сказал неожиданно Бари, — я хочу с вами посоветоваться.
— Пожалуйста, — Шухов удивленно поднял брови.
— Я хочу по возвращении в Россию стать коммерсантом, основать какое-нибудь промышленное предприятие. Отец мой, бедный торговец, оставил мне совсем немного денег, и правильный выбор — это для меня сейчас вопрос всей жизни. Или разбогатеть, или потерять то немногое, что имею. Я обращаюсь к вам за советом — подсказать, в какое производство разумнее всего вложить деньги?
Шухов задумался. Перед ним такой проблемы возникнуть не могло. Деньгами он не располагал и приобрести их не стремился. Мысли его шли совсем в другом направлении.
— Ну, займитесь текстилем, — сказал он наконец. — Сейчас у нас, я знаю, строится много фабрик.
— Вы не коммерсант! — Бари огорченно махнул рукой. — Неужели вы думаете, что с ограниченными средствами я смогу сколько-нибудь долго продержаться в борьбе против Морозовых? Или Прохоровской, Никольской мануфактур? Они спокойно отнесутся к появлению конкурента? Нет. Мгновенно разоренный, я буду выброшен за борт деловой жизни. Нравы там жестокие, жалости в делах не бывает. Мне нужна такая область деятельности, которой до сих пор никто не занимался, но потребность в ней существует огромная. Более того, для нее не должны требоваться рабочие очень высокой квалификации, однако производство должно быть достаточно сложным — иначе каждый сможет им заниматься. Как видите, требования весьма противоречивые.
— Право, не знаю, что вам на это ответить…
«Вы отличный инженер!»
— Мистер Шухов! — разнеслось вдруг по огромному залу.
Быстрой походкой к Шухову подошел загорелый, крепкий человек с большими распушенными усами.
— Мистер Прентис! — Шухов удивленно пожал протянутую руку. — Что вас сюда привело?
— Ваши инженерные способности. Конструкторы завода Болдуина, которых я попросил оценить вашу идею, сделали это. Закончив подсчеты, они сообщили мне, что идея превосходна. При большей прочности стенок потребуется меньше материала, а изготовление будет дешевле. Позвольтэ еще раз пожать вашу руку.
И американец принял торжественный вид.
— Надеюсь, вы в праздник разыскивали меня не за этим? — сказал Шухов, когда церемония рукопожатия кончилась.
— Мистер Шухов, мы, американцы, живем под девизом время — деньги. Я не стал ждать окончания праздников, узнал на заводе, где можно вас найти, и явился сюда, чтобы предложить вам место в своей конторе.
Шухов долго ничего не отвечал, взял в руки модель чебышевского механизма, пальцами стирая с нее пыль. Шумела вода — в отделении гидравлических машин заработали, наполняя бассейн, трубы. Бари внимательно, с каким-то странным выражением глядел на Шухова. Будто он начал наконец догадываться, в чем решение давно мучившей его задачи.
Лицо американца стало выражать нетерпение.
— Мистер Прентис, — Шухов вздохнул, положил параллелограмм на место, — глубоко ценю доверие, которое вы оказали мне, начинающему инженеру. За предложение ваше благодарю и отказываюсь. Если я, как вы говорите, способный человек, то и родной стране смогу принести пользу.
— Но я буду вам хорошо платить. В старушке Европе люди столько не зарабатывают.
— Не все можно измерить деньгами…
— Мне жаль, мистер Шухов. — Прентис не стал тратить время на уговоры. — В Америке каждый придерживается другого правила: я никому ничего не должен. Но мы умеем ценить и чужие убеждения. Желаю удачи!
Он повернулся и быстрой, упругой походкой человека решительного, знающего цену минуте, направился к выходу. Дела, дела…
«Я и не собираюсь работать в нефтяной промышленности»
— Чем вы его так пленили? — живо спросил Бари.
— Я отверг его проект и предложил свой.
— Расскажите…
— Тут особенно-то и рассказывать нечего. Мы проходим сейчас практику на паровозостроительном заводе Болдуина.
— Знаю, корпуса в самом центре Филадельфии.
— Вот именно. Я работаю в чертежном бюро. Несколько дней назад пришел этот мистер Прентис с заказом на резервуар для нефти. У него небольшой нефтяной участок на границе штатов Пенсильвания и Огайо. На заводе есть цех, клепают котлы, так что он принимает и такие заказы. Прентис принес эскизы; мне поручили сделать из них рабочие чертежи. На эскизах резервуар был прямоугольной формы, с балками, усиливающими стены. Я при нем подсчитал нагрузки и тут же предложил ему экономию времени, денег, материалов. Он очень удивился, когда я объяснил ему, что резервуар выгоднее сделать не прямоугольным, а круглым, ибо в круглых конструкциях нагрузки распределяются более равномерно. «Соглашайтесь, — сказал я, — и чертежи будут готовы очень быстро». Он колебался, я же настаивал на своем. Почему — еще и сам не могу понять.
Ну что мне за дело до того, сэкономит мистер Прентис деньги или нет! Но есть какая-то профессиональная гордость, есть в нашем, казалось бы, сухом деле огромные творческие возможности, которые хочется раскрыть как можно полнее. Наконец Прентис сдался, но все-таки сказал, что попросит опытных конструкторов проверить мои утверждения, добавив, что от результатов проверки будет зависеть моя инженерная репутация. Вот тут-то мне стало не по себе. И знаю, что прав, а страшно. Ведь моя инженерная репутация не принадлежит только мне лично. Это и репутация Московского технического училища…
— Я слышал, как отзывался об училище доктор Ранкл, директор Массачусетского технологического института, — перебил Бари. — Очень высоко. А институт этот ведь считается лучшим в Америке, и выпускникам его оказывают решающее предпочтение при приеме на работу.
— Конец этой истории прошел на ваших глазах.
— Так вы рассчитываете принять предложение Чебышева и стать математиком-теоретиком?
Шухов как-то рассказывал Бари об этом.
— Вряд ли. Чебышев — гениальный математик, но теория и так далеко обогнала практику. Наши сверстники идут в народ, но если техника останется такой же, как сотни лет назад, никто ничего не сможет сделать. Свои инженерные знания я хочу уже сегодня употребить для развития своей страны.
— Вас учили рассчитывать резервуары или вообще крупные металлические сооружения? — Бари более волновали практические вопросы.
— В России нет такой отрасли промышленности, да и здесь она только начинает зарождаться.
— А знакомство с нефтепромыслами не входит в программу вашей командировки?
— С какой стати, — удивился Шухов. — Уезжая из России, я думал: год — это ведь так много. А теперь вижу — совсем мало. После практики на заводе Болдуина поедем в Скенектеди. Тоже производство паровозов. Потом будут заводы Броун Шарп, Пратт Уитней, предприятие по производству сельскохозяйственных машин. Дай бог успеть изучить все это. Да ведь я и не собираюсь работать в нефтяной промышленности.
Человек предполагает…
Прошел год после возвращения из Америки. Шухов, задумавшись, сидел у большого окна своего рабочего кабинета. В окно видна была площадь в клочьях осеннего тумана. Кутаясь в салопы, шли с базара кухарки. Пустой конный омнибус стоял возле фонаря; кучер почему-то распрягал лошадей. Шухов посмотрел сквозь стеклянную стенку, отделяющую его кабинет от общего зала. Чертежники сидели за своими досками. Между ними, лавируя, пробирался какой-то роскошно одетый господин. Вот он ближе, ближе, толкнул дверь. Тонкая стенка зашаталась.
— Владимир Григорьевич!
— Александр Вениаминович!
Шухов и Бари похлопали друг друга по плечам; затем Шухов, отступя на шаг, принялся внимательно разглядывать Бари.
— Но каким франтом стал…
На Бари были дорогого сукна брюки в крупную клетку, тупоносые ботинки на каблуках, цилиндр с лентой, длинное коричневое пальто с лацканами до пояса и бархатными манжетами. На белоснежном, с отогнутыми уголками стоячем воротничке краснел крупный прямоугольник галстучного узла.
— Надо, Владимир Григорьевич, — сказал Бари. — Я ведь теперь владелец фирмы. Комиссионеров у меня пока нет, бегаю сам, хлопочу о заказах. А чтоб заказ дали, ой-ой-ой какое солидное впечатление произвести надо!
— Чем же вы все-таки занялись?
— Производством резервуаров и вообще больших конструкций из железа.
— Вот как! — воскликнул Шухов.
— Да, так, — скромно сказал Бари. — Решил остановиться на этом.
— Садитесь же, — произнес Шухов. Бари сел, Достал гаванскую сигару.
— Ну, а вы? От предложения Чебышева отказались и служите начальником чертежного бюро управления Варшавско-Венской железной дороги? Разыскивая вас, я все это узнал. О другом спрашиваю — довольны ли, получили ли, что хотели, есть ли возможность применить свои способности, развивать их?
— Нет, конечно, — печально сказал Шухов. — Вот поглядите, чем приходится заниматься. — Он захлопнул папку и показал ее собеседнику. Надпись на обложке гласила: «Дела, касающиеся вознаграждения за вред и убытки, за утрату, порчу товара и т. п.». — Казенная дорога, дух угодничества, чинопочитания, боязнь свежей мысли господствуют здесь безраздельно. Поле деятельности, конечно, огромное, есть чем заняться. Но каждая новая идея должна пройти столько инстанций, утверждений и согласований, что под конец жалеешь: зачем предложил. И другое меня пугает. У нас пока нет тех масштабов, что в Америке. Но будет разрастаться промышленность, будут увеличиваться возможности для проявления самых низменных свойств, присущих дельцам. Я видел в Америке циничных и беззастенчивых хищников. Они появятся и здесь. Их мир не для меня. В детстве моем частым гостем нашего дома был Николай Иванович Пирогов. Бывало, дух захватывало, когда он рассказывал, как в Севастополе, под бомбами, лечил раненых. Вот образец, вот какие люди нужны России! Я стал заниматься по вечерам в Военно-медицинской академии. Да переутомился, сам попал к врачам. Говорят, ничего страшного пока нет, но может развиться чахотка. Сырой климат Петербурга вреден, нужен юг, много солнца…
— Владимир Григорьевич, — Бари всплеснул руками, — позвольте я уж вам выскажу все сразу! Что вы мечетесь, какой из вас Пирогов! Вы не врач по природе своей, вы замечательный инженер, великолепный практик. Да, я блестяще одет, но если моя контора не сумеет утвердиться, я переоденусь в лохмотья. Я не инженер, я коммерсант. Технической частью этого абсолютно нового в России дела должен заняться человек умный, способный, видящий в этом свое призвание. Нужно суметь очень быстро расположить к себе промышленников, завоевать их доверие и уважение. Из всех, кого я знаю лично, вы — самый подходящий. Я пришел, чтобы предложить вам занять должность глазного инженера моей конторы… И проблема юга решается сразу — я набрал много заказов из Баку, с нефтепромыслов. Вы не собирались этим заниматься, но человек предполагает, а бог располагает…
И видя, что Шухов молчит, Бари продолжал:
— Вы не будете ни с кем ничего согласовывать и утверждать. Вы будете принимать решения и сами их осуществлять. Я иду на большой риск, но я в вас верю. Не нужно отказываться: промышленное развитие России все равно пойдет, станете вы врачом или нет. Но если вы это сделаете, одним плохим врачом станет больше и одним блестящим инженером меньше…
Баку
Шухов долго смывал с лица и рук липкую грязь, потом опустился в мягкое кресло. Усталость не проходила. От подъезда отъехал фаэтон. Завтра утром он будет снова здесь. Сегодня Шухов впервые увидел, как перерабатывают нефть; завтра увидит, как ее добывают. Этот Черный Город — на север от Баку — колонны нефтеперегонных заводов, трубы, каменные стены строений! И запах — он всюду, этот резкий запах нефти, кислоты, керосина. Яркое южное солнце в дымке, все вокруг тусклое, как при тумане. Но это не туман — это густой черный дым валит из заводских труб. На крышах домов, на стенах, на зелени немногочисленных засеянных полей, даже на крыльях птиц — слой жирной сажи. Резкие порывы северного ветра сдувают ее хлопья, гонят в море. Ветер иногда дует сутками с ураганной силой. Тогда все сидят в домах, не выходят. Пески. А в Балаханах, на юг от Баку, где добывают нефть, говорят, еще хуже. Но зато на улицах российских городов горят керосиновые фонари, и в богатых домах свисают с потолков на металлических цепях роскошные узорные лампы, и даже бедные семьи, в комнатах которых раньше горела лучина, а свечи были недоступны, теперь собираются по вечерам у керосиновых ламп. Можно читать вслух, видны не только лица друг друга, но и дальние углы комнаты. Абажуры круглые, овальные, яйцеобразные; подставки ламп простые, длинные, в виде львиных лап. Керосин становится первой необходимостью. Во все углы России идет он отсюда.
Рано утром коричневый фаэтон с узкими полосами малиновой краски на подножках, ступицах и рессорах вновь подкатил к подъезду шуховского дома. Горный инженер Соколовский, служащий Общества для добычи нефти и жидкого топлива, поднялся на второй этаж. Через несколько минут он вышел вместе с Шуховым. Скрипнули рессоры, качнулся граненый восьмиугольный фонарь, кучер ожег кнутом сперва одну, потом другую лошадь. Двинулись.
— А по железной дороге нельзя? — спросил Шухов.
— Не проложена.
— Как же нефть-то для переработки возят?
— В арбах.
— Как это?
— Сами увидите…
Европейские улицы — с двуэхтажными домами, с балконами, украшенными гнутыми решетками, — кончились быстро. Потянулся Старый город — глухие стены с толстыми калитками, минареты. Затем и это кончилось; пошли неуклюже разбросанные дома, покрытые слоем копоти и пыли. Запахло нефтью. Дорога стала хуже, появились бугры, ямы, ручейки и лужи нефти. Вокруг простиралась черная, пропитанная нефтью земля. Попадались редкие, почти без зелени деревья. Будто корней-то у них нет, и вообще кто-то нарочно воткнул в эту землю сушняк. Лошади равнодушно ступали по лужам. Скрипели огромные колеса попадающихся навстречу телег, нагруженных бурдюками; грязные возчики оборачивались, разглядывали новенький фаэтон.
— Это и есть арбы, — сказал Соколовский. — В бурдюках — нефть.
Вдали показались верхушки нефтяных вышек.
Добыча
Такого Шухов еще не видел. Маленькие огороженные участки; в углу каждого — деревянная вышка с деревянными же пристройками по бокам. Сколько их? Одна, другая, третья…
— Много, — сказал Соколовский. — С тех пор, как несколько лет назад добыча нефти перешла из рук откупщиков у казны в частные, очень многие стали промышлять этим делом. Вышки, думаете, почему стоят у самых границ участков? Чтоб соседи ограду ночью не перенесли…
Оба инженера, сойдя с фаэтона, прошли мимо длинного каменного здания — барака для рабочих, — приблизились к вышкам. Мерно пыхтели паровые машины. Но их было совсем немного. Голые по пояс рабочие крутили рукоятки огромных воротов. Круг за кругом — однообразно, монотонно, с надрывом. Остановка. Из пристроечки, что рядом с вышкой, приносят бур. Ставят его вместо долота. И снова круг за кругом. Эту скважину еще только бурят. Другие вышки стоят над уже готовыми скважинами. Скрипят на вершинах вышек шкивы, канаты вытягивают длинные цилиндрические ведра с нефтью — желонки. «Тарта!» — разносится по промыслам крик рабочих.
— Что это значит? — спросил Шухов.
— «Тарта» по-персидски «тащи», — ответил Соколовский. — Среди рабочих очень много персов. Граница почти не охраняется, вот они и приходят с той стороны на заработки. Каждую весну толпами. Все поголовно нищие, неграмотные. А нефтепромышленникам с ними иметь дело выгодно: можно и заплатить поменьше, и заставить работать побольше. От слова «тарта» и процесс добычи с помощью желонок стал называться «тартание».
Стучат о землю долота, лязгают подъемные крюки, ударяясь о железные крышки труб. Шухов стер со лба каплю нефти. А это что?
Он увидел огромные, наполненные нефтью ямы. По пояс в черную, резко пахнущую маслянистую жидкость входили люди с ведрами в руках, наклонялись, черпали нефть, выливали ведра в бурдюки. Другие рабочие подхватывали бурдюки и складывали их в стоящие неподалеку арбы. Набрав десять-двенадцать бурдюков, аробщик садился в свою телегу, цокал языком. Лошадь трогалась.
— Боже мой, — воскликнул Шухов, — а я-то боялся, сумею ли быстро овладеть всеми сложностями нового для себя дела! Какие тут тонкости, какие секреты, что осваивать? Это же каменный век, примитивней производство вряд ли можно сыскать? Нужно все это изменить. Железная дорога? Нет, и она не лучший выход из положения.
Скрипят, отъезжая одна за другой, арбы — телеги с двумя огромными, почти в рост человека, колесами. Медленно поворачиваются узкие — чтоб легче было ездить по песку — ободья. Покачиваются бочки, привязанные к низу арб, или колышется гора бурдюков, наваленная сверху. Важно поглядывают вокруг запряженные верблюды, погружены в свои невеселые мысли лошади, ослы бойко переступают ногами. Беспрерывной цепочкой идут они, будто один огромный караван двинулся в путь. 10 тысяч человек заняты перевозкой нефти от мест ее добычи к перерабатывающим заводам. И никто не знает, что появление вот этого молодого инженера означает конец их промысла.
Нефть движется по трубе
Холмы, камни, пески… Лето 1878 года. Верхом на лошади, пешком, в фаэтоне один раз в день обязательно, а то и по нескольку раз под палящим солнцем совершает инженер Шухов осмотр десятиверстной трассы — от Балахан до Черного Города. Здесь строят первый в России нефтепровод. Еще очень далеко до того времени, когда, сдав проект в работу, инженер сможет оставаться в конторе, уверенный, что все сделают как надо. Пока что даже десятники с трудом складывают буквы и боятся заглядывать в чертежи, а что уж говорить о рабочих! Надо показывать и объяснять все: как навинчивать на трубы соединительные муфты, как ставить насосы и склепывать железные листы. И конечно, следить, чтоб делали строго по указаниям, ничего не путая. А вдобавок ко всему беспокоиться о том, как бы возчики не поломали трубы. Они грозят это сделать, так как понимают, что в тот день, когда заработает нефтепровод, придет конец их заработкам. Правда, господин Людвиг Эммануилович Нобель, глава компании «Товарищество братьев Нобель», владелец строящегося нефтепровода, нанял сторожей с ружьями. Но все же, все же… Столько труда вложено в это дело! Двадцатипятилетний инженер Шухов за два часа проходил от одного конца трассы до другого. Но чтобы перебросить по этим пескам железную трубу, потребовался год.
И вот он настал — этот долгожданный день. В каменном здании с плоской деревянной крышей инженер-механик Шухов пустил в ход расставленные на фундаментах вдоль стен паровые насосы. И прислушиваясь к ровному стуку насосов, такому громкому в наступившей тишине, все увидели, как по тонкой стеклянной трубке — мернику, — укрепленной на резервуаре, поднимается черный столбик. Нефть! Вот она движется по этой в песках теряющейся трубе. Все, кто собрался, не могли оторвать от трубы взгляда, будто сквозь стенки ее хотели увидеть таинственное движение подгоняемой насосами нефти.
Смотрели возчики в надвинутых чуть ли не по брови барашковых шапках. Вот лошадь, вот арба, вот бурдюки — все понятно. А тут какая-то труба, лежит себе и лежит. И из-за нее теперь приходится лишаться заработков…
Смотрели, зажав ключи и отвертки, слесари, выскочившие из мастерской, расположенной рядом с насосной. И котельщики тоже выскочили, хотя им следовало бы наблюдать за тем, как ведут себя в первый раз пущенные агрегаты.
Смотрели рабочие с промыслов — те, кто смог отбежать от своих вышек, скважин, фонтанов.
Смотрели господа нефтепромышленники в полосатых жилетах, мягких котелках, в сюртуках, застегнутых только на верхние пуговицы, чтоб видна была золотая цепь, идущая по животу. Люди с упитанными лицами, с короткими усиками — все чем-то похожие. Не формой носа и не цветом глаз, а выражением лиц. Спесь, рождаемая богатством, самодовольство — от жизненного успеха, властность, потому что многое от тебя зависит, — вот что было на этих лицах. Несколько человек из группы промышленников подошли к котельной. Один за другим они переступали порог. Шухов следил за работой котлов. Рабочие стояли возле него, слушали, что он говорит. Увидев вошедших, они робко отодвинулись к стене, прижались лопатками к камням, будто могли пройти сквозь них и стать незаметными.
— А, господа Асланов, Вермишев, Карасев! — воскликнул Шухов. — Знаете, какая мысль пришла мне в голову? Что такое десять верст — пустяк! Я думаю о нефтепроводах Баку — Батум и Грозный — Туапсе. Это размах, работа! Сотни верст! И какая польза! Прямой выход к порогам Черного моря, за границу. Какой толчок развитию нефтяного дела, торговли, портов и судоходства!
Переглянувшись, ничего не ответив, господа нефтепромышленники тут же вышли из котельной. Шухов недоуменно посмотрел им вслед.
— Это вы невпопад сказали, господин Шухов, — осторожно заметил оставшийся человек — в сапогах, с густой бородой, с приглаженными, на две стороны расчесанными волосами — промышленник Николай Артемьев, один из владельцев фирмы «Братья Артемьевы». — Инженер вы, что говорить, хороший. А деловую жизнь, верно, не успели еще изучить?
— Нет, просто не интересовался.
— Ну вот, видите. Да разве нам нужно, чтоб нефтепровод в Батум шел? Настроят там нефтеперегонных заводов, а море-то вот оно. Повезут местные заводчики керосин за границу, а что мы здесь с нашим будем делать? Нет, господин инженер-механик, повременить придется пока.
Даже для долгой жизни Владимира Григорьевича Шухова — он прожил восемьдесят шесть лет — срок ожидания оказался невероятно большим. Через пятнадцать лет, в 1894 году, когда Шухов давно уже уехал из Баку, на нефтяных промыслах города было 26 нефтепроводов общей длиной в 262 версты. Но магистрали Баку — Батум и Грозный — Туапсе Владимир Григорьевич построил пятьдесят лет спустя — уже после победы Октября.
«Даю заказ на резервуар…»
Южная ночь, как всегда, тепла. Шухов спал при распахнутом окне; только легкая занавеска чуть колыхалась от ветра. Его разбудили голоса на улице — громкие, не по-ночному тревожные. Он поднялся, выглянул в окно. Над нефтепромыслами стояло зарево. Столб пламени поднялся так высоко, что даже отсюда видны были его цвета — снизу красный, чуть выше — желтый; белое облако дыма, как бы растекшееся по черному небу, половину его окрасившее в белесоватые тона. Снизу слышалось:
— В Балаханах опять пожар…
— Убытков будет — страсть!..
— Цельное озеро нефти горит…
Шухов очень ясно представлял себе все, что происходит сейчас на промыслах. Пожар — это закономерность; странно было бы, если бы при такой технике добычи и хранения нефти время от времени не заливало промыслы морем огня. А появиться может он от чего угодно. Крюк, к которому прикреплена желонка, поднимаясь, стукнется о железную крышку обсадной трубы. Искра, взрыв — и побежал огонь. Это только одна из причин, а их множество, вплоть до поджогов конкурентами. А уж когда разгуляется огневой зверь, его не остановишь. Жар поднимает в воздух горящие доски, и они летят с одного участка на другой, как факелы, запущенные во вражеский стан. И там, где они падают, все воспламеняется мгновенно. Горящая вышка, обрушиваясь, непременно зацепит соседнюю — ведь они поставлены так близко одна к другой. Жадным промышленникам дорог каждый клочок нефтеносной земли. Поджечь-то нефть легко, а потушить ох как трудно!..
Рано утром, едва только Шухов появился в своей конторе, навстречу поднялся бледный, взволнованный человек. Промышленник Николай Артемьев, один из владельцев фирмы «Братья Артемьевы», тот самый, что объяснял Шухову, почему не нужен нефтепровод владельцам бакинских керосиновых заводов. Теперь он явился сам.
— До коих же пор?! — повторял он. Губы его тряслись.
Кое-как, сбиваясь, он рассказал о том, что произошло ночью. Почему возник пожар, пока никто не знает. Может быть, подожгли. Артемьев увидел, что огонь подбирается к его земляному амбару, и принялся качать под нефть воду. Раз уж беды не миновать, то пусть сгорит только верхний слой нефти. Ниже будет вода, огонь дойдет до нее и погаснет. Господь милостив. Пожрав нефть, огонь действительно дошел до воды. Но не погас. Страшный взрыв потряс нефтепромыслы, пламя взметнулось на триста футов в высоту. И вот теперь Николай Артемьев заявлял о полном своем разорении.
— Почему же вы резервуарами не пользуетесь? — спросил Шухов.
— Да ведь резервуары, что ж, они, сами знаете, сколько стоят, С ними еще скорей разоришься.
Шухов вздохнул. Проклятая рабья привычка вчерашних крепостных, выбившихся в купцы, промышленники! Они ворочают огромными деньгами, но не упустят случая пожаловаться на плохие дела. Полное разорение, кругом одни убытки. Предки их несчастьями спасались от гнева грозного барина. У кого поднимется рука на обездоленного, и без того жалкого человека. Пусть лучше жалеют, чем завидуют, — правило это, кнутами вколоченное в предков, передалось потомкам. Но на этот раз Артемьев не врет. Резервуары, которые здесь существуют, строятся на глазок, без всякого расчета. Листы толстого котельного железа склепывают опытные рабочие, но ни они сами, ни те, кто поручает им это, понятия не имеют о том, как распределяются нагрузки в стенках резервуаров. Поэтому-то и стараются, чтобы они были как можно толще. На всякий случай. Естественно, и стоят резервуары с такими стенками очень дорого, и немногие могут позволить себе ими обзавестись.
— Господин Артемьев, — сказал Шухов, — вы что-нибудь понимаете в высшей математике?
Артемьев искоса посмотрел на Шухова. Нашел время господин инженер для отвлеченных вопросов. У человека несчастье…
— Нет, — буркнул он.
— Тогда я не буду приводить вам доказательств, надеюсь, вы поверите мне на слово. Вовсе не обязательно, чтоб у резервуара были очень толстые стенки. Жидкость ведь давит на них с неодинаковой силой — внизу больше, вверху меньше. Значит, толщина стенок должна быть переменной. Я предлагаю вам конструкцию, которая будет гораздо прочней существующих, а стоить будет во много раз меньше…
На лице Артемьева, купца, промышленника, человека, привыкшего не доверять никому, появилось выражение настороженности. Шухов развернул синий лист чертежа. Артемьев приблизился, долго смотрел. Вряд ли он что-нибудь понял, но ведь это были уже не слова. Шухов стоял рядом с равнодушным видом. Он вовсе не собирался уговаривать купца.
— Идет, — решился Артемьев. — Даю заказ на резервуар в двадцать тысяч пудов.
Должен решить и это
Набережная была полна народу. Вдоль парапета, обходя телеграфные столбы, двигались, поигрывая тросточками, нарядно одетые господа, плавной походкой шли дамы в длинных платьях с треном, покачивая белыми кисейными зонтиками. По булыжной мостовой проносились крытые фаэтоны. Над окнами лавок полоскались тенты, хозяева лавок — в фесках, со скрещенными на груди руками стояли на пороге, внимательно оглядывая гуляющих. Шухову то и дело приходилось дотрагиваться до лакированного козырька, приподнимать свою инженерную фуражку. С молодым инженером раскланивались почтительно; за три года, проведенных в Баку, он успел приобрести самое большое уважение. И сам он был доволен своими тремя бакинскими годами. Все вышло так, как предупреждал Чебышев. И рабочих учить пришлось, и спорить с жадными промышленниками, и заботиться о качестве материалов. Но, сделавшись инженером, он не перестал ощущать себя математиком и там, где только можно было, старался применить эту науку. И ведь получалось — вот что радостно!
Дойдя до пристани, Шухов остановился. Бакинский порт лежал перед ним. Множество мелких суденышек теснилось у низких, далеко в море уходящих деревянных причалов. Маслянистая зеленоватая вода была почти неподвижна. На берегу грудами стояли бочки, ящики, тюки, На Таможенном причале возле полосатой будки сидел офицер в белом кителе, лениво поглядывая вокруг.
— Владимир Григорьевич!
Шухов оглянулся. Господин в легком костюме вежливо коснулся шляпы с изогнутыми полями. Дмитрий Артемьев, совладелец фирмы. Брат его Николай, бородач, на одежду мало обращает внимания. А этот щеголь.
— Я слышал, Владимир Григорьевич, вы уезжать собрались?
— Да, — кивнул Шухов. — Здоровье мое поправилось, теперь могу и в Москве жить.
— Ай-ай-ай! А мы так к вам привыкли. Знаем: коли что не ладится у нас, обязательно к вам придем, в ножки поклонимся. Вы нас и выручите.
Шухов поглядел на своего собеседника пристально. Хитрит? Но ведь действительно нефтепроводы строятся, и резервуары на промыслах воздвигнуты уже возле многих вышек.
Надо, чтоб усвоили; многие инженеры могут делать то же самое, если поймут, какими законами математики определяется движение нефти в трубопроводе, ее давление. Впрочем, теперь и этого не потребуется.
— Не так уж я незаменим. Я разработал формулы, пользуясь которыми любой инженер сможет построить и трубопровод, и резервуар.
— Да, но вы все же были первым. А ведь обязательно возникнет еще какое-нибудь дело, где без ваших способностей не обойтись. Хотя, конечно, и мы что-то пытаемся…
В голосе Дмитрия Артемьева появились нотки торжества.
— Вот видите? Бочки грузят.
По расползающимся под ногами доскам амбалы — портовые грузчики — катили к бревнам, спущенным с кораблей на берег, огромные железные бочки.
— Таким способом здесь нефть возят, — горестно вздохнул Дмитрий Артемьев, — наподобие огурцов или же селедки. А в каждой бочке двадцать пудиков — попробуй-ка налей, да закупорь, да потаскай. А в дороге они текут. Сколько денег стоит от Баку до Нижнего нефть или керосин в бочках перевезти — это сказать страшно. Мы же с братом вот что придумали: взяли судно «Александр», внутри него поместили деревянный ларь, в ларь тот нефть ручным насосом накачали — и пошел наш голубчик до самого Нижнего Новгорода. Скоро будем баржу для перевозки керосина строить. Жаль, в плавание ушел наш «Александр», а то показал бы я его вам.
— Я видел это судно. Не годятся деревянные корабли для перевозки нефти: она просачивается, уходит сквозь щели, пропитывается водой.
— Да? — обиделся Артемьев. — А вот так лучше?
Он обвел рукой панораму порта, как бы единым движением показав и небольшие суда, и босоногих, по пояс голых грузчиков, с трудом катящих огромные бочки.
— Ну пусть мы сделали плохо, но скажите мне, кто сделал лучше? Нет лучших? А? Вот то-то и оно!
— А ведь можно сделать. — Шухов вдруг как бы перестал видеть и своего разгоряченного собеседника, и порт, и город, по которому решил прогуляться в последний раз. Он будто даже забыл и о предстоящем отъезде. В его голове возникла картина качающегося на волнах корабля. Это было совсем не то, что мог бы вообразить себе художник, — огромные волны, испуганные лица, чайки, пена. Шухов видел математическую модель движения корабля. Волны бьют в борта — куда направлена сила их удара? Судно повисло на двух волнах — где окажется его центр тяжести? Если принять корабль за балку, а волны — за упругое основание, то…
Шухов знал, что очень немногие способны столь отчетливо представлять себе математическую модель реальных процессов. Ты можешь — значит должен решить и эту задачу. Но ведь ты не просто математик, ты инженер. Следовательно, надо думать об особенностях конструкции. Корабль, наполненный нефтью, — это спичка, готовая вспыхнуть. Нужно тщательно продумать противопожарные устройства. И еще — добиться как можно большей вместимости. Внутри жидкость, снаружи жидкость — это множество сложнейших проблем…
«Зачем мне миллион!»
— Что вы говорите? — переспросил Артемьев.
— Ничего. — Шухов как бы очнулся, покачал головой. — Я думаю о том, что можно строить железные корабли для перевозки нефти — важно лишь научиться правильно их рассчитывать.
— И вы займетесь этим?
— По приезде в Москву обязательно.
— Эх, Владимир Григорьевич! — сказал Артемьев. — Бари-то ваш курицу нашел, которая ему золотые яйца несет. Он ведь вашими идеями живет. Вы тут нефтепроводы построили, резервуары, форсунку[2] изобрели. Мазут попробуй зажги — дым и копоть получишь. С вашей форсункой для мазута дело пошло. А прибыль кому? Фирме Бари. Почему здесь резервуаров раньше не строили? Считали, огромные фундаменты надо копать. Вы проверили, говорите: не нужно. И в самом деле не нужно. Мы думали, шаблон для дыр под заклепки никогда не сделать нам. Вы показали — и пошло. Верное дело вам советую — свою контору открывайте. Миллион сразу заработаете. Я с родным братом делиться собираюсь, а уж вам-то…
— То вы, — усмехнулся Шухов. — А я не капиталист. Допустим, я нажил миллион — так ведь не я буду его хозяином, а он моим, Я потеряю интерес к новым конструкциям; мысли мои будут заняты выгодным размещением капитала, я стану думать только о том, как бы его не потерять. До расчетов ли мне будет, до конструкций ли? Я перестану быть самим собой. А право быть самим собой дороже любых денег. Я делаю все, чтоб облегчить труд людей, научить их лучше, красивее работать. Когда мне удается это, я счастлив.
Дмитрий Артемьев с сожалением посмотрел на Шухова.
«Других строить я не умею»
Чтоб попасть к пароходной пристани, нужно было спуститься с обрыва. На крутых, изрытых оврагами, густо поросших полынью склонах сидели мужики. Из разных мест России приезжали в богатый хлебом Саратов на летние работы. Богатеи из окрестных сел медленно прогуливались, шаря взглядами по расположившимся на земле людям, выбирая самых крепких на вид косарей и жнецов. Вдоль песчаной отмели, отделяющей спуск от воды, тянулись бесконечные поленницы дров — имущество пароходных компаний. Со страшной быстротой исчезали леса по обеим сторонам Волги в топках котлов. Пыль лежала на траве, на листьях невысоких акаций. Наверху, на самом коаю обрыва, едва ли не сползая в него, виднелись покосившиеся заборы, бревенчатые домишки, такие черные и убогие на фоне чистого голубого неба, в свете летнего солнца. Порывы свежего ветра с Волги смягчали зной. Владимир Григорьевич прибавил шаг.
Он с трудом нашел время на поездку сюда. Каждый день, прямо с почтамта — вот только перейти узкий Кривоколенный переулок — почтальон входил в контору Бари, вручал конверты из тонкой бумаги с четко выведенной, на всех одинаковой надписью: «Москва, Мясницкая, дом Промышленного музея рядом с почтамтом. Контора Бари». А обратные адреса были самые разные. По всей России возводились шуховские резервуары. Шли заказы на нефтепроводы и промышленные здания, на баржи и котлы, установки для перегонки нефти. Надвигалось строительство московского водопровода, а уже и Тамбовская городская управе прислала письмо с покорнейшей просьбой и для их города разработать проект. Шухову верили. Репутация его в деловых кругах поднималась все выше. Знали: если он возьмется, то сделает такой проект, что материала потребуется очень мало, а сооружение будет наипрочнейшим.
В десять часов утра, обсудив за завтраком новости, Шухов уходил к себе в кабинет. Все постороннее — мысли, темы, разговоры — оставалось там, за порогом. Здесь же был только инженер Шухов, его противник — задача, которую нужно решить, союзники — математика, инженерный опыт, модельки из дерева или бумаги. Математика подсказала очертания судна. Он почти не писал слов. Цифры, формулы и цифры… Они не мертвы и не сухи — надо только уметь видеть за ними тысячи пудов железа, квадратные метры листов, столкновения противодействующих сил. Чтоб привести это хаотическое многообразие к гармонии линий, чтоб заставить все силы работать только в одном, требуемом направлении, нужно уметь симфонически мыслить. Как композитор из разрозненных звуков складывает прекрасную мелодию, так инженер, пользуясь немногими цифрами, должен предложить наилучший вариант машины или сооружения. Цифры — это его ноты, надо только уметь пользоваться ими. И тогда получится симфония — хорошая, прочная вещь.
Бумажная модель подтвердила цифры. Инженерный опыт определил особенность конструкции. Очертаний, которые Шухов придумал, корабли раньше не имели. И сделать наливные баржи по шуховским чертежам никто бы не смог. Тогда в Москве изготовили шаблоны и отправили в Саратов на судостроительный завод. Руководить постройкой взялся мастер Суворов, друг Шухова, еще в Баку сооружавший вместе с ним резервуары. Дела у него шли хорошо, уже несколько барж, вмещающих 50 тысяч пудов керосина, плавали от Астрахани к Нижнему. Но вот промышленник Ушаков заказал баржу в 100 тысяч пудов. В честь любимой дочери он хотел назвать ее «Катя». С «Катей» у Суворова вышла заминка. Таких больших барж он еще не строил. Шухов, отложив все дела, прибыл в Саратов.
Суворов с железной палубы увидел шагающего по прибрежному песку Шухова, хотел кинуться навстречу, но сдержался, прикрикнул вместо этого на плотника, медленно разбирающего деревянные надстройки. Все движения души старика были Шухову открыты; он оценил рывок навстречу, и мгновенное смущение, и попытку скрыть это смущение ворчливостью. Взобравшись по настилу на палубу, Шухов попал в объятия Суворова.
— Ну здравствуй, старина, — говорил Владимир Григорьевич, хлопая мастера по плечу. — А где твой фрак, белый жилет, цилиндр?
Старик любил одеваться, «как богатые».
— Об этом потом, — сказал вдруг Суворов. — Обернись-ка.
Шухов обернулся. С палубы хорошо было видно, как выходит, разворачиваясь из затона, маленький буксирчик, как легко тянет он три большие нефтяные баржи, как плавно идут они следом.
— Осадка-то какая, а! — сказал восхищенно Суворов. — Вот и тянет вместо одной обычной три шуховских.
— Господин Шухов? — Незнакомый человек в длинном сюртуке стоял рядом.
Шухов не заметил его, когда поднимался.
— Простите, не имею чести знать вас.
— Колчин. Судозавод в Костроме.
— Приехал смотреть, что мы тут делаем, — шепнул Суворов.
— Так вот, господин Шухов. Хотелось бы узнать, почему вы строите моим конкурентам такие превосходные баржи?
Костромской судозаводчик улыбался, но то было лишь движение губ, глаза по-прежнему оставались холодными и настороженными.
— Я строю такие, какие умею, — мгновенно ответил Шухов. — Других не могу.
Первый итог
Здесь восток сходится с западом, Европа обменивается с Азией. Плывут по Каме суда с уральскими камнями, медью и железом; навстречу им поднимаются по Волге караваны со среднеазиатским хлопком, оттуда же везут ковры. Кавказ торгует нефтью, бараньими мехами, холодным оружием. Едут из далекой Сибири меха, а навстречу им, плотно упакованные в вагонах-коробочках, — тюки московского ситца. Санкт-Петербург шлет заграничные товары — машины. Но все больше становится среди них и отечественных: промышленность России развивается. В Нижнем Новгороде все это смешивается, меняет направление, дробится, расходится во все уголки обширного государства. Нижний Новгород — центр внутренней российской торговли; в этом городе каждое лето полтора месяца шумит самая большая в стране ярмарка — Макарьевская. Со всей России съезжаются сюда купцы на запах миллионных сделок.
— Здесь! — сказал Витте. Острозаточенный карандаш в руках министра финансов указал на Нижний Новгород. — В этом городе проведем мы Всероссийскую промышленную и художественную выставку. Нам менее важно увидеть изделия Петербурга и Москвы, нежели то, что могут дать Сибирь, Средняя Азия и Кавказ. Точка зрения моя известна — нам еле-дует поощрять вложение капиталов в предприятия на окраинах империи. Пусть господа промышленники своими глазами увидят, чем эти окраины богаты сей-час и что могут они дать в будущем.
Господа промышленники не возражали.
Среди прочих пользующихся известностью фирм приглашение участвовать в выставке получила и контора Бари. Александр Вениаминович был рад вдвойне. Почетно — это раз, но еще и то важно, что в предшествующем выставке 1895 году конторе исполнялось пятнадцать лет. Хоть маленький, но юбилей. Еще и потому нужно его отметить, что за короткий — есть фирмы и столетние — срок предприятие Бари приобрело самую широкую известность среди всех, кому только приходится иметь дело с металлоконструкциями. А таких людей больше и больше: промышленное развитие идет быстро. Лучшего случая, чем выставка, для того, чтобы отметить юбилей, не представится. Пусть только человек, которому фирма обязана всеми своими успехами, придумает что-нибудь совершенно необычное.
— Прошлая выставка, — сказал Бари Шухову, — проходила в Москве четырнадцать лет назад. Тогда наша фирма еще ничего не значила. Теперь — другое. Вся Россия привыкла заключать в Нижнем торговые сделки. Но у Макария торгуют рыбой да коврами, ситцем да хлопком. Из металлических изделий там выставляют самовары, ружья и железные кровати из Тулы или ножи, ножницы, бритвы из Павлова. Еще просто железо с Урала.
Шухов слушал очень внимательно. Он догадался, чем закончит свою мысль Бари, и в мозгу его начали возникать картины каких-то невиданных сооружений.
— Я честолюбив, — продолжал Бари. — Я хочу удивить Россию, показав, чего можно добиться сочетанием хорошей организации с большим инженерным талантом. Наша фирма должна продемонстрировать самые последние достижения инженерной мысли, воплощенные в металле. Вы сами знаете, как высок ваш авторитет в техническом мире. Я прошу вас использовать все ваши способности…
Министр
Над колоннадой с обеих сторон выставочного входа развевались гирлянды флажков. Между двумя высокими узорчатыми чугунными столбами висело огромное полотнище с изображением двуглавого орла. Всероссийская художественная и промышленная выставка ждала посещения августейшего повелителя страны, императора Николая Второго. Готовясь к приезду царя, выставку осматривал Витте.
Он шел не торопясь, внимательно разглядывая павильоны, подолгу задерживаясь в каждом из них. Его окружала свита сановников.
Павильоны, хоть и разные по виду, стилем своим, замыслом, основными архитектурными элементами очень походили друг на друга. Образцом почти для всех послужил боярский терем. Вот Императорский павильон. Псевдорусский стиль: две островерхие башенки и балкон между ними. Вот Павильон научно-учебного отдела. Опять башенки по всему фасаду и навесы над каждым крыльцом, будто разрезанные купола, — луковицей.
Витте задумчиво глядел на все это. Архитекторы придерживались переданных им монарших пожеланий. Но на бумаге разглядываемое в тиши кабинетов комиссией по устройству выставки, которую он сам же, Витте, и возглавлял, все выглядело совсем не таким, как оказалось сейчас, в натуре. Является ли идея глубокой старины, положенная в основу архитектурного оформления выставки, объединяющей все разнородные части и сословия империи? Не есть ли это взгляд назад, а не вперед? Не веет ли от этого псевдорусского стиля нарочитостью, а то и просто безвкусием? Витте хмурился, а сановники не знали, чем это объяснить, и испуганно молчали.
И вдруг Витте остановился. За маленькими частными павильонами — военно-шорной и амуничной мастерской Карла Риля, страхового общества «Россия» и других министр увидел здание, резко отличающееся от прочих. Само оно было обычным — круглое, железное, облицованное деревянными панелями. Но крыша! Легкая ажурная сетка в виде усеченного конуса. Образующая конуса — какая-то странная линия: не прямая и не дуга окружности. Сквозь ячейки сетки видно — ничего похожего на стропила нет,
Будто на огромное здание просто надели колпак. Но ведь держится! И прочно.
— На крышу ведет лестница, — доложил заведующий технической и строительной частями по устройству выставки. — Специально, чтоб можно было подняться и убедиться в крепости перекрытия.
— Кто проектировал?
— Инженер Шухов, господин министр.
Витте еще раз взглянул на здание. Может быть, это и есть взгляд в будущее: ни виньеток, ни бордюрчиков, ни украшений — всего того, что присуще дереву, а металлу противопоказано, Здесь строгие, ровные линии; впечатление такое, что металл предстает именно в том единственном, каком и должен предстать, качестве. А не в виде терема. Интересно бы поговорить об этом с архитекторами. Но нет времени; да ведь и не признается никто в своей неправоте… За долгие годы службы министр хорошо изучил людей.
— Пойдемте внутрь, — сказал он,
Витте шел по залу, и изумление его возрастало. Он брал в руки бронзовую табличку возле моделей огромных резервуаров и читал: «Инженер Шухов». Модель огромной нефтеналивной баржи — снова на табличке «инженер Шухов». Макет бакинского нефтепровода — опять то же имя. А вот уже и не модели — реальные паровые котлы стоят на деревянном полу. Написано: «Лучшие в мире». А кто конструктор? Шухов.
Да что он, всем на свете занимается, что ли?!
Министр долго ходил по выставке и в разных ее местах снова и снова встречал ту же фамилию. Длинное здание заводского и ремесленного отделов. Автор перекрытия, легкого, красивого, экономичного, — инженер Шухов. Водонапорная башня. Огромный бак на самой вершине, и держит его не кирпич, не камень — друг на друга поставлено несколько металлических колец с уменьшающимся к вершине диаметром. Образующая башни представляет собой гиперболу, но сделана она из прямых балок. Это очень удешевляет строительство и в то же время придает башне вид стремительно взмывающего в небо сооружения.
— Снова инженео Шухов?
— Да.
— Удивительно! — пробормотал Витте. — Хотел бы его увидеть. Он здесь, в Нижнем?
— С зимы еще. Принимал участие в монтаже сооружений.
— Разыщите и передайте ему, что завтра, в четыре часа, я принимаю группу промышленников, хотел бы и его видеть у себя.
О чем говорить!
Рано утром в «Большую Нижегородскую» — гостиницу, где жили Шухов и Бари, — явился посланец из канцелярии министра. Он вошел в роскошный — с лепными карнизами и нимфами на потолке — номер Бари, не присаживаясь ни в одно из обитых бархатом и плюшем кресел, передал приглашение и отбыл. Взволнованный, довольный, возбужденный, Бари вошел к Шухову.
— Владимир Григорьевич, удача! Редкостная! Вчера осматривал выставку Витте, обратил внимание на ваши работы. Мы приглашены к нему.
— И что вы ответили? — Шухов сидел за столом; слева от него стояла керосиновая лампа; справа лежал толстый том математических таблиц; перед ним — наполовину исписанный цифрами лист бумаги. Он не менял своих привычек, а работы было достаточно. Уже многие промышленники, приехавшие на выставку, прямо здесь же давали заказы на котлы или резервуары, и нужно было все рассчитать, чтобы в Москве уже могли делать проект.
— Как что? — изумился Бари. — Поблагодарил за честь и сказал: будем непременно.
— А нельзя ли сделать так, чтобы мне не ездить туда?
У Бари перехватило дыхание. Несколько мгновений он молча разглядывал Шухова.
— Владимир Григорьевич, это что, каприз?
— Помилуйте, вы меня знаете уж скоро двадцать лет! Произвел ли я за эти годы хоть раз впечатление человека капризного?
— Нет, и тем сильнее теперь мое удивление.
— Да очень все просто, — сказал Шухов. — Что может мне сказать министр? Похвалить? Я знаю сам, чего стоят мои работы. Предложить переход на государственную службу? Я не чиновник по складу своему, бюрократию не люблю. Что же еще? И мне сказать ему нечего. Мне лично от него ничего не нужно, а о том, чтобы изменить жизнь миллионов людей, которые тяжело работают и плохо и бедно живут, ни министр, ни сам царь не задумываются.
— Владимир Григорьевич! — Бари прижал к груди руки. — Я знаю, что всем своим процветанием контора моя обязана вам, знаю, что называют ее конторой для эксплуатации изобретений инженера Шухова. Я никогда не забываю об этом и готов сколь угодно считаться с вами, но в данном случае это невозможно. О том, чтобы быть представленным министру финансов, мечтают крупнейшие промышленники — и неужели наше скромное сравнительно предприятие пренебрежет случаем? Да мало ли какие варианты возникнут в беседе с министром!
— Хорошо, я поеду, — вздохнул Шухов,
И вот они стоят друг против друга — высокий, сухощавый, с властным, холодным лицом министр и плотный, с рыжеватой бородкой, с вдумчивым, доброжелательным взглядом инженер. Они почти одного возраста — министр всего на четыре года старше, — и обоим нет еще пятидесяти.
— Я высоко ценю ваши заслуги на поприще отечественной промышленности, — произносит министр. Он смягчает шипящие звуки, как это делают жители юга России. Он вырос на юге.
— Благодарю вас, — сдержанно отвечает Шухов.
Министр молчит. Огромный опыт, умение распознавать людей с первого взгляда подсказывают Витте: стоящий перед ним человек не из тех, с кем привык он иметь дело. Двадцать пять лет он на службе; начал мелким чиновником, стал крупным дельцом, потом государственным деятелем, министром. Недавно высочайше пожалован званием статс-секретаря[3]. Какая галерея лиц прошла перед ним за эти годы! Интриганы, карьеристы, просители, прихлебатели, сплетники, идеалисты — и всякие, всякие… Но люди с таким огромным чувством уверенности в себе встречались редко. О чем говорить с человеком, которому от него, всесильного министра, ничего не нужно!
— Я, как глава высочайше утвержденной выставочной комиссии, — произносит Витте, — считаю, что фирма Бари заслуживает золотой медали.
В откинутую назад руку министра был мгновенно вложен наградной лист. «…Награда присуждается за применение новых усовершенствований в конструкции металлических зданий и за широкое развитие, быстрое и хорошее исполнение строительных и котельных работ…»
Приблизившийся Бари благоговейно принял наградной лист.
— Вы получили высшую награду выставки, — продолжал Витте, — право изображать на фирменных документах государственный герб Российской империи. Я полагаю, что этой наградой — первой в России за строительные работы — фирма обязана вашим, господин Шухов, способностям.
— Благодарю вас еще раз. — Шухов отошел в сторону.
Бари остался разговаривать с министром.
Творец и памятники
Мясницкая улица в Москве тесная, шумная, торговая. На домах множество вывесок: «Антрацит, кокс», «Книжный магазин», «Фотография П, Павлова», «Контора А.И. Дангауера и К0».
У старинной церкви Архидиакона Евпла всегда народ. Напротив дома чаеторговца С. В. Перлова, будто из Китая перенесенного в Москву, — почтамт. За тыльной его стороной — Кривоколенный переулок. Здесь в одном из этажей высокого дома разместилась контора Бари. В большом кабинете работает Владимир Григорьевич Шухов. Два дубовых письменных стола у разных стен друг против друга, на одном телефон. Шкаф с книгами. Просторный диван, кресла (все обшитое темно-зеленой кожей), несколько стульев. На стенах многочисленные фотографии шуховских машин и сооружений. Маленький столик в углу весь уставлен моделями. За кабинетом — зал.
Огромную работу — продумывание, расчет, выполнение чертежей, руководство постройкой на месте — делают совсем немного людей, всего двадцать. В Шухове они видят своего учителя.
Рядовые инженеры обычно знают несколько конструкций; хорошие — множество. Их квалификация заключается в умении выбрать для данного случая нужную. Представить себе математическую модель процесса, происходящего в машине, сооружении, и использовать это при проектировании могут считанные люди. Это талант особого рода, редчайший.
Приехал из Петербурга инженер Галанкин, растерянный вошел в кабинет Шухова. «Владимир Григорьевич, беда! Не могу сдать газгольдер[4]. Самый большой в Петербурге. Комиссия — профессора, два директора завода. Приборы показывают утечку воздуха. Сколько ни проверяли заклепки, швы и затворы, течи нет. И тем не менее… Хоть режьте…»
— А вы учли объем подмостей, — ни на минуту не задумавшись, спросил Шухов, — на которые опирается крышка колокола при посадке газгольдера?
Побледневший, с вытаращенными глазами смотрел Галанкин на своего учителя; потом бросился в коридор. Вниз, по Мясницкой, через Садовое кольцо, к Николаевскому вокзалу, тут же в поезд — и немедленно снова в Петербург. Прохожие испуганно сторонились странного человека. Бежит по тротуару и выкрикивает одну только фразу;
— Но ведь я не Шухов, я Галанкин!..
Художник видит мир в образах; композитор приводит в гармонию звуки. Сколь непонятными должны казаться ощущения человека, для которого самые интересные сигналы внешнего мира — это силы, ломающие, скручивающие, гнущие толстые железные балки и листы. Это, казалось бы, бесконечно далекие Ьт повседневной жизни линии математических кривых, по которым нужно выстроить балки, чтоб они могли противостоять нагрузкам. Это силы вообще, с которыми любой материал — нефть, железо, вода, дерево — встречает попытки человека подчинить его себе. Как может обычный человек чувствовать эти сотни и тысячи пудов, даже предварительно не рассчитав их? Инженеры поражались, когда Шухов сразу называл им вес будущего покрытия, стоило только сообщить длину и ширину проектируемого цеха. Они приходили в недоумение, когда Шухов, скользя карандашиком по длинным столбцам цифр, останавливался вдруг на какой-нибудь и просил проверить. Они начинали уверять Шухова, что считали по многу раз и стоит ли делать лишнюю работу. Но, проверив, убедившись в его правоте, требовали объяснений. Как догадался, откуда известно, почему именно здесь остановился карандаш. «А он лучше нас с вами знает, где есть ошибка», — отвечал Шухов. Инженеры, смеясь, отходят. Ответ исчерпывающий. Огромный талант плюс огромный опыт — разве это не ясно и так?
Первое десятилетие XX века. По Москве, по улицам ее узким, булыжным, обвешанным пестрыми вывесками, по скверам, мимо церквей, памятников, старых средневековых стен, ходит пожилой господин, смотрит по сторонам, всем интересуется. Строят Новоспасский мост; рядом с будущим постоянным перекинут пока через реку временный, на понтонах. Движется по доскам людской поток от монастыря, чьи башни и стены возвышаются над рекой, обратно. В контору начальника заходит человек с рыжеватой бородкой и говорит.
— Инженер-механик Шухов к вашим услугам. Второй день хожу по мосту и вижу — рабочие не могут пустить локомобиль[5]. Я знаком с устройством машины. Позвольте объяснить, что надо сделать.
Он показывает механикам краны и люки, которые следует открыть; машина вздрагивает и начинает работать. Все благодарят.
— Я считаю своим долгом, — говорит Шухов, — помочь людям, которые в этом нуждаются.
— Но ведь любой механик, любой инженер спросил бы денег за консультацию.
— Мне ничего не надо, я доволен тем, что дело ваше сдвинется с мертвой точки…
Большая страна Россия. Но в самых разных ее местах, тысячами километров отделенных друг от друга, можно встретить сооружения, сделанные по проектам Шухова.
Резервуары. Около 20 тысяч штук выпустила их фирма Бари.
Перекрытия заводских цехов, железнодорожных станций, театральных залов и ресторанов — в Москве, Петербурге, Баку, Туле — до Актюбинска и Ташкента,
Портовые сооружения на Балтийском, Черном, Каспийском морях.
Трубы, водонапорные башни, маяки…
Паровые котлы.
И много-много другого, для чего обычному человеку не хватило бы всей жизни.
Тихий гений
Попадаются на его пути и те, кто, относясь к нему доброжелательно, ничего не понимают в особенности его работы. Они говорят:
— Владимир Григорьевич, вы настоящий русский Эдисон.
Они хотят польстить; но откуда им знать, что сходство между Шуховым и Эдисоном внешнее, кажущееся, вызванное лишь обилием изобретений того и другого.
Эдисон — гений конструкторской мысли, но также и неутомимого, настойчивого, всеохватывающего поиска. Он не теоретик, он практик. Он способен поставить тысячу, 10 тысяч, 100 тысяч опытов, чтобы найти одно-единственное решение. Эдисон может себе это позволить: изобретения дали ему много денег; его лаборатории обширны и богаты.
Шухов делает свои открытия «на кончике пера». Он не президент промышленных компаний и даже не акционер их. У него нет лабораторий, и проводить тысячи опытов он не может. Да это и не нужно ему. Он ищет прежде всего математические закономерности работы той машины, которую должен создать. Они подсказывают Шухову метод. А блестящий талант инженера — конструктивное выполнение найденного метода.
Нет, Шухов не Эдисон. Одинаково сложны задачи, которые стоят перед обоими, но разными путями идут они к решению.
Есть и еще разница. Эдисон для американцев — воплощение не только технического гения, но и духа предпринимательства. Он продавал газеты, а теперь миллионер — об этом знает в Америке любой мальчишка.
Шухов газетами не торговал и миллионером не стал. И рекламы его достижениям никто не делал. Он — тихий гений.
Жизнь, политика
Судя по началу, ох каким неспокойным предстоит быть новому веку! В Москве черносотенцы убивают большевика Баумана, и похороны превращаются в многочасовую демонстрацию. В декабре 1905 года вспыхивает восстание. На Пресне баррикады, целый день доносится стрельба. Пятидесятилетний человек, известнейший конструктор, главный инженер солидной фирмы по манере поведения напоминает фоторепортера. Целые дни бегает он по городу, пригибаясь, вытягиваясь, ища нужную для съемки точку. Если нужно — на дерево залезет; если нужно — на забор. Вечером приходит домой довольный. Еще один уникальный снимок…
— Угомонись, — говорит жена. — Солидный господин, а все еще ведешь себя, как мальчишка. Летом на велосипеде гоняешь, сейчас на заборы лезешь…
— Аннушка, — отвечает Владимир Григорьевич, — разве можно не запечатлеть то, что делается сейчас? Ведь это история! Когда-нибудь мои снимки помогут изучать эпоху. А что до велосипеда, так ты знаешь: я жизнь люблю. Все, чем она богата. Мчаться наперегонки, рисовать, играть на скрипке, мастерить самоделки… Я хотел бы все испытать, во всем быть искуснейшим. Восстание, что идет сейчас, движение масс — это одно из стремительнейших проявлений жизни. Я сочувствую восставшим как человек и восхищаюсь ими даже немного как художник.
Это только кажется, что Шухов мальчишка, которого задор толкает на приключения. Владимир Григорьевич — человек, много и мучительно размышляющий над тем, что происходит в стране. Проигранная война с Японией больно отозвалась в его душе. И среди московской интеллигенции, к которой принадлежит Шухов, многие сочувствуют революционерам и ненавидят царя. Друг Шухова, профессор Московского высшего технического училища Худяков выпустил книгу «Путь к Цусиме». Замысел ее прямо и откровенно выражен в предисловии: «…Раскрыть глаза русской читающей публике на деяния той замкнутой касты, содержание которой все время ложилось на бюджет России тяжелым бременем и непроизводительно отнимало народные средства от удовлетворения насущных потребностей страны, надолго обрезая главные массы ее народонаселения на безграмотность и полунищенское существование…» По просьбе Худякова Шухов написал для книги маленькую главку о соотношении между русским и японским военно-морскими флотами. И вот однажды вечером раздался звонок. Вошли жандарм и морской офицер — капитан второго ранга.
— Не в свое дело лезете, господин Шухов, — грубо начал жандарм.
Капитан перебил его:
— Ваши политические взгляды, господин Шухов, меня не интересуют. Важно другое: в главе из книги «Путь к Цусиме», которую вы написали, приводятся точные данные о русском военно-морском флоте. Они секретны. Откуда вы их взяли?
— Пойдемте. — Шухов повел моряка в кабинет, положил перед ним английские, французские, немецкие журналы.
— Вот где содержатся ваши секретные данные — в иностранных журналах, которые я выписываю уже много лет. У меня лучшая в Москве научно-техническая библиотека. Смею вас уверить: японцы весьма внимательно со всем этим ознакомились. Так что сведения ушли от вас. И, господин офицер русского флота, неужели вам не стыдно оказаться в одной компании с жандармом? Неужели вы сами не понимаете, кому обязана Россия поражением в этой несчастной войне?
Идет война
Война, начавшаяся 1 августа 1914 года, тянется уже третий год. На западе русские армии сражаются с немецкими и австро-венгерскими войсками, на юге — с турецкими. Германия вступила в схватку с Россией на востоке, с Англией и Францией — на западе. На другом конце света Япония тоже объявила войну Германии и захватывает ее колонии. Готовятся начать битву Соединенные Штаты Америки. Человечество еще не знало такой войны. Ее называют мировой.
Немцы очень сильны. Они готовились к войне долго, методично и пунктуально, продумывали каждую мелочь. Они отлично вооружены. Они едва не разбили французов в первые дни войны. Люди, склонные к возвышенным выражениям, говорят об их армии, как о грозном Левиафане[6] из стали, движущемся с быстротой переходов, совершенством маневров и силой ударов, которых не было еще ни в одной войне. Пять русских корпусов — целая армия — погибли в лесах и болотах Восточной Пруссии, чтобы ослабить натиск немцев на Париж.
Русской армии трудно бороться с немецкой. Она хуже вооружена, хуже оснащена технически. Ей нечем отвечать на ураганный огонь немецкой артиллерии — не хватает снарядов. И винтовок тоже не хватает. Десятки тысяч людей идут на верную смерть. Всеобщее недовольство царит в народе.
Озлоблены мужики. Их отрывают от полей, одевают в шинели и шлют, плохо вооружив, в окопы, на верную смерть.
Волнуются рабочие. В городах растут цены, и продуктов становится меньше. Скоро рабочие потребуют ответ за все это.
Угас восторженный пыл первых военных дней среди промышленников, купцов, интеллигенции. Царизм еще раз показал свою бездарность и неспособность управлять страной.
Совместить несовместимое
Инженеры один за другим входили в кабинет Шухова, рассаживались, переглядывались недоуменно. Они не знали, зачем вызвал их главный инженер.
— Все? — спросил Владимир Григорьевич. — Послушаем офицера, только что прибывшего из Польши и знающего, что такое война. Капитан Башилов, прошу вас.
Офицер, сидевший у стола Шухова, встал, Видно было, что он не тыловик — усталое лицо, потускневшие погоны.
— Я хотел бы, чтоб вы представили себе условия, в которых мы воюем. Вот один только случай, — сказал он. — В ноябре под Ломжей германские войска пошли в прорыв. Наша батарея стояла на небольшой горке. В три часа дня немцы открыли такой огонь, какого я за всю жизнь не видел, В одном пункте они сосредоточили, наверное, не меньше полусотни батарей. Земля дрожала, и наши позиции были окутаны облаками дыма. То тут, то там рвались снаряды. Мы отвечали как могли, однако неравенство сил оказалось слишком явным. Я получил приказание — отвести батарею. Но осадные орудия не маневренны. Чтобы их приготовить к бою, поставить на специальные платформы, требуется много времени.
И для обратного процесса — перевода из боевого положения в походное — не меньше. А под обстрелом время исчисляется не часами, а минутами. Короче говоря, немцы заняли соседнюю высоту и начали бить по нашей батарее с ближнего расстояния. Одним из первых же снарядов орудие наше было повреждено, а я ранен. Долго лежал в госпитале…
— Что же вы хотите от нас? — не выдержал кто-то из инженеров. — Мы до сих пор проектировали и строили сугубо мирные сооружения — башни, резервуары, котлы, перекрытия зданий. К военной технике отношения не имеем, что это такое — не знаем.
Шухов легонько постучал пальцами по столу.
— Я понял вас, — сказал офицер. — Но и вы поймите меня. Я не случайно рассказал вам боевой эпизод из своей биографии. Это не подвиг Козьмы Крючкова, тут хвастаться нечем. Немцы забрасывают нас снарядами, они вспахивают разрывами и осколками поля сражений. Да, у нас нет такого количества снарядов, но каждый должен сделать что-то, чтобы облегчить положение солдат. Крупнокалиберную шестидюймовую пушку надо перед выстрелом ставить на платформу. Мало того, что эта операция длится несколько часов, — платформы очень тяжелы, их обычно перевозят двенадцать лошадей, запряженных цугом. О какой же маневренности, мобильности может идти речь?
— Благодарю вас. — Шухов встал. — Главное артиллерийское управление объявило конкурс на новую конструкцию платформы, Задача — максимальное облегчение ее веса. Надо сделать так, чтобы и перевозить пушку, и устанавливать в боевое положение было легко. Это не просто техническое задание; я пригласил капитана, чтоб все мы получили и эмоциональный заряд. Наше конструкторское бюро примет участие в конкурсе. Прошу каждого ознакомиться с техническими условиями и думать. Решение будем разрабатывать вместе.
Когда все разошлись, капитан сказал Шухову:
— Откровенно говоря, я не знаю, как вы сможете совместить столь взаимоисключающие требования. Платформа должна быть тяжела — чтоб выдержать отдачу орудия после выстрела. Но она должна быть и легка — чтоб можно было монтировать ее на колеса и везти. Не знаю, не знаю…
Парадокс
Срок был дан короткий — через три дня инженеры вновь собрались у Шухова в кабинете.
Разные посыпались предложения. Шухов сидел вполоборота к собравшимся, слушал не перебивая: лицо его, как всегда, было вдумчиво-доброжелательным. Вот и последний закончил. Шухов ничего не говорил, тихо перешептывались инженеры.
— Ну что ж, — сказал, наконец, Владимир Григорьевич. — Отрадно. Есть интересные идеи. Но главного все же не учтено. Улучшение каких-то одних качеств идет за счет ухудшения других. Если облегчается вес платформы, она не выдержит сил отдачи; если он увеличивается, еще более уменьшается подвижность и маневренность. Случай очень интересен и для всех нас, как инженеров, поучителен. Это весьма яркий пример того, как традиционные конструктивные решения приводят в тупик. Чтоб выйти из него, следует не пытаться усовершенствовать прежние решения, а полностью от них отказаться. Иногда бывает необходимо увидеть задачу совсем не так, как ее поставили, и решить не так. Вот соображения, которые возникли у меня по этому поводу.
Платформу тяжело и долго грузить на колеса. А зачем вообще это делать? Не уменьшать вес платформы нужно, как просят, а разработать такую ее конструкцию, которую легко было бы перевозить, независимо от любого веса. Я предлагаю самой платформе придать вид колеса. Оно будет большое и тяжелое, но зато две соединенных осью платформы превратятся в повозку. А на боевых позициях колеса можно класть на землю плашмя и ставить на них пушки. Массивное колесо примет усилие от отдачи орудия и не даст пушке съехать с места. Может быть, кто-то из вас хочет что-то сказать?
Инженеры ошеломленно молчали.
Через несколько месяцев на столе у Шухова лежал отзыв:
«…Платформа инженера Шухова как в боевом, так и в походном отношении значительно превосходит все прежнего типа осадные крепостные платформы. Боевые ее качества: быстрота и легкость установки, круговой обстрел, прочность, легкость перемещения хобота (быстрота наводки) и отсутствие мелких частей. Относительно походных ее качеств — она настолько улучшила подвижность батареи, что поставила осадную батарею на один уровень с тяжелой полевой артиллерией».
Тяжелая поступь
Война все тянется и тянется… Уже больше трех лет прошло с ее начала. Ни царь, ни Временное правительство не могут покончить с ней. Осталось народу взяться за это…
Был вторник 1 ноября 1917 года. На опустевших улицах раздавалась частая ружейная и пулеметная стрельба. Равномерно вздрагивала земля, будто какой-то великан-кузнец бил по ней огромным молотом. То стреляли тяжелые орудия. В города шли бои. Юнкера и офицеры заняли Кремль, Манеж, Университет, Арбатскую площадь. С окраин на них наступали солдаты и рабочие во главе с большевиками.
Домик Шухова — маленький, одноэтажный, в глубине двора на углу Смоленского бульвара и Неопалимовского переулка — оказался как раз в центре боев. Дорога к Арбату проходила здесь.
Шухов работал в своем кабинете, но свист пуль на улице, глухие звуки их ударов о булыжники и стены домов — плохой аккомпанемент для занятия вычислениями. И хоть Шухов всю жизнь придерживался правила: голова должна думать только об одном — сейчас он не мог думать о формулах. Когда история проходит через крутой поворот, когда ты дожил до событий, которые готовили поколения, очень трудно сохранять обычный распорядок жизни.
Он вспоминал события последнего года… Митинги происходили чуть ли не беспрерывно еще с февраля, но несколько дней назад, проходя по Тверской, он увидел у памятника генералу Скобелеву огромную толпу. Над фуражками студентов, над серыми папахами солдат развевались красные флаги. В центре толпы виднелся оратор, но слов его не было слышно. Мимо Шухова прошел расклейщик афиш; солдат жадно схватил одну.
— Какие-нибудь новости? — вежливо спросил Шухов.
— В Петрограде, говорят, революция, — ответил солдат, — Временное правительство скинули. Ждем подтверждений…
И вот оно, подтверждение. Тяжелая поступь истории слышна на улице. Какой путь выбрать для себя?.. Обыватели, естественно, прячутся. Самое главное для них — переждать опасное время. Люди активные сражаются.
Что должен делать он — не обыватель, но уже и не боец — шестидесятитрехлетний старик?
Есть одна норма поведения — что б ни случилось, работы не прекращать. И хотя многие из окружения Шухова относятся к идеям большевиков отрицательно, он считает: есть справедливость в том, что происходит сейчас на улицах. Ведь мало кто из отрицающих так тесно всю жизнь был связан с рабочими так хорошо знал условия их быта и труда. Большевики, судя по декларациям, намерены всерьез заняться улучшением жизни рабочих. Что ж! Старый инженер готов отдать для этой цели все свои знания и опыт.
Последний разговор
Грузовые трамваи, превращенные в платформы, развозили по Москве дрова и одежду, продукты и кирпичи. Другого транспорта не было. Ветер шелестел старыми афишами. По улицам маршировали красноармейцы, отправлявшиеся на фронт.
В один из осенних дней 1918 года Бари пришел к Шухову. Владимир Григорьевич визитом был удивлен, И в благополучные времена Бари редко посещал его. А теперь, когда улицы пусты и опасны, когда транспорта нет, это и вовсе непонятно. Он проводил гостя в кабинет, и оба уселись друг против друга. Два старых человека. Жизнь каждого прошла на глазах другого.
— Я хочу вас поздравить, Владимир Григорьевич, с новой почетной должностью, — сказал Бари. — Вы теперь член рабочего правления завода «Парострой», Национализированного предприятия эксплуататора Бари.
— Сорокалетнее знакомство мешает мне ответить резкостью на вашу иронию, — сказал Шухов, — Но я считаю ее неуместной.
— Владимир Григорьевич, — воскликнул Бари, — давайте, если хотите, поговорим серьезно! Стоит ли в нашем преклонном возрасте заниматься политикой, заискивать перед хамами? Вы можете сказать почти как Архимед: «Оставьте мне мои формулы» — и жить в мире расчетов. Вот единственное, что вечно, а все остальное преходяще. Теперь я понял это и вам завидую, хотя, сознаюсь, всю жизнь удивлялся вашей непрактичности.
— Нет, Александр Вениаминович, то, что вы предлагаете, сегодня для меня не программа. Прежде всего, рабочие — это не хамы. У нас с вами всегда было достаточно благ; но попробуйте встать на позицию человека, который не имеет ничего сейчас и не улучшит своего положения в будущем. Тяжелый труд сегодня, завтра и до конца жизни — вот таков был удел рабочих. С юности, со времен службы на железной дороге запомнил я один случай. Рабочий, кочегар, уснул на котельной решетке. Он проснулся не оттого, что одежда на нем начала тлеть, а кожа обгорела, а потому, что его растолкали. Вот до какого изнеможения доходили люди. А в Баку, в нефтяных ямах, по двенадцать часов под палящим солнцем…
— Это было давно, с тех пор многое изменилось. Вы сами немало способствовали переменам…
— Нет. Решая чисто технические задачи, можно было добиться очень ограниченных социальных результатов. Рабочие совершили социальную революцию — я их приветствую.
— И все же, зачем вы, никогда не будучи политиком, вдруг увлекаетесь какими-то лозунгами?..
— Это не так. Ничтожного царя и бездарное его окружение я ненавидел всегда. Но, пожалуй, именно всю жизнь я и был Архимедом — жил в мире формул. А доходы от моих работ получали другие, и вы в том числе. Теперь об этом можно сказать…
— Кто же вам мешал открыть собственное дело?
— Вы знаете — мне всегда был неприятен мир коммерции.
— Это не разговор под занавес сорокалетней — не скажу, дружбы, но все же тесной связи. В нынешнее, трудное для меня время я ожидал услышать от вас иные слова.
— Но что же я могу вам сказать, — вскричал Шухов, — если считаю закономерным происходящее! Одно лишь. Советской власти нужны опытные и знающие люди; она охотно сотрудничает и с бывшими офицерами и с бывшими капиталистами, лишь бы только добросовестно работали. Вы человек великолепной энергии и огромного практического опыта. Даже сейчас, несмотря на годы, обладаете этими качествами. Оставайтесь работать на нашем заводе…
— И мне простят, что я был капиталистом, — сухо сказал Бари. — Это наивно, Владимир Григорьевич. Я не стану служащим предприятия, хозяином которого был сорок лет. Прощайте. Постараюсь уехать за границу. Кое-какие остатки капитала в иностранных банках у меня есть. В России мне больше делать не чего.
Шухов проводил Бари к выходу, постоял у пороса, Глохнет в ночной тишине шум шагов. Сорок лет, яСя жизнь, по существу, связывают с этим исчезнувшим в темноте старым человеком. Он вовсе не был злым или жестоким, но какое это имеет значение сейчас…
Мост на колесах
Как странно быть на железнодорожной станции и не слышать ни гудков паровозов, ни стука вагонных колес! Но откуда ж взяться этим звукам, когда через станцию прокатилась волна боев Красной Армии с отступающими войсками Колчака.
Мостовосстановительная группа расположилась в полуразрушенном здании станции. Уцелели служебные комнаты. Крыша пассажирского зала валялась здесь же на перроне, рядом со спиленным телеграфным столбом. Наружные стены станции покрывали большие черные пятна копоти. Бои были жестокими. Невдалеке от станции чернел сброшенный бак водокачки и виднелись в глубине паровозного депо подбитые машины. Вместо стен депо лежали на земле груды кирпичей. Остались стоять только массивные колонны.
Но самое главное — был разрушен мост. Если при виде вмятин и рваных дыр на баке у Владимира Григорьевича стало нехорошо на душе, то что же должен был он почувствовать, увидев рухнувший пролет. Верхушка перекосившейся фермы торчала из воды. Всякому тяжело видеть такое, а человеку, который всю жизнь проектировал и строил, просто невыносимо.
На ночь Шухова поместили в комнатке телеграфистов — аппараты все равно не работали. Остальные расположились вместе. Ему принесли скамейку со спинкой и матрац. Было тихо. Война откатилась на восток. Шухов не мог заснуть. Один из последних мостов, которые надо поднять, — и оживет линия Урал — Центр, вновь побегут поезда в Москву и Петроград. Тогда можно будет приступать к новому большому делу. Но как справиться побыстрей с этой задачей?
Утром он еще раз прошел к мосту, взяв с собой своего помощника, инженера Кандеева. По глинистому, скользкому склону спустились к воде. Мелкие волны огибали угол фермы. Тишина стояла над рекой, рассеивались клочья тумана. Всплескивали рыбы. Почему люди с такой злобой уничтожают то, что сами же с таким трудом сделали?
— Вот как я думаю, — сказал Шухов. — Вытащим ферму, посмотрим. Что можно — выправим; нет — заменим.
Кандеев молчал. Перекосившиеся фермы очень трудно выправлять. А материала для замены нет. Где взять двутавры и швелеры, когда заводы, делавшие их, не работают? Но он уже много лет трудился с Шуховым и привык верить ему. Вот когда правило, которым Владимир Григорьевич руководствовался всю жизнь — стараться использовать как можно меньше материала, позволяет добиваться цели. Теперь уже не для того, чтоб капиталист мог сэкономить на постройке, приходится напрягаться, а оттого, что иного выхода нет.
Любую балку, которая еще может служить, выпрямляют и пускают в дело. Пока что для восстановления мостов потребовалась всего лишь четверть нового материала, а на три четверти обошлись старым.
Осталось немного; надо думать, эта пропорция не изменится.
— А поставим ферму на опоры быстро, — продолжал Шухов. — Я придумал интересный способ…
И повернувшись, Шухов бодро полез по склону. Кандеев с изумлением глядел ему вслед. Даже здесь, даже в этом деле он что-то придумывает, ускоряет, улучшает… Какой неукротимый дух, какой огромный творческий заряд, какая необыкновенная бодрость мысли!..
Цепями, с помощью полиспастов, ферму втащили на берег. Несколько дней грохали кузнечные молоты, шипели автогенные резаки, скрипели, входя в металл, сверла. А чуть поодаль железнодорожные рабочие строили дополнительный путь.
Через несколько дней ферма была выпрямлена. Но как перетащить многотонную громадину, как поставить ее на опоры?
Вот тогда идея Шухова начала приобретать реальные очертания. На построенный дополнительный путь выкатили двадцать вагонных осей — разрушенных вагонов хватало. Ферму домкратами погрузили на эти оси и потихоньку покатили к пролетам. Мост на колесах — такого еще не видал никто.
— Ну вот, и с этим делом мы справились, — сказал Шухов своему помощнику, когда основаниями своими ферма легла на опоры моста. — Дальше все значительно проще. Нет таких широких рек и длинных пролетов. Осталось немного — будете доделывать без меня. Я возвращаюсь в Москву — строить радиобашню.
Самая высокая в стране
Мужичок с котомкой за плечами остановился возле строительной площадки, долго оглядывался. Ничего привычного глазу — куч цемента, ям с известью, горок кирпича. Кругом балки, балки и балки… Задрав голову, мужичок посмотрел вверх. Казалось, он попал в центр огромной паутины. Сквозь редкую сетку из железных балок просвечивало голубое небо. Тоненькие нити — там наверху — здесь, у самого основания сооружаемой башни, превращались в огромные железные полосы. И лесов никаких не возведено, Чудно! Мужичонка не выдержал.
— Скажи, мил-человек, — окликнул он проходящего мимо бородатого десятника, — что строите-то?
— Воздух, — сказал десятник.
— И платят?
— А как же. Тебя кто прислал сюда?
— Контора.
— Пойдем со мной. Мне люди нужны. Посмотрю что ты можешь делать. Про дерево и камень сразу забудь. Здесь одно железо кругом.
Башня должна была быть такой же, как когда-то в Нижнем Новгороде, — только много выше. Пять огромных сетчатых колец с уменьшающимся диаметром надо было поставить друг на друга, чтоб достигнуть стапятидесятиметровой высоты!
Шухов хотел сначала воздвигнуть девять колец, а верхушку поднять на 350 метров. Но в поездке по разрушенным городам вдоль линий разрушенных железных дорог он ясно представил, каким тяжким бременем легло бы на республику сооружение такого исполина. Да и 150 метров хватит. Все равно будет выше самого высокого прежде здания в стране — Исаакиевского собора в Петербурге. И радиосигналы с вершины башни услышит весь мир.
Окраина Москвы. Шаболовка. Лес, барак для рабочих, пустое голубое зимнее небо. У входа в контору — велосипед. На нем инженер Галанкин, руководитель монтажа башни, ездит с другого конце Москвы и зимой и летом. Несколько огромных железных колец на земле; внутри каждого — настилы. Кранов нет: кольца поднимают полиспастами и ставят одно на другое. Замоскворечье — район деревянных домиков и невысоких купеческих особняков. Многоэтажных домов здесь почти нет. Да и какой дом может загородить такую громадину?
19 марта 1922 года с огромной башни пошли в эфир первые сигналы. Галанкин, стоящий рядом с Шуховым в передающем отделении, шепнул Владимиру Григорьевичу:
— А вы знаете, что башня наша уже получила название? Ее называют Шуховской.
Американцы
Дверь открылась, и в кабинет вошли двое мужчин — высокие, гладко подстриженные, в очень длинных, с маленькими лацканами, по моде, пальто. Упитанные, франтоватые — таких людей не часто можно было встретить на московских улицах в первые годы после гражданской войны. Следом шел худощавый юноша. Шухов поднялся из-за стола навстречу гостям.
— Альберт Фром.
— Альберт Миллер.
Шухов пожал протянутые руки. Показал на вешалку в углу. Гости сняли пальто.
— Товарищ Шухов, — сказал юноша, — эти господа — американцы. Они представляют собой нефтяную компанию Синклера. У них вышел спор относительно того, кто первый изобрел способ переработки нефти в бензин. Стали смотреть патенты — и вдруг увидели, что первым-то были вы. Вот они и приехали выяснять. А я переводчик.
— Это очень интересно, — усмехнулся Шухов.
— Вы говорите по-английски! — воскликнул мистер Фром. — Никак не предполагал, что в России живет такой замечательный человек, который не только изобрел крекинг-процесс, но еще и свободно говорит по-английски.
— Пятьдесят лет назад я провел целый год в Соединенных Штатах. Кстати, я еще говорю по-немецки и по-французски. Но не подумайте, что я хвастаюсь. Это лишь ответ на ваше удивление. Садитесь, пожалуйста!
Американцы опустились в кресла. Этот старик с небольшой белой бородкой и пушистыми седыми усами им понравился.
Переводчик, поняв, что услуги его не понадобятся, скромно уселся в углу. Мистер Миллер, не теряя времени, сразу начал деловой разговор:
— Вы знаете, конечно, мистер Шухов, что с тех пор, как Генри Форд наладил поточное производство автомобилей, количество их в нашей стране достигло невероятных размеров. А следовательно, нужно огромное количество бензина, и фирма, которая завладеет монополией на выпуск бензина, безмерно обогатится. Теперь представьте себе, как враждуют между собой фирмы за монопольное обладание патентами на промышленные установки по выпуску бензина.
Шухов, пристально глядя на американца, вспомнил вдруг Баку времен своей юности, бешеную борьбу компаний за доходы. Вплоть до разрушения оборудования. Вплоть до поджогов чужой нефти…
— И вот, — продолжал американец, — несколько лет назад у нас на этой почве возникло одно судебное дело. Фирма Даббс построила завод по выработке бензина из нефти. Фирма Кросс подает на нее в суд на том основании, что патент на данный способ получения бензина — крекинг-процесс — принадлежит фирме Кросс. А это значит, что фирма Даббс не имела права строить завод и теперь должна уплатить фирме Кросс огромные деньги. Конечно, платить никому не хочется. Фирма Даббс нанимает известного адвоката, тот идет к экспертам, все вместе копаются в старых патентах. Что именно они находят, держится в секрете. О процессе много пишут в газетах, результат будет широко известен — значит, есть смысл кое-что поберечь и до дня суда. И вот этот день наступает. Адвокат фирмы Даббс простирает кверху руку, в которой зажат небольшой светлый листок, и провозглашает:
— Иск фирмы Кросс неправилен. Патент на крекинг-процесс, выданный в Америке в 1915 году, был выдан по ошибке. За двадцать четыре года до того патент на аналогичное устройство для получения из нефти бензина взял русский инженер Владимир Шухов.
Фирма Даббс выиграла дело. Соперникам было отказано в иске. А мы, то есть представители нефтяных кругов Соединенных Штатов Америки, заинтересовались. Как это в вашей отсталой стране был взят патент на такое замечательное дело, как крекинг-процесс… И вот мы здесь, чтобы задать вам несколько вопросов. Нас интересует и юридическая сторона, и чисто личная. Почему вы, являясь владельцем патента, который мог бы принести вам огромные деньги, ничего не предприняли, чтобы их получить? И Даббс, и Кросс очень богатые фирмы. Тем не менее, деньги от использования патента на крекинг-процесс столь велики, что они перенесли спор даже в зал суда. А в ваших руках было все — и вы ничего не сделали, чтоб разбогатеть. Вот это нам непонятно, и мы просим объяснить.
— Объяснение очень простое. Кому нужен был бензин в тот год, когда я получил патент на его производство? Из трех пудов нефти добывали один пуд керосина, а все остальное — и бензин в том числе — считалось отходами. Верно, с помощью моего аппарата можно было из оставшихся двух третей получить дополнительно бензин. Но спрос на него возник гораздо позже, когда в большом количестве появились автомобили.
— Вы и тогда могли построить нефтеперегонный завод.
— Ну что бы я стал делать с нефтеперегонным заводом? — устало сказал Шухов. — Я математик, человек, который занимается приложением этой науки к разным отраслям техники. Мои формулы, расчеты, чертежи, сооружения — вот чем всегда была наполнена жизнь для меня и что я бы никогда не променял на звание капиталиста. Мне семьдесят лет, но, доведись начать жизнь снова, я прожил бы ее так же. Теперь по существу патента. Скажу откровенно, я не ставил своей целью получение бензина, наоборот хотел обеспечить больший выход керосина. Нефтеперерабатывающая промышленность в то время носила ярко выраженный керосиновый характер Установка для перегонки нефти с разложением благодаря высокой температуре и давлению — так мы назвали ее с соавтором, моим товарищем по высшему техническому училищу Сергеем Гавриловым — к должна была увеличить выход керосина. Но капиталистам в России патент этот показался ненужным Доходы и без того, слава богу, неплохие. От добре добра не ищут. Зачем тратиться, ставить опыты? Так они рассуждали.
— Но почему же вы не поехали в Америку, не попробовали заинтересовать наших промышленников?
— Для меня главным было найти и предложить этот способ. Осуществление его в широких промышленных масштабах потребовало бы огромных сил и энергии. Я предпочел потратить их на то, что меня интересовало больше всего на свете, — на мои инженерные работы. Деньги — это ведь совсем не самое главное в жизни.
— У нас так не считают, — пробормотал американец.
— Гораздо важнее заниматься тем делом, каким ты хочешь и должен заниматься. И не изменять самому себе. Тогда на склоне лет ты сможешь считать, что прожил хорошую жизнь. Я всегда занимался любимым делом, и считаю, что лучше прожить бы не смог.
— А Бортон, который двадцать пять лет спустя после вас повторил ваше изобретение, разбогател.
— Ну что ж, если он забросил всю свою научную работу и все мысли обратил на то, как бы выгодней пристроить свое изобретение, то я ему не завидую. Я свои деньги тратил на книги. К сожалению, моя библиотека в начале революции сгорела. Но свидетельством того, что работа моя не пропала, является сам факт вашего прибытия ко мне. А также многочисленные письма относительно отдельных деталей моего аппарата, которые пришли из Америки перед самым вашим прибытием. Судиться из-за этого патента нет смысла — он давно уже по законам о сроке давности перестал быть собственностью одного человека или фирмы, а стал всеобщим достоянием. Но есть и другие способы вознаграждения изобретателя, кроме денежных. Совет нефтяной промышленности нашей страны постановил: процесс крекинга в России отныне именовать процессом Шухова, а бензиновый завод, построенный на основании моего патента, назвать Завод имени Шухова. И давайте закончим разговор на эту тему. Еще раз повторяю: я не хвастаюсь, я говорю о разном понимании жизни. У ваших компаний есть деньги, но они вынуждены вести отчаянную борьбу друг с другом. У меня капиталов нет — теперь в нашей стране их в частных руках нет вообще, — но я раньше был нужен только промышленникам, чтоб обогащать их, а теперь нужен своей стране, народу. Мне семьдесят, а я работаю так, как никогда. Огромные нефтепроводы — я мечтал о них пятьдесят лет, — мосты, мачты линий электропередачи, промышленные сооружения… Да я никогда не представлял себе такой энергии и размаха.
— Мы, кажется, перешли в область политики, — осторожно заметил американец.
Шухов помолчал. — Я говорю вам только о своей достаточно долгой и насыщенной трудом жизни и о кое-каких выводах, к которым я пришел. Для вас они, разумеется, не обязательны.
— Вернемся к технике, — вступил в разговор Фром. — Мистер Шухов, я вижу вон на том столике модель башни, которую под вашим руководством недавно построили в Москве. Ее можно заметить отовсюду, и, как говорят, это самое высокое сооружение столицы. Башня сетчатая, контуры ее представляют собой гиперболоидные линии. В изобретении аппаратов для получения из нефти бензина ваше первенство несомненно. Но не только мы перед вами, но и вы перед нами в долгу. Идею сетчатых гиперболоидных башен вы почерпнули у нас. Такие башни еще в девятисотых годах были установлены на некоторых американских военных судах — в частности, на дредноуте «Мичиган» и на крейсере «Западная Виргиния». Снимки этих судов попали в некоторые журналы, и таким образом идея разошлась по всему свету. Сознайтесь, она ведь неплоха. Башни изящны, легки, дешевы, а на военных кораблях имеют еще одно преимущество — трудней разрушаются от огня.
Не говоря ни слова, бросив один короткий внимательный взгляд на гостей, Шухов подошел к шкафу, нагнулся, достал какой-то журнал, положил его перед мистером Фромом.
— «The Engineering», — прочел американец, поднял глаза. — Старейший английский технический журнал.
— Обратите внимание на дату, — сказал Шухов. — Март 1897 года.
Он перевернул страницу, и американец увидел вдруг изображение сетчатой башни с большим баком наверху. Подпись под рисунком гласила: «Нижегородcкая выставка».
— А вот патент на сооружения такого рода, — сказал Владимир Григорьевич. — В заявке, которую я подал еще в январе 1896 года, она названа «Ажурной башней». Конечно, те, кто строил военные суда, упомянутые вами, может быть, и не читали статьи, не видели моего патента. Просто идея эта носилась в воздухе. Но все же реализовал-то ее первый я.
Американец передал журнал коллеге. Они долго разглядывали изображение давным-давно построенной башни. Наконец Миллер сказал:
— Мистер Шухов, у нас больше нет к вам вопросов. Мы восхищены, мы преклоняемся перед вами, мы не видали таких людей и потому — о, быть может, только потому! — не до конца вас понимаем. Позвольте нам проститься именно сейчас, когда наше чувство восхищения вами достигло пределов.
Они обменялись рукопожатиями. Гости оделись и направились к выходу. У двери мистер Миллер неожиданно обернулся.
Он увидел небольшой стол, заваленный бумагами, свисающую над ним лампу с зеленым металлическим абажуром. Угольник на стене, над головой сидящего за столом человека. Старика с высоким лбом, с волосами ершиком, с пушистыми белыми усами и бородой, со взглядом пристальным, вдумчивым, немного печальным; одетого в обычную дешевую куртку с накладными карманчиками, какую носят и заводские мастера, и рабочие, и инженеры. В карманчики очень удобно класть карандаш или штангенциркуль. Мгновение, последний взгляд на человека — такого талантливого и такого непонятного. Американец тихо закрыл дверь.
«Хитрость» инженера Графтио
«Советский Союз будет не раз открывать новые электростанции, еще более грандиозные, чем Волховская, более усовершенствованные, более мощные… И все же единственным, неповторимым, непревзойденным останется момент открытия Волховской станции. Волховстрой — это подлинная в технике «первая любовь» социалистической революции…»
«Правда» от 21 декабря 1926 годаОгромный источник энергии
От мелкого озера Ильмень течет до бурной Ладоги река Волхов. Длина ее невелика — всего 224 километра. Сравнить ли с гигантами, пересекающими материки? Но еще в древней русской истории река эта была широко известна. Где-то на берегу ее принял смерть от коня своего князь Олег и был похоронен тут же, в насыпанном дружиной кургане. В каком? Кто знает… Много их на берегах Волхова.
Волхов был одним из участков Великого торгового пути из варяг в греки. Нехорошим, неспокойным участком. Дело купца и без того рисковое: то от княжеских поборов потеряешь все барыши, то от встречи с лихими людьми и вовсе живота лишишься. А коварный Волхов этот риск увеличивал вдвойне. Минуешь ли, нет ли перегородившие реку пороги? Не каждому судну удавалось благополучно это сделать. И часто вслед за глухим ударом днища о камни раздавался треск ломающихся досок, вопли прыгающих в воду людей. Купцы рвали на себе волосы, проклинали пороги, били по скулам лоцманов — мужиков окрестных деревень. Те ссылались на божью волю, призывали всех святых в свидетели своей невиновности. В конце концов торговля на Волхове замерла. Купцы стали предпочитать более спокойные реки.
Тихо и неслышно проходили столетия над Волховом. Мужики деревень Дубовики и Гостинополье, что расположены у самых порогов, пахали землю, сеяли хлеб, ловили знаменитого на всю Россию волховского сига, мололи зерно на почерневшей от времени, неизвестно когда построенной мельнице. Господа помещики — дворяне Новгородской губернии — исправно брали с них подати. А наука в далеких отсюда местах тем временем все развивалась да развивалась. Шел к концу XIX век. И вот уж учение о реках появилось — гидрология; и вот уж стали ходить по берегам Волхова люди с рейками и нивелирами. Мужикам было не до городских — пусть себе ходят. А измерения дали между тем поразительные результаты. От истоков на протяжении 190 километров уровень Волхова понижается всего на два метра; зато следующие 10 километров дают десятиметровый перепад. Уже были изобретены водяные турбины, и люди знали, как можно использовать силу падающей воды. Тот факт, что рядом с Санкт-Петербургом, столицей, городом, в котором сосредоточены крупнейшие заводы Российской империи, расположен колоссальный источник энергии, производил огромное впечатление. Идея постройки гидроэлектростанции на волховских порогах овладела мыслями многих инженеров. И в первую очередь Генриха Осиповича Графтио.
Мальчик, юноша, инженер
Мы все из страны детства, и каждый выносит из нее что-то главное, определяющее всю его дальнейшую жизнь. Что вынесет из своего детства мальчик, просыпающийся рано утром от стука тяжелых кувалд? Ими забивают в шпалы костыли — крюки, крепящие рельсы. В России сооружается много железных дорог; Осип Иванович Графтио — десятник на строительстве. Семья десятника кочует: он строит дороги Москва — Смоленск, Смоленск — Брянск, Ряжск — Вязьма. Мальчика, сына десятника, зовут Генрих. Ему не надо игрушек: какая игрушка может произвести впечатление по сравнению с настоящей, большой стройкой! Конечно, рабочие уже не гибнут тысячами, как это было тридцать лет назад, когда сооружали первую в стране железную дорогу Москва — Петербург. Но все равно условия их труда очень тяжелы. Машин по-прежнему почти нет, все приходится делать вручную.
Копать землю — вручную.
Насыпать земляное полотно — вручную.
Таскать подстилку — щебенку и гравий — вручную.
Укладывать рельсы и шпалы — вручную.
Это невероятно тяжелый труд, а рабочий день долог, и, закончив его, люди засыпают тяжелым, беспробудным сном. Мальчик видит все это; все это вынесет он из страны детства.
Осип Иванович Графтио — очень способный человек. Не имея законченного образования, он изобрел прибор для измерения скорости движущегося поезда; он рассказывает сыну о машинах, которые могут и землю копать, и рельсы укладывать, и многое другое делать. Часть из них уже сконструирована, другие вполне можно построить. Мальчик слушает, смотрит, размышляет. Как же так, почему же тогда столько людей заняты отупляющим, не приносящим никакой радости физическим трудом? Нет, когда он вырастет, то обязательно придумает что-нибудь такое, чтоб люди работали легко и чувствовали себя при этом счастливыми. Надо только выбрать главное направление. Тогда легче станет всем — и землекопу, и каменщику, и лесорубу.
1896 год. Петербургский институт инженеров путей сообщения. Студент Графтио выбирает тему дипломного проекта. Ему не о чем долго размышлять; он знает силу, способную изменить условия труда в любой области.
— На чем вы остановились? — спрашивает профессор.
— Тема моего диплома «Электрификация железных дорог», — отвечает Графтио.
Профессор смотрит на него с изумлением.
— Помилуйте, тема абсолютно нереальна…
— Надо же когда-то и начинать, — спокойно отвечает студент.
И следующие двадцать лет жизни он, не разбрасываясь, занят только одним: составляет проекты гидроэлектростанций. Реально удается сделать немногое. Вот в 1870 году пошел по Петербургу трамвай; Графтио был главным инженером строительства. Но ведь публика, которая любуется новенькими красивыми вагонами, понятия не имеет о том, как получается для трамвая электрический ток. На окраине города, на Казачьем плацу построено здание электрической станции. Целый день голые по пояс кочегары бросают в прожорливые топки уголь. Кипит вода в котлах; пар заставляет вращаться лопатки турбин. Чем отличаются эти кочегары от землекопов, на которых насмотрелся; Графтио в детстве? Та же грязь — только уголь вместо земли, тот же однообразный, отупляющий труд. Таких тепловых станций, работающих на привозном английском угле «кардиф», много. Они снабжают огромный город электрической энергией. Станции коптят и без того хмурое петербургское небо; работа на них грязная и тяжелая. А зачем все это нужно? Ведь Петербург окружен реками с большим напором воды. Пусть вода крутит лопатки турбин — и тогда исчезнут грязь, копоть и тяжелый труд. И Графтио составляет проекты гидроэлектростанций. Сначала на финляндских водопадах. Затем…
1909 год. Пароход министерства путей сообщения плывет по Волхову. Дождливый, холодный день. Графтио, завернувшись в плащ, стоит на мостике. Вот они, знаменитые волховские пороги. Бурлит, перекатываясь через камни, вода. А по обеим сторонам реки — глухомань, угрюмое место. Каменная церковь Михаила Архангела над водой, темная, покосившаяся от времени ветряная мельница, деревня Дубовики, заболоченный лес, маленькая железнодорожная станция Званка на пути Петроград — Вологда. И здесь вот должна быть сооружена гидроэлектростанция, какой еще не знала Россия.
Проект, разработанный в последующие лета, по смелости инженерной мысли опережает все, что было известно. Напряжение в 110 тысяч вольт, длина линий передачи в 120 километров — цифры эти на знающих людей производят ошеломляющее впечатление.
И тем не менее профессору электротехнического института, видному специалисту министерства путей сообщения пришлось превратиться в просителя. Он ходит по приемным разных чиновников, добивается решения, по которому можно было бы начать сооружение гидроэлектростанции на волховских порогах. На него смотрят по-разному.
Большинство говорит прямо и откровенно: «Генрих Осипович, не будьте Дон-Кихотом, не боритесь с ветряными мельницами. Допустим, построили вы электростанцию на реке, а те, что работают на угле, закрывать прикажете? Ведь в них капиталы вложены, ими солидные акционерные компании владеют, среди которых и иностранных много к тому ж. Осуществить ваш проект — значит разорить их, Да неужели ж они это допустят? Горой встанут, чтоб вам дорогу преградить. А влияние у них огромное».
Годы идут. Графтио не сдается, он все улучшает и улучшает свой проект. Но доведется ли начать по нему строительство? Правительство не собирается финансировать постройку гидроэлектростанции на реке Волхов, а капиталистов тоже не заставишь вложить деньги: слишком много их нужно. Неужели так и не доведется ему взяться за реализацию дела своей жизни, неужели все так и останется на бумаге?
Начало
Стоял январь 1918 года — холодная, вьюжная петроградская зима. Генриха Осиповича Графтио мучили дурные мысли. Всего два года осталось ему до пятидесяти; он накопил огромный опыт, у него были обширнейшие познания, коллеги считали его ведущим специалистом по строительству гидроэлектростанции. Но сейчас все так неопределенно. Уже четвертый год идет эта несчастная война. И вот нет царя, и Временное правительство тоже свергнуто. У власти большевики. Кто они, что смогут сделать для страны? Теперь уж наверняка не увидеть ему осуществленным свои проект. Всюду разруха, нет необходимого. Кто будет начинать сейчас постройку огромных сооружении. Скорей всего придется до конца жизни заниматься преподавательской работой, готовить людей — специалистов для электрификации страны, время которой неизбежно настанет. Но, увы, она будет проходить без его участия.
Во входную дверь, не рассчитывая на звонок, сильно постучали. Графтио оторвался от своих мыслей, прислушался. Стук повторился.
— Тоня, открой! — крикнул жене Генрих Осипович.
Жена подошла к двери, спросила: «Кто там?» — «Из Смольного», — ответил глуховатый голос. Она сняла цепочку, посторонилась. При тусклом свете Графтио разглядел вошедшего. Человек в очках, с седеющей бородкой стоял в прихожей.
— Вы профессор электротехнического института Генрих Осипович Графтио? — спросил он.
— Я!
— Смидович, Петр Гермогенович. — Незнакомец протянул руку. Пожатие ее было сильным. — Я от товарища Ленина…
— Пойдемте в кабинет, — сказал Графтио.
Гость увидел высокую голландскую печь, выложенную зелеными изразцами, небольшой письменный стол перед ней, большой, в глубине комнаты, ряд чертежных досок — и стеллажи, стеллажи, стеллажи…
— Вы составляли проект строительства гидроэлектростанции на реке Волхов? — спросил Смидович.
— Вам известно это? — удивился Графтио.
— Я инженер-электрик по образованию, окончил во Франции Высшую электротехническую школу. Правда, как член партии большевиков, занимался в основном политической деятельностью. Но вполне могу говорить и на языке техники.
— Хорошо, — сказал Графтио, — я изложу вам коротко суть дела…
Наконец-то
— …Так вот, — продолжал Графтио, — ясно же было, что в случае войны энергоснабжение Петрограда нарушится. Германский флот блокирует Балтийское море, и пароходы с английским углем перестанут приходить… Резко возрастут перевозки угля из Донбасса, но железнодорожный транспорт не сможет с ними справиться. Так и получилось. Огромный город, множество предприятий которого работает на оборону, переживает энергетический кризис. — Графтио показал пальцем на слабо мерцающую лампочку. — Вот, посмотрите, Столица почти без света. А у меня иногда создавалось впечатление, что я занимаюсь ненужным делом. Возьмите хотя бы Общество электрического освещения 1886 года. Контролировалось из-за границы, имело огромные капиталы, своих людей во всей петербургской верхушке. И конечно, отчаянно боролось против строительства на Волхове, потому что станция эта стала бы конкурентом тепловой, находящейся в распоряжении Общества. Дешевая электроэнергия этим господам была не нужна.
— Несколько дней тому назад, — сказал Смидович, — Советским правительством принят декрет о конфискации всего имущества Общества электрического освещения 1886 года и передаче его в собственность Российской республики.
— Но ведь и не только акционеры препятствовали! — воскликнул Графтио. — Есть много инженеров, моих, с позволения сказать, коллег, которые тоже против станций на реках. Они стоят за тепловые. Есть и просто люди, которые по уровню своих знаний находятся где-то в конце прошлого века.
— Владимир Ильич Ленин, — сказал Смидович, — интересуется вашим проектом Волховской станции. Просьба: в ближайшее время подготовить все материалы, составить приблизительную смету. Советское правительство намерено рассмотреть вопрос о Волховской ГЭС, с тем чтобы приступить к строительству…
Графтио проводил гостя до двери, вернулся в кабинет, достал папки с проектом Волховстроя.
Да, голод, холод, разруха… Но нет самодовольных и косных чиновников, нет господ землевладельцев, которым свои интересы дороже интересов всего государства, нет хитроумных концессионеров, на все готовых, лишь бы не допустить уменьшения прибылей. Путь для осуществления проекта Волховстроя открыт. Разве не этого ждет он всю жизнь?
И вот прошло несколько лет, полных напряженной, трудной работы. Страна воевала; стройка то замирала, то возобновлялась вновь. Если бы не поддержка Владимира Ильича, ее не удалось бы довести до того этапа, на котором она сейчас находится. Идет 1923 год, за пять лет сделано очень много. Но и сейчас еще есть люди, считающие, что от Волховстроя надо отказаться. Настал переломный момент. Миновать его — и ничто уже не сможет остановить строительство.
Один раз в день — целый день
В четыре часа утра рабочий день Генриха Осиповича Графтио, начавшийся в полдень накануне, завершился. Он работает один раз в день — целый день. Так говорят о нем на стройке. Начальник и главный инженер строительства Волховской гидроэлектростанции отодвинул учебник шведского языка — скоро ехать в Швецию за турбинами, — встал из-за стола, взглянул на неутвержденные пока чертежи здания гидростанции, развешанные по стенам кабинета. Мысль возвращалась к ним в свободные промежутки времени. Мало этих промежутков — иначе разве стал бы он работать до такой поры. Только ночью можно оторваться от волнами набегающих неотложных дел, почитать специальные журналы, поразмышлять.
Тишина. Лишь со стройки доносится неясный гул. Лучи прожекторов стелются над Волховом. Дома в поселке на левом берегу реки погружены в темноту; только в кабинете Генриха Осиповича Графтио светло. Графтио надевает шерстяные носки, заправляет в них брюки — грязь, закалывает булавками. Подбитые гвоздями солдатские ботинки, фуражка инженера-путейца, кирка вместо палки. Графтио выходит на крыльцо, ежится от порывов холодного ветра.
Какое-нибудь средство да найдется
Графтио неторопливо шел по берегу, заваленному бревнами, щебнем, камнем, изрытому ямами и канавами. Узкоколейки пересекали строительную площадку в разных направлениях. Маленькие паровозики, гудя, выпуская пар, тащили платформы с песком и камнем.
В дизельной шумели два двигателя, обеспечивающие электроэнергией всю стройку. И почти не слышен был вечный грохот воды среди волховских порогов. Его заглушал шум компрессоров, подававших сжатый воздух на дно реки, в кессоны[7]. Там под этими огромными колпаками, защищенные их стенками и сжатым воздухом от воды, согреваемые горячим паром, который идет сверху, из котельных, голые по пояс люди бурят в дне ямки, закладывают в них динамит, поджигают фитиль. Гремит взрыв. Пыль и дым заполняют кессон, но из компрессорной все время подается свежий воздух. Грязь и камни поднимаются по транспортеру, идущему через трубу, вверх.
Так взрывают и разламывают известняк, добираясь до гранитных пород, разравнивают площадку, на которой должны встать и плотина и станция.
Тяжелый, самый тяжелый труд на строительстве. И очень опасный.
Попробуй поднимись быстро на поверхность! Азот, растворенный в крови, от мгновенной перемены давления вскипит — и человек умрет. Кессонная болезнь — слова, хорошо известные всем, кто имел дело с подводными работами. Недаром наверху постоянно дежурит врач, при малейших признаках нездоровья в кессон не пускает.
Навстречу Генриху Осиповичу идет утренняя смена. Кессонщики переговариваются.
— Ты вот в Севастопольском порту работал, на дно моря опускался, — говорит один из молодых рабочих кессонному мастеру Алексееву. — Скажи-ка, там пострашней Волхова будет?
— Да нет, — отвечает Алексеев. — Волхов поопаснее. Но вы, ребята, не робейте. На всякую его хитрость у инженера Графтио какая-нибудь хитрость да найдется.
Широкое, с глубокими морщинами лицо Графтио задумчиво. Рабочие не знают, какой ответственный момент наступил, сколь серьезно решение, которое инженер Графтио должен принять. Возможно оно определит судьбу Волховстроя. А лично для него, инженера Графтио, успешное его завершение означает, что главное дело жизни будет выполненным. И среди десяти тысяч человек нет ни одного, кто не знал бы, что сооружают они первую в стране гидроэлектрическую станцию, кто тайно или явно этим бы не гордился. Инженер Графтио думает о завтрашнем, решающем совещании.
«Решение, которое мы должны принять, — особенное»
За длинным столом сидели начальник работ Василий Иванович Пуговкин, гидротехник Георгий Сергеевич Веселаго, молодой инженер Иннокентий Иванович Кандалов, заведующий электротехническим отделом Спиридон Дмитриевич Мавромати и другие. Графтио внимательно оглядывал своих помощников. Это люди, на которых он оставляет стройку во время частых своих отлучек в Москву, Петроград, за границу.
Генрих Осипович придвинул к себе блокнот, написал дату совещания, фамилии участников, слово «плотина», поднял голову. Все знали его привычку — на каждом обсуждении какого-нибудь дела вести протоколы, чтобы и много времени спустя можно было установить, какой вопрос разбирался, кто что говорил, какое принято решение.
— Товарищи, — сказал Генрих Осипович. — Мы уже построили основание под гидроэлектростанцию. Теперь надо сооружать водосливную плотину. Вы знаете, что длина ее составляет двести десять метров. Сооружений подобного рода не только в нашей стране, но и в мире немного. Реку между левым берегом и станцией надо перегородить. Предлагайте способы.
— Зачем нам изобретать? — сказал инженер Совримович. — Надо воздвигнуть перемычку. Так делается всегда и везде…
— А я думаю другое. — Василий Иванович Пуговкин встал, в волнении начал крутить ус.
Графтио вспомнил, как этого человека с огромным опытом кессонных работ, строившего мосты через Енисей и Оку, промышленные и портовые сооружения, не хотели признавать старые инженеры. Даже письмо писали: не хотим подчиняться человеку без диплома. Ничего, признали, когда работа пошла.
— В дно реки, — произнес Пуговкин, — опускаются железобетонные кессоны, от одного берега до другого. Они образуют как бы зубья гребенки. Это и будет основа плотины. А между ними поставим щиты, и таким образом полностью перегородим реку…
— Да где мы возьмем такие огромные кессоны? — удивился Совримович. — Вы представляете, какого размера и веса они должны быть? Какой кран их поднимет, какое судно перевезет?..
Графтио молча слушал, постукивая по чертежу то одним, то другим цветным карандашиком. Наконец спорящие утихли, повернули лица к Графтио.
— Решение, которое мы сейчас должны принять, — начал Графтио, — особенное. Оно может определить судьбу всего Волховстроя. Вы знаете: мы не только возводим сооружение — мы ведем борьбу за то, чтобы нам позволили довести эту огромную работу до конца. К нам постоянно приезжают комиссии; все вы часто общаетесь с людьми, которые входят в их состав. Выводы, которые они делают, нередко бывают для нас весьма скверными. Стройку надо законсервировать — вот мнение, которое обсуждается зачастую в самых разных сферах после приезда очередной комиссии. Да, все мы, здесь собравшиеся — и каждый рабочий на строительстве, — знаем, что в нашей только-только поднимающейся стране лишних денег нет. Знаем не хуже любого представителя любой комиссии и то, что Волховстрой стоит очень дорого. Именно поэтому, говорят наши противники, надо оставить стройку, подождать, пока страна станет богаче. Именно поэтому, возражаем мы, надо строить, ибо то государство богато, где вырабатывается много электроэнергии, производится много машин. Предприятия Петрограда ждут волховский ток, чтоб сделать резкий рывок. Волховстрой окупится очень быстро, к тому ж вызовет промышленный подъем целого края. Боюсь, однако, что наши аргументы убеждают далеко не всех. Но мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы стройка была остановлена. Да, действительно, перемычка — способ более изученный. Но это займет год, а такого срока у нас нет. За это время стройка может быть остановлена. Если же мы опустим кессоны в дно реки, законсервировать стройку окажется уже невозможным, Река будет «испорчена» для судоходства. — Графтио улыбнулся. — Принимаем решение — кессоны. Как только они будут готовы, опустим в реку. Это потребует очень немного времени. Таким образом мы сэкономим целый год…
«Хитрость» инженера Графтио
Стапель[8] в длину равнялся 45 метрам, а в ширину — 8. На этой огромной опоре сооружали сразу два кессона — каждый по 400 тонн весом. 10 таких кессонов должны были перепоясать бурный Волхов. Но какой корабль сможет вывезти эту тяжесть на середину реки, какой кран поднимет и опустит в воду? Генрих Осипович никогда не занимался проблемами водного транспорта, но в самых разных областях техники он накопил столько знаний, что мог разобраться в сложных вопросах. Он не спешил принимать решение сразу, долго обдумывал, никакими другими делами в это время его старались не занимать. И выход был найден.
Стучат топоры на верфи в 40 километрах от стройки; местные мастера, привычные к сооружению деревянных судов, взялись за две огромные баржи — понтоны. Мостовой кран обопрется одной опорой на одну баржу, другой на другую и поднимет кессон. Вот решение, которое принял Графтио. Выполнять его он поручил Каюкову, местному жителю — человеку почти неграмотному, но замечательному мастеру.
Тук да тук! — стучат топоры. Жители этого лесного края с топором не расстаются — и дом срубить, и ложку сделать — на все у них инструмент один. Виртуозы могут, положив руку с растопыренными пальцами на чурку, мгновенными ударами топора между пальцев расколоть чурку на равные части.
Каюков привел свою «эскадру» из двух барж-понтонов на стройку. Но сразу за перевозку кессонов не взялись — ждали, пока изготовят кран из толстых бревен. Металлическими были только цепи да лебедки.
Решающие
И вот он настал — день решающей операции. Накануне слышались глухие взрывы, из реки поднимались фонтаны, а мужики ловили оглушенных сигов. Это водолазы расчищали дно реки от валунов, чтобы баржи не зацепились. Ранним утром 4 октября 1923 года огромное сооружение из двух барж, на которые опирается кран, тихонько двинулось по реке. Двигателей нет: от барж к опорам временного моста тянутся тросы. Рабочие на обеих палубах крутят лебедки, тросы наматываются, и огромное сооружение медленно-медленно движется. Другие способы Генрих Осипович отверг. Буксиру не одолеть такую громадную тяжесть. Течение в этом месте бурное, скорость его достигает семи верст в час. Оно просто снесет баржи с краном и кессоном. А авария роковым образом отразится на строительстве. Чтобы поднять кессон, потребуется столько сил и средств, что придется просто остановить стройку. Да, на огромный риск пошел инженер Графтио.
По обоим берегам реки черным-черно от высыпавшего народа. Казалось, ни одного человека не осталось на рабочем месте — все прибежали смотреть. Самый ответственный момент за все время стройки — это понимал каждый. На верхней площадке крана стояли Графтио и мастер Каюков — руководитель всей операции, начальник группы из двух инженеров и двадцати рабочих. Блестит большой медный рупор в его руках, отражая лучи холодного осеннего солнца, зычный голос старого мастера разносится далеко над рекой.
Кран подъехал к первому стапелю. Это был длинный островок; на нем стоял кессон. Одна баржа встала по одну сторону островка, другая — по другую. Крюки крана оказались над кессоном. Заскрипели, поворачиваясь, огромные блоки; залязгали, опускаясь, цепи, загремели крюки, вдеваемые в железные кольца — по 16 штук с каждой стороны кессона. С обеих сторон помоста на верху крана рабочие налегли грудью на огромные рукоятки домкратов — тоже по 16 с каждой стороны. Графтио напряженно смотрел вниз. Вот-вот должен показаться просвет между основанием кессона и стапелем. Вот-вот. Вот-вот… Кессон уже приподнят, но просвета нет, будто бетонное ложе стапеля поднимается следом. Этого не может быть, но это есть. Неужели не предусмотрено что-то, неужели ошибка?..
И вдруг — вот он! — тоненький просвет. Он все увеличивается, увеличивается — и вот уже четырехсоттонный кессон висит между пролетами крана. Графтио облегченно вздохнул. Бетонная поверхность стапеля поднималась вслед за кессоном, освобождаясь от страшного груза. Поэтому так долго не было просвета. Но теперь все в порядке. Кран выдержал, и баржи не перевернулись. Однако радоваться рано. Предстоит большой путь по реке.
Сто пятьдесят метров — огромный путь
Какой же большой — даже не километр! Всего 150 метров — совсем рядом это место, где должны остановиться баржи и опустить свой груз кран. Но с подвешенным кессоном следует двигаться так медленно и осторожно, как только можно. И опустить в воду четырехсоттонную махину надо в строго определенном месте с точностью до сантиметров. На берегу стоят геодезисты с теодолитами. Красными флажками покажут они, пришел кран в назначенный пункт или нет. А течение быстрое, удержаться на одном месте трудно. Якоря за скалистое дно не уцепятся, поползут. Пришлось выше того места, где будут погружать кессоны, уложить на дно огромные бревенчатые ящики с камнями. За них уцепятся якорями обе баржи. Так предусмотрено, а как получится…
Кран со своей ношей медленно плывет вдоль берега. Из собравшихся на берегу многие только учатся грамоте и сейчас медленно, по складам читают надписи на бортах обеих барж: «В добрый путь». И радуются, что могут это прочесть. Графтио в мохнатой кепке, в плаще, в брюках, как всегда на стройке, заправленных в носки и заколотых булавками, внимательно смотрит на опоры временного деревянного моста, за которые зацеплены тросы. В распоряжения Каюкова он не вмешивается. Он видит, что этот малограмотный человек командует сложнейшей операцией совершенно правильно, и еще раз думает о том, сколько талантов кроется в глубине народа, и еще раз радуется тому, что теперь люди таких способностей смогут развивать их и не будут обречены на безграмотность.
Железной рукой
Еле заметно двигался кран против течения с 10 часов утра до 5 вечера. В этот момент движение его замедлилось: грозила еще одна опасность. Надо было миновать мель у левого берега. Здесь заранее была затоплена барка; кран встал над ней. Заработали помпы, откачивающие воду; барка медленно поднималась, поднимая вместе с собой и кран. Вот и это пройдено; встали на линии будущей плотины. Ушли с берегов зрители, зажглись прожекторы. Кран будто бы кончил свой путь, но с наблюдательных пунктов сигналили флажками. Чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо, чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад. Работа не прекращалась ни на минуту. К вечеру второго дня первый кессон опустили на дно реки. Каюков простоял на мостике почти двое суток…
Теперь уже опыт был, и остальные девять кессонов перевезли не то чтобы с меньшим трудом, но с большей уверенностью. Работа, которую при строительстве плотин еще не делал никто, завершилась.
Пять лет отделяло октябрь 1923 года от начала стройки, больше трех лет оставалось до ее конца, но теперь Генрих Осипович мог считать дело своей жизни состоявшимся.
В промежутках между кессонами яростно кипела вода, белые буруны выплескивались на бетонные стенки. Волхов был схвачен железной рукой. Ни закрыть, ни законсервировать строительство было уже невозможно.
И небо, и земля
«…Именно он первый нашел в себе силы отрешиться от слепого копирования заграничных образцов и в конце 1910 года построил самолет оригинальной конструкции… Гаккель впервые в мире сконструировал фюзеляж…»
Герой Советского Союза М.В. ВодопьяновРеальность и фантазия
Рельсы, покрытые коричневым, ржавым налетом, сгнившие шпалы, обрушившиеся телеграфные столбы. Висят, будто оборванные струны, провода. Тихо на перегонах; могут недели миновать, пока не донесется тяжелое пыхтение паровоза. Поезд весь забит людьми; кажется, только на колёсах никто не исхитрился устроиться. Идет он медленно, тяжело; вместо первосортного угля в топке горят дрова. Но вот смолк стук колес, и снова тишина. Год 1921-й.
Только что закончилась гражданская война, и работники разных отраслей народного хозяйства стали разбираться в том, что осталось от довоенного имущества, — машин, оборудования. Взялись за это и железнодорожники. Выводы их оказались, быть может, наиболее ужасными.
Три с половиной тысячи мостов разрушено; многие другие из-за того, что давно не делался ремонт, близки к этому.
Уничтожено пять тысяч зданий.
Большинство стрелочных приборов и телеграфных аппаратов бездействует.
Паровозные депо и мастерские стоят без крыш и окон.
Шпалы сгнили, потому что лежат на несколько лет дольше, чем это разрешается техническими нормами.
Две трети паровозов и одна треть вагонов вышли из строя, а с оставшимися часто происходят крушения: техника не может работать без регулярного ремонта и ухода.
Два с половиной миллиарда золотых рублей — вот во сколько оцениваются разрушения, причиненные железнодорожному транспорту, вот сколько нужно, чтобы привести его хотя бы в довоенное состояние.
Но в истории очень часты случаи, когда тяжелая действительность вызывает расцвет фантазии.
Такой фантазией, верно, показалась многим статья А. Белякова «Новые пути оживления железнодорожного транспорта», опубликованная 20 декабря 1921 года газетой «Известия». В ней говорилось о том, что на железные дороги страны должна выйти и потянуть составы новая машина — тепловоз. Она значительно экономичнее и мощнее паровоза, ибо не паровая машина приводит ее в движение, а дизельный двигатель.
Неспециалистам статья не могла не показаться фантазией: слишком очевидной была разруха на транспорте. Специалисты же знали, что построить магистральный тепловоз пока что не удалось ни в одной стране мира.
Но уже на следующий день в редакцию газеты поступило письмо:
«В «Известиях» от 20 декабря помещена статья А. Белякова «Новые пути оживления железнодорожного транспорта». Очень прошу автора статьи сообщить мне возможно более точно с указанием соответствующих изданий:
1) Из какого источника взяты сведения о том, что за границей вообще испытан и дал блестящие результаты способ применения обыкновенного, слегка переделанного, грузовика вместо железнодорожного локомотива.
2) То же относительно того, что в Америке такими грузовиками обслуживались подъездные пути.
3) О том, что во время войны такие грузовики удачно применялись в американской армии (об этом должны быть сведения, если применение было удачно, и в американской, и во французской, и в английской прессе).
4) О том, что в Лондоне были произведены испытания по идее русского инженера Кузнецова, доказавшие, что грузовик в 30 лошадиных сил свободно тянул поезд в 9 — 10 вагонов со скоростью до 20 верст в час.
Ленин».
Всего две недели прошло после опубликования статьи — и 4 января 1922 года Совет Труда и Обороны по инициативе Владимира Ильича обсуждает вопрос о строительстве тепловозов в нашей стране. Принято постановление: строить.
Это была уже самая настоящая действительность. К работе подключались теплотехнический институт, наркомат путей сообщения, другие организации.
Спустя самое короткое время — 27 января 1922 года — Владимир Ильич пишет в Народный комиссариат путей сообщения и Госплан: «…Крайне желательно не упустить время для использования сумм, могущих оказаться свободными по ходу исполнения заказов на паровозы, для получения гораздо более целесообразных для нас тепловозов…» А председатель Госплана Глеб Максимилианович Кржижановский получил от Ленина письмо, в котором были такие строки: «…Надо подумать о том, кому поручить проведение немедленного практического исполнения…»
Искать такого человека не пришлось.
Своими руками
— Угадайте, что это такое?
Мальчик лет двенадцати положил на гранитный цоколь картонную коробку. Он только что вышел во двор большого петербургского дома; товарищи подбежали к нему. Мальчик был худощав, невысок, узкоглаз. Он недавно пришел из гимназии и не успел даже еще снять форму, лишь фуражку и ранец оставил дома.
— «Табак, сигары и папиросы. Лаферн. Невский, 16», — прочли мальчишки надпись.
— Это мне отец дал. Там внутри совсем другое, — сказал владелец коробки и снял крышку.
На дне лежали листья разных деревьев — выпуклые, с мельчайшими прожилочками, но желтые, тихо звенящие. Металлические, очень-очень тонкие, тоньше настоящих. У некоторых даже загибались края.
— Это мой гербарий. Я его сам сделал, Вот дуб, вот ива, вот клен…
— Не лги, Яша, — возразили ему. — Такие листья на Невском продаются.
— А вот сам! — запротестовал Яша. — Мне отец подарил гальваническую мастерскую и показал, как делать гербарий. Надо сначала получить восковой отпечаток настоящего листа, покрыть его графитом и подвесить в ванну.
— А в ванне что?
— Медный купорос и серная кислота. Медь будет осаждаться на отпечатке, вот и получится лист.
— А графит зачем?
— Чтоб ток проводил. Это меня отец научил. Мы с ним еще скульптуры зверей будем делать. Он все умеет. Телеграфную линию Хабаровск — Владивосток прокладывал, теперь строит мол в Кронштадте.
— Подумаешь, гальваническая мастерская! Мне отец скоро ружье купит…
— А мне — лошадь с коляской.
— А мы за границу поедем.
Яша знал: мальчишки не врут. Дом, расположенный в одном из лучших районов Петербурга — на Каменноостровском проспекте, — населен богатыми людьми. Ну и пусть! Разве можно сравнить готовую вещь с той, что сделана собственными руками? Коробку принесли из магазина; развернул ее — вот и все. А тут надо долгими часами готовить электролит, восковой состав; не дыша, осторожно, чтобы получить однородный слой, наносить мягкой кисточкой графитную пудру.
Всём отцы дарят подарки, но Модест Васильевич Гаккель дома перестает быть полковником инженерных войск, он становится как бы товарищем, с таким же волнением ожидающим, когда первый отпечаток покроется медью.
— А меня зато отец в Кронштадт возьмет. Посмотреть на портовые работы.
— Подумаешь!
Яков побледнел, сжал кулаки.
— Яша! — раздался звучный голос. Во двор входил коренастый человек в военной форме.
Отец! Яков бросился к нему.
— Папа, они не верят, что мы с тобой поедем в Кронштадт…
— Во-первых, никогда не жалуйся на своих друзей, — сказал Модест Васильевич, — во-вторых, зачем же доказывать на словах — пусть едут вместе с нами.
— Прямо сейчас?
— Ну разумеется.
Мальчишки, услышавшие разговор, приуныли. «Нас не отпустят», — зазвучали тоскливые голоса. «Скажите — со мной», — улыбнулся Модест Васильевич.
Мальчишки разбежались по своим квартирам. Через пять минут небольшая компания выходила из ворот. «Тпру!» — закричал проезжавший мимо извозчик. «К пристани, на Восьмую линию, — сказал Модест Васильевич, повернулся к мальчикам. — А ну, залезайте».
Канал на дне моря
Пароход «Луч» медленно разворачивался. Уходили назад военные суда, набережная Васильевского острова, массивное, с двенадцатиколонным огромным портиком здание Горного института. Был ясный день ранней осени.
— Мы с вами поедем по Морскому каналу, — сказал Модест Васильевич. — Он прорыт с Гутуевского острова в устье Невы, а потом идет по Финскому заливу. Это удивительное сооружение — канал на дне моря. О нем мечтал еще Петр Великий, а закончилась его постройка только год назад — в 1883 году. Что видно справа по борту?
— Полоса земли, обложенная камнем, — ответил Яша, — четыре, нет, пять каменных домиков, еще три деревянных, деревья…
— А лет восемь-десять назад на месте всего этого была вода, и рыбаки забрасывали сюда свои сен ти. Вон слева по борту землечерпалка гремит цепью. Вроде и небольшой кораблик, как наш, но изо дня в день достают ковши землю со дна, машина перекачивает ее по трубам — вот берег и растет, а море глубже становится.
— А зачем?
Мимо «Луча» прошли два больших океанских парохода, несколько миноносцев. Буксиры, пыхтя, тащили большие торговые корабли.
— Эти суда теперь могут подходить к петербургским пристаням. А раньше из-за мелководья не могли. Доходили только до Кронштадта. Там надо было перегружать товар на мелкие суденышки — лихтеры — и только после этого везти в Петербург. Доставка товара из Лондона в Кронштадт стоила столько же, сколько из Кронштадта в Петербург. Кроме того, Кронштадт — военный порт, ключ к столице, там не должно быть никаких кораблей, кроме военных. И вдруг оказалось множество торговых. Это опасно — в случае войны их легко поджечь. Но теперь по каналу глубиной в три сажени суда идут прямо в Петербург.
— Откуда вы все это знаете? — удивлялись мальчики.
— Ну как же, — усмехнулся Модест Васильевич, — я ведь принимал участие в строительстве дамб, что ограждают канал с обеих сторон от заносов с моря. Я потому и взял вас и так охотно об этом рассказываю, что горжусь делом рук множества людей — и своих в том числе. И вы, когда вырастете, начнете создавать настоящие вещи — машины, дома, мосты, — тоже будете гордиться ими.
Политический преступник
Весна девяносто седьмого года, окончание Петербургского политехнического института. Ах, эта петербургская весна — длинные дни, короткие прозрачные ночи; небо светлое, глубокое, с чуть видными звездами. Дома, мосты, силуэты людей — все окрашено в белесоватые тона. Время белых ночей, время студенческих пирушек. В тот вечер собрались на квартире у Гаккеля. Все молоды, у каждого целая жизнь впереди. Радостно. Сидели, пили шампанское, пели песни: «Налей, налей бокалы полней!», «Из страны, страны далекой», «Гаудеамус», конечно. Звонок раздался, когда все приглашенные уже явились. Недоумевая, Яков Гаккель открыл. За дверью стоял городовой. Он поправил на широкой груди оранжевый шнур, откашлялся. «Вас просит зайти господин пристав». — «Зачем?» — «Не знаю, приказано передать». Утром Гаккель явился в участок. Пристав вначале вел себя любезно.
— Это вы, господин Гаккель, в прошлом году вместе с Александром Успенским, сыном писателя Глеба Успенского, организовали подпольную типографию, печатали и распространяли «Коммунистический Манифест» — произведение, в России запрещенное?
— Да, — ответил Гаккель. — Но ведь я уже наказан за это. В Москве, в прошлом году во время летней практики ваши коллеги меня арестовали, и я просидел в Бутырской тюрьме целых четыре с половиной месяца.
Пристав поглядел на Гаккеля прищуренными, сузившимися глазами; выражение лица его стало брезгливым; сразу ясно стало, что любезности больше нет, а есть полное сознание своей силы.
— Вы что, наивного из себя изобразить хотите? Четыре с половиной месяца за преступление, предусмотренное статьей двести пятидесятой уложения о наказаниях! Дешево отделаться думаете! За вас господин директор Электротехнического института хлопотал.
— Что ж, — сорвалось у Гаккеля с языка, — неужели он наши взгляды разделяет?
— Дерзить изволите, молодой человек? Господин директор просто не хотел, чтоб вверенный ему институт в рассадник бунтовщиков превращался, репутацию неблагонадежного приобретал. Но мы считаем, что гнилой зуб надо рвать с корнем. Получите предписание о высылке вас из столицы в город Пермь сроком на пять лет под надзор полиции. Заодно познакомьтесь со списком городов, в кои въезжать вам и проживать запрещено.
Прощание
Чемоданы уже отнесены в экипаж; большой медный маятник стоящих на полу часов в резном, с фигурами футляре отсчитывает последние минуты. Яков Гаккель грустно смотрел в окно. Какое голубое небо сегодня, как ярко светит солнце. Как тяжело уезжать не по своей воле именно в такой день! Когда он еще вновь увидит эту чистую, тихую, пустынную улицу, высокие деревья на тротуаре? Когда он еще вновь услышит бой часов в родительском доме, зажжет люстру под потолком, сядет в кресло с гнутой спинкой, поднимет крышку рояля?
Из соседней комнаты вышел через стеклянную дверь отец в полной генеральской форме. На плечах аксельбанты, мундир со стоячим воротником, на шее орден — святой Владимир третьей степени. Пышные усы и бакенбарды; взгляд, как и положено генералу, властный, но какая-то растерянность затаилась в глубине глаз.
— Зачем этот парадный вид? — нахмурился юноша. — Для проводов в ссылку совершенно не обязательно.
Генерал ничего не ответил. Появилась мать, обняла сына, заплакала. Присели.
— Хватит, пора. — Модест Васильевич поднялся.
Они спустились по ковровой дорожке, придавленной медными прутьями. В стенных нишах стояли вазы с цветами. Швейцар внизу почтительно поклонился его превосходительству. Не с богатством жаль расставаться, а с чувством защищенности, которое всегда окружает тебя в родительском доме. Что ж, по-разному происходит прощание с молодостью…
Копыта лошадей цокали по брусчатке Невского проспекта. Некоторое время отец молчал, глядя прямо перед собой, потом заговорил:
— Есть на тихоокеанском побережье России мыс Гаккеля. Я открыл его. Имя Гаккеля известно на Дальнем Востоке еще и потому, что я строил телеграфную линию Хабаровск — Владивосток. Знают эту фамилию и в Кронштадте, где я возводил портовые сооружения. Все это в прошлом. Теперь же по произнесении этой фамилии неизбежен вопрос: а кто такой Гаккель — генерал инженерной службы или политический преступник, сын его?
Юноша молчал. Неотвратимость случившегося и пугала, и бесила, и подзадоривала его.
— Предком нашим был наполеоновский солдат, — продолжал Модест Васильевич. — Не знаю, от него это у нас в роду или нет, но мы люди живые, увлекающиеся. Я боялся того, что в конце концов с тобой все-таки случилось, пытался направить твои интересы на тот путь, которым сам шел всю жизнь. Помнишь поездку в Кронштадт, маленькую гальваническую мастерскую? Я сохранил ее. В институте, куда ты по моему совету определился, лучшие профессора читают. Неужели все это не увлекает без остатка, неужели на конфликт с властями надо было идти?
— Сейчас трудно быть в стороне от политики, — сказал Яков.
По перрону Николаевского вокзала, как и на любой, даже самой крохотной станции Российской империи, расхаживал жандарм. Он внимательно поглядел на старого генерала. Тот приосанился, гордо поднял голову. И Яков вдруг понял: этот парадный мундир, этот орденский крест на шее и еще один с правой стороны груди — все не случайно. Генерал хочет показать: что бы ни произошло, но верной службы, но трудов на строительстве многочисленных и огромных сооружений, но безупречной жизни ничто перечеркнуть не может.
Два поколения
Прозвучал сиплый паровозный гудок; вагон дернулся и плавно покатился по рельсам. Прошел кондуктор, зажигая свечи в фонарях, оглядывая скамейки: не видать ли чего подозрительного.
Молодой человек со взглядом живым и быстрым, сказал в изумлении:
— Что это он? Зайцев ищет?
— Циркуляр выполняет, — ответил сидящий напротив попутчик. — О вменении в обязанность лицам поездной службы иметь бдительный надзор за сопровождаемыми пассажирскими поездами. У этих людей глаз наметанный: сразу видят, кого везут. Заметили, как он глянул на нас. Нюхом чует, что я наказание отбыл, живу на поселении. Но вы-то, судя по фуражке, инженер?
— И тоже ссыльный. — Юноша вздохнул, снял фуражку, положил себе на колени.
— Ну что ж, коли так, давайте знакомиться. Харитонов Василий Григорьевич.
— Гаккель Яков Модестович.
— Позвольте, позвольте… — Харитонов наморщил лоб. — Фамилия ваша редкая, запоминающаяся, я ее где-то слышал. Не в Кронштадте ли? Я там служил в канцелярии электромеханического завода.
— Мой отец возводил портовые сооружения в Кронштадте, — сказал Яков. — Он военный инженер, имеет чин генерала.
— Какая же программа у вас была? За что нынешняя молодежь готова и в тюрьму, и в ссылку последовать? Я осужден пятнадцать лет назад. Лейтенант Николай Евгеньевич Суханов привлек меня к участию в делах партии «Народная воля». Сам же он был связан с Желябовым. Суханова расстреляли, девятерых отправили на каторгу. Я знаю, на нас, народовольцев, смотрят, как на отжившее поколение. Но вы-то, вы-то что исповедуете?
…Стучат набравшие силу колеса, рвется из фонаря пламя свечи, мчится поезд сквозь зимнюю уральскую ночь, качаются зеленые вагоны с черным двуглавым орлом на стене и надписью: «Пермско-Тюменская железная дорога». Хорошо ехать на мягких диванах вагонов первого и второго классов, но и в третьем на жестких скамейках неплохо, если есть внимательно слушающий попутчик, которому можно рассказать о своей короткой двадцатичетырехлетней жизни, поделиться мыслями, спросить совета.
— …Ну, а на Николаевском вокзале, когда уж два удара колокола прозвучало, отец обнял меня, перекрестил и говорит: «Ничего, что ж поделаешь, коли так получилось. Урал — край развивающийся, заводов много, можно и там хорошим инженером стать. Найдешь себе место, опыт приобретешь». Расцеловались мы, и я уехал.
Добрый совет
— Ну и как, нашли место? — спросил Харитонов.
— Нашел! — усмехнулся Гаккель. — Промышленники и рады были бы взять, но как проведают, что я ссыльный, так сразу и отказ. А вдруг рабочих агитировать стану? Знают, чего бояться. Условия труда и вправду ужасные. Нужны им инженеры, верно, но страх сильнее. Служу участковым механиком в управлении Пермского почтово-телеграфного округа. Езжу вдоль линий, произвожу контроль оснований столбов, заменяю их, крючья, изоляторы ставлю. А также слежу за правильным выполнением телеграфной службы станционными агентами. Ведомости составляю. Даже с аппаратами редко дело иметь приходится. Политика политикой, но по призванию-то я инженер. И получилось так, что прозябаю в этой глуши.
— Да, — сказал Харитонов, — здесь до вас многие томились. Правда, по другим причинам. Был такой князь Долгорукий, сосланный из столицы за предерзкие шалости. Так он и здесь не остепенился, продолжал то же самое. Выселили его в Верхотурье. Перед отъездом собрал он всю знать на завтрак да и накормил именитых гостей паштетом из своего пуделя. Они ели, ничего не зная, а он потом этой историей весь петербургский высший свет веселил.
— Из пуделя! — захохотал Гаккель. — Повеса, конечно, но понять его можно. Скука здесь ужасная. Главное — дела настоящего нет. Не жалею, что принял участие в политической борьбе, но мечтаю теперь конструировать, строить, испытывать.
— Я вам посоветую вот что, — вдруг посерьезнел Харитонов. — Слышали о Ленском золотопромышленном товариществе?
— Ну как же! Могущественная компания.
— Настолько могущественная, что она своими силами построила железную дорогу от пристани на реке Бодайбо раньше, чем Сибирская магистраль была доведена до Иркутска. Она же организовала пароходство на Витиме, а теперь хочет построить электростанцию по последнему слову техники. Могло бы вас это дело заинтересовать?
— Пожалуй, — пробормотал Гаккель.
— Инженеры им очень нужны; ссыльных там предостаточно и без вас; да к тому же компания уверена в своем могуществе. Ничего не боится. И полиция, я думаю, не воспрепятствует. Ей же лучше, что вы еще дальше от Петербурга укатите. Но не боитесь ли вы сибирских морозов?
— У меня бабка — якутка, и сам я родился в Иркутске.
— Вот и хорошо. Если надумаете, обратитесь в главное промысловое управление, что находится в городе Бодайбо. Может быть, и встретимся еще раз. Там среди своих, ссыльных, мое постоянное место жительства.
Путь сибирский, дальний…
Холмистые, изрезанные оврагами и устьями рек берега Лены. Дикая, печальная, какая-то безжизненная красота. Не то что деревень — ни пашен тут не увидишь, ни сенокосных лугов. Изредка попадаются на ровном месте или на отлогом склоне какого-нибудь холма группы домиков — почтовые станции. Здесь, когда еще не ходили пароходы, можно было менять лодки, как в среднерусской полосе лошадей. Вид станций угрюм — будто на день всего поселились, в домиках люди, и нет им никакого дела до того! кто был здесь вчера и кто будет завтра. Возле станций — участки распаханной земли.
— Растет здесь что-нибудь? — спросил Гаккель стоящего рядом на палубе казачьего офицера.
— Ячмень — и тот с грехом пополам. Земля сырая, холодная. Да и для того ли люди сюда попадают, чтоб крестьянствовать. Золото — вот что здесь главное, господин инженер. Мужики в центральных губерниях свое хозяйство бросают и в лаптях, в армяках сюда. Пешком, потому что на дорогу денег нет. Годами идут. Нижегородцы, рязанцы, симбирцы, вятичи, пензенцы — вся мужицкая Россия прет. Особенно в неурожайные годы. Генерал-губернатор Восточной Сибири приказал ставить казачьи заслоны по дорогам, даже тропинкам, что ведут на прииски. Я сам в таком заслоне стоял. Да где там!.. Разве удержишь?.. Август еще не кончился, а здесь уже начиналась осень, дул сильный ветер. Гаккель спустился в каюту. Попутчики играли в карты. Было душно. А каково же ссыльным, которых везут в паузках — огромных барках с плоскими прямыми бортами и тупым носом? Один такой тянется сзади на буксире. Этот казачий офицер — начальник конвоя — предложил на одной з пристаней осмотреть паузок. Плавучая тюрьма — ары в два этажа, забитые арестантами, а под нарами, на сыром и грязном полу еще люди. Через трое суток после отплытия от пристани Жигалово, где начинался водный путь по Лене, пароход подошел к Витимску.
— Не сюда следуете? — спросил казачий офицер.
— Нет.
— И не дай вам бог здесь задержаться. Десятого сентября расчет на приисках, а после такое начинается! Разгул, грабежи…
Арестантские суда доставили свой груз. Офицер сошел на берег в Витимске. А Гаккель пересел на пароход «Тихон» и поплыл по реке Витим.
«Занесло же меня, — думал он, глядя на безлюдные берега, на бешено мчащиеся воды реки. — Ну, вот и Сибирь, холодная, дикая страна с жестокими обычаями. А ты приехал сюда сам. Да, приехал, независимо от того, что ждет, потому что здесь настоящая работа, и в этом краю с суровым климатом, с суровыми людьми можно выковать твердый и настойчивый характер. Тому, у кого вся жизнь впереди, это так необходимо. Недаром крестьяне, что попадались на длинном пути, держались степенно, с достоинством, без угодливости. Ни эти люди, ни предки их никогда не знали крепостного права. В этом краю каторги человек так внутренне свободен, как нигде».
Прибытие
Бодайбинская резиденция — так назывался поселок ленской золотопромышленной компании. Приятно было после безлюдных витимских берегов видеть здесь течение жизни. Пакгаузы, куда тащат грузы с барки, казармы, конюшни, кузницы, плотницкие…
В управлении приисками Гаккель разыскал человека, который должен был его определить, — горного инженера Кокшарова.
— Поздравляю с прибытием, — сказал тот. — Жить и работать будете на Ивановском прииске, завтра я вас отвезу. Там строят электростанцию. Оборудование закуплено у фирмы «Симменс-Шуккерт», из Германии вызван наладчик. Вы что-нибудь понимаете в системах трехфазного тока?
— Разберусь, — ответил Гаккель.
Ночью температура опустилась до минус пяти градусов, и дорога на прииск покрылась свежевыпавшим снегом, успевшим к середине дня подтаять. Ехали верхом по камням, грязи, то поднимаясь в гору, то опускаясь. Неожиданно Гаккель увидел глубокую ровную канаву.
— Это для отвода воды, — сказал Кокшаров, — из шахт, где золотоносные пласты. Хотим использовать ее для строящейся гидроэлектростанции. Но вот беда — замерзает она. Лето у нас короткое. Укрываем канаву «шубой» из земли и веток.
— Помогает?
— Мало. Лед поднимается и разрывает «шубу». Триста тысяч рублей стоило прорыть эту канаву, две с половиной версты длиной, четыре сажени глубиной. А как сделать, чтоб круглый год польза от нее была, неизвестно.
Поддавки с законами физики
Оборудование — турбины, динамо-машины, трансформаторы — приходило по частям. Путь был не ближний. Из Германии до Нижнего Новгорода по железной дороге, оттуда на пароходах по Волге и Каме — до Перми, затем через всю Сибирь на лошадях — к ленской пристани Качуг, наконец водой до Бодайбо и снова на лошадях до прииска. Гаккель, пока не начался монтаж, читал книги по электростанциям трехфазного тока. Монтер, присланный из Германии, оказался не очень сильным специалистом. Это было и хорошо — приходилось до многого доходить самому — и плохо — не у кого поучиться. Станции предстояло стать первой высоковольтной в России, знать и уметь требовалось очень много. Да, с такого дела стоило начинать любому инженеру. Гаккель был счастлив, что оказался однажды в одном вагоне с Харитоновым. Тот служил здесь конторщиком, и они встретились как старые друзья. Но один практический вопрос не давал Гаккелю покоя. Что сделать, чтобы вода в канаве не замерзала? При трескучих морозах задача эта оказалась невыполнимой. Он сам видел, как рабочие закидывали берега канавы ветвями, скрепляли их, устраивая свод, а поднявшийся лед разбрасывал ветви и землю. Как же быть? Самолюбие инженера требует, чтоб он нашел ответ. И есть еще обстоятельство. Конечно, все, здесь работающие, обогащают своим трудом хищную компанию господ акционеров, живущих в Петербурге. Но, независимо от того, пуск в ход электростанции и облегчит участь многих рабочих. Не руки людей, а электричество будет приводить в действие насосы для откачки воды из шахт, механизмы для подъема золотоносной гальки и вращения золотопромывальных бочек. И, может быть, люди будут не так отупевать от своего труда, и у них останется больше времени и сил.
— Что это вы делаете? — спросил с удивлением Кокшаров, увидев как-то, что рабочие выкладывают вдоль берегов канавы каменные стены и поливают их водой.
— Господин Гаккель так распорядился, — последовал ответ.
Гаккеля долго искать не пришлось, он был здесь же, на берегу.
— Я решил сыграть в поддавки с законами физики, — сказал он. — Надо не избавляться от льда, а сделать так, чтобы получился ледовый туннель.
— Ну и что будет?
— Увидите.
Кокшаров не уехал в этот день с прииска. На следующее утро он и Гаккель подошли к канаве. Плотный ледяной свод закрывал ее, оба берега смерзлись.
— А под сводами воздух, который не дает воде замерзнуть. Течет она себе спокойно и будет течь всю зиму.
Кокшаров долго смотрел на ледяной туннель, потом сказал:
— Меня считают неплохим инженером, иначе компания не послала бы в Германию за оборудованием. Но я обычный и могу хорошо выполнить только то, что придумано кем-то. Вы же, Яков Модестович, придумываете сами. Интересно, интересно…
На что потратить деньги
В 1903 году Яков Модестович вместе с женой Ольгой Глебовной, дочерью писателя Успенского, вернулся в Петербург. Хорошего места вчерашнему ссыльному не нашлось — только лаборант в институте. Пришлось искать дополнительную работу. Гаккель поступил в проектировочное бюро акционерного общества «Вестингауз». Общество строило в Петербурге трамвай. Главным инженером строительства был Графтио.
Гаккель монтировал электрическую часть центральной станции петербургского трамвая. Фирма считалась вполне солидной; английские инженеры — весьма опытными; казалось, задержек не будет. И вдруг… Паровые турбины[9] Вестингауза, которые должны были приводить в действие электрогенераторы[10], оказались негодными. Они не выдержали даже заводских испытаний. Других турбин не было. Англичане растерялись. И тогда Гаккель предложил использовать турбины, которые английский завод Лесснера строил для военных кораблей. Нужно было всего лишь удлинить валы. Чувствуя выгодный заказ, фирма в Манчестере немедленно согласилась.
Фирма «Вестингауз» оценила находчивость и добросовестное отношение к делу молодого инженера. Ему доверили техническое руководство Петербургским отделением общества, и в сентябре 1907 года, когда по улицам русской столицы побежали первые трамваи, Гаккель получил большую премию.
— На что вы собираетесь расходовать ее? — спрашивали знакомые. — Накупите акций какой-нибудь промышленной компании? Или обратите деньги в вечную ценность — золото — и переведете в иностранный банк?
— Я видел, что золото делает с людьми, — отвечал Гаккель. — Видел трупы, плывущие по Лене, видел, как одни люди на спинах своих возят других только потому, что у тех есть золото, а потом, споив и ограбив их, в лучшем случае прогоняют вон. Я видел охотников за горбачами — так называют таежных бандитов, подстерегающих рабочих с приисков. Один такой горбач убил шестьдесят человек. И все из-за крупинок золота. Да, страшные дела могут сделать деньги… Но у меня другой замысел, я потрачу их с пользой для отечества, попробую построить первый в России аэроплан…
И, заметив изумление на лице спрашивающего, Гаккель продолжал:
— Правда, акционерное общество основывать я не собираюсь и прибылей больших не предвкушаю. Да и капиталов хватит всего лишь на постройку нескольких небольших машин. Но заинтересовать людей, пробудить дремлющие силы, двинуть дело с мертвой точки считаю себя обязанным. Наконец, и самому мне это очень интересно.
Самолет русской конструкции
Был на окраине Петербурга поселок Новая Деревня. В ту пору — 1908–1909 годы — он и выглядел деревней — низкие одноэтажные домики, пыльные мостовые, тишина. Только в день крупных скачек нарядные экипажи катили один за другим к расположенному недалеко ипподрому. Жители этого поселка стали часто встречать невысокого, углубленного в свои мысли человека. Он выглядел подозрительным, но столяр Михаил Васильевич Егоров, который поселился в сарае, куда ежедневно приходил незнакомец, рассеял эти настроения.
Профессор электротехнического института, инженер Гаккель — вот кто это. Провел трамвай, шесть тысяч получил за это, а теперь их все на самолеты истратить задумал. Сам построить хочет.
Обыватели ахали. Таких денег человеку не жаль!.. Ведь свое дело открыть можно!
А из сарая, превращенного в мастерскую, доносился веселый стук молотков, звонкое пение пил, скрежет сверл. Строили Яков Модестович, его брат Борис, столяр Егоров, часто приезжала Ольга Глебовна, помогала обклеивать бамбуковый остов самолета. Это был биплан — машина с двумя парами крыльев. От мотора шла цепная передача — как на велосипеде— к двум расположенным сзади винтам. Мощность мотора была небольшой — сейчас такими оснащены тяжелые мотоциклы.
Первый полет
Несколько деревянных домиков — ангары, неровное — бугры, холмы, канавки — поле, в разных местах которого торчат деревья. Некоторые совсем уже высохли, вот-вот упадут. Это Гатчинский аэродром под Петербургом.
— Боюсь взлетать, Яков Модестович, — говорит пилот Володя Булгаков, надевая кожаную куртку и шлем с очками.
— Володя, вы же закончили школу воздухоплавания в Париже, — отвечает укоризненно Яков Модестович.
Булгаков уселся в самолет, завел мотор. Гаккель и Егоров держали машину за крылья, пока винт набирал обороты. Все быстрей и быстрей его вращение, вот уже не видно лопастей.
— Отпускай! — скомандовал Гаккель.
Самолет сделал небольшую пробежку и поднялся в воздух. Он летал невысоко — метрах в пяти-шести над землей. Первый полет первого самолета русской конструкции!
— Ура! — закричал Егоров. — Ура, летит!
И вдруг восторг на его лице сменился испугом. Самолет, пролетев метров двести, опустился и наехал прямо на дерево. Гаккель и Егоров наперегонки бросились туда.
— Знаете, сколько аварий было оттого, что пилоты натыкались на эти деревья? — оправдывался Володя Булгаков.
— Почему же их не вырубят?
— Дворцовое ведомство запрещает. У императрицы Марии Федоровны, видите ли, какие-то воспоминания юности с рощицей этой связаны. А люди калечатся.
— Вы живы, это главное, — облегченно вздохнул Гаккель.
— Я жив. А самолет сломался.
— Ничего, повреждения несерьезные. — Гаккель осмотрел нос самолета. — Исправим быстро.
Машину отвезли в мастерские. Через несколько дней, 5 июня 1910 года, она вновь поднялась в воздух. Было ветрено, холодно. Одетый в длинное пальто и котелок господин наблюдал за полетом. Это был Николаев, комиссар Всероссийского аэроклуба. Когда машина опустилась, он тут же на поле составил протокол о первом полете первого аэроплана русской конструкции.
Прекрасно испытать самому
Успех окрыляет. Не теряя времени, Гаккель приступил к постройке нового самолета — огромной машины с размахом крыльев в одиннадцать с половиной метров и весом более чем в полтонны. Но вот беда: на ней некому было летать. Володя Булгаков как следует делать этого не умел, То колеса поломает при посадке, то чуть самолет не разобьет.
— Эх, Володя, Володя! — сказал ему как-то в сердцах Яков Модестович. — Вы мой студент, может быть, станете неплохим инженером, но пилот из вас никудышный.
— Я стараюсь… — жалобно оправдывался Володя
— Что ж стараться, коли не дано…
— Сами бы попробовали, — пробурчал неудавшийся летчик.
Гаккель уже уходил; пущенная вдогонку фраза не только не обидела, наоборот, заключенный в ней смысл дошел до него мгновенно. Он даже остановился от неожиданности. В самом деле, почему не попробовать? Машины строить очень интересно, но если ты еще можешь их и испытывать, то это уж совсем прекрасно. Немедленно к инструктору!
— У нас очень мало машин, — сказал инструктор, штабс-капитан Руднев, — не хватает даже для обучения военных летчиков.
— Так я на своей буду учиться, — ответил Гаккель. — В случае повреждений с вас спроса не будет.
— Тогда другое дело. Начнем с пробежек. Гаккель и Руднев сели в самолет — он был двухместным. — и машина побежала по полю.
Две недели Гаккель управлял машиной только на земле. Семья его жила на даче, неподалеку от Гатчинского аэродрома. Ольга Глебовна часто приходила посмотреть, как готовится к полетам ее муж, и очень волновалась.
— Тратить деньги на строительство самолетов — это еще можно понять, — говорила она. — Благородная цель, возвышенные мотивы. К тому же это и твое прямое дело — ведь ты инженер. Но летать, не будучи пилотом, — безумие. Ведь у тебя же дочери маленькие.
— Ничего, ничего, я буду осторожен, — отвечал Яков Модестович. — Но ты вообрази, как это великолепно — самому и строить и летать!
Жена тяжело вздыхала, а Яков Модестович каждый день с утра отправлялся на аэродром. Стояло лето, занятий в институте не было, И вот однажды Яков Модестович, придя вечером домой, выпалил:
— Кончились мои пробежки по земле. Завтра поднимаюсь в воздух.
И, уловив испуганный взгляд жены, добавил:
— Ничего страшного. Завтра приходи с девочками смотреть.
На следующий день Ольга Глебовна с дочерьми Маней и Катей отправилась на поле. Яков Модестович, увидев своих, кивнул им головой и полез в машину. Он был спокоен и сосредоточен. Вот завертелся винт, самолет помчался по земле, быстрей, быстрей… Он уже в воздухе, делает круги над аэродромом.
— Папа летит! — кричали девочки.
А Яков Модестович видел сверху Гатчинский дворец — игрушечный домик на зеленом бархате, — поезд Балтийской железной дороги. Какой маленький паровоз, как он смешно пыхтит — пых, пых, пых! Волны теплого воздуха обдували лицо Гаккеля, и он думал, что не было в его жизни мгновений лучших, чем эти.
Содружество
— Вы полетели в первый раз, — сказал Гаккелю инструктор Руднев. — Помните, это не самый опасный ваш полет. И если вы совершите много полетов, они тоже станут для вас сравнительно безопасными. Опасность подстерегает того, кому по неопытности кажется, что, поднявшись десяток раз без инструктора в воздух, он уже овладел мастерством. В критической ситуации такие люди чаще всего теряются и гибнут.
Гаккель вспомнил об этих словах очень скоро, 12 июля 1911 года он поднялся в воздух над Гатчинским аэродромом и вдруг почувствовал, что машина ему не подчиняется. Как будто бы совершенно незнакомый аппарат, хотя каждый болт, каждая гайка были им рассчитаны, Самолет совершал резкие, порывистые движения, то приближаясь к земле, то удаляясь от нее, и Гаккель никак не мог его выровнять. Он видел сверху, как летчики поднимают головы, замирая на месте. Наконец ему удалось сесть. Офицеры окружили машину.
— Вам потеха, а разбились бы — нам отвечать.
— Хотите аэропланы строить — стройте, но зачем же летать, коли не умеете?
— А если уж очень летать хочется, купите себе «фарман», «вуазен», «ньюпор» или еще какой-нибудь проверенный аэроплан. А то на собственной самоделке решили удивить всех.
Гаккель, не обращая внимания на обидные реплики, внимательно осматривал самолет. Он понимал волнение летчиков. Другое интересовало его: почему же машина так плохо вела себя? И вдруг увидел: крылья перекошены из-за неверной регулировки. Он сразу достал инструмент. Несколько быстрых движений — все стало на место.
— Я, может быть, и не очень хороший пилот, — сказал Яков Модестович офицерам, — но доказать, что стоит моя самоделка, могу. Во всяком случае, она не хуже тех, что вы здесь перечислили.
Он спокойно поднялся в воздух, сделал несколько кругов над аэродромом и уверенно сел.
— Да, аппарат… неплохой. Позвольте-ка я на нем круг сделаю.
— И я, и я…
Летчики стали по очереди подниматься в воздух. Машина в опытных руках вела себя превосходно, Гаккель с восторгом наблюдал за полетами. Внезапно он услышал робкий голос.
— Позвольте и мне.
Яков Модестович обернулся. Возле него стоял коренастый человек в форме поручика. Что было совершенно удивительно — это пенсне на его носу.
— Пожалуйста, — машинально ответил Гаккель и, отойдя в сторону, шепотом спросил: — Кто это?
— Поручик Глеб Васильевич Алехнович, — был ответ. — Мы его Глебушкой зовем. Небо любит до безумия. Но, увы, несчастье — близорукость. А ведь хорошее зрение для пилота — первое дело. Из-за этого его и в Севастопольскую авиационную школу не приняли, и в нашей Гатчинской офицерской воздухоплавательной тоже отказ последовал. Еле-еле упросил, чтоб разрешили брать его с собой как пассажира наблюдателем для разведки с воздуха. Но это бывает редко, а в остальное время он на аэродроме. Рвется в небо, а небо для него закрыто.
— Но машину-то он, надеюсь, не поломает?
— Как знать… — Собеседник пожал плечами. — К ручке управления Алехновичу строго-настрого запрещено прикасаться. Может быть, пригляделся кое к чему.
С тревожным чувством наблюдал Яков Модестович за тем, как разбегается, поднимается в небо пилотируемый Алехновичем самолет — результат многих месяцев упорного и тяжелого труда. Машина тем временем начала выписывать восьмерки.
— Одна, другая, третья, — услышал Яков Модестович. — Смотрите, пять восьмерок описал! На пятьдесят метров поднялся и выше идет. Еще бы приземлиться ему на площадке размером не более пятидесяти квадратных метров — и всю программу экзамена на звание летчика выполнит. Когда же он это так научиться успел?
Самолет опустился, пробежав по земле совсем немного. Гаккель подошел к вылезшему из кабины летчику.
— Да вы же прирожденный воздухоплаватель! Мне очень понравился ваш полет.
— А мне — ваша машина.
— Хотите быть ее постоянным пилотом? Я нуждаюсь в таком человеке.
— Хочу, — не смея верить своему счастью, прошептал Алехнович.
«Констатирован исторический факт…»
…Снова подъем, восьмерки, плавная посадка… Не только Гаккель восхитился полетом Алехновича. Опытные пилоты качали головами и говорили: «Нельзя, чтоб такой талант пропадал».
Через три дня после первого полета Алехновича 16 июля 1911 года на поле Гатчинского аэродрома прибыла специальная комиссия Всероссийского аэроклуба. Алехнович блеснул мастерством.
— Поздравляю вас с пилотским дипломом, — сказал председатель комиссии, когда машина опустилась на землю.
Вечером на даче Гаккеля отмечали это событие: пели песни, пили шампанское, провозглашали тосты за будущие успехи. Улучив момент, Яков Модестович отвел Алехновича в сторону.
— Через месяц в Царском Селе большая авиационная выставка и соревнования. В их программу входит междугородный перелет: Царское Село — Красное Село — Царское Село. Полетите?
— Это очень важно?
— Исключительно. Насколько я знаю, вы один — если возьметесь, полетите на самолете отечественной конструкции. Все «короли воздуха» — Ефимов, Агафонов, другие — поднимутся на «иностранцах»: «фармане», «блерио» и так далее. А состязания весьма серьезные. Будут военные, промышленники, то есть люди, от которых зависит, быть или не быть отечественной авиации; продолжать по-прежнему ввозить машины из-за границы или же поддержать меня и других энтузиастов, отнестись к нам серьезно, поверить в нас. Ну, так как?
— Полечу, — сказал Алехнович.
«Короли воздуха», отличные летчики, были уверены в своих аэропланах, в своем успехе. Разобранные машины они погрузили на телегу и повезли. Алехнович же не хотел терять ни одного дня. Вместе с Володей Булгаковым, ставшим теперь механиком, он перелетел в Царское Село.
Аэроплан стоит в палатке-ангаре. Булгаков тщательно проверяет каждый болт, каждую гайку. Алехнович ходит по Софийскому полю, внимательно вглядываясь, отмечая неровности, запоминая каждый выступ, каждую канавку. Не ошибиться бы при взлете и при посадке, проехать ровно и прямо.
— Глебушка, — кричит Володя, — а ты знаешь, конкурентов осталось совсем немного! Не верят летчики, что их машины могут большое расстояние одолеть. А Якова Модестовича сможет, как ты думаешь?
— Видно будет, — не отрывая глаз от земли, говорит Алехнович. — Ты трос проверял?
И вот настал день состязаний. Август 1911 года. Трибуны летного поля заполнила толпа. Яркое солнце, голубое небо, на высоких столбах полощутся разноцветные флаги. Из блестящих жерл медных труб рвутся звуки маршей. Длинные платья женщин, котелки, жилеты и фраки мужчин, погоны и золотое шитье русских и иностранных военных, черные, огромные аппараты фотокорреспондентов, звонкие голоса продавцов лимонада, сладостей и пирожков. Рев мотора перекрывает все. Это поднимается очередной самолет. Вот уже опустело летное поле, запах выхлопных газов развеялся, машины ушли в свой неблизкий путь. Кто спустился с трибун на землю, кто просто растянулся на траве. Голоса притихли, все ждут; только дети гоняются друг за другом.
Вдали послышался рокот мотора. Вот самолет ближе, ближе, опускается на поле, отгороженное от трибун канатом. Края крыльев у машины гибкие, по бокам фюзеляжа два бензиновых бака. Да это же «гаккель-VII». Следом показались «блерио», «моран» и «этрих».
На следующий день с утра Алехнович опять был у самолета. Яков Модестович пришел позже, развернул газету.
— Вот что про нас пишут, — сказал он: — «Констатирован исторический факт первого официального выступления в состязании оригинального русского аэроплана наравне с аппаратами иностранных типов…» Поздравляю вас, Глеб Васильевич! Мы добились своего. Кроме того, спешу вас обрадовать — вы получили приз Всероссийского аэроклуба.
Неудача
Шел сентябрь 1912 года. Военное ведомство объявило конкурс на лучший самолет. Участвовали русские и иностранные фирмы. Премия за биплан «гаккель-VШ» дала бы Якову Модестовичу возможность продолжать работу над созданием новых самолетов. Если нет…
У Якова Модестовича были все шансы рассчитывать на премию. Совсем недавно на Международной воздухоплавательной выставке в Москве его биплан получил золотую медаль. С тех пор прошло всего несколько месяцев, а Яков Модестович успел уже съездить в Германию, купить там новый мощный двигатель, испытать его, вернуться и поставить на самолет. Все это требовало денег, денег, денег… Золотая медаль помогла получить небольшой кредит. Но теперь он кончился.
— Не могу понять, что случилось с машиной, — сказал Алехнович, когда самолет откатили в ангар. — Вы видели?
— Да. — Гаккель внимательно разглядывал самолет. — Мне показалось, что это не вы летаете, а какой-то новичок, в первый раз выпущенный в небо.
— Мотор совершенно перестал тянуть. Давайте разберем, поглядим. Нашел! — крикнул Алехнович.
Яков Модестович подошел к разобранному мотору. На днище поршня чернела огромная трещина.
— Как же так? — удивленно произнес Гаккель. — Совершенно новый мотор…
— Бывает, — успокаивал Алехнович. — Усталость металла, повышенные нагрузки. Поставим запасной поршень — и все будет в порядке.
Встревоженный, недоумевающий ушел Яков Модестович вечером из ангара.
На следующий день Гаккель с утра был на аэродроме. Алехнович взлетел, как всегда, блестяще. И вдруг будто бы какая-то неведомая сила начала прижимать машину к земле. Пропеллер еле вращался, самолет клевал носом. Алехнович с трудом посадил его.
Не говоря ни слова, конструктор и пилот взялись за ключи. Один болт в сторону, другой, третий, крышка мотора. Огромная черная трещина не только у замененного вчера поршня, но и у остальных. Последние запасные поршни пошли в дело. Оставался последний шанс — завтрашний день.
Завтра повторилась та же самая история, Алехнович летать не мог. Вечером объявили имена победителей конкурса. Первое место занял конструктор Сикорский. второе — летчик-испытатель московского завода «Дукс», австрийский подданный Габер-Влынский.
«Я разрен, разорен…»
Притихшие сидели Гаккель, Алехнович, Булгаков в сарае возле самолетов «гаккель-VII» и «гаккель-VIII». Внезапно дверь распахнулась, вошел какой-то человек в спортивном кепи и крагах.
— Здесь мотор продается?
— Здесь, — ответил Гаккель.
Покупатель приблизился к мотору и стал его разглядывать.
— Что вы делаете, Яков Модестович, — зашептали Алехнович и Булгаков. — Не продавайте!
— Я разорен, — тихо ответил Гаккель. — Человек хочет купить мотор для своей лодки — пусть хоть ему послужит.
Мотор увезли. А ночью аэродром вдруг озарился ярким светом. Это вспыхнул ангар, в котором стояли самолеты Гаккеля. Яков Модестович прибежал, когда гасить было уже поздно. Руки его дрожали, губы тряслись; он повторял только: «Вот и все…»
Через несколько дней Алехнович сказал Гаккелю:
— Русско-Балтийский завод приглашает меня стать летчиком-испытателем авиационного отдела. Не хочу принимать предложение, не узнав сперва, что вы собираетесь делать. Если вы будете продолжать строить самолеты, я остаюсь с вами. Если нет… Я летчик по призванию, без неба мне не жить…
— Принимайте предложение. — Гаккель осунулся, говорил тихим голосом. — Человек, купивший мотор, сообщил мне вчера, что на днище поршней обнаружены следы серной кислоты. А недавно ко мне явился с повинной сторож ангара, где стояли наши самолеты. Он рассказал мне, что Габер-Влынский в дни соревнований каждый вечер совал ему в руку полтинник и уходил на всю ночь в ангар. Сторож говорит: он только теперь понял, что этот человек там делал.
— Будете что-либо предпринимать?
— А что? Все сгорело, и теперь уже вообще ничего не докажешь. Габер-Влынский мог ведь и крылья подпилить: это тоже практикуется. Так что мы еще должны быть ему благодарны. Нет, с меня довольно. Я инженер, могу сконструировать неплохую машину, могу даже построить ее. Но то, что произошло, к технике не имеет никакого отношения. Это подлость, действия по законам джунглей. Счастлив был бы сотрудничать с вами впредь, но, увы, это невозможно. Считайте себя свободным, ибо я сам теперь уже не авиаконструктор. Мне предложили должность технического директора аккумуляторного завода. Я принял предложение…
Новое направление
…Но еще несколько лет Гаккель сохранял за собой репутацию одного из ведущих русских авиаконструкторов. Европу сотрясали политические кризисы; каждый из них мог кончиться войной. Роль авиации как боевого средства не сразу доходила до сознания кадровых военных, но наиболее дальновидные из них понимали, что будет означать воздушный флот в надвигающейся схватке. Морское министерство решило строить многомоторные бомбардировщики. Разработку конструкции поручили Гаккелю.
Самые смелые идеи вложил он в свой проект. Три пары крыльев общей площадью 165 квадратных метров, четыре мотора мощностью по 100 лошадиных сил, кабина для летчика, кабина для штурмана, бомбовые отсеки, предложенные впервые, радиостанция… Конечно, такую громадину ни в какой мастерской построить было нельзя, В апреле 1914 года одобренный проект поступил на Балтийский судостроительный завод морского министерства. До начала войны оставались считанные месяцы, но консерватизм мышления чиновников из военного ведомства был столь велик, что денег на постройку самолета не дали. Самолетостроительная деятельность Якова Модестовича Гаккеля закончилась. Он создал девять машин, выдвинул множество новых идей, нашедших применение в конструкциях последующих лет, но сам больше не строил ни одного летательного аппарата. Трудно работать в обстановке вражды и незаинтересованности. Начавшаяся война изменила направление его мыслей.
В адрес аккумуляторного завода стали поступать заказы на электротехническое оборудование. И здесь Гаккель делает то, что до него никто не делал, — создает первый русский аккумулятор для подводной лодки, первую круговую лампу с вращающимся углом для военных прожекторов.
Кто знает, какие электротехнические новинки смог бы еще придумать Яков Модестович. Ведь в его распоряжении была не маленькая мастерская, а завод, где можно ставить опыты, проверять догадки, осуществлять замыслы. Но усиливается разруха, завод прекращает выпуск продукции. Человек невероятной творческой активности, Яков Модестович просто не может остаться не у дел. Он переезжает в Киев, занимает одно из ведущих мест в системе управления киевским трамваем. И здесь начинает работать над проектом машины, навсегда прославившей его имя, — над проектом тепловоза.
Какой странный спуск — с неба на землю! Какой необычайный диапазон — от самолета к тепловозу! Но дело в том, что работа в трамвайном управлении ввела его в самую суть проблем рельсового транспорта. Видеть проблему и оставить ее нерешенной — нет, этого Гаккель не может! Он приступает к действию.
Паровоз, как ясно из названия, приводится в действие паровой машиной.
Тепловоз — дизельным двигателем.
У паровоза коэффициент полезного действия равен всего лишь семи процентам.
У тепловоза — тридцати.
Паровоз пожирает горы угля и выпивает реки воды.
Тепловозу нужно сравнительно небольшое количество нефти.
Многие конструкторы мира пытались заменить паровоз тепловозом. Сделать это им пока что не удавалось. Все упиралось в то, что, трогаясь с места, паровая машина может развить большую мощность, а дизель — нет. Ему необходимо разогнаться. В автомобиле между двигателем и ведущими колесами стоит коробка передач[11], которая позволяет повысить тяговое усилие при разгоне. Но для локомотива коробка передач получалась столь громоздкой и тяжелой, что использовать ее было невозможно.
«А что, если дизельный двигатель будет приводить в действие генератор, тот — вырабатывать ток, передавать его на моторы, которые будут крутить колеса? Тогда можно будет решить проблему трогания с места». Идея увлекла Якова Модестовича, он приступил к чертежам и расчетам.
Проект тепловоза есть
В апреле 1921 года Яков Модестович собрался из Киева в Москву — показывать свой проект тепловоза. Дочь Катя готовилась в путь вместе с отцом.
Странно выглядел этот человек в инженерной фуражке со скрещенными молотком и гаечным ключом среди разношерстной толпы, прущей напролом, осаждающей, забивающей редкие поезда; среди мужиков в армяках, среди бывших офицеров со следами споротых погон, старающихся не выделяться; среди горожан, хлынувших в деревню за продуктами. Странен был его груз — рулон чертежей. В вагонах, забитых мешками, сумками, котомками, никто не понимал, зачем и куда едет этот инженер, что он везет. Людям казалось: в мешках своих они везут самое ценное, что только есть на свете. Но, понимая своих измученных, наголодавшихся попутчиков, Яков Модестович думал, что все-таки наиболее ценное — это его рулоны.
В Москве Яков Модестович поселился у старого своего друга, коллеги по сооружению санкт-петербургского трамвая и работе в Электротехническом институте Генриха Осиповича Графтио. Бурные события последних лет разлучили их. Теперь они встретились вновь.
Графтио целыми днями ходил по учреждениям, от которых зависела судьба Волховстроя. Вечерами возвращался усталый. Гаккель дорабатывал привезенный проект тепловоза. Катя обеспечивала их питанием: за день скитаний по Москве ей удавалось достать то бутылку молока, то буханку хлеба. По вечерам размещались в одной комнате огромной квартиры. Бывшие владельцы ее бежали, бросив все, за границу. Два стареющих инженера вели долгие разговоры.
— Когда Киев без конца переходил из одних рук в другие, — говорил Яков Модестович, — я разрабатывал проект тепловоза. Именно это спасает человека в трудных условиях — работа, вера в то, что нельзя дать мысли остановиться хотя бы на один миг. Что бы ни происходило, поиск должен продолжаться.
— Может быть, это несколько абстрактно? — замечал Графтио.
— Отчего же. Тепловоз — машина вполне конкретная. Если паровоз питается не углем, а нефтью, то тепловоз той же мощности потребляет ее в восемь раз меньше. Ему не нужна вода, а паровоз поглощает ее в семь раз больше, чем угля. Впрочем, вы же транспортник по образованию, зачем я вам все это говорю?..
— Я давно уже электроэнергетик…
— Ну вот, видите, вы всю жизнь размеренно, спокойно и методично двигались в одном направлении. А я… Чем только не занимался! И самолеты, и аккумуляторы, и прожекторы… Характер у меня увлекающийся. Но люблю дело доводить до конца.
4 июля 1921 года Графтио привел Гаккеля на заседание Госплана. Глеб Максимилианович Кржижановский, председатель Госплана, предоставил Гаккелю слово. Яков Модестович подошел к стене, где были развешаны чертежи тепловоза, и стал объяснять.
— Где же вы возьмете мощный дизель? — спросили его. — У нас в стране таких не делают.
— Сейчас идет разоружение флота, — ответил Гаккель, — можно будет снять с подводной лодки. Оттуда же взять и генераторы.
…При Всесоюзном теплотехническом институте было организовано бюро по постройке тепловоза системы профессора Гаккеля. Дело двинулось.
Работают несколько заводов
Тот рулон, что привез Гаккель из Киева в Москву, превращался постепенно в огромные тома тщательно продуманных чертежей. Работа была поручена нескольким петроградским заводам. Двигатели — заводу «Электрик»; «Красный путиловец» получил заказ на тележки и раму; Балтийский судостроительный и механический заводы — на изготовление кузова и другого оборудования и установку двигателя — тысячесильного дизеля, списанного с подводной лодки «Лебедь». Детали, сделанные на одном, должны были точно подойти к деталям, сделанным на другом. А материалов не хватало, оборудование не всегда оказывалось подходящим, деньги порой поступали с перебоями. Якову Модестовичу казалось, что двадцать четыре часа в сутки — это слишком мало.
Давать идеи инженерам своего бюро, проверять, как они выполняются, размещать заказы на заводах, испытывать то, что уже сделано, — никогда бы Яков Модестович не справился со всем этим объемом работ, если бы не приняли в них участие лучшие специалисты, если бы не воодушевляла всех мысль о том, что первый в мире тепловоз создают они. Профессор Раевский предложил поставить тепловоз на тележки вместо рам, составил расчет, чертежи, и заказ ушел на завод. Ни один паровоз еще никогда не устанавливался на тележки.
— То паровоз, — говорил Раевский, — а этот и подлиннее, и весит побольше.
Инженер Алексеев рассчитывал тяговые электродвигатели. Рабочие, испытывавшие полностью отремонтированный дизель, по нескольку дней не отходили от стенда. Всем не терпелось посмотреть, что же это за штука такая — тепловоз. Никакого опыта не было ни у кого. Опирались на огромную интуицию. Выли узлы, которые приходилось перепроектировать пять-шесть раз. Но дело все же двигалось.
5 июня 1923 года по территории Балтийского завода проехала удивительная процессия; небольшой паровозик тащил по путям огромный кузов, поставленный на временные тележки. Паровозик подкатил к невскому причалу, отцепился. Машинист отъехал недалеко, вылез и присоединился к толпе зрителей. Кузов, сделанный на Балтийском заводе, должны были поставить на тележки, сделанные на «Красном путиловце».
Плавучий двухсоттонный кран осторожно поднял кузов. Кран покачивался на волнах, качался и кузов. По-дирижерски махал рукой старый, опытный такелажник, руководивший погрузкой. Яков Модестович замер. Если кузов и тележки не сойдутся, работа затянется надолго. Придется вновь развозить их по своим заводам и подгонять. Ниже, ниже, ниже… Готово! Кузов сел точно на три шкворня. Питерские рабочие не подкачали. Зрители радостно зашумели, машинист влез в свой паровоз и погнал собранную машину обратно в цех для окончательной доделки.
Впервые…
5 августа 1924 года на Балтийский завод приехало столько крупных инженеров, сколько вместе может собрать лишь очень большое событие. Члены технического совета по постройке тепловоза шли мимо кранов и высоких труб, мимо приземистых цехов с покатыми крышами, коньком над фасадом и небольшими окнами в частом переплете. Рядом с Гаккелем шла дочь Катя. Ей ужасно хотелось посмотреть на первый тепловоз, прокатиться на нем.
— Управление простое, — объяснял Яков Модестович железнодорожным инженерам, привыкшим всю жизнь иметь дело с паровозами. — Всего две рукоятки-контроллера и тормозной кран машиниста.
Он размахивал руками, показывал, какие движения должен совершать машинист.
— Механик-пилот наблюдает за ходом тепловоза и состоянием пути; следить за двигателем и генератором ему не нужно. Этим занимается механик-моторист. По сигналу старшего на тепловозе механика-пилота он пустит в ход машину, а дальше может даже не обращать внимания на то, движется тепловоз или нет…
— Какая-то у вас странная терминология, Яков Модестович. Механик-пилот, механик-моторист… В железнодорожном деле таких слов нет. Есть машинист, есть кочегар…
— Исчезнут, — весело отозвался Гаккель. — Кочегар, во всяком случае. А что до пилота и моториста, так эти слова вспомнились вдруг. Я же много лет авиацией занимался…
Тепловоз стоял в сборочном цехе. В огромные его ворота трудно было войти — все хотели посмотреть невиданную машину. Возле надписи, сделанной белой масляной краской на кузове: «Тепловоз системы Я.М. Гаккеля. Построен Теплотехническим институтом в Ленинграде в память В.И. Ленина», люди останавливались, запоминали. На площадку тепловоза поднялись инженеры, принимавшие участие в его проектировании. Взобралась на площадку и Катя. Яков Модестович схватился за поручень, вскочил на ступеньку, повернулся. Щелкнул затвор фотоаппарата…
Яков Модестович поднялся в кабину, взялся за рукоятки контроллера. Тепловоз дал гудок, плавно вышел из мастерской. Вдоль путей бежали люди. Тепловоз прошел стрелку, вышел на прямую. Здесь стояли четыре доверху наполненных углем открытых вагона. Яков Модестович видел из своей будки, как поблескивает на солнце антрацит… Тепловоз замедлил ход, взял все четыре вагона, провел их по заводским путям и вернулся обратно в цех.
Взволнованный, улыбающийся, спустился Яков Модестович с тепловоза. Его поздравляли, жали руку.
— Запомните эту дату, — сказал он, — пятое августа 1924 года. Впервые в России дизель использован для железнодорожной тяги… А месяца через два, наверное, выйдет на магистрали…
Машина готова
Яков Модестович каждый день приходил на Балтийский завод. Двигатель работал. Инженеры внимательно вслушивались в его шум, смотрели на приборы. Иногда тепловоз снова выходил на заводские пути. Здесь к нему уже привыкли и не удивлялись — только какой-нибудь случайный человек вдруг открывал в изумлении рот. Испытания показали, что дизель можно пустить в ход за полминуты. И это было огромным преимуществом, потому что котел паровоза нужно растапливать час или два. Старые железнодорожники рассказывали случаи, когда на войне паровозы приходилось неделями держать под парами, потому что машина могла потребоваться в любую минуту. Мгновенному пуску тепловоза они изумлялись. Простота управления машиной, спокойная работа дизеля тоже вызывали у знающих людей изумление. Но 15 октября приближалось: тепловоз должен был быть в этот день переправлен через Неву на ветку морского порта, а оттуда — прямой путь на любую магистраль Союза… Яков Модестович рисовал пейзажи, брал уроки игры на скрипке и чувствовал себя очень спокойно. Теперь, казалось, помешать не могло уже ничего. И тем не менее…
Чауши — по-фински болото. Так называлась та часть Васильевского острова, которую Нева заливает даже при небольших подъемах. Именно здесь, в устье ее, и расположен Балтийский завод. Для подхода судов место удобное. Но в случае наводнений…
23 сентября 1924 года невская вода хлынула на город. Жители с испугом наблюдали, как плывут по улицам столы и стулья, деревья, заборы, кушетки, тряпки…
На следующий день Яков Модестович узнал, что все десять тяговых электродвигателей промокли настолько, что ни о каком выходе тепловоза на магистраль не может быть и речи.
Целый месяц круглые сутки мощные вентиляторы гнали горячий воздух внутрь моторов. Только семь штук удалось кое-как высушить, а три пришлось возвратить на завод «Электрик», чтобы полностью восстановить изоляцию. Вот и эта задержка кончилась.
4 ноября 1924 года тепловоз в последний раз вышел из сборочного цеха, чтобы больше уж никогда не вернуться сюда. У набережной Невы стоял двухсоттонный кран. Целый день кузов тепловоза снимали с тележки, и лишь когда уже совсем стемнело, два буксирных парохода отвели кран вместе с кузовом по Неве в Морской канал. Тележки переправлял паром-теплоход. Сборка шла на набережной океанских пароходов. К часу ночи следующего дня кузов вновь поставили на тележки. Еще день ушел на окончательную сборку кабелей и трубопроводов. Днем 5 ноября 1924 года тепловоз был полностью готов к работе.
Путь открыт
— Ну вот и дожили, — сказал Яков Модестович, входя в бюро. — Сегодня наш тепловоз выйдет на магистраль…
Никто не улыбнулся в ответ, не подхватил оживленных интонаций Гаккеля. Ему подали бумажку и, пока он читал, радостное выражение на его лице сменялось хмурым. Это было извещение управления Октябрьской железной дороги. Тепловоз слишком тяжел, говорилось там, он будет оказывать чрезмерно большую нагрузку на рельсы, а потому выход из порта и проезд до станции Ленинград-первый ему запрещается.
— Как же так?.. — Яков Модестович изумленно поднял глаза. — Хоть наша машина действительно очень тяжела, но нагрузка на каждую ось даже ниже нормы. Поеду доказывать…
Начальник Октябрьской железной дороги инженер Фремке изучал в своем кабинете графики движения поездов, как вдруг стремительным шагом вошел невысокий плотный человек с коротко подстриженными усами.
— Инженер Гаккель. — Незнакомец протянул руку.
— Конструктор тепловоза?
— Вот именно. Того самого, что по милости ваших работников держат взаперти…
— Но ведь он действительно тяжел. Вы не железнодорожник, не знаете, насколько быстро разрушаются рельсы, если на них приходится слишком большая нагрузка. А по мосту через реку Екатерингофку ваш тепловоз вообще не перейдет.
— Ваши работники ввели вас в заблуждение. Они не представляют, что такое тепловоз, и боятся всего, связанного с этой машиной. Он давит на рельсы с ничуть не большей силой, чем обычный паровоз. Хотите, можете поехать и осмотреть его.
Такого случая еще не было, чтоб начальник железной дороги осматривал машину. Но целый день инженер Фремке не отходил от тепловоза. В кабинете его не смолкали звонки, в приемной сидели посетители, а он все нагибался, смотрел тележки, поднимался внутрь, переходил из генераторного отделения в дизельное, стоял в кабине машиниста, долго просматривал расчеты и чертежи.
— Хорошая машина, — сказал он наконец. — Есть, конечно, недостатки. Например: к двигателям трудно подбираться — значит, будет сложен ремонт. Но вообще молодцы! Совершенно новая конструкция, и все нормы соблюдены. Нет, он не окажет разрушающего действия на рельсы.
— Значит, можно ехать?
— Можно. Давайте, я сам подпишу путевые документы. Только не забудьте: подъезжая к мосту через Екатерингофку, замедлите ход. Речушка скверная, и мост слабоват… Ну давайте…
«…В память В.И. Ленина»
Дежурный по станции со страхом докладывал диспетчеру:
— Прибыл состав, а ни в голове, ни в хвосте паровоза нет. Какой силой идет, непонятно.
— Да разберитесь вы получше, — раздраженно сказал диспетчер.
Дежурный приблизился. Какая-то странная машина впереди состава — без котла, без трубы. Но если это не паровоз, так что же? Дежурный внимательно разглядывал локомотив, как вдруг увидел надпись на кузове: «Тепловоз системы Я.М. Гаккеля… в память В. И. Ленина». Так это, выходит, тепловоз. О подобных машинах дежурный кое-что слыхал, но увидеть такую здесь, на глухой станции за Вологдой, не ожидал. И пассажиры, и железнодорожники — все обступили диковинную машину.
— Ну, а чем он, скажем, лучше паровоза? — расспрашивали машиниста.
— Топлива в четыре раза меньше потребляет — раз; в воде не нуждается — два; котел все время прочищать от накипи не нужно — три; ходит плавно — четыре. Ну и вообще управлять удобно, чисто.
Как такому не поверишь — аккуратен, в отличие от обычных чумазых паровозных машинистов.
А тепловоз шел из Ленинграда в Москву не по кратчайшей магистрали, соединяющей эти города. Она была день и ночь загружена бесконечными пассажирскими и грузовыми поездами. Тепловоз требовалось испытывать на ходу, он вклинивался в графики, мог помешать — поэтому его пустили по линии, сравнительно свободной, — Ленинград — Вологда — Череповец — Ярославль — Москва. Это была глубинка России.
Путь лежал через Волховстрой. Узнав о прибытии тепловоза, на станцию Званка приехал Генрих Осипович Графтио. Старые друзья встретились радостно. Вспомнили далекие годы молодости и первый петербургский трамвай.
— А теперь вот до первого тепловоза дожили, — сказал Графтио.
— И до первой гидроэлектростанции, — отозвался Гаккель.
Он успел побывать на строительстве, и масштабы его поразили. Как все это было непохоже на маленькую гидроэлектростанцию в Сибири, которую он строил когда-то! И еще вспомнил он теперь уже далекий и в то же время такой еще близкий 1921 год, когда оба они не знали, что будет с их проектами. Вспомнили человека, который понял и оценил значение обоих проектов, дал им ход. И вот тепловоз, созданный в память этого человека, уже мчится по рельсам, и строительство Волховской гидроэлектростанции идет полным ходом…
Наутро пришла пора расставаться. Тепловоз дал последний гудок и двинулся в путь.
Он шел мимо заснеженных полей, мимо дремучих лесов, мимо глухих деревень, мимо разъездов, где жизнь текла сонно и однообразно. И мысль о прошедших и грядущих переменах овладевала людьми, перед которыми показывалась вдруг огромная, быстро мчащаяся, невиданная машина с надписью большими белыми буквами на боку: «Тепловоз… в память В.И. Ленина».
Вначале была мысль
«…Его всецело поглощал процесс глубокого преобразования своей отрасли техники на основе новой, им самим созданной научной дисциплины. Личность, история жизни, научного творчества и деятельности Василия Прохоровича Горячкина представляют исключительный интерес для всех, кто понимает, любит и ценит творческую науку и передовую советскую культуру».
Академик В. ЖелиговскнйВ десяти верстах от Москвы
В десяти верстах от Москвы, между дорогами Дмитровской и Ярославской расположено было в давние времена небольшое именьице. Хозяин, тишайший царь Алексей Михайлович, частенько сюда приезжал, в саду гуляя, забывал тягостные государственные дела. Потом именьице ему прискучило, и он подарил его тестю своему — Кирилле Полуевктовичу Нарышкину. Да в придачу добавил еще небольшое подмосковное село Кунцево. Имение впоследствии перешло к царю Петру, затем владельцем стал граф Кирилл Разумовский, за ним — князья Долгорукие. В 1860 году Петровское-Разумовское — по двум своим хозяевам так названное — перешло в казну. Были в нем сад, пруд, речка, пашня, луг. И рядом Москва — центр экономической жизни страны, связанный строящимися железными дорогами со всеми сельскохозяйственными губерниями.
Когда-то царь Петр среди множества прочих новаторских дел собирался устроить в имении образцовую ферму, о чем память запечатлелась в названии близлежащего села — Астрадамово. От слов «мыза Амстердамская» произошло оно. Память преобразователя в высших сферах Российской империи чтили. И по этим причинам подан был проект царю об открытии в Петровском-Разумовском высшего сельскохозяйственного учебного заведения.
Время — шестидесятые годы девятнадцатого столетия — подгоняло, торопило. Только что отменили крепостное право. Не могла далее развиваться страна, где экономика строилась на рабском, принудительном труде. Жить по-старому стало нельзя. Но чтобы перейти на новую экономическую основу, чисто капиталистическую, денежную, России требовались дельные и образованные люди.
Петровская земледельческая академия была открыта 21 августа 1861 года. Вскоре она соединилась I Лесным институтом.
Но царю в этом его начинании, как, впрочем, и во многих других, не повезло. Академия оказалась рассадником бунта и крамолы, студенты ее всегда были в первых рядах смутьянов. После того как в апреле 1890 года сто пятьдесят студентов разом угодили в Бутырскую тюрьму, царь распорядился закрыть академию, а профессоров уволить. Большинство из них тоже были далеки от благонадежности.
Однако ж оставаться без специалистов государство не могло. Через четыре года на месте бывшей академии открылся Московский сельскохозяйственный институт.
В министерстве земледелия
Огромные окна, огромный кабинет, огромный стол с львиными лапами вместо ножек и витыми — в виде змей — колонками по углам. Окна задернуты шелковыми кремовыми портьерами. В кабинете министра земледелия и государственных имуществ тихо. Ни звука не доносится из-за массивных, резных, плотно закрытых дверей.
Министр Алексей Сергеевич Ермолов — волосы ершиком, взгляд умный, проницательный, — чуть перегнувшись через стол, слушает сидящего напротив. Начальник учебного отделения департамента земледелия Иван Иванович Мещерский слегка робеет. В чем дело? Зачем его вызвали? Неужели чтобы только выслушать его впечатления от поездки по сельскохозяйственным учебным заведениям страны? А может, министру интересно знать, как обучают крестьянских сыновей? Навряд ли! Хотя… Ермолов слывет человеком дельным и умным, вельможности и сановности в нем нет. Книжку написал «Системы хозяйства и севообороты». Толковых людей замечает и ставит смело на любые должности…
— …Земледелию учим совсем не плохо, — говорил между тем Мещерский. — Бывал я на уроках земледельческой химии, садоводства, огородничества, физики в применении к сельскому хозяйству. Но с орудиями знакомят поверхностно…
— Кому знакомить-то? — быстро спросил министр. — Пока не научим крестьянина пользоваться орудиями, новым инвентарем и даже машинами, толку в стране не будет. Простое, кажется, дело — плуг, но ведь они разные бывают, и для каждой почвы свой плуг нужен. А крестьянин не знает об этом. Вот и покупает он, например, шведские плуги и в Тамбовской, и в Курской, и в Псковской губернии, а плуг-то этот вовсе и неуместен для тех почв. Поковыряет мужик землю день-два, видит — ничего не выходит, да и тащит плуг в сарай. И начинает опять по старинке хозяйничать. Только деньги потратил зря, да и веру в новинки потерял.
— Но мы же не можем, — воскликнул Мещерский, — всех крестьян обучить основам культурного земледелия!
— Не можем, — согласился Ермолов, — тем более в столь обширной стране, как Россия. Но за это дело браться надо, и очень глубоко. Всего один сельскохозяйственный институт подведомствен департаменту земледелия, и весьма необходимо найти толкового и знающего человека, который будет там читать лекции о сельскохозяйственных машинах и орудиях. Да не худо, чтоб он исследовательскими наклонностями обладал бы. Совсем хорошо, если землю любить будет.
— Трудненько такого найти…
— Знаю, но искать надо. Подготовьте письмо в Московское высшее техническое училище. Попробуем туда обратиться…
Земля ждет
Два человека стояли в коридоре Московского императорского технического училища. Сергей Чаплыгин, невысокий, с хохолком, вертел головой по сторонам, успевая замечать, что делается и в том конце коридора, и в этом. Василий Горячкин глядел прямо перед собой; взгляд его был сосредоточен; он о чем-то напряженно думал.
— И ты согласился? — спрашивал Чаплыгин.
— Согласился.
— Но ведь твой дипломный проект посвящен паровозу. Все полагали, что ты и работать станешь по железнодорожной части.
— Мне и самому бы хотелось продолжить дело отца. Последнее время он служил главным механиком мастерских Николаевской дороги, до этого же был простым крестьянином, и мне ли, его сыну, отказываться вернуться к земле, когда исконные городские жители идут в народ, в деревню…
Спеша, по сторонам не оглядываясь, о чем-то важном думая на ходу, длинными траекториями огибая кучки студентов, шел по коридору профессор Николай Егорович Жуковский. Завидел выпускников — и отступили важные дела, приветливо засветились глаза.
— Ну как дела, господин Горячкин? Ваш разговор с директором состоялся? Я имею в виду работу в Московском сельскохозяйственном институте.
— Да, и я дал согласие. Директор сказал, что это вы меня порекомендовали, и передал ваши похвальные слова обо мне. Весьма вам за это признателен.
— Ну что вы, — возразил Жуковский, — вам себя надо благодарить. За усердие. Да и, сказать откровенно, ваши предыдущие успехи — ничто по сравнению с серьезностью предстоящего дела.
— Знаю.
— Пред вами открывается обширнейшее поле деятельности. Даже не представляю, с чем его по обширности сравнить. И, разумеется, ограничиться только преподаванием нельзя. Чтобы учить других, надо самому иметь четкие и ясные представления, а в области теории сельскохозяйственных машин, насколько я знаю, серьезных разработок не было и нет. Буду рад, если вы сможете что-либо сделать.
— Спасибо на добром слове. — Обычно суровое выражение лица Горячкина смягчилось. — А теперь — извините. Надо входить в курс новых обязанностей. Хочу проверить, какое в сельскохозяйственном институте имеется оборудование.
— Николай Егорович, — сказал Чаплыгин, когда Горячкин скрылся в конце коридора, — как совместить это?
— Что именно?
— В своих лекциях вы говорили нам, что уже совсем близка эпоха, когда десятки, сотни, тысячи аппаратов поднимутся в небо и человечеству придется спешно разрабатывать новую отрасль знаний — науку о силах, действующих на летящее в воздухе тело. Аэродинамику. Она, как вы утверждали, потребует самых способных, самых талантливых людей для своего развития. Горячкин ведь очень способный человек?
— Исключительно.
— Почему же вы рекомендовали его для работы совсем в другой области?
Жуковский помолчал немного, подумал.
— Потому что земле точно так же нужны умные, способные, талантливые люди, как и небу. И даже больше. Небо еще может подождать, а земля уже ждать не может.
Почему он смущен!
Осень 1896 года. Двадцативосьмилетний адъюнкт-профессор[12] Василий Прохорович Горячкин каждый день входит в аудитории Московского сельскохозяйственного института. Курс его лекций «Учение о сельскохозяйственных машинах и орудиях» включен в программу обоих факультетов института — сельскохозяйственного и сельскохозяйственно-инженерного.
У Горячкина гладкие русые волосы, короткие усы и бородка, сосредоточенный взгляд. Одет он в длиннополый, несколько мешковатый сюртук, отчего выглядит немного старомодным по сравнению со своими слушателями. И не удивительно. Среди студентов много выходцев из помещичьих семей. Помещики поумнели нынче: не в кавалерийские полки отправляют своих сыновей самые дальновидные из них, а в сельскохозяйственный институт. Научиться как следует хозяйничать на земле — единственный способ остаться владельцем старинных поместий, дворянских гнезд, вишневых садов. Иначе все уплывает в руки ловких, оборотистых дельцов. Нет крепостного права, нет дарового труда. Надеяться не на что. Хочешь сохранить лес и землю — добейся, чтобы они приносили выгоду. Но записаны в учебной ведомости, кроме сыновей дворян, и другие, более низких сословий вплоть до купцов, мещан и даже крестьян.
Молодой адъюнкт-профессор читает лекции превосходно, об этом все говорят, но сам он удовлетворения не получает, ибо знает: то, чему он учит студентов, не основывается на ясной, четкой и точной науке. До сих пор не существует науки о сельскохозяйственных машинах.
Никто не знает, как надо их проектировать.
Никто не создал теорию работы плугов, молотилок, сноповязалок и других машин.
Никто не пытается научно обосновать закономерности их работы.
Ни в России.
Ни в Германии.
Ни во Франции…
И оттого-то не удовлетворен молодой адъюнкт-профессор, что может рассказать студентам всего лишь, как устроены те или иные машины и как они работают. Пожалуй, выпускники института смогут отрегулировать машину, подкрутить гайки, даже починить, если поломка несложная.
Но в том ли цель высшего образования? Адъюнкт-профессор Горячкин должен подготовить людей к творчеству, научить их самих создавать машины и орудия. Вот в чем высшая его задача, а выполнить ее он пока не может.
Плуги в ящике
Грандиозен замысел молодого ученого — попытаться привести в систему все сведения о конструкциях сельскохозяйственных машин, установить, какие силы действуют на них в процессе работы. Задача едва ли под силу одному человеку; во всяком случае, не меньше, чем целой жизни, потребует она. Ну что ж! Василий Прохорович Горячкин готов.
Но с чего начинать? Свободной земли для опытов институт не имеет, помощников нет, так как казна денег на это не выделяет, и механических мастерских, где можно изготовлять орудия разной формы и размеров, тоже нет.
И тем не менее…
Десять верст отделяют от Москвы село Петровское-Разумовское. Идет по нему улица; называется Нижняя Дорога. Здесь, поближе к институту, поселился новый его преподаватель. Забор, за ним — палисадник, и в глубине маленький одноэтажный деревянный дом с мезонином. Невысокое крылечко. На двери металлическая дощечка с гравировкой: «Василий Прохорович Горячкин, инженер-механик». Дальняя комната в домике — кабинет. Письменный стол, полки с книгами. Но почему вдруг ящики с землей? Для цветов? Никто не пашет землю в цветочных горшках.
А в ящиках она распахана. Это хозяин испытывает здесь модели плугов, которые сам же сконструировал и изготовил. Модель, конечно, не настоящий плуг, но для того, чтобы все расчеты привести к настоящему, существует математическая теория подобия.
И все же… Математика в руках того, кто ею владеет, конечно, могучее средство, но нужны реальные испытания. Нужны, нужны…
На поле Бутырского хутора
Июнь 1897 года. Раннее утро. Небо чистое, безоблачное; день обещает быть жарким. На окраине обширного поля несколько человек. Это члены экспертной комиссии. Здесь, на поле Бутырского хутора, что недалеко от сельскохозяйственного института, началась третья очередная Выставка сельскохозяйственных машин и орудий. Ее проводит Московское общество сельского хозяйства. Бутырский хутор принадлежит земледельческой школы этого Общества.
Ездит по городам и селам множество торговых агентов, наперебой предлагают они свой товар. И в рассрочку, и как образец — чуть ли не на любые условия идут фирмы, производящие сельскохозяйственное оборудование. Но разве узнаешь, как будет работать купленная машина? Если и есть в ней недостатки, разве агент скажет об этом? А на выставке по каждому виду машин экспертная комиссия образована.
Никто из членов комиссии ни у одной фирмы на жалованье не состоит. Что есть, о том в отзыве и напишут. Да еще помогут нужную машину выбрать. Сельское хозяйство — дело тонкое, даже хорошая машина не для всех условий подойдет. Можно экспертам доверять вполне. И потому такой интерес к выставке. Русские и иностранные заводы свои изделия навезли, помещики, управляющие имениями, да и мужики со всех концов России понаехали.
А у Василия Прохоровича Горячкина к выставке интерес особый. Он член комиссии по экспертизе главных сельскохозяйственных орудий — для обработки почвы. Здесь сейчас самые новые конструкции должны испытываться. Все будет измерено.
Сила тяги.
Скорость движения.
Ширина и глубина пахоты.
А что нельзя измерить — рыхление, ровность пашни, чистоту работы — это определят по опыту.
И еще очень важно установить прочность орудий и легкость ремонта, потому что в любой деревне есть из умельцев только плотник да кузнец, и то частенько мастера вовсе не первой руки.
Поле ровное, слегка наклонено на восток, лишь кое-где видны в нем небольшие ямы. Недавняя весна была сухой, и пашня суха. У края поля, на траве, стоят плуги, бороны, культиваторы, полевые катки. Возле каждого орудия — представитель завода. Горячкин идет вдоль орудий; в руках его сумка с инструментами. Гаечный ключ, металлическая линейка, треугольник, молоток. Он скинул свой сюртук, развязал галстук, засучил рукава. Он не хочет, чтоб ему показывали, он должен во всем убедиться сам. Это же огромная радость самому все проверять и испытывать, иметь дело с настоящими орудиями, на настоящем поле! Это тебе не модельки в ящике…
— Господин Шатилов! — кричит Горячкин. — Подойдите сюда!
Председатель экспертной комиссии, опытнейший человек, подходит.
— Глядите. — Горячкин показывает на плуг немецкого завода Комнин и Бартран, — Из дрянного материала сделан.
— Зато весьма дешев, — вступает в разговор представитель завода.
— Тем хуже, — коротко бросает Шатилов. — Снимем с испытаний…
Между тем первый плуг готовится к выходу на поле. Горячкин устанавливает динамометр.
— Пошел!
Лошади медленно трогаются. Горячкин идет рядом с плугом, держа в руках секундомер. Волосы его падают на лоб, по лицу текут капли пота. Он этого не замечает…
Общество содействия…
Вот и новое столетие началось. Какими поразительными успехами встречает наука наступивший век! Давно вышла она из тесных лабораторий. Всюду — от светских салонов до мужицких изб — рассуждают о неслыханных дотоле вещах.
Таинственных всепроникающих лучах, открытых Рентгеном…
Необычном новом веществе — радии…
Беспроволочном телефоне — средстве, с помощью которого можно передавать сообщения мгновенно и в любую точку земного шара.
Аэропланах…
Автомобилях…
И о многом другом. Никогда еще научные открытия так не будоражили умы, не волновали людей, никакого отношения к науке не имеющих.
Василий Прохорович Горячкин спокойно работает. Никакой сенсационности, никакого шума. Он просто обобщает опыт, накопленный веками, потому что без этого нельзя двинуться вперед. Каждый год выходят его труды.
1904. Общий курс земледельческих машин и орудий.
1905. Очерки сельскохозяйственных машин и орудий. Молотилки.
1906. Плуги.
1907. Зерносушилки.
1908. Веялки и сортировки.
Шума вокруг его работ нет; интереса широкой публики они не привлекают. Но люди, занимающиеся даже самыми новыми областями науки, знают о Горячкине, прекрасно понимают ценность его трудов.
Казалось бы, ну какое дело физику-теоретику до земледельческих машин? Но если он ученый крупного масштаба, то ему известно, что в природе все взаимосвязано, и, замкнувшись только в одной области знания, ничего ценного не сделаешь. Только в общении с представителями самых разных специальностей ученый приобретает широкий кругозор, расширяет мир своих идей и представлений. Московские ученые решают создать общество, где каждый может узнать, что делает его коллега, и помочь, если у того возникают трудности. Общество содействия успехам опытных наук и их практических применений открывается в 1909 году. Устав его начинается так:
«Общество имеет целью: а) содействие научным открытиям и исследованиям в области естествознания; б) содействие изобретениям и усовершенствованиям в сфере техники; в) испытание на практике и проведение в жизнь научных и технических изобретений и усовершенствований».
Все это — не благие пожелания. У общества есть деньги. Сто тысяч рублей завещал на его нужды московский богач Леденцов. Общество помогает отдельным изобретателям и исследователям. К нему обращаются за поддержкой целые научные учреждения. Власти выделяют мало денег на развитие науки. Общество помогает Жуковскому открыть аэродинамическую лабораторию; Павлову — физиологическую; знаменитому физику Лебедеву оборудовать свою. Эти люди, представляющие самые разные направления в науке, входят в общество. Состоят в нем также Мечников, Тимирязев, такие ученые, как физик Умов, химик Каблуков, двигателист Гриневецкий, Всем им, без исключения, известна ценность трудов Горячкина. По предложению Каблукова, Гриневецкого и Лебедева на заседании 5 декабря 1910 года Василий Прохорович Горячкин избирается действительным членом общества.
Станция
Все бы хорошо было в жизни Горячкина, да то плохо, что негде испытывать машины. Теоретических трудов у него много, кое-какие закономерности установлены. Надо теперь строить машины и испытывать их. Пора в металле воплощать результаты своих исследований.
А где это делать? В сельскохозяйственном институте люди учатся, для экспериментов он никак не приспособлен.
Выставки на Бутырском хуторе по-прежнему проводятся каждый год, и начиная с 1903-го Горячкина уже приглашают как председателя экспертной комиссии. Но выставка длится не больше месяца, на ней приходится иметь дело с уже готовыми машинами и орудиями, а проверить пришедшее в голову соображение, интересную мысль здесь невозможно.
Нужна специальная станция при институте. И студентам будет от нее польза огромная: будущего создателя машин надо научить критически мыслить. А что, как не станция, где испытываются, отрабатываются новые идеи, более пригодна для этого. Обо всех своих соображениях Горячкин пишет в конце 1906 года докладную записку в департамент земледелия. Но действительные статские, тайные, коллежские, надворные советники, чиновники особых поручений, коллежские асессоры и секретари особенно не торопятся с рассмотрением доклада Горячкина. Нет, они не против машиноиспытательной станции при сельскохозяйственном институте. Она в самом деле нужна. Это они понимают. Но нельзя же так сразу. Написал докладную записку — и вот вам, пожалуйста, деньги! У департамента земледелия столько дел. Горячкин ездит в Петербург, просит, доказывает, уговаривает… Семь лет длятся хлопоты. Наконец в 1913 году станция открывается. В этом же году Горячкин из адъюнкт-профессора становится профессором.
«Крестьянин»
У крыльца двухэтажного белого дома с пристроечками по бокам стоял широкоплечий, приземистый человек в модном, с пелериною, пальто, оглядывался беспокойно.
— Не волнуйтесь, герр Гютте, — сказал вышедший из дома инженер Глинчиков, помощник Горячкина, — профессор сейчас будет. Он приходит на станцию ровно в два. Мы по нему часы проверяем.
Пунктуальность, о! Герр Гютте, представитель немецкой фирмы «Эккерт», производящей сельскохозяйственные машины, удовлетворенно кивнул. Эту черту очень ценят в Германии. С нее начинаются все остальные деловые качества. Наверное, не зря фирма послала на отзыв к Горячкину партию предназначенных для массового выпуска плугов.
Немец вынул из жилетного кармана большие серебряные часы, поглядел на них. Ровно два.
На дороге, опираясь на палку, появился человек, по виду очень похожий на крестьянина. Но где же профессор? Здесь и точность, наверное, понимают по-своему!
— Господин Гютте! — спросил подошедший Глинчиков. — Вы хотели видеть профессора Горячкина? Пожалуйста!
— Василий Прохорович, позвольте представить вам господина Гютте. Он привез плуги фирмы «Эккерт», что мы испытывали. Теперь он хочет познакомиться с результатами этих испытаний.
— Эккерт, Эккерт, — произнес Горячкин. — Знакомая фамилия. Я посещал предприятия вашей фирмы восемнадцать лет назад, когда только готовился начать свою деятельность в области сельскохозяйственных машин. Но ближе к делу. Мы испытали на станции плуги вашей фирмы. Должен вас огорчить: лемеха их никуда не годятся.
— Как это так! — воскликнул герр Гютте. — Наша фирма старая и солидная, вы сами только что упомянули, что приезжали к нам набираться опыта.
Горячкин пристально поглядел на посетителя.
— Для того чтобы объяснить вам свои методы, боюсь, придется потратить слишком много времени. Вкратце же можно сказать одно: и ваша фирма, и многие другие, к сожалению, не очень серьезно относятся к проектированию сельскохозяйственных машин. Большинство тех, кто этим делом занят, считает, что создать новинку — значит воспользоваться каталогом главнейших фирм. Конечно, если есть выдумка, фантазия, машина может получиться яркой, пестрой, красивой, порой с оригинальными патентуемыми узлами. Но нет главного — глубокого понимания теоретических основ работы.
Герр Гютте молчал. Ему нравился подход профессора, его рассуждения. Конечно, без теории вряд ли можно придумать что-нибудь стоящее. Но, с другой стороны, сомнительно. В Германии много заводов сельскохозяйственного машиностроения; они выпускают разнообразную продукцию. Где и разрабатывать теорию, как не там. А чем располагает господин Горячкин? Сараем, в котором стоят образцы присланных на испытание машин, да небольшой слесарно-механической мастерской.
— Вижу, вы сомневаетесь, — угадав мысли Гютте, сказал Горячкин. — Я мог бы здесь, на дорожке, палочкой нарисовать схематический чертеж вашего плуга, показать направление действующих сил — и вы бы, пожалуй, мне поверили. Но слепой вере нет места в науке. Только опыт, только эксперимент!
Профессор быстро зашагал к зданию. Герр Гютте — старый солдат, плечи развернуты, шаг широкий, прямой — еле поспевал за ним. Вошли в дом. Пахло свежей краской. Новые доски пола пружинили под тяжелой поступью приезжего. Не доделали пол, не довели до конца простую работу! Герра Гютте снова охватили сомнения.
— Осторожно, не зацепитесь, — предупредил профессор. — Здание еще только достраивается. Прошу сюда.
Он распахнул дверь — и гость застыл на пороге. Вдоль стен шли стеллажи, а на них приборы, приборы, приборы…
— Люблю конструировать, — сказал Горячкин. — Пожалуй, лучшие мои часы — это те, которые я провожу за чертежной доской. Но я не разрешаю себе заниматься проектированием сельскохозяйственных машин — их и так слишком много. Я проектирую приборы, потому что они позволяют проводить всесторонние измерения, а без этого нет науки. Мы создали здесь более тридцати приборов. Вон динамометр, с помощью которого я измерял качество вашего плуга. Его погрешность — всего лишь три процента… Я объясню вам устройство приборов, которыми пользовался при работе над вашим плугом, и методы испытаний. А вы уж тогда сами решите, стоит выпускать плуги, образцы которых вы привезли, или нет
Через несколько часов герр Гютте поднял голову от листов бумаги, исчерченных рукой профессора.
— Достаточно, господин Горячкин. Я убедился в вашей правоте. Немедленно сообщаю в Германию о результатах испытаний. Мы подготовили к выпуску еще один тип плугов — не будет ли господин профессор настолько любезен испытать и их образцы?
— Почту за честь, — сказал Горячкин.
Председатель совета профессоров
Лето 1919 года. Все сместилось, все пришло в движение. Грохот сталкивающихся нового и старого миров слышен на всех континентах. Казалось бы, что может быть дальше от политических перемен, чем тот мир, в котором живет профессор Горячкин? Пахать, сеять, убирать урожай люди должны при любой власти. Вопрос лишь в том, как это раньше делалось з России и как будет теперь. Вождь нового государства говорит: «…Наша обязанность и долг… самое отсталое производство, земледельческое, сельскохозяйственное, поставить на новые рельсы, чтобы его преобразовать и превратить земледелие из промысла, ведущегося бессознательно, по старинке, в промысел, который основан на науке и завоеваниях техники…»
Профессор Горячкин всегда был далек от политики. Но то, о чем говорит Ленин, ему хорошо известно, и ему ли, сыну, внуку и правнуку крестьянина, самому так близко стоящему к земле, не понимать крестьянских нужд? И поэтому все его симпатии на стороне революции.
Очень скоро после Февральской революции Московский сельскохозяйственный институт стал вновь называться Петровской сельскохозяйственной академией, как то было до 1890 года, когда по распоряжению царя академия — рассадник бунта и крамолы — была закрыта. В обратном переименовании выразилась ненависть студентов к свергнутому царскому режиму. Василий Прохорович Горячкин возглавил академию. Он стал председателем совета профессоров, а вскоре и ректором.
Летний день близится к концу. Запах трав врывается в открытое окно; солнце садится. Косые его лучи освещают домашний кабинет профессора. Вспыхивает золото на корешках книг, выстроившихся вдоль стен. Хорошо издавали книги! Толстые переплеты, четкие, рельефные тиснения. Куда до этой роскоши той скромной книжке, что профессор держит в руках! Серая бумажная обложка, хрупкие листы со слабо пропечатанными буквами. Но профессору она дороже самых великолепных изданий. Это плод бесчисленных опытов, размышлений и наблюдений, итог многолетнего труда, завершение обширного этапа жизни. «Земледельческая механика». Крепкие пальцы профессора держат книгу, в которой изложен курс новой, ранее не существовавшей науки — теории сельскохозяйственных машин. Конечно, это еще не черта, подводящая все итоги, это только один итог. Наконец-то появилась теория. Теперь можно приступать к самым широким и обширным практическим действиям, на которые раньше и рассчитывать было нельзя.
Всесоюзный научно-исследовательский…
Двадцатые годы!.. Василий Прохорович по-прежнему преподает в институте, по-прежнему выходят в свет его новые труды. Но если раньше работа его этим почти исчерпывалась, то теперь — это всего лишь часть: профессор Горячкин занят делом огромной государственной важности. Близка коллективизация, а в стране миллионы самых разнообразных сельскохозяйственных орудий. В коллективном хозяйстве такой пестроты быть не может. Предстоит огромная работа по замене всего этого невообразимого количества. Несколькими наиболее подходящими типами. Нужна стандартизация. Конечно, одному человеку такая работа не под силу. Но за долгие годы профессор воспитал множество учеников, и вместе они двинут это дело самым широким фронтом. Но только как быть с производственной базой? Старая машиноиспытательная станция теперь явно мала для той работы, которую предстоит проделать. А какой она казалась большой пятнадцать лет назад, когда только-только удалось добиться ее открытия? С какой радостью перетаскивали тогда сюда из тесных институтских кабинетов книги, приборы, оборудование! И на всех хватило места. А теперь! Создано много типов новых сельскохозяйственных машин и орудий, и каждый из этих типов нужно исследовать, довести, улучшить.
Думалось, станции этой быть да быть. Но вот и окончен срок ее существования, как центра экспериментальных работ. Надо открывать новое исследовательское заведение, неизмеримо более обширное по своим масштабам.
Задача эта оказалась не из самых трудных, и уже 18 декабря 1928 года было подписано правительственное постановление о создании Всесоюзного научно-исследовательского института сельскохозяйственной механики. А профессор Василий Прохорович Горячкин назначен первым ее директором.
Примечания
1
Параллелограмм Чебышева — механизм для преобразования поступательного движения поршня паровой машины во вращательное. Изобретен великим ученым. Был значительно лучше механизмов для той же цели, применявшихся ранее. Здесь и далее — объяснения см. в конце книги.
(обратно)2
Форсунка — устройство для распыливания жидкостей, в том числе мазута и нефти. Этим облегчаются условия сгорания.
(обратно)3
Статс-секретарь — почетное звание особо приближенных к императору чиновников в царской России.
(обратно)4
Газгольдер — сооружение для приемки, хранения и отпуска в газопроводную сеть газа, поступающего с газовых заводов или с места добычи.
(обратно)5
Локомобиль — агрегат, состоящий из парового котла и паровой машины со шкивами. Ремень, надетый на шкив, приводит в действие машину-орудие.
(обратно)6
Левиафан — легендарное чудовище.
(обратно)7
Кессон — камера, представляющая собой водонепроницаемый ящик. Применяется для устройства фундаментов под основание гидросооружений. Наибольшая глубина погружения кессона — 35–40 метров. Давление сжатого воздуха в кессонах составляет 3–4 — 5 атмосфер. (Атмосфера — 1 кг/см2.) Давление воздуха на поверхности земли составляет одну атмосферу. В связи, с этим условия работы в кессоне очень тяжелые и регулируются особыми правилами.
(обратно)8
Стапель — устройство для постройки различных сооружений.
(обратно)9
Паровая турбина — тепловой двигатель, преобразующий энергию пара в механическую работу.
(обратно)10
Электрогенератор — машина, преобразующая механическую энергию в электрическую.
(обратно)11
Коробка передач — механизм в транспортных машинах, изменяющий усилие, подводимое от двигателя, например, к колесам.
(обратно)12
Адъюнкт-профессор — помощник профессора.
(обратно)

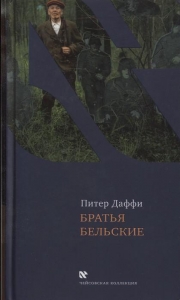


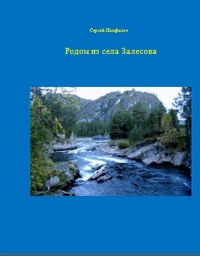
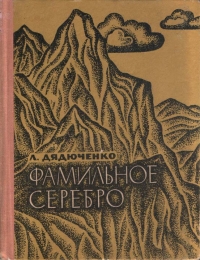
Комментарии к книге «Творцы и памятники», Ромэн Ефремович Яров
Всего 0 комментариев