Георг Брандес Мережковский
I. Художник
[1]
То, что Ибсен в своей драме «Цезарь и Галилеянин» называет «третьим царством», нашло своего апостола в лице одного из наиболее видных представителей молодой России, в лице писателя, замечательного как художник и своеобразного как критик. Этим апостолом является Дмитрий Сергеевич Мережковский. Как истинный славянин, он соединяет в своем лице глубокомысленную проницательность с туманною мистичностью. Так же, как Толстой и Достоевский, он не удовлетворяется искусством для искусства. Он ощущает в себе религиозного проповедника и не сомневается в том, что именно России достанется удел подарить человечеству мессию будущего, мессию, который разрешит все религиозные искания и сольет воедино Элладу с Палестиной, язычество с христианством, воплотив их в то высшее единство, в котором найдет удовлетворение и сердце и ум.
Его друзья основали в Петербурге религиозно-философское общество, в котором сходятся для обмена мнений представители самых различных направлений, начиная с епископов и кончая вольнодумцами.
После того, как недавно вышел в свет шведский перевод одного из его романов (перевод сделан Е. Вэр) и почти одновременно с этим появился на французском языке его капитальный критический труд (в переводе графа Прозора и С. Перского), Мережковский сразу стал известен европейской читающей публике. Первая книга является частью большого труда, вышедшего из-под пера Мережковского под общим названием «Христос и Антихрист». Этот труд состоит из трех частей; первые две части представляют романы и носят подзаголовки: «Смерть Богов» и «Возрождение Богов». Концентрируясь вокруг личностей Юлиана Отступника и Леонардо да Винчи, эти произведения трактуют о распаде классического мира и о возрождении его.
Перед нами пока лишь шведский перевод романа о Юлиане Отступнике. Надо полагать, что эта книга в скором времени будет переведена и на все другие европейские языки. Она стоит неизмеримо выше исторического романа Сенкевича «Quo vadis?». Если этот последний роман обязан был своим шумным успехом главным образом содействию католической церкви, которой распространение его недаром казалось выгодным, то «Смерть Богов» проложит себе путь к читающей публике силою своей внутренней ценности.
Изображение эпохи отличается уверенностью и силою. Чувствуется, что Мережковский, между прочим, является тонким и ученым знатоком древней Эллады, что он в оригинале читал те латинские и греческие произведения, которые дают ему знание описываемой эпохи. Но он не только изучил источники: он сумел также вдохнуть жизнь в них. Какую полную драматизма, захватывающую сцену он сумел создать из вскользь брошенного замечания Аммиана о тех шпионах, которых содержал Галл, чтобы узнавать о настроении народа по отношению к нему. Все, что Мережковский описывает, производит впечатление виденного, начиная с тех сцен, в которых автор знакомит нас с годами мучительного и запуганного отрочества Юлиана и Галла в Кападокии, и кончая перипетиями пароянской войны, в которой Юлиан обретает смерть. Идя по стопам Ибсена, Мережковский описывает вынужденное ханжество юноши Юлиана, который для того, чтобы читать «Симпозион» Платона, снабжает книгу заглавным листом «Послание св. Павла». С теплым сочувствием автор показывает нам ту горячую восторженность, которую юноша втайне питает к богам и жизни классической Греции, между тем как та ложь, под которой он изнемогает, притворно выказывая христианское смирение, свербит его, как свербила бы льва ослиная шкура.
С несомненною художественною фантазией создана Мережковским Арсиноя, гордая афинянка, которая, благодаря наследству, доставшемуся ей от богатого родственника, является столь же богатой и независимой, как и красивой. Эта молодая ваятельница, подобно женщинам древней Спарты, нагая упражняется на палестре. Она так же, как Юлиан, живет идеалами древней Эллады, но она живет ими открыто и свободно. И она, как более сильная, является для него гением его скрытых грез. Не кажется нам неестественным и то, что он затем, невольно поддаваясь течению века, подпадает под влияние своей юной чахоточной сестры, принявшей христианство, что она отрекается от своих идеалов, становится отшельницей и, наконец, будучи уже монахиней, чуть не вызывает сомнения в душе императора, находящегося уже в то время на вершине власти и славы.
Мережковский так же, как и Ибсен, особенно сильно подчеркивает то родство, которое существует между Юлианом и галилеянами: как дети своего века и Юлиан и галилеяне склонны к мистицизму и верят в чудеса. Однако Юлиан, когда читаешь его историю у Аммиана, производит впечатление, несомненно более здоровое и языческое, чем то, которое дают нам произведения обоих новейших авторов. Оба они невольно сгущают вокруг его головы тучи романтизма. Ни у одного из них не чувствуется, до чего Юлиан молод и свеж, Юлиан, который, совершив самые великие подвиги, падает тридцати двух лет отроду, еще моложе великого Александра.
Воспитанный христианским миром и сызмала вскормленный христианскими настроениями, русский художник, как, впрочем, и норвежский, отводит в жизни Юлиана отрицательному отношению к христианству гораздо большее место, чем тому «да», которое этот император говорит Дионисию и Аполлону. И этим, полагаем мы, понимание его личности искажается.
Хорошей иллюстрацией в этом отношении является выведенное обоими авторами отношение Юлиана к его супруге, совершенно безразличной ему принцессе, с которой он, по повелению императора, формы ради, сочетался браком. И Мережковский, и Ибсен заставляют Юлиана считать Иисуса своим соперником. У Ибсена Елена в бреду произносит слова, из которых Юлиан заключает, что она отдалась Галилеянину, воображая, что она обнимает его самого в лице его слуги-священника. Здесь она является перед нами пышною женщиною, которая без ведома Юлиана упивается мистикой сладострастия. У Мережковского же, наоборот, в браке с безразличным ей Юлианом она остается девственницей, которая, целомудренно благочестиво посвятив себя в невесты Христа, живет монахиней. Но тут в Юлиане просыпается дьявольское желание один раз предъявить на нее свои супружеские права и таким образом силой лишить небесного жениха его невесты. В обоих случаях великий язычник ненавидит в Галилеянине своего соперника и в обоих случаях ситуации придуманы остроумно. Но классическая древность ничего об этом не знает.
Художник, который стоял бы к язычеству ближе, чем Мережковский и Ибсен, дал бы нам более спокойный и внушающий больше благоговения образ Юлиана.
Такой художник не стал бы также приводить вымышленное восклицание, будто бы произнесенное Юлианом, когда тот упал, пронзенный неприятельской стрелой: «Ты победил, Галилеянин!». Он восклицает это и у русского и у норвежского писателя, но не у Аммиана. Эти слова так же, как приписываемые умирающему Костюшке слова: «Finis Poloniae!», выдуманы врагами.
Мережковский воображает, что в культурном отношении он является очень современной фигурой в русской литературе наших дней. Он называет себя литературным и религиозным символистом, подчеркивая, что основным значением слова символизм является стремление объединить или сливать воедино. Он самым поразительным образом соединяет язычество с христианством. Он сам объявляет себя учеником Ницше, но, вместе с тем, он по убеждению своему правоверный христианин – более поразительного фокуса в области мышления не производил никто за последние годы.
Арсиноя в романе Мережковского возражает Юлиану, что нет действительного разлада между Элладой и Галилеей, так как мудрецы Греции близки были великому Галилеянину, любившему детей, и свободу, и веселые пиры, и белые лилии. И в качестве ваятельницы она кончает тем, что моделирует статую, похожую и на Дионисия, и на Иисуса. Таким же образом Мережковский в недавно прочитанной им в Петербурге лекции поразил свою аудиторию заявлением, что Венера и Дева Мария являются очень родственными образами.
В произведении Ницше «О происхождении греческой трагедии», в произведении, явно продиктованном поклонением Дионисию, Мережковский совершенно нелепым образом видит объединяющее языческую и христианскую жизнь звено, а, следовательно, и предзнаменование религии будущего. И если он у Аммиана Марцеллина нашел тот эскиз личности великого императора, который он положил в основу своей крайне тщательно разработанной картины, то это объясняется одною особенностью классического историка-язычника, особенностью, которую Мережковский не без преувеличения выдвигает вперед в заключение своей книги. «Вот уже больше четырех месяцев, как я познакомился с тобой, – говорит Анатолиос, – и я еще не знаю, язычник ли ты или христианин». «Я и сам этого не знаю», – простодушно отвечает Аммиан.
Мережковскому кажется, что сам он сознает, кто он такой. Он воображает себя христианином.
II. Критик
Опубликованный Мережковским капитальный труд о Толстом и Достоевском как по глубокому знанию предмета, так и по остроумному проникновению в характерные, но часто не замечаемые частности, значительно превосходит все то, что написано об этих двух людях нерусскими. Однако это обстоятельное исследование не лишено целого ряда грубых недостатков: произвольного подчеркивания наполовину случайных мыслей, которые Мережковский подчас раздувает и приводит в качестве решающих тот или другой спорный вопрос доказательств, нарочитого забывания документов, противоречащих тому, что хочет доказать автор, предвзятых антипатий и симпатий, продиктованных тем запутанным миросозерцанием, которое исповедует Мережковский в качестве славянского мистика.
Хотя критику необходимо некоторое поэтическое дарование, тем не менее, можно в общем сказать, что очень многие качества, полезные поэту, могут спутать и умалить критика, а поэтические качества Мережковского относятся именно к этому разряду.
Мережковский является романтиком национализма. Переливающееся через край национальное чувство умаляет его как критика и делает его суждения ненадежными. По его мнению, от образа действия русских зависит судьба Европы. И как ни жесток его приговор над духовным упадком современной России, он все-таки не сомневается в том, что именно на долю русских выпадет задача поднять культуру Европы и распространить истинную религиозность. В этой именно области, если не теперь, то когда-нибудь его соотечественники должны показать, что если не сделают этого они, то не сделает этого никто. И поэтому главный смысл его произведения сводится к словам: мы или никто!
Не менее спутаны его понятия в области религиозной. Вопреки всему его глубокому знанию греческой культуры, вопреки его стремлению проникнуться культурою ренессанса, вопреки тому, что он довольно глубоко окунулся в философию Ницше, – единственную, очевидно, философию, которую он знает и которую он кстати и некстати приводит, – Мережковский при всей своей модернистской внешности действует на европейского читателя как автор, до того пропитанный византийским христианством, что его образ мышления и чувствования, даже его художественные приемы кажутся порожденными греко-католическим православием. И подчас даже невтерпеж становится пробираться сквозь дебри его критики.
Вот вы только что с истинным наслаждением следили за остроумным анализом души или стиля, вот вы упивались попадающейся время от времени совершенно неожиданно меткостью суждения, как вдруг вы наталкиваетесь на одно из тех предложений, которые происходят как бы прямо из Византии. И вы ощущаете мучительное разочарование и раздражение от бессодержательного глубокомыслия его. Вот для примера одно из таких предложений в главе о душе в произведениях Достоевского: «Мир, как показал Достоевский, никогда еще не был, если не таким религиозным, то таким созревшим, готовым к религии, как в наше время, и притом к религии уже окончательной, завершающей всемирно-историческое развитие, отчасти исполненной в первом – и предсказанной во втором пришествии Слова».
Когда читаешь подобные места у Мережковского, тогда чувствуешь, что стоит с этой русского, как и с многих современников, лишь соскоблить утонченного эллиниста, чтобы наткнуться на варвара. Его византизм является тою формою, под которою религиозная реакция, отнюдь не современная, но зато модная, выступает в России; это та же религиозная реакция, которая во Франции принимает форму романского католицизма, а в Норвегии форму подогретого деизма и рационального христианства.
Мережковский чувствует антипатию к личности Толстого, симпатию к личности Достоевского, талантам же обоих воздает должное и даже кое-что сверх должного: как русские они ведь первые повествователи мира. Но критика Толстого все время принимает форму нападения, критика же Достоевского невольно получает оттенок защиты. И хотя надо было бы полагать, что симпатия является гораздо более надежным проводником критика, чем антипатия, тем не менее, исчерпывающая критика Толстого часто поднимается у Мережковского на значительную высоту, между тем как о Достоевском работа его не дает ничего особенно нового.
Мережковскому удалось с не достигнутою никем до него твердостью линий изобразить ту любовь к природе, фавноподобное, сатироподобное упоение природой, которое присуще Толстому, ту безграничную самовлюбленность, которая является основным тоном его личности, его любовь к здоровью, к крепкому телу, к почестям и к патриархально-идиллической жизни в деревне. С любовью Толстого к жизни тесно связана его боязнь смерти, на которую мы так часто наталкиваемся в его произведениях. Мережковский совершенно справедливо указывает на то, что обращение Толстого, которое, по его собственным словам, произошло лет двадцать тому назад, отнюдь не означает перелома в истории его жизни. Он был и оставался всю свою жизнь бессознательным язычником и сознательным христианином. И разница между обоими периодами его жизни лишь та, что в первый период он подчинял свою сознательную жизнь бессознательной, а во второй – подсознательную сознательной. Но разлад в его душе ощущался во всем.
Этот разлад особенно резко выступает наружу в отношении Толстого к вопросу о собственности, которую он когда-то объявил простым предрассудком, разрушимым столь же легко, как паутина. Он тогда же думал отказаться от всего своего имущества; однако, когда его жена именем детей страстно восстала против этого его плана и даже пригрозила ему тем, что объявит его невменяемым, тогда он подчинился и удовлетворился таким распорядком, при котором он продолжал владеть своими деньгами, лишь закрывая на этот факт глаза и пользуясь комфортом под личиною лишений. Он сам жил в крайней простоте, пользовался, однако, полною свободою, покоем и тишиной для своей работы, носил удобный и своеобразный костюм и всегда пропитанное духами белье, получал обильный вегетарианский стол и наслаждался оживленной семейной жизнью в деревне и в городе.
Толстой страстно разоблачает противоречия буржуазного общества. Но чем ревностнее он возвещает учение о сокращении своих потребностей, тем больше дохода приносят издания его книг. Правда, из Ясной Поляны ежегодно раздается рублей 2–3 тысячи, но сам владелец – миллионер. Это благотворительность, а не христианство. И это отношение Толстого к частной собственности, отношение, столь резко противоречащее его коммунистическому учению, Мережковский делает центральным пунктом при изображении сущности Толстого как человека и гения.
Своею болезненностью эпилептика, своею жизнью в вечной бедности и под гнетом самых жестоких унижений Достоевский является полярною противоположностью Толстому с его крепким здоровьем и обеспеченным материальным положением. Как сын простонародья, он прямая противоположность Толстому-дворянину. Как сибирский каторжник, перенесший всякого рода душевные и телесные страдания, он противоположен Толстому – богатому и счастливому помещику. Как христианин по инстинкту, он противоположен Толстому, пришедшему к христианству путем трудной борьбы. Между тем как старый блузник из Ясной Поляны всячески старается увернуться от денег, которые являются к нему непрошеными, Достоевский всю жизнь свою прожил в погоне за копейкой, чтобы покрыть свои долги и обеспечить свое существование, пока, наконец, в самые последние годы его жизни вторая жена его не упорядочила его дела. Между тем как для Толстого смерть является резким и ужасающим пресечением жизни, Достоевский умирает, так сказать, всю свою жизнь, все вновь и вновь переживая тот ужас смерти, который навеял на него в юности произнесенный над ним смертный приговор.
Сердце Мережковского принадлежит Достоевскому. Критик выдвигает вперед все его преимущества и отодвигает на задний план все его недостатки, так что они едва заметны. При скромности Мережковского-художника, при его осторожности в отношении всего, касающегося половой жизни – эта осторожность присуща русской литературе вообще – следовало бы ожидать, что кошмарное (хотя и осторожное) отношение Достоевского к половым переживаниям вызовет в нем тревогу и антипатию. Но многое прощается Достоевскому за то, что он обладает христианским укладом души. Даже преступные в половом отношении черты его фантазии, даже те омуты болезненной похоти, в которые он дает заглянуть своему читателю, трактуются Мережковским с великою снисходительностью. Зато Достоевский справедливо превозносится за тот открытый и широкий взор, которым он обнимал европейскую литературу, между тем как толстовское отрицание самых различных книг и произведений искусства не менее справедливо выставляется на суд читателя.
Противоположность художественных приемов обоих этих писателей блестяще выявляется Мережковским, когда он говорит, что у Толстого, при чуждых его натуре полутонах и недостающем его стилю искусстве, но при той упругой телесности, которую все принимает у него, мы слышим людей потому, что видим их; у нетелесного же Достоевского мы, благодаря мастерскому диалогу, видим людей лишь потому, что слышим их.
Интересно также указание на то, что лишенная всякого содержания мысль Ницше о вечном повторении жизни земли в совершенно той же форме высказана уже чертом в «Братьях Карамазовых»; там черт заявляет, что мир уже повторился, пожалуй, биллион раз. Мережковский особенно наслаждается возможностью привести в связь эти два излюбленные им имени – Ницше и Достоевский.
После тривиальности, вымученное глубокомыслие является худшим пороком критика. Мережковский никогда не тривиален, но слишком часто страдает изысканностью и вымученностью. Неужели его русские читатели действительно считают естественным то, что он упорно сопоставляет Пушкина с Рафаэлем, Толстого с Микеланджело и Достоевского с Леонардо? Надо во всяком случае быть русским, чтобы делать такие сопоставления и наслаждаться ими.
Сноски
1
Печатается по кн.: Брандес Г. Собрание сочинений, СПб.: Просвещение, 1913. Т. 19. С. 313–325.
(обратно)
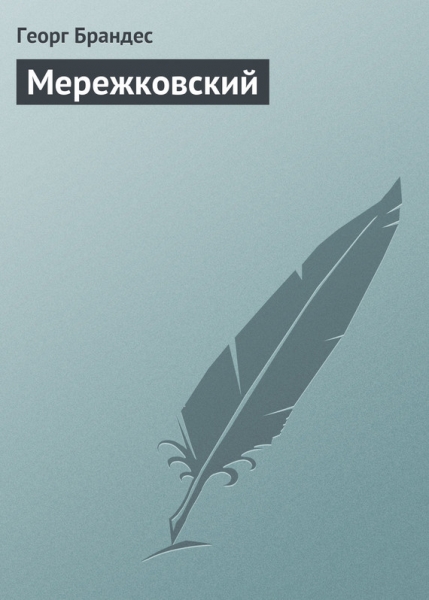




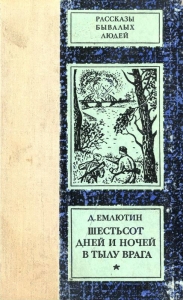

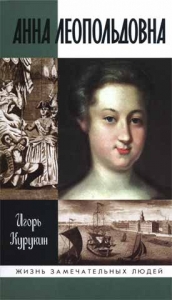

Комментарии к книге «Мережковский», Георг Брандес
Всего 0 комментариев