Георг Брандес Неизвестный Шекспир. Кто, если не он
Глава 1
Вступление. — Трудность написания биографии Шекспира
В тот год, как в Риме умер Микеланджело, в Стрэтфорде-на-Эвоне родился Вильям Шекспир. Величайший художник итальянского Возрождения, тот, чьей кисти принадлежат плафонные фрески в Сикстинской капелле, как бы нашел себе замену в величайшем художнике английского Возрождения, создавшем «Короля Лира».
Смерть сразила Шекспира в его родном городе в тот самый день, как в Мадриде умер Сервантес. Два величайших творца человеческих типов в эпоху испанского и английского Возрождения, создавшие Дон Кихота и Гамлета, Санчо Пансу и Фальстафа, в один и тот же день покинули этот мир.
Микеланджело изобразил могучих и страждущих героев и героинь в одиноком величии. Ни один итальянец не сравнится с ним в скорбной лирике и трагическом величии.
Превосходнейшие образы Сервантеса остаются памятниками юмора, столь возвышенного, что он составил эпоху во всемирной литературе. Ни один испанец не был ему равен в даре создавать комические типы.
Шекспир сравнялся в пафосе с Микеланджело, а в юморе с Сервантесом. Уже одно это дает некоторое мерило для высоты и объема его гения.
Триста лет прошло с тех пор, как этот гений появился во всей своей самобытности, а между тем он все еще, как современник, занимает собою Европу. Его драмы играются и читаются всюду, куда только проникла цивилизация. Всего сильнее, однако, приковывает он того, кто создан природой так, что прежде всего его привлекает и захватывает человеческая душа, таящаяся и открывающаяся в произведении великого художника. «Я не выпущу тебя, пока ты не выдашь мне тайны своего существа» — вот слова, которые напрашиваются на уста подобному читателю Шекспира. Изучая его произведения в их вероятной последовательности и результаты его жизненной деятельности в ее совокупности, он чувствует неодолимую потребность составить себе представление о душевной жизни, отразившейся в них.
Когда от личностей XIX века мы переходим к Шекспиру, то все привычные нам критические методы изменяют нам.
О творческих умах нашего времени, прошлого и позапрошлого столетия мы имеем обыкновенно достоверные сведения. Мы знакомы с биографией писателей и поэтов из их собственных сообщений или известий их современников, во многих случаях мы имеем их письма и знаем не только произведения, им приписываемые, но и произведения, об издании которых они сами заботились. Мы не только достоверно знаем, какие произведения они признали своими, но располагаем доказательствами насчет того, что они их признали именно в той, а не другой форме. Если в их сочинениях попадаются смущающие нас ошибки, то это лишь опечатки, пропущенные ими самими или кем-нибудь другим. Их можно исправить без особых затруднений, хотя подчас они могут иметь довольно серьезное значение. Филолог Михаил Бэрнейс очистил текст Гёте от многих таких ошибок.
Иное дело Шекспир и современные ему собратья-поэты елизаветинской Англии. Он умер в 1616 г., а первое жизнеописание его на нескольких страницах появилось лишь в 1709 г. Это все равно, как если бы первая биография Гёте была написана в 1925 г. Из переписки Шекспира мы не имеем ни одного письма, писанного им самим, и знаем только одно (деловое) письмо к нему. Ни одной строчки рукописей его произведений не уцелело. Только пять или шесть собственноручных его подписей дошли до нас, три на его завещании, две под контрактами и одна, которую, однако, нельзя считать несомненно принадлежащей ему, на экземпляре переведенного «Флорио» Монтеня, хранящемся в Британском музее. Мы не знаем в точности, в каком объеме принадлежит Шекспиру многое из приписываемых ему произведений. Такие драмы, как «Тит Андроник», трилогия «Генрих VI», «Перикл» и «Генрих VIII», представляют в этом смысле большие и разнообразные трудности. В молодости ему приходилось переделывать или ретушировать чужие драмы; в зрелые горы он сотрудничал с более молодыми людьми, которым оказывал поддержку. Но что еще хуже — за исключением двух небольших эпических поэм, отданных в печать самим Шекспиром, мы не знаем ни одного произведения, о котором было бы известно, что он сам издал его. По-видимому, он не устанавливал сам текста, не прочел ни одной корректуры, и если в издании in-folio его пьес, выпущенном в свет после его смерти в 1623 г. двумя его приятелями-актерами, и говорится, что это издание выполнено по первоначальным рукописям, то это утверждение может быть опровергнуто во множестве случаев, где мы имеем возможность контролировать его, а именно там, где это издание просто-напросто перепечатывает, и часто даже с новыми ошибками, старые пиратские издания, составленные или подосланными с этой целью слушателями, или благодаря недобросовестной выдаче из театра списков ролей.
С некоторым правом у нас вошло в обычай говорить, что мы почти ничего не знаем о жизни Шекспира. Мы не знаем в точности ни когда Шекспир покинул Стрэтфорд, ни когда он покинул Лондон. Мы не можем сказать наверно, был ли он когда-нибудь за границей и посетил ли Италию. Мы не знаем по имени ни одной из женщин, которых он любил в Лондоне. Мы не знаем, к кому он написал свои сонеты. Мы можем наблюдать, что общее настроение его души становится все мрачнее, но мы не знаем тому причины. Мы чувствуем, что на душе у него делается светлее, но мы не знаем почему. Мы должны ощупью доискиваться, в каком порядке были изданы его произведения, и можем лишь с трудом определять их дату. Мы не знаем, в силу чего он был, по-видимому, так равнодушен к своей славе. Мы знаем только, что он не сам издавал свои драмы, что он даже не упоминает о них в своем завещании.
Но, с другой стороны, энергия и настойчивость, с какими производились исследования, добыли нам мало-помалу большое количество достоверных фактов, представляющих исходные или опорные точки для начертания биографии поэта. У нас есть документы, купчие крепости, процессуальные акты; у нас есть отзывы современников, ссылки на сочинения Шекспира и отдельные места в них, цитаты, страстные нападки, взрывы негодования и ненависти его врагов, трогательные отзывы о его достоинствах, о привлекательности его характера, о его рано признанном сценическом таланте, о значении, приобретенном им в качестве эпического поэта, и о популярности его как драматурга. Затем, мы имеем несколько дневников, веденных его современниками и, между прочим, записную книжку одного владельца театра и закладчика, ссужавшего актеров деньгами или костюмами и тщательно отметившего время постановки многих пьес.
Эти свидетельства современников дополняются преданием. Отзвуки его мы находим в некоторых записях, сделанных на месте в 1662 году оксфордским священником и стрэтфордским викарием Джоном Уордом, на основании слышанного им от жителей Стрэтфорда, затем в других заметках, сделанных в 1694 году неким мистером Доудэлем на основании того, что ему довелось узнать от восьмидесятилетнего звонаря и церковного служителя стрэтфордской церкви. Представителем предания является преимущественно Роу, первый и столь поздний биограф Шекспира. Он ссылается в особенности на три авторитета. Старейший из них — сэр Вильям Давенант, поэт, ничего, по-видимому, не имевший против молвы, сделавшей его незаконным сыном Шекспира. Однако он мог лишь из вторых рук быть источником для Роу, так как умер до его рождения. То, что рассказывается на основании рассказов, оказалось поэтому по большей части недостоверным. Вторым авторитетом Роу был Обри, антикварий и собиратель анекдотов в духе того времени, посетивший Стрэтфорд спустя полвека после смерти Шекспира во время одной из своих экскурсий верхом. Он составил множество мелких биографий, которые содержат в себе местами очевидные и грубые ошибки, поэтому незначительные анекдоты о Шекспире, сохранившиеся в его рукописи от 1680 года, тоже не могут внушить безусловного доверия. Важнейшим источником Роу является, однако, актер Беттертон, предпринявший около 1690 года путешествие в Уоррикшир со специальной целью собрать устные предания о Шекспире, которые еще должны были жить в тамошнем населении. Благодаря его известиям, заметки Роу и получили свое значение; найденные впоследствии старинные документы во многих случаях ярко подтверждают правильность того, что он рассказывал, опираясь на устное предание.
Таким образом, возможностью набросать в общих чертах биографию Шекспира мы обязаны маленькой группе почтенных, но бездарных людей. Поэтому до нас дошли анекдоты, имеющие ничтожное значение, если даже они и верны, между тем как нам недостает сведений относительно важных данных его внешней жизни и относительно почти всего, что могло бы осветить для нас течение его внутренней жизни.
Правда, в сонетах Шекспира мы имеем группу произведений, которые более, чем другие сочинения его, вводят нас в близкое соприкосновение с его личностью. Но для того, чтобы определить значение сонетов как автобиографического материала, требуются не только литературно-исторические знания, но критическое чутье и такт, потому что мы никоим образом не вправе принимать на веру все, что поэт говорит здесь о себе и от своего имени.
Глава 2
Стрэтфорд. — Родители. — Детство
Вильям Шекспир был детищем деревни. Он родился в Стрэтфорде-на-Эвоне, маленьком городке с 1400 или 1500 жителями, занимавшем прелестное положение в холмистой местности, со множеством зеленых лугов, роскошных кустарников и деревьев. Воспоминания об этих картинах носились, по-видимому, перед Шекспиром при изображении им сельских ландшафтов в комедиях «Сон в летнюю ночь», «Как вам угодно», «Зимняя сказка». От этой природы воспринял он свои первые и самые глубокие впечатления, и она же заронила в него самые ранние поэтические впечатления от народных песен, которые пело сельское население и которые так часто упоминаются и нередко воспроизводятся у Шекспира. Город Стрэтфорд лежит близ старинной проселочной дороги, ведущей из Лондона в Ирландию и пересекающей здесь реку Эвон. Отсюда он получил и свое название (переправа). Через реку был выстроен красивый мост. Живописные домики с заостренными коньками своих крыш были выведены из бревен или теса. Два красивых городских здания стоят там и поныне: грандиозный древний собор у самого Эвона и ратуша (the Guildhall) со своей часовней, сохранившейся до сих пор (Guild Chappel) и принадлежавшей той же корпорации Животворящего Креста, во владении которой находилась и помещавшаяся рядом латинская школа. В часовне с ее прекрасным колокольным звоном были настенные фрески, вероятно, первые и долгое время единственные образцы живописи, виденные Шекспиром.
За всем тем, Стрэтфорд-на-Эвоне был нездоровым местом. Никакой подземной канализации в нем не существовало; никто не мел улиц, никто не вывозил с них мусора. Помои из домов стекали в дурно содержавшиеся канавки, улицы были полны зловонных луж, где на раздолье плескались свиньи и гуси, а навоз заполнял собой большую дорогу. Первое, что мы узнаем об отце Шекспира, это то, что в апреле 1552 года он был приговорен к штрафу в 12 пенсов за то, что не вывез большой кучи навоза, лежавшей перед его домом на улице Хенли, обстоятельство, свидетельствующее, с одной стороны, о том, что он имел много скота, с другой — о недостатке в нем любви к чистоте, так как место общественной свалки навоза находилось от его дома не далее как на расстоянии, пролетаемом брошенным камнем. В самые цветущие дни своего благосостояния, в 1554 году он снова был вместе с несколькими другими обывателями приговорен к штрафу в 4 пенса за ту же провинность. Этот факт представляет интерес в том отношении, что, по всей вероятности, эти санитарные условия Стрэтфорда и были причиной ранней смерти Шекспира.
Как с отцовской, так и с материнской стороны поэт вел свое происхождение от йоменов Уоррикшира. Его дед, Ричард Шекспир, жил в Сниттерфилде, где арендовал маленькое поместье. Второй сын его, Джон Шекспир, переселился около 1551 года в Стрэтфорд и занялся на Хенли-стрит обработкой кожи и выделкой перчаток. В 1557 году его материальное положение существенно улучшилось благодаря его браку с Мэри Арден, младшей дочерью зажиточного землевладельца из соседней местности, умершего за несколько месяцев перед тем. От своего отца Роберта Ардена она только что получила тогда в наследство его имение Эшби в Вильмкоте, кроме того, как будущая наследница она должна была иметь долю в более крупном поместье в Сниттерфилде. Эшби оценивалось в 224 фунта, а доход с него в 28 фунтов. Из приложенного к завещанию инвентаря мы можем получить довольно полное представление об образе жизни богатых землевладельческих семей в те времена: одиночная кровать с двумя матрацами, пять простынь, три полотенца и т. д. Полотняного белья, по-видимому, не носили. Столовые приборы были самые простые: деревянные ложки и деревянные миски, между тем дом матери Шекспира был по условиям того времени весьма зажиточным домом.
После свадьбы Джон Шекспир получил возможность расширить свою деятельность. Он вел большие дела по продаже шерсти, при случае торговал также хлебом и другими продуктами. Сообщение Обри, будто он был мясником, имеет, по-видимому, за себя лишь то, что он разводил и резал скот, чтобы снимать с него шкуру, нужную ему в его деле; но вообще, в те дни, в таком маленьком английском провинциальном городке различные промыслы не имели строгого разграничения: тот самый человек, который добывал сырой материал, занимался и его обработкой.
Джон Шекспир возвысился мало-помалу до влиятельного положения в том городке, куда переселился. Сначала (в 1557 году) он сделался одним из чиновников, на обязанности которых лежал контроль за торговлей хлебом и пивом; в следующем году он сделался одним из четырех полицмейстеров города, в 1561 году казначеем, в 1565 олдерменом, наконец, в 1568 году старшим бургомистром (high bailiff).
Вильям Шекспир был третьим ребенком у своих родителей: две сестры, умершие в детстве, были старше его. Он был крещен 26 апреля 1564 года; день его рождения нам точно не известен. По преданию он родился 23 апреля, вероятнее 22-го (по новому стилю 4 мая), так как иначе в надгробной надписи Шекспира было бы, конечно, упомянуто, что дни его рождения и смерти пришлись на одно и то же число, и в ней не было бы тогда выражения «на 53-м году своей жизни».
Ни отец, ни мать Шекспира не знали школы; ни он, ни она не умели, кажется, подписать своих имен. Однако они не желали, чтобы старший сын их был лишен образования, которого им самим не удалось получить, и стали посылать мальчика в стратфордскую бесплатную школу, или Grammar-School, куда детей принимали по наступлении семилетнего возраста и где их обучали латинской грамматике, заставляли переводить из учебника Sententiae Pueriles, а позднее читать Овидия, Вергилия и Цицерона. Школьные занятия продолжались летом и зимой целый день, впрочем, с необходимыми перерывами для еды и детских игр. Наглядное воспоминание о школьной поре Шекспира дошло до нас в «Виндзорских проказницах», в первой сцене четвертого акта, где учитель, сэр Хьюг Эванс экзаменует малолетнего Вильяма в его hie, haec, hoc и удостоверяется в его знании того, что «красивый» значит pulcher и что lapis — камень. Кажется даже, что и в действительности его учитель был ирландец.
Местность, где рос ребенок, была богата историческими воспоминаниями и памятниками. Поблизости находился Уоррик со своим замком, известным со времен войны Алой и Белой розы. Здесь, между прочим, жил граф Уоррик, отличившийся в битве при Шрусбери против приверженцев Перси и бывший посредником в переговорах относительно брака Генриха V. Впрочем, во время борьбы между Йорками и Ланкастерами местность разделилась. Уоррик стоял некоторое время на стороне Йорков. Ковентри держался Ланкастеров. И в близлежащем Ковентри Шекспир тоже, вероятно, бывал в детские годы. И этот город был богат воспоминаниями об эпохе, которую впоследствии ему было суждено воскресить. В Ковентри произошел поединок между двумя противниками, выступающими в «Ричарде II», Генри Болингброком и герцогом Норфолком. Но Ковентри и в другом отношении должен был иметь для мальчика большую притягательную силу. Здесь происходили правильные театральные представления, сначала организованные церковью, а позднее перешедшие в руки торговых и ремесленных корпораций. Вероятно, он видал полусредневековые религиозные драмы, на которые указывается порою в его сочинениях, — пьесы, представлявшие своим зрителям Ирода и избиение младенцев в Вифлееме, мучения душ, пожираемых пламенем ада, и тому подобные кричащие сюжеты («Генрих VI», II, 3. Ill, 3). Отзвуками этого являются выражение Гамлета о плохом актере «he outherods Herod» («он старается переиродствовать самого Ирода») и сравнение мухи на пылающем носу Бардольфа с черной душой, горящей в адском огне.
Еще в раннем детстве Шекспиру, вероятно, уже довелось увидеть несколько проблесков королевской и княжеской роскоши. Когда ему было восемь лет, королева Елизавета гостила некоторое время в ближайшем соседстве со Стрэтфордом, у сэра Томаса Люси из Чарлькота, которому суждено было оказать такое решительное влияние на ход жизни Шекспира. Но, во всяком случае, он видел еще мальчиком находившийся близ Стрэтфорда Кенилвортский замок и был, наверное, очевидцем грандиозных празднеств, устроенных в 1575 году Лейстером в честь Елизаветы, во время ее пребывания в замке. Дело в том, что семья Шекспира имела там близкого и влиятельного родственника, Эдуарда Ардена, который пользовался большим доверием Лейстера, но вскоре после того, должно быть вследствие натянутости, наступившей после праздника в отношениях королевы к Лейстеру, возбудил подозрение или неудовольствие своего господина и по его приказанию был затем казнен.
Будущий поэт имел случай видеть в свои отроческие годы не одни только мистерии. Город Стрэтфорд страстно любил театральные представления. В тот год, когда отец Шекспира занимал должность бальи, в Стрэтфорде в первый раз появились странствующие актеры, и в 1569–1587 гг. город посетили не менее 24 странствующих трупп. Труппа королевы, труппа лордов Уорстера, Лейстера и Уоррика часто гастролировали в Стрэтфорде. Было в обычае, чтобы актеры сначала свидетельствовали свое почтение бальи, доводили до его сведения, на службе какого именно вельможи они числятся, и в первый раз играли исключительно для него и для городского совета. Один писатель, по имени Виллис, родившийся в один год с Шекспиром, оставил нам рассказ о том, как он, прижавшись к коленям своего отца, присутствовал на подобном представлении в соседнем Глостере, и благодаря этому, мы можем нарисовать себе картину, как перед Шекспиром-ребенком впервые открылись чудеса театра.
В годы отрочества и юности он имел случай ознакомиться с главнейшим репертуаром старинной английской сцены; здесь были пьесы, осмеянные им впоследствии, как например, «Жизнь Камбиза», над напыщенным пафосом которой потешается Фальстаф; были и другие, послужившие впоследствии основой для его собственных драм, как например, «Подставные» Ариосто («The Supposes»), которой он воспользовался в «Укрощении строптивой», или старинная пьеса о короле Иоанне, или, наконец, «Славные победы Генриха V», заключающая в себе некоторые из основных черт его «Генриха IV».
По всей вероятности, мальчиком и юношей Шекспир не довольствовался посещением театральных представлений, а знакомился с актерами в различных гостиницах, где они останавливались, под вывесками «Лебедь», «Корона» или «Медведь».
Обыкновенно учение в школе кончалось к четырнадцати годам. Когда Шекспир достиг этого возраста, отец взял его из школы, потому что нуждался в нем для своего дела. Материальное положение отца в то время уже пошатнулось.
В 1578 г. Джон Шекспир заложил имение своей жены Эшби за сумму в сорок фунтов, которую он, по-видимому, обязался выплатить в двухлетний срок, что сам он, впрочем, отрицает. В том же году городской совет постановляет простить ему повинность по обмундировке солдат и налог в пользу бедных, которые он должен был нести в качестве олдермена. В следующем году он опять оказывается в невозможности уплатить военный налог. Когда он в 1580 г. для того, чтобы выкупить Эшби, продал кусок земли, доставшийся ему после смерти тещи, и кредитор, некий Джон Ламберт, сын Эдуарда Ламберта, которому первоначально было заложено имение, отказался принять выкупную сумму на том основании или под тем предлогом, что он не получил ее в срок, и что помимо этой суммы Джон Шекспир должен ему еще, то в последовавшем затем процессе отец поэта называл себя «человеком со стесненными средствами и имеющим мало друзей и покровителей в графстве». Каков был исход процесса, нам неизвестно, но, по-видимому, отец и сын близко приняли его к сердцу и находили, что с ними было поступлено крайне несправедливо. В прологе к «Укрощению строптивой» Кристофер Слай называет себя сыном старика Слая из Burton on the Heath. Ho Burton on the Heath было как раз то место, где жили Ламберты, отец и сын, и замечательно, что это выражение главного действующего лица в прологе есть одно из немногих, прибавленных Шекспиром к репликам пролога в старой пьесе, которую он здесь переделал.
С этих пор положение Джона Шекспира становится все хуже и хуже. В 1586 г., когда его сын был, вероятно, уже в Лондоне, на его имущество было наложено запрещение и состоялось целых три приказа о его аресте; одно время он, кажется, сидел в долговой тюрьме. Он был отставлен от должности члена городского совета, потому что перестал являться в ратушу на заседания. Надо думать, что он не решался ходить туда из опасения быть арестованным своими кредиторами. По-видимому, он потерял крупную сумму, поручившись за своего брата Генри. Кроме того, в Стрэтфорде был в то время торговый кризис: суконные и прядильные изделия, которыми жили обыватели, сделались гораздо менее прибыльны, чем прежде.
Насколько затруднительно было положение Джона Шекспира даже еще в 1592 г., свидетельствует доклад сэра Томаса Люси относительно жителей Стрэтфорда, не исполняющих предписания ее величества посещать раз в месяц церковь. В их числе упоминается и он, как «не дерзающий ходить туда из боязни ареста за долги».
Весьма правдоподобно, что юный Вильям, когда отец взял его из городской школы, стал помогать ему в его промысле и торговле; нет ничего невозможного и в том, что он, как дает нам понять сомнительный, впрочем, намек одного из его современников, был некоторое время писцом в конторе адвоката. Во всяком случае, его великие дарования обнаружились, вероятно, очень рано: вероятно, рано начал он писать стихи и, как все гениальные люди, проявил во всех житейских обстоятельствах раннюю зрелость.
Глава 3
Женитьба. — Сэр Томас Люси. — Отъезд из Стрэтфорда
Всего лишь восемнадцати лет от роду Вильям Шекспир женился в декабре 1582 г. на двадцатишестилетней девушке Анне Гесве, дочери только что умершего зажиточного фермера из соседней деревни, но одного с ним прихода. Этот брак, сам по себе представляющийся несколько опрометчивым со стороны восемнадцатилетнего юноши, отец которого находился в стесненных обстоятельствах и который сам, по всей вероятности, мог существовать лишь на ничтожное вознаграждение, получаемое в качестве его помощника, совершился притом несколько поспешнее, чем это было в обычае. Из одного документа от 28 ноября 1582 г. видно, что два приятеля семьи Гесве ходили в епископский город Уорстер с весьма значительной по условиям того времени суммой, чтобы поручиться в отсутствии всяких препятствий к заключению брака после одного оглашения вместо предписанных законом трех. Насколько можно судить, свадьбу торопила семья невесты, тогда как семья жениха держалась в стороне, быть может, даже не давала на нее согласия. И этой поспешности соответствует то обстоятельство, что первый ребенок Шекспира, дочь Сусанна, появился на свет довольно рано, в мае месяце 1583 г., спустя лишь пять месяцев и три недели после свадьбы. Однако, весьма правдоподобно, что этой свадьбе предшествовало обручение, на которое в те времена смотрели, как на настоящий брак.
В 1585 г. у супругов родились близнецы, дочь Юдифь и сын Гамнет (это имя пишется также Гамлет), названный так, без сомнения, в честь стрэтфордского булочника, Гамнета Садлера, друга семьи, о котором Шекспир вспомнил и в своем завещании. Этот сын умер всего лишь 11 лет от роду.
Вероятно, уже вскоре после рождения этих детей Шекспир был вынужден покинуть Стрэтфорд. Он имел несчастье, говорится у Роу, попасть в дурное общество и несколько раз стрелял дичь в парке, принадлежавшем сэру Томасу Люси в Чарлькоте близ Стрэтфорда. Когда этот последний, пожалуй, несколько строго наказал его за это, Шекспир в отместку написал на него балладу до такой степени едкую, что преследования со стороны помещика удвоились и вынудили молодого человека отказаться от своей профессии, оставить на время свою семью в Уоррикшире и бежать в Лондон. Роу считал эту балладу затерянной, но первая строфа ее, записанная будто бы со слов дряхлого старика, жившего по соседству со Стрэтфордом, сохранилась у Олдиса и, быть может, должна быть признана подлинной. Совпадение между нею и несомненным намеком на сэра Томаса Люси в одном шекспировском произведении дает возможность предполагать, что она передана до некоторой степени верно. Хотя браконьерство считалось в те времена сравнительно невинной и простительной юношеской шалостью, которой, например, несколько поколений сряду сильно грешили студенты Оксфордского университета, однако сэр Томас Люси, по-видимому, недавно только насадивший свой охотничий парк и имевший в нем пока немного дичи, относился сурово к хищениям, которые у него производила стрэтфордская молодежь. Насколько можно видеть, он не пользовался любовью в Стрэтфорде; никогда не дарил он городу, как это делали другие окрестные помещики, хотя бы штуку дичи в отплату за посылавшиеся ему подарки (неоднократные присылки соли и сахара, как показывают городские счета). Провинность Шекспира не была еще в то время юридически наказуема, но сэр Томас как мировой судья и крупный помещик держал юношу в своей полной власти, и в высшей степени вероятна справедливость предания, идущего от умершего в 1708 г. архидиакона Дэвиса, что строгий помещик «часто наказывал Шекспира плетью и не раз сажал его под арест», ибо оно подтверждается верным показанием Дэвиса, что Шекспир отомстил ему впоследствии, сделав его судьею Clodpote — болван — (собственно, судьею Шалл о), и осмеял его фамилию и герб, поместив в нем «трех ползающих вшей». В действительности оказывается, что в сцене, которой открываются «Виндзорские проказницы», судья Шалло, обвиняющий Фальстафа в том, что он стрелял его дичь, имеет в гербе, по заявлению Слендера, дюжину белых luces (щук), что в устах валлийца Эванса превращается в дюжину белых вшей, благодаря той же игре слов, какая встречается и в сохранившейся строфе баллады. А фамильный герб Люси представлял именно трех серебряных щук.
Еще нелепее было бы оспаривать это старинное предание о браконьерстве Шекспира в виду того обстоятельства, что сэр Томас Люси как раз в 1585 г. выступил в парламенте поборником усиленных законов об охранении охоты.
Решительным фактом остается, однако, лишь то, что Шекспир на 20-м году покидает свой родной город с тем, чтобы не возвращаться в него на более или менее продолжительный срок, пока не пройдет всего своего жизненного поприща. Если бы даже он не был вынужден необходимостью расстаться с ним теперь, то потребность развить жившие в нем дарования и силы немного раньше или немного позже все равно отвлекла бы его прочь. Теперь же, юный и не испытанный в жизни, он должен был отправиться в столицу, чтобы там искать себе счастья.
Отказался ли он от счастья, которое уже имел, для того, чтобы искать себе нового, это неизвестно, но маловероятно. Ничто не указывает на то, чтобы Шекспир в крестьянской девушке, на которой он женился восемнадцатилетним юношей и которая была старше его почти восемью годами, нашел хотя бы лишь на несколько лет женщину, способную наполнить его жизнь. Все говорит против этого. Она и дети остались по его отъезде в Стрэтфорде, и он видался с ней лишь во время своих вначале, вероятно редких, впоследствии же ежегодных поездок на родину.
Предание, в соединении с его поэзией, свидетельствует о том, что в Лондоне он жил вольной цыганской жизнью актеров и драматических писателей. Мы знаем, кроме того, что сравнительно рано он стал вести деловую жизнь директора и пайщика театра. Но женщиной, стоящей в центре этой жизни, Анна Гесве не была. С другой стороны, нельзя питать ни малейшего сомнения в том, что Шекспир ни на миг не упускал из вида Стрэтфорда, и как только он прочно основался в другом месте, он стал работать с неуклонной целью приобрести себе земельную собственность в том городе, который он покинул, когда был таким бедным и приниженным, и восстановить упавшее значение своего отца и честь своей семьи.
Глава 4
Лондон. — Здания. — Костюмы. — Нравы
И вот молодой человек отправился верхом из Стрэтфорда в Лондон. По обычаю небогатых путешественников того времени он по прибытии в Смитфилд, вероятно, продал свою лошадь и, по остроумному предположению Холлиуэла Филипса, продал ее Джемсу Бербеджу, державшему по соседству конюшню и отдававшему внаймы лошадей, и возможно, что именно этот человек, отец столь знаменитого впоследствии товарища Шекспира по профессии, Ричарда Бербеджа, и взял к себе Шекспира на службу, поручив ему присматривать за лошадьми, на которых приезжали в театр его клиенты из окрестностей Смитфилда. Дело в том, что Джемс Бербедж выстроил и приобрел в свою собственность первое (1576 г.) в Англии постоянное театральное здание, называвшееся The Theatre, и предание, восходящее к сэру Вильяму Давенанту, как известно, рассказывает, что Шекспир, вследствие тяжкой нужды, должен был стоять у дверей театра и держать под уздцы лошадей, на которых приезжали туда зрители. Местность была уединенная, пользовалась дурной славой и кишела конокрадами. Его так полюбили в этой должности, что все, слезавшие с лошадей, звали непременно его, так что ему пришлось нанимать себе в помощники мальчиков, предлагавших свои услуги со словами: «Я — мальчик Шекспира», — прозвище, оставшееся за ними, как утверждают, и впоследствии. В пользу достоверности этой осмеянной легенды говорит тот факт, что в середине XVII столетия — эпохе, к которой его можно отнести, обычай отправляться в театры верхом совершенно вышел из употребления. К ним подплывали на лодках по Темзе.
По одному стрэтфордскому преданию, Шекспир впервые занимал в театре скромную должность, подчиненную актерам; по одному английскому театральному преданию он дебютировал помощником режиссера, подавая сигналы актерам для выхода на сцену. Однако он, очевидно, весьма быстро передвинулся с одного места на другое.
Лондон, в который приехал Шекспир, имел около 300 000 жителей; главные его улицы только незадолго перед тем были вымощены, но уличного освещения не существовало. Это был город со рвами, каменными стенами и воротами, с красными, высоко заостренными в крыше двухэтажными деревянными домами, обозначенными свободно развевавшимися вывесками, по которым они получали свое название, — домами, где скамьи служили вместо стульев, а рассыпанный по полу тростник заменял ковры. Движение по улицам было оживленное, но не в экипажах, так как первая карета появилась в Англии только при Елизавете, а пешком, верхом, на носилках или на лодках по Темзе, светлой еще и прозрачной, несмотря на большое уже и в то время потребление городом каменного угля, и усеянную тысячами судов, которые при постоянно раздававшихся пронзительных окриках лодочников «Eastward hoe!» или «Westward hoe!» прокладывали себе путь среди стаи по временам взлетавших лебедей, в тех местах, где реку окаймляли зеленые луга и красивые сады.
Через Темзу вел тогда один только мост, Лондонский мост, находившийся невдалеке от того, который теперь носит это имя. Он был широк и застроен лавками, а в конце его возвышались громоздкие башни; на их зубцах почти постоянно были выставлены головы казненных. Вблизи моста был Eastcheap, улица с трактиром, куда хаживал Фальстаф.
Центрами Лондона были в то время только что выстроенная биржа и церковь св. Павла, считавшаяся тогда не только городским собором, но как бы сборным пунктом для прогуливающейся молодежи, как бы клубом, где можно было слышать новости дня, конторой для найма прислуги и местом убежища для должников, которых там нельзя было трогать. На улицах, еще сохранивших пеструю полноту жизни Ренессанса, раздавались крики приказчиков, зазывавших покупателей в лавки, и разносчиков, старавшихся обратить внимание проезжих на свой товар; без конца двигались по ним светские, духовные и военные процессии, свадебные поезда и крестные ходы, целые толпы солдат и арбалетчиков.
Можно было встретить на этих улицах и королеву Елизавету в ее массивной придворной карете, если она не предпочитала ехать по Темзе в великолепно украшенной гондоле, за которой следовало множество нарядных лодок.
В самом «городе» (City) театры не допускались; гражданские власти относились к ним неприязненно и удалили их на восточный берег Темзы вместе с грубыми увеселениями, с которыми им приходилось тягаться: петушиным боем и травлей медведей собаками.
Всем известны красивые, пестрые, пышные костюмы того времени. Рукава с буфами у мужчин и тугие воротники у женщин, равно как и те причудливые фасоны платьев с фижмами, которые теперь удержались на сценических представлениях пьес из той эпохи. Королева и ее двор подавали пример необычайной и нелепой роскоши относительно количества туалетов и ценности материй. Дамы румянились и нередко красили себе волосы. Модным цветом был рыжий, — цвет волос королевы. Удобств ежедневной жизни было мало. Только к концу века стали входить в употребление изразцовые печи вместо открытых каминов. Только в последнее время стали чаще встречаться хорошие постели; когда зажиточный дед Шекспира, Роберт Арден, делал в 1556 году завещание, то в его доме, где он жил с семью дочерьми, оказалась всего одна кровать. Спали на соломенных матрацах, подложив под голову обрубок дерева и покрывшись меховым одеялом. Единственным украшением комнат у более зажиточных людей служили ковры, которыми, за недостатком обоев, увешивали стены и за которыми, в промежутке между ними и стеной, так часто прячутся у Шекспира действующие лица.
Обедали в то время в 11 часов утра, и обедать рано считалось хорошим тоном. Обедали, если позволяли средства, чересчур роскошно и обильно, без стыда вставали из-за стола, чтобы удалиться на минуту, и приглашали туда же кого-нибудь из присутствующих. Часто засиживались за столом слишком долго. Домашняя утварь была самая незатейливая. Еще в 1592 г. ели по большей части с деревянных тарелок, из деревянных мисок и деревянными ложками. Лишь в этот период времени на смену дереву начали являться олово и серебро. Ножи были в общем употреблении приблизительно с 1563 г. Но вилок не знали даже и во времена Шекспира; вместо них прибегали к помощи пальцев. В описании пятимесячного пребывания за границей, изданном в 1611 г. английским путешественником Кориетом (Coryat), есть упоминание о том, что к своему удивлению он нашел распространенным в Италии употребление вилки. «Во всех итальянских городах, через которые я проезжал, я наблюдал обычай, какого никогда еще не был свидетелем в своих путешествиях по другим странам, да я и не думаю, чтобы кроме Италии он встречался еще где-нибудь в христианском мире. Дело в том, что итальянцы и даже иностранцы, живущие в Италии, употребляют за столом небольшую вилку и при помощи ее следующим образом управляются с кушаньем: разрезая мясо ножом, который они держат в одной руке, они в тот же самый кусок вонзают вилку, которую держат в другой руке; поэтому тот, кто в обществе сует пальцы в блюдо, из которого должны есть все, считается нарушителем законов приличия. И вот причина этому: итальянцы сделали наблюдение, что не у всех людей пальцы одинаково чисты». Мы видим, что вместе с тем именно Кориет ввел это новое орудие в свое отечество. Он сообщает, что счел благоразумным подражать итальянской манере не только в Италии и Германии, но «часто и в Англии», когда вернулся на родину, и рассказывает, как один ученый и веселый господин из круга знакомых подшучивал над ним по этому поводу и называл его Furciter. В одной пьесе Бена Джонсона от 1614 г. «The Devil is an Ass» упоминается о вилках, только что вывезенных из Италии с целью сделать экономию в салфетках. Мы должны представить себе, что для Шекспира есть с помощью вилки было так же непривычно, как в наши дни для какого-нибудь бедуина.
Табак он, наверно, не курил, так как табак никогда не упоминается в его произведениях, хотя в его время обыватели собирались в табачных лавках, где преподавалось новое искусство курения, а знатная молодежь курила табак даже на своих местах на сцене театра.
Глава 5
Политическое и религиозное состояние страны. — Англия как нарождающаяся великая держава
Момент, в который Шекспир явился в Лондон, был одинаково знаменателен как в политическом, так и в религиозном отношении. Это тот момент, когда Англия становится протестантской державой. В царствование Марии Кровавой, супруг которой, Филипп II, занимал престол Испании, правительство было испанско-католическим; преследования еретиков привели обвиненных, в том числе многих из лучших людей Англии, на эшафот и даже на костер. Испания воспользовалась помощью Англии, чтобы победить Францию, и извлекла для себя одной всю выгоду от этого союза, Англия же только потеряла от него; Кале, ее последнее владение во Франции, было утрачено ею.
Вместе с Елизаветой на престол вступил протестантский принцип как политическая сила. Она отвергла сватовство Филиппа, она знала, какой непопулярной сделал ее сестру брачный союз с испанским королем, а в борьбе с папством она имела парламент на своей стороне; парламент немедленно признал ее королевой в силу божеского закона и народного чувства, между тем как папа, при ее восшествии на престол, объявил ее незаконной престолонаследницей. Католический мир восстал против нее, — сначала Франция, затем Испания. Англия поддерживала протестантскую Шотландию против ее католической королевы, опиравшейся на испанско-французское войско, и в Шотландии реформация одержала победу. Впоследствии, когда пришел конец правлению Марии Стюарт в Шотландии и она бежала в Англию в надежде найти там поддержку, на ее стороне стояла уже не Франция, а Филипп II. Торжество в Англии протестантских идей являлось для него угрозой его владычеству в Нидерландах.
Политические интересы побудили правительство Елизаветы заключить Марию в тюрьму. Папа отлучил Елизавету от церкви, разрешил ее подданных от присяги на верность и объявил ее лишенной прав на престол; тот, кто исполнял ее повеления, подвергался отлучению наравне с ней. С этого момента двадцать лет кряду происходят, один за другим, заговоры католической партии, и Мария Стюарт оказывается замешанной во все почти предприятия, замышлявшиеся против Елизаветы.
В 1585 г. Елизавета начала войну с Испанией, отправив свой флот в Нидерланды и назначив своего любимца Лейстера начальником вспомогательных войск. В начале следующего года Френсис Дрейк, совершивший в 1577–1580 гг. кругосветное плавание, взял С.-Доминго и Картахену, напав на них врасплох. В воспоминание о его первом большом плавании корабль, на котором он его совершил, стоял постоянно на якоре на Темзе; жители Лондона часто посещали его; наверное, его посетил и Шекспир.
В следующие годы народное самосознание, все больше и больше разрастаясь, достигло своей наивысшей силы. Представьте себе только, какое впечатление оно должно было произвести в 1587 г. на Шекспира. 8 февраля 1587 г. Мария Стюарт сложила голову на плахе в Фозерингейском замке, и этим завершился разрыв Англии с католическим миром, так что отступление сделалось уже невозможно. 16 февраля того же года самый блестящий дворянин Англии, цвет ее рыцарства, сэр Филипп Сидней, герой битвы при Цютфене в Нидерландах, глава английско-итальянской школы поэтов, был погребен в церкви св. Павла с торжественностью, придавшей этому событию характер национального траура. Филипп Сидней был образцом вельможи того времени; он усвоил себе всю культуру гуманизма, изучил Аристотеля и Платона, равно как геометрию и астрономию, путешествовал и наблюдал, вместе с тем читал, размышлял и писал и был одновременно и воином, и ученым. Как начальник кавалерии он спас английское войско при Гравелине, как меценат и друг он покровительствовал свободнейшему мыслителю той эпохи, Джордано Бруно. Сама королева присутствовала при его погребении, и, по всей вероятности, там находился и Шекспир.
В следующем году Испания снарядила против Англии свою «Непобедимую Армаду» и послала ее в море. По величине кораблей и по численности десанта это был самый большой флот, какой когда-либо видели в европейских морях. А в Нидерландах, в Антверпене и Дюнкирхене, снаряжались транспортные корабли для таких же масс войска, чтобы уничтожить Англию. Но Англия была готова встретить опасность лицом к лицу. Правительство королевы потребовало у города Лондона 15 кораблей. Город снарядил их 30; кроме того, столица выставила 30 000 человек сухопутного войска и предложила правительству заем в 52 000 фунтов наличными деньгами.
Испанский флот насчитывал 130 тяжелых кораблей, английский 60 парусных судов, более легких и подвижных; молодые дворяне спешили наперерыв поступить на службу во флот. «Армада» не была рассчитана на борьбу с ветром и непогодой; в Канале между Англией и Францией она тяжело маневрировала и в первой же стычке оказалась безопасной для легких английских кораблей. Двух-трех брандеров было достаточно для того, чтобы обратить ее в бегство, и среди бури и грозы большая часть ее судов пошла ко дну.
Самая могущественная держава эпохи оказалась бессильной сломить нарождавшуюся великую английскую державу, и вся нация ликовала, торжествуя победу.
Глава 6
Шекспир-актер. — Переделка старых пьес. — Нападки на него Роберта Грина
Между 1586 и 1592 гг. мы теряем Шекспира из вида. Мы можем только проследить, что он был деятельным членом актерского товарищества. Ничем не доказано, чтобы он принадлежал к какой-либо иной труппе, кроме труппы лорда Лейстера, владевшей Блэкфрайерским театром, а позднее и «Глобусом». Что он частью как переделыватель для сцены старых пьес составил себе к 28 годам имя и приобрел почетную известность, а потому сделался предметом зависти и ненависти, — это видно из различных мест в сочинениях его современников.
Одно место в поэме Спенсера «Colin Clout’s Come Home Again», где изображается поэт, муза которого, как и подлинное его имя, звучат героически, может с некоторым правдоподобием, хотя и не наверно, быть отнесено к Шекспиру и к звучащему в его имени «потрясанию копьем». Shakespeare означает в переводе «потрясатель копья». В пользу этого говорит то обстоятельство, что здесь, как и постоянно в его дальнейшей жизни, с его личностью связано слово gentle (милый, кроткий с чувством собственного достоинства). Против этого говорит тот факт, что поэма Спенсера, хотя изданная впервые в 1594 г., была написана, по-видимому, уже в 1591 г., когда муза Шекспира едва ли еще была героической, и что, может быть, здесь подразумевался Дрейтон (Drayton), писавший под псевдонимом Роланда (Rowland).
Старейший и положительно бесспорный намек на Шекспира совсем в ином роде. Он встречается в памфлете драматурга, Роберта Грина «Копейка ума, искупленная миллионом раскаяния». («Groatsworth of Wit bought with a Million of Repentance»), написанном на смертном одре, в августе 1592 г., совершенно погибшим и опустившимся поэтом, который, не называя имен, заклинает своих друзей Марло, Лоджа (или Наша) и Пиля бросить их порочную жизнь, их богохульство, неосторожность, с какой они наживают себе врагов, и их низменный образ мыслей, представляя им самого себя в виде устрашающего примера; ибо он умер после распутной жизни от болезни, развившейся в нем как результат обжорства, и в такой нищете, что его хозяин, бедный башмачник, должен был ссужать его деньгами, а хозяйка одна ухаживала за ним до последней минуты. Он был в то время так беден, что для того, чтобы достать ему на пропитание, пришлось продать его платье. Своей жене он послал следующие строки: «Долли, я заклинаю тебя любовью нашей юности и миром души моей позаботиться об уплате долга этому человеку; если бы он и жена его не приютили меня, я умер бы на улице».
Предостерегая своих друзей и товарищей по профессии против неблагодарности актеров, Роберт Грин говорит: «Да, не верьте им, ибо среди них проявилась ворона, нарядившаяся в наши перья с сердцем тигра под костюмом актера; этот выскочка считает себя способным смастерить белый стих не хуже любого из вас, и в качестве настоящего Johannes-Factotum (мастер на все руки) мнит себя единственным потрясателем сцены (Shakescene) в стране».
Намек на имя Шекспира здесь несомненен, а слова о сердце тигра относятся к восклицанию «О сердце тигра, скрытое под оболочкой женщины!», которое находится в двух местах; с одной стороны, в пьесе «Истинная трагедия о Ричарде, герцоге Йоркском, и о смерти доброго короля Генриха VI», послужившей основой для 3-й части «Генриха VI», с другой стороны, в тех же точно выражениях, в самой этой приписываемой Шекспиру пьесе. Лишь противное здравому смыслу толкование способно видеть в этом месте выходку против Шекспира как актера; оно, без малейшего сомнения, заключает в себе обвинение в литературном плагиате. Все указывает на то, что Грин и Марло сообща переделывали старую пьесу, и что первый с чувством озлобления был очевидцем успеха, выпавшего на долю шекспировской переработки их текста.
Но что Шекспир уже в то время пользовался высоким уважением, и что нападки Грина вызвали общее негодование, это видно из извинений, напечатанных по поводу этого в декабре 1592 г. Генри Четтлем, издателем гриновского памфлета. В предисловии к своей книге «Kind Hart’s Dream» он категорически выражает сожаление о том, что не отнесся к Шекспиру с большей деликатностью. «Мне до такой степени больно, что я не сделал этого, как будто первоначальная вина была моя собственная, — говорит он здесь, — так как я вижу теперь, что его поведение столь же безукоризненно, сколько сам он превосходен в своей профессии. Кроме того, многие высокопоставленные лица удостоверяли прямоту его образа действий, доказывающую его честность, и остроумную грацию его сочинений, свидетельствующую о его даровании».
Итак, труппа, в которую поступил Шекспир и в которой он еще в качестве начинающего поэта завоевал себе известность, пользовалась им для восстановления и ретушевки старых пьес драматического репертуара. Если бы мы не знали этого другим путем, то уже театральные афиши того времени показали бы нам, что старые пьесы беспрестанно переделывались для того, чтобы придать им новую притягательную силу. Так, например, объявлялось, что пьеса будет сыграна в том виде, в каком она была последний раз представлена перед ее величеством или перед таким-то и таким-то вельможей. Пьеса раз и навсегда продавалась автором театру — или за 5 фунтов, или за 10, или за известную долю в выручке. Так как для театра представлялось важным воспрепятствовать печатанию пьесы, чтобы ею не завладели другие соперничающие с ним сцены, то пьеса оставалась неизданною (если не была напечатана воровским способом), и актерское товарищество было ее единственным собственником.
Тем не менее, естественно, что старейший драматург мог отнестись с недоброжелательством к более молодому за такую исполненную по заказу ретушевку, что мы и видим в выходке Грина и что, вероятно, внушило и Бену Джонсону его эпиграмму «On Poet-Ape» («На поэта-обезьяну»), хотя нелепо предполагать, будто она направлена против Шекспира.
С художественной точки зрения той эпохи театральные пьесы вообще не входили в состав литературы. Считалось нечестным продать свое произведение вначале театру, а потом издателю, и Томас Гейвуд еще в 1630 г. (в предисловии к своей «Лукреции») объявляет, что никогда не был в этом повинен. Мы знаем также, каким насмешкам подвергся Бен Джонсон за то, что он, первый из английских поэтов, издал в 1616 г. свои пьесы в одном томе in-folio.
С другой стороны, мы видим, что не только гений Шекспира, но его личная привлекательность, возвышенность и прелесть его существа обезоруживали даже тех, кому случалось по той или другой причине отозваться оскорбительно о его деятельности. Подобно тому, как издатель нападок Грина не замедлил публично принести извинение Шекспиру, так и Бен Джонсон, которому Шекспир на его неприязнь и едкие выходки отвечал благодеяниями, — он выхлопотал постановку первой пьесы Бен Джонсона, — сделался, несмотря на все бессилие победить к нему зависть, его искренним другом и поклонником и после его смерти отозвался о нем с сердечной теплотой в прозе и с восторгом в стихах, в великолепном гимне, приложенном к первому изданию in-folio шекспировских пьес. Прозаический отзыв о характере Шекспира находится в критической заметке о нем (в «Timber or Discoveries made upon men and matter»). «Я помню, что актеры часто упоминали, ставя это в заслугу Шекспиру, что в своих сочинениях он никогда не вычеркивал ни одной строки. Моим ответом было, что я лучше желал бы, чтобы он их вычеркнул тысячу. Они сочли это недоброжелательной речью. Я не сообщил бы этого потомству, если бы меня к тому не побудило невежество тех, кто избирает для восхваления своего друга именно то, в чем он наиболее грешил. И, кроме того, я хочу оправдать свою собственную честность, ибо я любил этого человека и не меньше всякого другого чту его память, доходя почти до обоготворения. Дело в том, что это была прямодушная, открытая и чистосердечная натура, обладавшая необычайной фантазией, смелыми идеями и благородным способом выражения; слова с такой изумительной легкостью лились из его уст, что порой приходилось его сдерживать».
Глава 7
Юношеские взгляды Шекспира на отношения между мужчиной и женщиной. — Его брак с этой точки зрения
За два месяца до Шекспира родился человек, ставший учителем его в драме — учителем, чью гениальность он сначала не вполне постиг. Кристофер (Kit) Марло, сын кентерберийского башмачника, был сперва стипендиатом в королевской школе в своем родном городе, в 1580 г. сделался студентом Кембриджского университета, в 1583 г. получил первую ученую степень, а 23 лет, по оставлении университета, степень магистра; выступал актером, как можно заключить из одной баллады, на сцене лондонского Curtain-Theatre, имел несчастье сломать себе на подмостках ногу, вероятно, вследствие этого должен был отказаться от деятельности актера и, по-видимому, не позднее 1587 г. написал свое первое драматическое произведение — «Тамерлан Великий». Он имел перед Шекспиром преимущества гораздо более быстрого развития, более ранней относительной зрелости и более серьезного образования. Он недаром прошел курс классических наук; влияние Сенеки, поэта и ритора, через посредство которого английская трагедия соприкасается с античной, весьма заметно у него, как и у его безличных предшественников, авторов «Горбодука» и «Танкреда и Гисмунды» (первая пьеса сочинена совместно двумя, вторая пятью поэтами), с той только разницей, что эти последние в построении пьес, в употреблении монологов и хора прямо подражают Сенеке, между тем как в трагедиях самостоятельного Марло непосредственное влияние его сказывается лишь в языке и сюжетах.
У Марло начинают сливаться два потока, вытекающие, с одной стороны, из средневековой мистерии и аллегорической народной драмы позднейшего времени и, с другой, — из древнелатинской драмы античного мира. Но у него совершенно отсутствует комическая жилка, в которой нет недостатка в старейших английских подражаниях Плавту и Теренцию, разыгрывавшихся учениками Итонской школы или студентами Кембриджского университета еще в середине столетия («Ральф Ройстер Дойстер — Английский хвастливый воин») или в половине шестидесятых годов («Иголка бабушки Гортон»).
Кристофер Марло является воссоздателем английской трагедии. Его значение для дикции определяется уже тем, что он первый употребляет на публичной сцене как язык английской драмы нерифмованный пятистопный ямб. Правда, английский белый стих был уже создан до него — лорд Суррей употребил его в своем переводе «Энеиды», его слыхали и в театре, в старинной пьесе «Горбодуке» и других пьесах, игранных при дворе. Но Марло первый обратился с этим стихотворным размером к массе населения и сделал это, как видно из пролога к «Тамерлану», с намеренным пренебрежением к «манерам остроумных рифмоплетов» и «к каламбурам, которыми дорожит глупость»; он стремился к трагическому пафосу, искал «выразительных выражений» для гнева Тамерлана.
Ранее в драме обыкновенно употреблялись очень длинные семистопные стихи, рифмовавшиеся попарно, и эти правильные рифмы, конечно, сковывали драматическую жизнь пьес. Шекспир, по-видимому, не сразу оценил реформу Марло и не понял как следует, что значит это отвержение рифмы в драматическом стиле. Мало-помалу он вполне постигает это. В одном из его первых произведений «Бесплодные усилия любви» почти вдвое более рифмованных стихов, чем нерифмованных, в общем более тысячи; в последних его пьесах рифмы исчезают. В «Буре» две рифмы, в «Зимней сказке» — ни одной.
Соответственно с этим, в первых своих пьесах (приблизительно так же, как это было с Виктором Гюго в его первых одах) Шекспир чувствует себя обязанным кончать фразу вместе со стихом; мало-помалу он начинает действовать все с большей и большей свободой. В «Бесплодных усилиях любви» в восемнадцать раз более стихов, где предложение кончается вместе со строкой, чем свободных форм. В «Цимбелине» и в «Зимней сказке» приблизительно лишь вдвое больше. В этом видели даже средство определять дату сомнительных пьес.
В Лондоне Марло вел, по-видимому, бурную жизнь и страдал отсутствием всякого общественного равновесия. Рассказывают, что он предавался постоянным излишествам, ходил то разодетый в шелк, то словно нищий; жил, титанически презирая церковь и общество. Верно то, что он был убит 29 лет от роду в ссоре. Утверждают, будто он застал у любимой им женщины соперника и хотел заколоть его своим кинжалом, но тот, некий Френсис Арчер, выхватил кинжал у него из рук и проколол ему глаз, задев при этом и мозг. Далее, о нем рассказывают, что он был убежденный и кричащий о себе атеист, называвший Моисея фигляром и говоривший, что Христос более Вараввы заслуживал смерти, и эти отзывы о Марло не лишены правдоподобия. Если к этому прибавляют, что он писал книги против св. Троицы и до последнего вздоха изрекал богохульства, то это, очевидно, подсказано ненавистью пуритан к театру и его деятелям. Единственным источником такому мнению служит книга одного священника, пуританского фанатика Томаса Берда под заглавием «Суд Божий», вышедшая шесть лет спустя после его смерти (Beard: «Theatre of tfod’s Judgements», 1597).
Марло, наверное, вел крайне беспорядочную жизнь, но рассказы о его кутежах потому уже должны быть весьма преувеличены, что он, не доживший и до 30 лет, оставил такое богатое и обширное литературное наследство. История о том, что он провел будто бы свои последние часы в хуле на Бога, сильно противоречит прямому заявлению Чапмана, что по желанию Марло, высказанному на смертном одре, он взялся за продолжение его перевода поэмы «Геро и Леандр». Ясно, что страстный, вызывающий и щедро одаренный юноша обнаруживал такие недостатки, которыми фанатизму и ханжеству особенно удобно было воспользоваться для опорочения его памяти.
Высокопарный и стремительный стиль Марло, особенно в том его виде, как он прорывается в его первых драмах, произвел, очевидно, громадное впечатление на молодого Шекспира. После смерти поэта Шекспир помянул его с симпатией и грустью в одной из своих комедий — «Как вам угодно» (III, 5), где Фебе приводит строку из поэмы Марло «Геро и Леандр».
«Пастух умерший!» — говорит она, намекая на прекрасное стихотворение Марло «The passionate Shepherd». — «Теперь постигла я всю правду слов твоих могучих: любил ли тот, кто не с первого взгляда влюблялся!»
Влияние Марло заметно не только в языке и изложении, но и в кровавом действии старейшей, по-видимому, из приписываемых Шекспиру трагедий, — «Тит Андроник».
Главным образом внешние, но веские и, насколько можно судить, решительные доводы говорят за то, что Шекспир был автором этой преисполненной ужасов драмы. Мирес в 1598 г. называет ее наряду с его пьесами, а друзья Шекспира включили ее в первое издание in-folio. Мы знаем из одной остроты во вступлении к «Bartholomew Fair» Бена Джонсона, что эта трагедия была чрезвычайно популярна; она принадлежит к часто упоминаемым пьесам шекспировской и ближайшей к нему по времени эпохи, упоминается вдвое чаще, чем «Двенадцатая ночь» и в четыре, в пять раз чаще, чем «Мера за меру» или «Тимон». Она изображает свирепые поступки, совершаемые с той внезапностью, с какой люди XVI столетия обыкновенно повиновались своим побуждениям; зверства, так же бессердечно приводимые в исполнение по заранее обдуманному плану, как их осуществляли в век Макиавелли; короче сказать, она заключает в себе столько жестокости и такие безмерные ужасы, что впечатление ее на крепкие нервы и закаленные души было обеспечено.
Эти ужасы по большей части придуманы не Шекспиром.
Одна заметка в дневнике Генсло от 11 апреля 1592 г. впервые говорит о пьесе «Тит и Веспасиан» («Tittus and Vespacia»), весьма часто игравшейся до января 1593 года и пользовавшейся, очевидно, громадной популярностью. В Англии эта пьеса затерялась; в нашем «Тите Андронике» нет Веспасиана. Но в Германии английские актеры играли около 1600 г. драму, дошедшую до нас под заглавием: «Eine sehr klagliche Tragodia von Tito Andronico», и в этой пьесе действительно встречается Веспасиан; кроме того, мавр Аарон под именем Morian, так что достаточно ясно, что мы имеем здесь перевод, или, точнее, свободную переработку старой пьесы, послужившей основой для драмы Шекспира.
Мы видим отсюда, что самим Шекспиром придуманы лишь очень немногие из тех ужасов, которые составляют главное содержание пьесы.
Действие у него вкратце следующее: полководец Тит Андроник, возвратившийся в отечество после победы над готами, избирается римским народом в императоры, но великодушно уступает корону законному наследнику престола, Сатурнину. Тит хочет даже отдать ему в супруги свою дочь Лавинию, хотя она уже ранее была обручена с младшим братом императора, Бассианом, которого любит. Когда один из сыновей Тита пытается отговорить отца от этого шага, тот убивает его на месте. Между тем к молодому императору приводят взятую в плен царицу готов, Тамору. Несмотря на ее мольбы о пощаде, Тит на ее глазах убивает одного из ее сыновей в виде искупительной жертвы за тех из своих собственных сыновей, которые пали на войне; но так как Тамора более нравится императору, чем его невеста, юная Лавиния, то Тит тотчас же освобождает его от только что данного им обещания, делает Тамору императрицей и настолько наивен, что после всего случившегося рассчитывает на ее благодарность. Тамора была и до сих пор остается любовницей свирепого и хитрого чудовища, мавра Аарона.
Сговорившись с ним, она заставляет своих двух сыновей убить на охоте Бассиана, после чего оба они обесчещивают Лавинию и отрезают ей язык и руки, чтобы она ни словами, ни на письме не могла выдать гнусного злодеяния. Оно обнаруживается лишь тогда, когда Лавинии удается палкой, которую она держит между зубами, написать на песке сообщение о постигшем ее несчастье. Двух из сыновей Тита заключают в темницу вследствие ложного обвинения в убийстве их зятя, и затем Аарон доводит до сведения Тита, что им грозит неминуемая смерть, если он не отрубит себе правой руки и не пришлет ее императору как выкуп за молодых людей. Тит отрубает себе руку и затем, среди язвительного хохота Аарона, узнает, что его сыновья уже обезглавлены; он может получить обратно их головы, а не их самих. Тогда он весь уходит в мысль о мщении. Притворившись безумным, как Брут, он заманивает к себе сыновей Таморы, связывает им руки и ноги и закалывает их, как поросят, между тем как Лавиния обрубками рук держит таз, чтобы собрать льющуюся из них кровь. После того он зажаривает их и угощает ими Тамору на пиршестве, которое устраивает для нее и на которое является, переодетый поваром.
Среди возникающей затем резни Тамора, Тит и император погибают. Под конец Аарона, сделавшего попытку спасти незаконного сына, рожденного ему втайне Таморой, заживо зарывают до пояса в землю, обрекая его на смерть. Сын Тита, Люций, провозглашается императором.
Как видите, мы не только погружаемся здесь по колена в кровь, но находимся современно вне исторической действительности. Между многими частностями, измененными Шекспиром, есть и то обстоятельство, что это скопление всяческих ужасов было связано с именем римского императора Веспасиана. У него роль последнего разделена между братом Тита, Марком, и сыном Люцием, наследующим престол. Женщина, соответствующая Таморе, носит в старой драме тот же характер, но там она царица Эфиопии. За всем тем, что касается ужасов, то в старейшей пьесе уже встречаются изнасилование и изувечение Лавинии, равно как и способ, которым изобличаются преступники, сцены, где Тит даром отрубает себе руку, и где он мстит, как убийца и повар.
Старый английский поэт хорошо знал Овидия и Сенеку. От «Метаморфоз» ведет свое происхождение изувечение Лавинии (история Прокны), из того же источника и из «Тиэста» Сенеки заимствовано каннибальское пиршество. Между тем немецкая трагедия изложена жалкой, плоской и старомодной прозой, тогда как английская написана пятистопным ямбом, употребленным по образцу, данному Марло.
Пример Марло в «Тамерлане», наверное, не остался без влияния на кровопролития в переделанной Шекспиром пьесе, которую в этом отношении можно поставить в один ряд с двумя, написанными под воздействием «Тамерлана» пьесами того времени, — «Альфонс, король арагонский» Роберта Грина и «Битва при Алькасаре» Джорджа Пиля. В последней из названных трагедий есть тоже кровожадный мавр, негр Мули Гамет, вероятно, как и мавр Аарон, порождение марловского злобного мальтийского жида и его сообщника, чувственного Итамора.
В числе прибавленных Шекспиром ужасов есть два, заслуживающие некоторого внимания. Первый — это внезапное, необдуманное убийство Титом своего сына, дерзнувшего противостать его воле. Подобная черта, возмущающая людей нового времени, не удивляла современников Шекспира, а скорее нравилась им, как нечто натуральное. Биографии таких людей, как Бенвенуто Челлини, показывают, что гнев, запальчивость, жажда мести часто даже у высокообразованных людей находили себе мгновенный исход в кровавых поступках. Люди дела были в те времена столь же порывисты, как и бесчувственно жестоки, когда ими овладевала внезапная ярость.
Другая прибавленная черта — это умерщвление сына Таморы на глазах у матери. Это совершенно та же сцена, как в «Генрихе VI», когда юного Эдуарда убивают на глазах у королевы Маргариты, и мольбы Таморы за сына принадлежат поэтому к тем стихам в пьесе, в которых слышны чисто шекспировские звуки.
В «Тите Андронике» встречаются некоторые своеобразные обороты, напоминающие Пиля и Марло. Но есть там целые строки, почти дословно повторяемые Шекспиром в других местах. Так например, стихи:
She is woman, the refore may be woo’d, She is woman, there fore may be won. Она женщина — стало быть, ей можно объясняться в любви, Она женщина — стало быть, может быть побеждена.Они почти буквально повторяются в первой части «Генриха VI», лишь слегка отличаясь от стихов в 41-м сонете.
Наконец, они чрезвычайно сходны со стихами в самом знаменитом монологе Ричарда III:
Была ль когда так ведена любовь? Была ль когда так женщина добыта?Хотя в общем можно сказать с полной уверенностью, что эта столь грубо скроенная пьеса с ее нагромождением внешних эффектов весьма мало чем напоминает дух и тон в зрелых трагедиях Шекспира, тем не менее по всей трагедии рассыпаны стихи, где самые различные критики чувствовали ретуширующую руку Шекспира и слышали звук его голоса.
Немногие усомнятся в том, что следующий стих в первой сцене пьесы: Romans, friends, followers, favourers of ney right, принадлежит будущему творцу «Юлия Цезаря». Что я лично хочу в особенности поставить на вид, это то, что строки, поразившие меня при беглом чтении, до моего ознакомления с английской детальной критикой, как безусловно шекспировские, оказались именно теми строками, которые лучшие английские критики тоже приписывали Шекспиру. Такие совпадения имеют силу прямого доказательства. Я приведу реплику Таморы:
Коль Цезарь ты, будь Цезарем на деле! Ужель рой мошек сердце нам заслонит? Спокойно внемлет пенью малых птичек Орел, что гордо вьется к небесам, И знает он — от взмаха мощных крыльев Замолкнет хор пернатых болтунов.Несомненно, принадлежит Шекспиру и потрясающий вопль Тита, когда он (акт III, сцена 1) узнает об изувечении Лавинии, а в следующей сцене его полубезумные возгласы до малейших подробностей предвозвещают одну ситуацию из самой лучшей поры поэта, обращение Лира к Корделии, когда оба они взяты в плен. Тит говорит своей искалеченной дочери:
Лавиния, пойдем: Тебе прочту я грустные рассказы О времени былом.В том же духе восклицает и Лир:
Скорей уйдем в темницу!.. Мы станем жить вдвоем и петь, Молиться, сказки сказывать друг другу…Ни один враг преувеличенного или слепого шекспировского культа не имеет нужды доказывать нам невозможность «Тита Андроника», как трагедии, на основании каких-либо иных представлений о поэзии, кроме варварских. Но, хоть эта пьеса выпущена без всяких пояснений в датском переводе драматических произведений Шекспира, тем не менее пройти мимо нее никак не может тот, кому особенно важно видеть, как развивается гений Шекспира. Чем ниже находится его исходная точка, тем более достойны удивления его рост и полет.
Глава 8
«Бесплодные усилия любви». — Эротика и стиль. — Джон Лилли и эвфуизм. — Личные элементы
Весьма вероятно, что в эти первые юношеские годы, проведенные в Лондоне, Шекспир, ежедневно обогащаясь все новыми впечатлениями, которые со своей безмерной любознательностью он усваивал в своей разносторонней деятельности как часто выступавший актер, как драматург труппы, принимавший поручения подновлять старые пьесы в виду современного вкуса к сценическим эффектам и, наконец, как начинающий поэт, в душе которого находили отзвук все настроения и все представления получали драматическую жизнь — весьма вероятно, что он испытывал ощущение, будто духовные силы его растут с каждым днем его существования. И он чувствовал себя легко и свободно, быть может, главным образом потому, что освободился от домашнего очага в Стрэтфорде.
Даже заурядное знание человеческой природы должно подсказать, что союз его с деревенской девушкой, бывшей на восемь лет старше его, не мог удовлетворить его или наполнить его жизнь. Было бы, конечно, нелепо придавать цену автобиографических свидетельств, особенно же преднамеренных и сознательных, отрывочным репликам в его пьесах, но все же в драмах Шекспира встречается немало мест, как бы намекающих на то, что он уже вскоре стал считать свой брак юношеской глупостью.
Так, например, в «Двенадцатой ночи» есть следующий диалог:
Герцог. Ну, какова ж Твоя любезная? Виола. На вас похожа. Герцог. Не стоит же она тебя. Как молода? Виола. Почти что ваших лет. Герцог. Стара! Жена должна избрать себе постарше; Тогда она прилепится к супругу И будет царствовать в его груди. Как мы себя, Цезарио, ни хвалим, А наши склонности непостоянней, Чем женщины любовь… Так избери подругу помоложе, А иначе любовь не устоит. Ведь женщины, как розы: Чуть расцвела Уж отцвела, И милых нет цветов!И это служит введением к прелестной песне шута о власти любви, песне, которую женщины поют за прялкой и за вязаньем, девушки — за плетением кружев, к самому прекрасному из лирических стихотворений Шекспира.
В других местах есть реплики, носящие как будто следы личной грусти при воспоминании об этом раннем браке и обстоятельствах, при которых он был заключен.
Например, эти слова Просперо в «Буре»:
Но если до того, пока обряд Священником вполне не совершится, Ты девственный развяжешь пояс ей, То никогда с небес благословенье На ваш союз с любовью не сойдет: О, нет! Раздор, презренье с едким взором И ненависть бесплодная тогда Насыпят к вам на брачную постель Негодных трав, столь едких и колючих, Что оба вы соскочите с нее.Две комедии из первого периода деятельности Шекспира представляют собой, как и следовало ожидать, подражание старым пьесам, отчасти переработку старых пьес. Сопоставляя их, поскольку это возможно, с этими старейшими произведениями, мы начинаем, между прочим, понимать, что хотелось высказать самому Шекспиру в это первое время его пребывания в Лондоне. Оказывается, что он живо чувствовал необходимость господства мужчины над женщиной и все беды, причиняемые женщинами строптивыми, неразумными или ревнивыми.
Его «Комедия ошибок» написана по образцу древней комедии Плавта «Menaechmi», или вернее, по образцу английской пьесы под тем же заглавием, вышедшей в 1580 г. и составленной, в свою очередь, не прямо по Плавту, а по итальянским переделкам древнего латинского фарса. К недоразумениям, происходящим вследствие того, что господа Антифолисы принимаются один за другого, Шекспир в своей комедии по примеру Плавта в «Амфитрионе» прибавил соответственное, мало правдоподобное смешение их слуг, точно так же носящих одно и то же имя и точно так же близнецов.
Но как будто субъективный тон звучит в этой пьесе, в тех местах ее, где подчеркивается контраст между двумя женскими образами, замужней сестрой, Адрианой, и незамужней, Люцианой. Вследствие той путаницы, к которой подает повод сходство между братьями, Адриана неистовствует против своего мужа и под конец готова сделать его несчастным на всю жизнь.
Она раздражена тем, что он не возвратился домой вовремя. Люциана отвечает:
Мужчина ведь властитель над своей Свободою; его ж властитель — время, И, времени послушный, он идет Туда-сюда. Поэтому, сестрица, Тревожиться не следует тебе. Адриана. Зачем же больше им, чем нам, дана свобода? Люциана. Да потому, что их дела такого рода. Всегда вне дома. Адриана. Да, но если б он узнал, Что я так действую, наверно б злиться стал. Люциана. О знай, что, как узда, тобой он управляет. Адриана. Зануздывать себя осел лишь позволяет. Люциана. Но волю буйную несчастье плетью бьет. Все то, что видит глаз небесный, что живет В морях и в воздухе; и на земле — все в рамки Свои заключено; самцам покорны самки Зверей, и рыб, и птиц, и этого всего Властитель — человек, в ком больше божество Себя явило. Он владыка над землею И над бездонною пучиною морскою. ………………………………………….. Он также властелин и над своей женою: И потому должна ты быть его слугою.В последнем действии пьесы Адриана в разговоре с игуменьей обвиняет своего мужа в том, что он питает любовь к другим женщинам:
Игуменья. За это Бранить его вам следовало. Адриана. О, Я сколько раз бранила! Игуменья. Верно слишком Умеренно? Адриана. Насколько позволял Мой кроткий нрав Игуменья. Конечно, не при людях? Адриана. Нет, и при них. Игуменья. Не часто, может быть? Адриана. Мы ни о чем другом не говорили. В постели я ему мешала спать Упреками; от них и за столом Не мог он есть; наедине лишь это Служило мне предметом всех бесед; При людях я на это намекала Ему не раз; всегда твердила я, Что низко он и гадко поступает. Игуменья. Вот отчего и помешался он. Речь ядовитая жены ревнивой Смертельный яд, смертельнее, чем зуб Взбесившейся собаки. Нарушала Ты сон его упреками — и вот Бессонница расстроила рассудок. Ты говоришь, что кушанья его Укорами ты вечно приправляла; Но при еде тревожной не варит, Как следует желудок — и родится От этого горячки страшный пыл.Совершенно так же бросается в глаза заключительное место в шекспировской переработке старинной пьесы «Укрощение строптивой». По-видимому, он выполнил этот труд по заказу своих товарищей и отнесся к нему слегка. Язык и стих менее тщательно разработаны, чем в его других юношеских комедиях; но, если мы подробно сличим с подлинником шекспировскую пьесу, в заглавии которой строптивая женщина получила определенный член (the) вместо неопределенного (а), то, как ранее в трагедии, так теперь в комедии нам откроется возможность как нельзя лучше заглянуть во внутреннюю мастерскую поэта. Мало найдется примеров более поучительных, чем этот.
Многие, наверно, задавались вопросом, что имел в виду Шекспир, вставляя именно эту пьесу в рамку, знакомую нам по пьесе Гольберга «Jeppe paa Bjerget». Ответ будет тот, что он ровно ничего не имел при этом в виду. Он просто-напросто взял эту рамку из своего оригинала. Впрочем, он с начала до конца исправил, переделал, более того, создал заново старую пьесу, которая не только гораздо более неуклюжа и груба, чем шекспировская, но, при всей своей неуклюжести и детскости, лишена соли и силы.
Всего резче почувствуем мы, однако, разницу, прочитав заключительную реплику Катарины, которая, сама получив исцеление, старается образумить другую строптивую женщину.
В старой пьесе она начинает здесь целой космогонией: мир был сперва бесформенным, хаотическим, бестелесным миром, пока Бог, Царь Царей, в течение шести дней не дал ему устройства. Потом он создал по своему образу Адама, мужчину, взял у него ребро и из страдания woe мужчины сотворил the woman, женщину. От нее произошел грех; из-за нее Адам был обречен смерти. Но, как Сарра повиновалась своему супругу, так и мы должны слушаться своих мужей, любить их, заботиться о них, давать им пищу, поддерживать их, если они в каком-либо отношении нуждаются в нашей помощи; мы должны подкладывать свои руки под их ноги, чтобы они ступали на них, если это может доставить им удобство, — и она сама подает пример, подкладывая свою руку под стопу супруга.
Шекспир отбрасывает всю эту теологию и всю библейскую мотивировку с тем, однако, чтобы прийти к совершенно тому же результату:
Фи! Стыд! Разгладь наморщенные брови И гневных взглядов не бросай на мужа И господина: он твой повелитель. ……………………………………. Во гневе женщина — источник мутный, Лишенный красоты и чистоты. И как бы жажда ни была велика У человека, он его минует. Твой муж — твой господин; он твой хранитель. Он жизнь твоя, твоя Глава, твой царь; Он о твоем печется содержаньи, Он переносит тягости труда На суше, в море, в бурю, в непогоду, А ты в тепле, в покое, безопасна И никакой не требует он дани, А лишь любви, покорности и ласки Ничтожной платы за его труды! Как подданный перед своим монархом, Так и жена должна быть перед мужем; Но если же упряма, своенравна, Сурова, зла и непокорна воле, Тогда она — преступный возмутитель, Изменница пред любящим владыкой и т. д.В этих переработанных пьесах, в зависимости отчасти от характера источников, отчасти от собственного характера Шекспира, его занимают, следовательно, отношения между мужчиной и женщиной, в особенности отношения между супругами. Однако это не первые его работы. Приблизительно с двадцати пяти лет Шекспир начал свою самостоятельную деятельность в области драматической поэзии и, как это было естественно при его юном возрасте и свойственной молодости смелой жизнерадостности, начал ее легкими, веселыми комедиями. Комедии о близнецах и о строптивой женщине — не самые ранние его произведения в этом роде.
Первой его комедией по многим причинам, частью метрическим — особенно частое употребление рифм, частью техническим — драматическая слабость пьесы, — должны быть признаны «Бесплодные усилия любви». Различные намеки, как, например, на пляшущую лошадь (I, 2), которую в первый раз стали показывать в 1588 г., затем имена действующих лиц, Бирон, Лонгвиль, Дюмен (Due du Maine), соответствующие людям, игравшим выдающуюся роль во французской политике в 1581–1590 гг., наконец, сам король Наваррский, который здесь, в конце комедии, делается, в качестве жениха принцессы, наследником французского престола, и под которым, наверно, подразумевается Генрих Наваррский, вступивший на французский престол как раз в 1589 г., — указывают на то, что 1589 г. был датой этой пьесы в ее первоначальном виде. Но это не та форма, в которой мы читаем ее теперь; мы видим, что когда она игралась перед Елизаветой на рождественских праздниках в 1597 г., то, как показывает заглавие напечатанной пьесы, она была просмотрена и дополнена. Немало найдется в ней мест, где еще возможно проследить переработку, а именно там, где по небрежности первоначальный набросок оставлен рядом с исправленным текстом.
Это можно проверить даже в переводе, в длинной реплике Бирона (IV, 3). Прочтите эти строки:
Возможно ли, чтоб вы, мой повелитель, Иль ты, иль ты, нашли благую суть Познания, не видя пред собою Красавицы? Доктрина эта мной Из женских глаз почерпнута. Поверьте, Они — тот мир, та книга, тот рассадник Познания, откуда Прометей Извлек огонь.Это — старый текст. Когда в продолжение реплики те же обороты повторяются в другом и лучшем выполнении, то перед нами оказывается переработка:
Скажите откровенно, Мой государь, и ты, и ты, нашли ль Когда-нибудь в свинцовом созерцании Вы тот огонь, которым чудный взгляд Красавицы так щедро, поэтично Вас награждал? Друзья, доктрину эту Я почерпнул из женских глаз. Они Всегда горят, как пламень Прометея; Они нам все — наука, мир искусств; Они одни питают, разъясняют И берегут вселенную; без них Нет для людей дороги к совершенству.Два последние акта, стоящие много выше первых, очевидно, особенно выиграли при пересмотре, и некоторые частности, как, например, реплики принцессы и Бирона, обнаруживают здесь местами более зрелый стиль и более зрелый способ чувствования Шекспира.
Эта первая попытка стрэтфордского юноши написать комедию представляет то исключение, что к ней не найдено никакого источника. Шекспир здесь в первый (и может быть последний) раз захотел создать все сам от себя, без внешней опоры. Поэтому и в драматическом отношении пьеса вышла самой незначительной из всех им написанных; даже в Англии она никогда почти не ставилась, да вряд ли и годится сколько-нибудь для сцены.
Она трактует о двух вещах. Во-первых, конечно, о любви — о чем другом могла трактовать первая пьеса 25-летнего юноши? — но о любви, чуждой всякой страсти, больше того, почти лишенной всякого более или менее глубокого личного чувства, любви, наполовину деланной, любви, составляющей тему для игры словами. Но, кроме того, пьеса трактует о том, что по необходимости должно было быть центром во всех думах юного поэта, который под перекрестным огнем новых столичных впечатлений чувствовал себя призванным создать себе свой язык и свой стиль, а именно о самом языке, самом поэтическом выражении.
Как только читатель раскроет первое произведение Шекспира, он сейчас же заметит, что здесь в различных ролях поэт потешается над смешными и неестественными сторонами современного ему способа выражения, что вообще действующие лица, как в своем пафосе, так и в шутках и остроумии проявляют известную, полуюмористическую напыщенность. Сплошь и рядом получается такое впечатление, будто они говорят не для того, чтобы объяснить что-нибудь друг другу, или склонить к чему-нибудь, или убедить в чем-нибудь друг друга, а для того, чтобы дать простор своему воображению, чтобы играть словами, прицепляться к словам, расщеплять их и складывать, расставлять их по аллитерации, комбинировать их в почти однозвучные антитезы, и так же беззаботно играть теми образами, в которые воплощаются слова, освещать их новыми, добытыми издалека сравнениями и т. д., так что разговор является не столько действием или введением к действию, сколько турниром вволю резвящихся слов, между тем как музыка стиха или прозы поочередно выражает задор, нежность, аффектацию, радость жизни, веселость или насмешку. Несмотря на некоторую поверхностность, мы видим здесь широкий поток всех жизненных соков, знаменующий собою эпоху Возрождения. Если в одной реплике говорится:
Красавица с рукою белоснежной, На сладкое словечко… —то ответ гласит:
Сливки, мед И сахар — вот три сладких слова.И с полным правом говорит в пьесе Бойе:
У девушек насмешниц Язык так остр, как бритвы лезвие, Что волосок, для глаза незаметный, Разрезывает ловко: их слова Несутся так, что смыслом не поймаешь Их ни за что; а крылья их острот Быстрей стрелы, картечи, ветра, мысли…Но это только одна сторона дела, юношески веселая, боевая готовность, встречающаяся во все времена. Здесь в языке, которым говорят главные действующие лица, и в различных формах стилистической оснащенности, культивируемых второстепенными лицами, есть нечто, доступное пониманию лишь с исторической точки зрения.
Как общий термин для этих форм стиля употребляют слово эвфуизм, слово, ведущее свое происхождение от изданного в 1578 году Джоном Лилли романа «Эвфуэс, или Анатомия остроумия». Лилли был, кроме того, автором десяти пьес, которые все написаны до 1589 г., и нет сомнения, что он оказал весьма значительное влияние на драматический стиль Шекспира.
Но лишь самый узкий способ смотреть на вещи может возвести к нему весь этот прибой волн в дикции английской поэзии, носящей печать Ренессанса.
Это было общеевропейское движение. Оно имело своим первоначальным источником энтузиазм к античным литературам, в сравнении с языком которых туземная речь казалась низменной и простой. Чтобы приблизиться к латинским образцам, стали искать преувеличенных, гиперболических выражений, искать нарядных эпитетов и богатых метафор, и в то же время придавать полноту выражению, ставя рядом с родным словом более утонченное иностранное обозначение того же предмета. Так возник «высокий стиль», «обработанный стиль». В Италии поэзия находилась под властью учеников Петрарки с их concetti, в эпоху Шекспира там выступил на первый план Марини со своими антитезами и игрою слов; во Франции Ронсар и его школа придерживались родственного антикизирующего направления; в Испании новый стиль имел своим представителем Гевару, под непосредственным влиянием которого находился Лилли.
Джон Лилли был лет на десять старше Шекспира. Он родился в 1553 или 1554 г. в Кенте, в семье простолюдинов. Тем не менее, и ему выпала доля в научном образовании того времени, он учился, благодаря, вероятно, поддержке лорда Борлея, в Оксфорде, где в 1575 г. получил степень магистра, впоследствии перешел в Кембриджский университет и вскоре после того, должно быть вследствие блестящего успеха своего романа «Эвфуэс», был призван ко двору королевы Елизаветы. Десять лет кряду считался он придворным поэтом, как в наши дни какой-нибудь поэт-лауреат. Но выгоды ему от этого не было никакой. Он постоянно надеялся, что его произведут в Master of the Revels (заведующего придворными увеселениями), но надежды его оставались напрасны, и два трогательных письма его к Елизавете, одно от 1590 г., другое от 1593 г, в которых он тщетно ходатайствует об этой должности, показывают, что после девятилетней деятельности при дворе он чувствовал то, что чувствует человек, потерпевший кораблекрушение, а по истечении тринадцати лет предался отчаянию. На него взваливали все обязанности, соединенные с местом, которого он домогался, но в самом месте ему отказывали. Как Грин и Марло, он прожил несчастливцем и умер в 1606 г., бедный, обремененный долгами, оставив свою семью в нищете.
Его книга «Эвфуэс» написана для двора Елизаветы. Сама королева изучала и переводила древних авторов, и тон при дворе требовал постоянного употребления мифологических сравнений и намеков на жизнь древнего мира. Лилли во всех своих сочинениях проявляет ту же склонность. Он цитирует места из Цицерона, подражает Плавту, приводит множество стихов из Вергилия и Овидия, в своем «Эвфуэсе» почти дословно пользуется книгой Плутарха о воспитании и заимствует из «Метаморфоз» Овидия сюжеты для многих своих пьес. Когда в комедии «Сон в летнюю ночь» Основа после превращения является с ослиной головой, и когда в этом виде он восклицает: «У меня чудесный музыкальный слух; послушаем что-нибудь на щипцах или на гребешке», то, наверно, за ним кроется превращенный образ Мидаса у Овидия. Но посредствующим звеном между ними служат превращения у Лилли.
Не одно только отношение между современной эпохой и древним миром определяло в те дни новый стиль. В равной степени его определяло новое отношение между различными странами одного и того же века. До изобретения книгопечатания страны были умственно изолированы. Теперь новые представления и мысли стали переноситься из одной страны в другую с гораздо большей легкостью, чем прежде. В XVI столетии европейские нации начинают создавать каждая свою переводную литературу. Иностранные нравы и обычаи стали входить в моду как в костюмах, так и в речи и способствовали, со своей стороны, тому, что стиль сделался разнородным и пестрым.
Затем, что касается Англии, то для нее имело величайшее значение то обстоятельство, что как раз в тот момент, когда движение, вызванное Ренессансом, приносило в этой стране свои литературные плоды, на королевском престоле восседала женщина, и притом женщина, которая интересовалась этим движением, не имея, однако, тонкого поэтического чутья или изощренного художественного вкуса, но, будучи тщеславна и втихомолку галантна, требовала беспрестанного поклонения своей особе и обыкновенно принимала его, большею частью в экзальтированных мифологических выражениях, со стороны лучших людей страны, как например Сидней, Спенсер, Рэлей, и которая, в сущности, ожидала, что вся изящная литература обратится к ней, как к своему центру Шекспир — единственный великий поэт той эпохи, напрямик отказавшийся исполнить это требование.
Одним из результатов такого положения литературы по отношению к Елизавете было то, что эта литература стала вообще обращаться к женщине, к дамам высшего света. «Эвфуэс» — книга, написанная для дам. И, в сущности, новый стиль означает ближе всего развитие более утонченной речи в обращении с прекрасным полом.
В одной из своих «масок» Филипп Сидней приветствовал 45-летнюю Елизавету, как «Lady of the May» («Царицу Мая»). Но письмо Вальтера Рэлея, написанное им из тюрьмы Роберту Сесилю о Елизавете, когда он впал в немилость, служит особенно ярким примером эвфуистического стиля, как нельзя более подходящего к страсти, которую сорокалетний Воин якобы питал к шестидесятилетней девственнице, державшей в своей власти его судьбу:
«Пока она еще была ближе ко мне, так что я через день или через два мог получать о ней вести, моя скорбь была еще не столь сильна; теперь же мое сердце повергнуто в пучину отчаяния. Я, привыкший видеть, как она ездит верхом, подобно Александру, охотится, подобно Диане, ступает на земле, подобно Венере, между тем как легкий ветерок, развевая ее прекрасные волосы, ласкает ими ее ланиты, нежные, как у нимфы; я, привыкший видеть ее порою сидят пей в тени, как богиню, порою поющей, как ангел, порою играющей, как Орфей! Столь великую муку вмещает в себе этот мир! Эта утрата похитила все у меня» и т. д.
Немецкий ученый Ландманн, избравший эвфуизм предметом своего специального изучения, справедливо заметил, что самые крупные стилистические излишества и самые крупные погрешности против хорошего вкуса постоянно встречаются в то время в тех сочинениях, которые написаны для дам, написаны о прелестях прекрасного пола и с намерением произвести эффект ловким остроумием.
Это была, может быть, исходная точка нового стилистического движения; но вскоре, оставив заботу об угождении читательницам, оно стало преследовать удовлетворение общей людям Ренессанса склонности вкладывать всю свою природу в свой язык, придавать ему таким образом характерный отпечаток манерности и доходящей до пределов самой смелой вычурности, — удовлетворение общей им потребности придавать речи высокий рельеф и яркость, заставлять ее блестеть и искриться на солнце, как алмазы и фальшивые драгоценные камни, заставлять ее, при всей своей нелепости, звучать, петь и рифмовать.
Возьмите как поучительную иллюстрацию реплику (III, 1), с которой паж Мот обращается в «Бесплодных усилиях любви» к Армадо:
Мот. Угодно вам, сударь, победить вашу возлюбленную французским способом?
Армадо. Объясни, что ты хочешь этим сказать?
Мот. А вот что, безукоризненный господин мой: спойте ей какую-нибудь штучку кончиком языка; в виде аккомпанемента к ней пропляшите канарийский танец; приправьте это подмигиванием, испустите музыкальный вздох, пустите несколько трелей то горлом, как будто глотая любовь, то носом, как будто обнюхивая ее; шляпу наденьте, как вывеску, на лавку ваших глаз; руки скрестите на тонком животе, точно кролик на вертеле, или спрячьте их в карманы, как рисовали людей на старых портретах. Не держитесь долго одного и того же тона; сделали одну штуку — сейчас же принимайтесь за другую. Эти-то вещи, эти-то приемы ловят в западню хорошеньких женщин которые, впрочем, и без того ловятся; эти-то способности придают людям, обладающим ими, большое значение.
Ландманн убедительнейшим образом доказал, что «Эвфуэс» есть не что иное, как подражание, весьма даже близкое жестами к своему подлиннику, вышедшей 50 годами ранее книги испанца Гевары, вымышленной биографии Марка Аврелия, которая в течение сорока лет была переведена шесть раз на английский язык. Она пользовалась такой популярностью, что один из этих переводов выдержал не менее двенадцати изданий. И стиль, и содержание совершенно одинаковы в «Эвфуэсе» и в книге Гевары, озаглавленной в переделке Томаса Норта «The Dial of Princes».
Главные особенности эвфуизма заключались в параллельных, однозвучных антитезах, в длинных рядах сравнений с действительными или воображаемыми явлениями природы, по большей части заимствованными из естественной истории Плиния, в пристрастии к образам, взятым из истории или мифологии древнего мира, и к употреблению аллитерации.
Этот настоящий эвфуизм Шекспир осмеял лишь позднее, именно в том месте первой части «Генриха IV», где Фальстаф, представляющий короля, произносит свою хорошо известную, длинную реплику, начинающуюся так:
Молчи, моя добрая пивная кружка! Молчи, радость моего чрева!В ней Шекспир прямо потешается над естественноисторическими метафорами Лилли. Фальстаф говорит:
Гарри, я удивляюсь не только тому, где ты убиваешь свое время, но и обществу, которым окружаешь себя. Пусть ромашка растет тем сильнее, чем больше ее топчут, но молодость изнашивается тем скорее, чем больше ее расточают.
Сравните у Лилли (по цитате Линдманна):
Слишком усердное учение мутит их мозг, ибо (говорят они), хотя железо становится тем светлее, чем более его пускают в ход, однако серебро совершенно чернеет от большого употребления… и хотя ромашка имеет такое свойство, что чем больше по ней ступают и топчут ее, тем больше она разрастается, но фиалка совсем напротив: чем чаще ее хватают пальцами и трогают, тем скорее она блекнет и вянет.
Далее Фальстаф так божественно говорит:
Есть, Гарри, вещь, о которой ты часто слыхал и которая известна многим в нашем королевстве под названием дегтя; этот деготь, как повествуют древние писатели, марает…
Эта бесподобная ссылка на древних писателей — в подкрепление столь мало таинственной вещи, как липкое свойство дегтя, — есть опять-таки чистый Лилли.
И когда, наконец, Фальстаф в последней части своей реплики употребляет эти обороты, которые независимо от неизбежного несовершенства перевода, звучат в наших ушах так странно и так ненатурально:
Гарри, я говорю теперь тебе, упоенный не вином, а слезами, не в радости, а в огорчении, не одними словами, но и стонами, –
то здесь снова видно намерение поэта поразить насмешкой эвфуистический стиль, так как слова эти изложены по-английски приторными и изысканными аллитерациями.
Нельзя сказать в самом строгом смысле, чтобы в «Бесплодных усилиях любви» Шекспир юношески издевался собственно над эвфуизмом. Это различные, второстепенные виды неестественности в выражении и стиле; во-первых, напыщенность, представляемая смехотворным испанцем Армадо (очевидно, с целью напомнить его именем о «Непобедимой Армаде»), затем педантство, выступающее в образе школьного учителя Олоферна, в котором Шекспир, как гласит старинное предание, хотел вывести преподавателя иностранных языков Флорио, переводчика Монтеня, предположение, имеющее, однако, за себя мало вероятия вследствие близких отношений между Флорио и покровителем Шекспира, Саутгемптоном. Наконец, здесь перед нами свойственный тому веку преувеличенный и изысканный способ выражения, от которого в то время и сам Шекспир еще никак не мог освободиться; он поднимается над ним и громит его в конце пьесы. К нему относятся слова Бирона в его первой большой реплике, во второй сцене 5-го действия:
Весь этот сброд Тафтяных фраз, речей, из шелка свитых, Гипербол трехэтажных, пышных слов, Надутого педантства — эти мухи Зловредные кусали так меня, Что я распух. От них я отрекаюсь И белою перчаткою моей А как рука бела, известно Богу, Клянусь тебе отныне чувства все Моей любви высказывать посредством Простого «да» из ситца или «нет» Из честного холста.Сразу, в первой же сцене пьесы, король характеризует Армадо следующими, слишком снисходительными словами:
Здесь есть, вы знаете, приезжий из Испаньи: По знанью новых мод он первый кавалер; В мозгу его рудник, откуда извлекает Он фразы пышные; звук собственных речей Он восхитительной гармонией считает.Педант Олоферн, за полтораста лет до гольберговской «Else Skolemesters», выражается приблизительно так же, как она:
Задней частью дня, великодушнейший вельможа, уместно и целесообразно выражают понятие о послеобеденном времени. Выражение это очень удачно прибрано, придумано, изобретено — уверяю вас, милостивый государь мой, уверяю вас.
По всей вероятности, надутый слог Армад о является не слишком преувеличенной карикатурой на напыщенной стиль того времени; нельзя отрицать, что школьный учитель Ромбус в «Lady of the May» Филиппа Сиднея обращается к королеве на языке, ничем не уступающем языку Олоферна. Но что толку в пародии, если, несмотря на все приложенное к ней усердие и искусство, она столь же утомительна, как манера, которую она осмеивает! А, к сожалению, здесь именно так и есть. Шекспир был слишком молод и слишком мало самостоятелен, чтобы высоко воспарить над смешными явлениями, которым он хочет нанести удар, и чтобы смести их в сторону своим превосходством. Он углубляется в них, обстоятельно выдвигает их нелепости, и настолько еще неопытен, что не замечает, как этим он искушает терпение зрителей и читателей.
Весьма характерно для вкуса Елизаветы, что в 1598 г. она смотрела эту пьесу с удовольствием. Ее умной голове нравилось это фехтование словами. Со своей грубой чувственностью, не оставлявшей сомнений насчет ее происхождения от Генриха VIII и Анны Болейн, она забавлялась вольной речью пьесы, даже комическими непристойностями в разговоре между Бойе и Марией (действие IV, сц. 1).
Как и следовало ожидать, Шекспир находится здесь в большей зависимости от образцов, нежели в своих позднейших произведениях. От Лилли, бывшего, когда он начал писать, самым популярным из современных авторов комедий, он, вероятно, заимствовал идею своего Армад о, довольно точно соответствующего сэру Тофасу (Sir Tophas) в «Эндимионе» Лилли, фигуре, напоминающей, в свою очередь, Пиргополиника, хвастливого воина древней латинской комедии. Хвастун и педант, две его комические фигуры в этой пьесе, являются, как известно, стереотипными фигурами и на итальянской сцене, в столь многих отношениях служившей образцом для только что возникавшей английской комедии.
Однако в этой первой легкой пьесе нетрудно уловить личный элемент; это — полный веселья протест юного поэта против жизни, опутанной неподвижными и искусственными правилами воздержания, какие хочет ввести при своем дворе король Наваррский, с постоянным погружением в науку, бодрствованием, постом и отречением от женщин. Против этого-то порабощения жизни и вооружается комедия языком природы, в особенности через Бирона как своего органа, в репликах которого, как справедливо заметил Дауден, нередко слышится собственный голос Шекспира. В нем и его Розалине мы имеем первый неуверенный эскиз мастерской парочки, Бенедикта и Беатриче в «Много шума из ничего». Лучшие из реплик Бирона, те, которые написаны белыми стихами, очевидно, возникли при пересмотре пьесы в 1598 г. Но они соответствуют духу первоначальной пьесы и лишь яснее и шире, чем Шекспир мог это сделать ранее, выражают то, что он хотел ею сказать. Еще в конце третьего действия Бирон обороняется от власти любви, насколько у него хватает сил:
Как! Я люблю? Как! Я ищу жену? Жену, что, как известно, вечно схожа С немецкими часами: как ты их Ни заводи — идти не могут верно И требуют поправки каждый день.Но его большая великолепная речь в 4-м действии есть как бы гимн божеству, которое названо в заглавии пьесы и об аванпостных действиях которого она трактует:
Другие все науки Лежат в мозгу недвижно; слуги их Работают бесплодно; скудной жатвой Награждены их тяжкие труды. Но та любовь, которой научает Взгляд женщины, не будет взаперти Лежать в мозгу. О, нет, с стихийной мощью, Стремительно, как мысль она бежит По всей душе и удвояет силу Всех наших сил, крепя и возвышая Природу их. Она дает глазам Чудесную способность прозреванья; Влюбленный глаз способен ослепить Орлиный взор; влюбленный слух услышит Слабейший звук, невнятный для ушей Опасливого вора; осязанье Влюбленного чувствительней, нежней, Чем нежный рог улитки… ………………………………….. На всей земле не встретите поэта, Дерзнувшего приняться за перо, Не омокнув его сперва в прекрасных Слезах любви; зато как мощно он Своим стихом пленяет слух суровый!Мы должны поверить на слово Бирону-Шекспиру, что чувства, с самых первых шагов его в Лондоне отверзшие уста его для поэтических песен, были пламенные и нежные чувства.
Глава 9
«Венера и Адонис». — Описание природы. — «Лукреция». — Отношение к живописи
Хотя Шекспир издал «Венеру и Адониса», когда ему было уже 29 лет, весной 1593 г., но эта поэма, наверно, задумана и выполнена несколькими годами ранее. Если в посвящении молодому, в то время двадцатилетнему лорду Саутгемптону он называет ее «первым плодом своего творчества» (the first heir of my invention), то это вовсе не значит, что она буквально представляет первое поэтическое произведение Шекспира, ибо его работы для театра не считались созданиями свободного поэтического таланта. Но юношески уснащенный стиль обнаруживает, что она написана в ранней его молодости, и что среди произведений Шекспира она должна быть, следовательно, отнесена к 1590–1591 гг.
К этому времени он успел, как мы видели, занять при своем театре прочное положение в качестве актера и сумел сделаться в нем и полезным, и популярным в качестве переделывателя старых пьес и самостоятельного писателя для сцены. Но в литературном смысле драматурги в те времена совсем не считались писателями. Между сочинителем комедий (playwright) и настоящим поэтом существовала большая разница. Основатель знаменитой бодлеевской библиотеки в Оксфорде, Томас Бодлей, расширив и преобразовав около 1600 г. старую университетскую библиотеку и дав свое имя громадному книгохранилищу, определил, что такая дрянь (riffe-raffes), как драматические пьесы, никогда не должна иметь туда доступа.
Не будучи вообще честолюбив, Шекспир имел весьма естественное желание составить себе имя в литературе. Он хотел завоевать себе одинаковые права с поэтами, хотел снискать расположение молодых вельмож, с которыми познакомился на сцене. И вместе с тем он хотел показать, что и он усвоил себе дух античного мира.
Незадолго перед тем Спенсер (род. в 1553 г.) вызвал всеобщий восторг первыми песнями своей знаменитой эпической поэмы. Шекспиру было, конечно, лестно вступить в состязание со своим великим предшественником, подобно тому, как он уже состязался с первым великим учителем своим в драме и своим ровесником Марло.
Небольшая поэма «Венера и Адонис», вместе со служащей ей контрастом и вышедшей в следующем году поэмой о Лукреции, имеет для нас, между прочим, то крупное значение, что лишь здесь мы видим перед собой текст, относительно которого знаем, что Шекспир написал его точь-в-точь так, а не иначе, сам отдал его в печать и просмотрел в корректуре. В этот момент Италия была великой культурной страной. Поэтому итальянский стиль и вкус руководили и английской лирикой, и мелкими английскими эпическими поэмами того времени. Шекспир, идя по следам итальянцев, дебютирует в «Венере и Адонисе» сочинением чувственной и сентиментальной поэмы. Он пытается вторить нежным и туманящим чувства аккордам своих южных предшественников. В соответствии с этим, из поэтов древнего мира образцом его является Овидий; он предпослал своей поэме, в виде эпиграфа, две строки из «Amores» Овидия, само же действие в ней есть распространенная сцена из «Метаморфоз» того же поэта.
Когда в наши дни произносят имя Шекспира, то всего чаще оно звучит трагически; оно напоминает Эсхила, Микеланджело, Бетховена. Но мы позабыли, что у него была и моцартовская жилка, и что современники превозносили не только кротость и приветливость его характера, но и сладость его поэзии.
В «Венере и Адонисе» пламенеет вся горячая чувственность Ренессанса и молодого Шекспира. Это — вполне эротическая поэма и, по свидетельству современников, она была настольной книгой у всякой легкомысленной женщины в Лондоне.
Ход действия в поэме дает целый ряд поводов и предлогов к сладострастным положениям и описаниям того, как Венера тщетно ласкает холодного и целомудренного юношу, столь же неприступного по своей ранней молодости, как иная застенчивая женщина. Подробно изображаются ее поцелуи, ласки и объятия. Можно подумать, что Тициан или Рубенс поставил модели в нежные ситуации и написал их то в одной позе, то в другой. Затем следует роскошная сцена, где конь Адониса покидает его, чтобы бежать навстречу приближающейся кобылице, и вывод, который Венера хочет извлечь отсюда. Далее следуют новые сцены ее стараний приблизиться к нему и ее предложений — сцены столь смелые, что их едва ли потерпели бы в наши дни (строфы 40 и 41).
Здесь, в изображении страха Венеры, когда Адонис выражает желание отправиться на охоту за кабанами, вводится элемент сердечного чувства. Но затем идет новое блестящее описание бегущего вепря и роскошное, хотя несколько смягченное, изображение нагого молодого тела, запятнанного кровью. Тот же огонь, то же увлечение красками, как в картине какого-нибудь мастера итальянского Возрождения, написанной сотней лет раньше.
Особенно характерно здесь что-то вкрадчивое, сладкое, чуть ли не лакомое в слоге, — черта, бывшая, вероятно, главной причиной того, что когда ближайшие современники говорят о стиле Шекспира, первое слово, которое им просится на язык, это — мед. В 1595 г. Джон Уивер называет Шекспира сладкозвучным; в 1598 г. Френсис Мирес применяет к нему то же выражение и прибавляет «медоточивый» (melliflous and honytongued).
В этом языке, действительно, много сладости. По временам нежность выражается с пленительной силой. Когда Адонис впервые в довольно длинной реплике сурово отвергает Венеру, она отвечает ему:
Как! Ты можешь говорить? У тебя есть язык? О, если бы ты не имел его, или если бы я была лишена слуха! Твой голос, подобный пению сирены, причиняет мне новую пытку. И ранее страдала я при виде тебя, теперь же вдвойне страдаю. О мелодические диссонансы! О небесные, сурово звучащие аккорды, о ты, глубоко сладкая музыка слуха, наносящая сердцу столь глубоко мучительные раны!
Но стиль представляет в то же время множество образчиков безвкусицы, свойственной итальянским художникам слова:
Она желает, чтобы ее ланиты были цветниками, дабы их орошал сладкий дождь его дыхания.
О ямочках на его щеках говорится:
Эти прелестные ямочки, эти очаровательные кладези открыли свои уста, чтобы поглотить склонность Венеры.
Адонис говорит:
Моя любовь к любви есть лишь любовь к пониманию любви.
Венера перечисляет, что такое Адонис для всех ее внешних чувств:
И какою трапезою был бы ты для вкуса, кормильца и питателя всех других чувств! Разве не пожелали бы они, чтобы пиршество длилось вечно, разве не повелели бы они подозрительности дважды повернуть ключ, чтобы зависть, угрюмая, непрошеная гостья, не подкралась и не нарушила наслаждения.
Подобные безвкусицы нередко встречаются и в дикции первой комедии Шекспира; они соответствуют в своем роде тому, чем в «Тите Андронике» является самоуслаждение нагроможденными ужасами — это манерность еще не развивавшегося искусства.
Между тем могучая чувственность предвозвещает здесь выражение любовной страсти в «Ромео и Джульетте», а в конце «Венеры и Адониса» Шекспир как бы символически возносится от изображения простого пыла чувств к намеку на ту любовь, в которой чувственность является лишь одним из элементов. Адонис говорит у него:
Любовь бодрит, как солнце после дождя, сладострастие же действует, как буря после солнца, кроткая весна любви вечно остается свежей; зима сладострастия наступает, прежде чем лето наполовину прошло; любовь не пресыщается, сладострастие умирает, как обжора; любовь есть истина, сладострастие исполнено лжи.
Было бы, конечно, нелепо придавать слишком много веса таким добродетельным антитезам в этой недобродетельной поэме. Гораздо важнее то, что описания природы, например, описание бегущего зайца, несравненны здесь по верности и тонкости наблюдения, и поучительно видеть, как стиль Шекспира уже здесь возвышается местами до величия.
Возьмите изображение коней и вепря. Проследите штрих за штрихом этот портрет кабана, его хребет с щетинистыми иглами, которые угрожают, его огненные глаза, его глубоко взрывающее землю рыло и короткий, толстый затылок:
И в страхе перед ним кустарник сторониться Спешит, когда стремглав сквозь чащу он стремится.Это как будто написано Снайдерсом на охотничьей сцене, где человеческие фигуры принадлежат кисти Рубенса.
Сам Шекспир как бы сознавал, с каким совершенством он изобразил коня. Он употребляет выражение, что если бы живописец захотел превзойти саму жизнь и дать нам изображение коня, который, благодаря искусству, был бы прекраснее, чем те, которые созданы природой, то он дал бы нам такого коня, как этот, одинаково замечательный своими формами, своей отвагой, своей мастью и ходом. Мы чувствуем наслаждение Шекспира природой в такой строфе, как эта:
Копыта круглые, сам стройный, крутобокий, С волнистой гривою, с короткой головой, С ногами тонкими, стан крепкий, круп широкий, Шерсть шелковистая, хвост длинный и густой Ну, словом, всем хорош был этот конь прекрасный. Его украсить мог собой лишь всадник властный…И мастерски изображены все его движения:
То вдруг с разбега он, как вкопанный, стоит, То в сторону бежит, бросаясь, как в испуге, То с ветром споря, вновь он бешено бежит…Мы слышим, как ветер поет свою песню в его волнистой гриве и развевающемся хвосте. Это почти напоминает великолепное описание коня в конце книги Иова.
Вот как велик объем стиля: в этой маленькой юношеской поэме Шекспира: от Овидия к Ветхому Завету, от выражений культуры, изощренной до искусственности, к величавым и простым выражениям природы.
Поэма о Лукреции («The rape of Lucrece») появилась в следующем году также с посвящением лорду Саутгемптону, но хотя это посвящение написано с сознанием лежащей между поэтом и графом социальной пропасти, оно отличается тем не менее более дружеским тоном. Поэма о Лукреции служит как бы контрастом к предшествовавшему стихотворению. Там поэт воспевал целомудрие мужчины, здесь, напротив, — целомудрие женщины; там он описывал необузданную страсть женщины, здесь же преступную любовь мужчины. Но в данном случае поэт обработал сюжет как строгий моралист. Поэма о Лукреции является дидактическим стихотворением о губительном действии необузданных, животных инстинктов. Эта поэма не пользовалась тем же успехом, как предыдущая. Она не доставит и современному читателю большого удовольствия.
В метрическом отношении это стихотворение отличается большей искусственностью, чем «Венера и Адонис». Шестистрочная строфа увеличена еще одним стихом, придающим ей больше благозвучия и торжественности. Главное достоинство поэмы о Лукреции заключается в великолепных и картинных описаниях и, порою, в очень тонком психологическом анализе. Однако, вообще говоря, пафос этого стихотворения только придуманная и изысканная риторика. Когда героиня произносит после совершенного над ней насилия свои жалобы, она, в сущности, только декламирует, правда, очень красноречиво, но все-таки этот обвинительный акт, переполненный восклицаниями и антитезами, похож скорее на цицероновскую речь, отделанную и продуманную в высшей степени тщательно до мельчайших подробностей. Грусть мужчин о смерти Лукреции облечена в искусственные и хитроумные реплики. Гениальность Шекспира чувствуется ярче всего в тех размышлениях, которыми пересыпан рассказ, потому что в них слышится голос великого сердцеведа. Мы встречаем здесь глубокомысленную строфу о мягкости и нежности женской души[1].
Самая замечательная часть темы, по крайней мере с чисто технической стороны, это — длинный ряд строф (стих 1366–1568), в которых описывается картина «Разрушение Трои», которую созерцает Лукреция, охваченная отчаянием, притом с такой силой, свежестью и наивностью, словно поэт впервые увидел картину. «Здесь виднелась рука воина, покоящаяся на голове другого; там стоял человек, на нос которого падала тень от уха соседа». Толкотня и давка изображены так правдоподобно на этой картине, что «вместо всей фигуры Ахиллеса можно было видеть только копье, обхваченное его рукой. Его самого можно было созерцать только глазами души. Там виднелась нога, рука, лицо, голова, и все эти части заменяли собою целое».
Как здесь, так и везде, где Шекспир говорит о пластическом искусстве, он восхваляет прежде всего верность природе. Мы уже упомянули, что первые картины, которые ему пришлось видеть, находились в часовне гильдии в Стрэтфорде. Быть может, он познакомился также с теми произведениями искусства, которые украшали замок Кенилворт или храм св. Марии в Уоррике. Он видел также, без сомнения, в известной лондонской таверне «Безмен» две знаменитые картины Гольбейна. Кроме того, в Лондоне существовали не только портреты фламандских художников, но также итальянские картины. Мы узнаем из одного каталога, составленного в 1613 г. веймарским принцем Иоганном Эрнстом, что в Уайтхолле висели портреты Юлия Цезаря и Лукреции, написанные, по его мнению, «в высшей степени художественно». Быть может, мысль о поэме была Шекспиру навеяна именно этой картиной. С более значительными по объему композициями поэт мог познакомиться по гобеленам (такие существовали, например, с изображениями из римской истории), и он видел, по всей вероятности, прекрасные нидерландские и итальянские картины, украшавшие блестящий дворец Nonsuch (см. Elze: «Shakespeare», 481).
Результаты эстетических размышлений поэта сводились, как упомянуто, к тому принципу, что художник обязан подслушать тайну природы и либо сравняться с ней, либо превзойти ее. Шекспир прославляет то и дело верность природе в области искусства. Он не интересовался, по-видимому, аллегорической и религиозной живописью. Он никогда не упоминает о ней, так же как о церковной музыке, хотя обнаруживает вообще большую любовь к музыке.
Описание картины, изображающей разрушение Трои, находится, тем не менее, в органической связи с самим рассказом; падение Трои символизирует падение римских царей, являющееся, в свою очередь, следствием преступления Тарквиния. Шекспир разработал сюжет не только с точки зрения личной морали. Он дает нам понять, что честь и благосостояние царской семьи могут пострадать от ее деспотического отношения к знатной фамилии. Он перенес в древнеримскую жизнь понятия о чести, выработанные рыцарством. Когда Лукреция требует, чтобы родственники отомстили за нее, она восклицает: «Ведь рыцари обязаны мстить за оскорбления, нанесенные беспомощным женщинам!»
Подобно тому, как Шекспир следовал при описании взятия Трои второй песне «Энеиды» Вергилия, так точно он заимствовал для поэмы в ее целом сжатое, но прекрасное и трогательное изложение истории Лукреции из второй книги Овидиевых «Fasti» (II, 185–852). Но если сопоставить стиль Шекспира со стилем Овидия, то такое сравнение окажется не в пользу первого. Овидий является строгим классиком, Шекспир производит впечатление полуварвара. Эстетические нелепости и антитезы Шекспира бросаются в глаза. Вы приходите в недоумение, читая, например, следующее место: «Часть ее крови осталась красной и чистой, другая часть приняла черный цвет; это была та кровь, которую осквернил лицемерный Тарквиний», или, например, следующее выражение: «Если наши дети умирают раньше нас, то мы — их потомки, а не они наши!»
Эта искусственность и это безвкусие были не только свойственны столетию Шекспира, но находились также в связи с теми большими достоинствами и редкими качествами, которые он стал обнаруживать с изумительной быстротой. Если он подчинился господствующим вкусам, то потому, что вращался в кругу своих товарищей по профессии, друзей и соперников, в этом маленьком мире художников, в атмосфере которого его гений пустил так быстро свои ростки.
В истории литературы говорят очень часто о литературных школах, и в этом выражении нет ничего преувеличенного: если нет школ, нет и периодов расцвета. Но слово «школа», имевшее такое прекрасное значение в греческом языке, превратилось в неуклюжий семинарский термин. Следовало бы лучше говорить о теплицах, а не о школах; о теплице классицизма, романтизма, Возрождения. В маленьких государствах, где отсутствует конкуренция, заставляющая напрягать все свои силы, искусство редко достигает безусловной высоты творчества. Там художник быстро занимает видное место и гибнет вследствие этого. Другие, не находя этой теплицы в пределах родины, ищут ее на чужбине: Гольберг в Голландии, Англии и Франции; Торвальдсен в Риме, Гейне в Париже. Шекспир прямо вступил в нее в Лондоне. Вот почему этот цветок распустился так пышно.
Он жил в постоянном соприкосновении со своими соперниками, с быстро и смело творившими умами. Этот алмаз был отшлифован алмазной пылью.
Среди тогдашних английских поэтов господствовала (как метко доказал Рюмелин) страсть превосходить друг друга. В начале своей деятельности Шекспир стремился совершенно естественно к тому, чтобы действовать на публику с большим умом и большей силой, чем остальные поэты. Впоследствии он думал, как Гамлет: «Как бы глубоко вы ни рыли, я рою всегда аршином глубже». Это одна из самых характерных фраз Гамлета и Шекспира. Это отношение к поэтам-соперникам является одной из действующих причин, под влиянием которой сложился юношеский стиль Шекспира в эпических поэмах и ранних драмах; отсюда эта погоня за остроумием, эта страсть к хитроумным тонкостям, эта вечная игра словами; отсюда крайности в изображаемых страстях, излишества в сравнениях и метафорах. Один образ порождает из себя другой с той плодовитостью и быстротой, с которыми размножаются некоторые низшие организмы.
Шекспир обладал способностью играть словами и мыслями, так как природа одарила его вообще всеми способностями. Так как он чувствовал свое духовное богатство, он не желал в чем-нибудь уступать. Но эти наклонности не составляли частицы его истинного «я». Как только в его произведениях прорывается его собственная личность, он обнаруживает гораздо более глубокую и чувствительную природу, чем та, которая выражалась в постоянных тонкостях стихотворных поэм и в вечном остроумничанье комедий.
Глава 10
«Сон в летнюю ночь». — Повод к написанию пьесы. — Элементы аристократический, народный, грубо-комический и фантастический
Несмотря на успех, которым пользовались поэмы «Венера» и «Лукреция», и несмотря на ту славу, которую они доставили автору, Шекспир, вероятно, угадал очень скоро со свойственной ему гениальной проницательностью, что не эпическая, а только драматическая поэзия даст ему возможность развернуть все его способности. И он достигает в этой области сразу удивительной высоты творчества. Он достигает ее в рамках драматической пьесы, но — что в высшей степени характерно — не при помощи драматической техники, а посредством той роскошной, бесподобной лирики, узорами которой он расшил тонкую, драматическую канву.
Его первое выдающееся произведение — шедевр грациозной лирики и забавного комизма — это «Сон в летнюю ночь», праздничная пьеса, или «маска» (хотя «маски» тогда еще не были введены в литературу как особенный вид сценического искусства), написанная, вероятно, к свадьбе какого-нибудь знатного покровителя, быть может, по случаю майского праздника 1590 г., устроенного после скромной свадьбы Эссекса со вдовой поэта Филиппа Сиднея. В пьесе встречается любопытное место (в монологе Оберона), где говорится о прелестной весталке, восседающей на троне и недоступной стрелам Купидона; конечно, это — явный, хоть и льстивый намек на королеву Елизавету и ее отношения к Лейстеру. Далее упоминается о маленьком цветочке, пораженном огненной стрелой Амура; это — опять ясное, не лишенное некоторой грусти, указание на брак матери Эссекса с Лейстером, женившимся после того, как королева отказала ему в своей руке. И многое в фигуре Тезея напоминает Эссекса в качестве жениха.
Трудно говорить серьезно о такой пьесе, как «Сон в летнюю ночь». Конечно, не стоит долго останавливаться на недостатках в характеристике действующих лиц, потому что не на нее обращено главное внимание автора; но, несмотря на все свои слабые стороны, эта пьеса представляет в целом одно из самых нежных, оригинальных и прекрасных созданий Шекспира.
Здесь он является продолжателем романтической поэзии Спенсера, которая как бы кристаллизуется под его пером и предвосхищает за несколько столетий мотивы духотворца Шелли. Фантастическое сновидение переходит само собой в игривую пародию. Границы между царством фей и страной шутов незаметно сливаются вместе. В этой пьесе есть элемент великосветский, аристократический в лице Тезея, Ипполиты и их свиты, далее элемент забавный, грубо-комический: это — постановка «Пирама и Тисбы» лондонскими ремесленниками, очерченными с божественным, задушевным юмором; здесь есть наконец, элемент сверхъестественный, поэтический — в скором времени он ярко блеснет в «Ромео и Джульетте», в рассказе Меркуцио о королеве Маб, где героям и героиням являются маленькие эльфы: Пок, Душистый Горошек, Горчичное Зернышко и т. д. В том царстве эльфов раздаются странные звуки и песни, царит то настроение, которое на нас навевает лунная, летняя ночь; в туманной мгле ведутся хороводы, растения и цветы сильнее выдыхают свой аромат, а светлое ночное небо горит розовым блеском. Это — совершенно своеобразный мир, населенный крошечным народом, который охотится в лепестках розы за червяками, дразнит летучих мышей, пугает пауков и повелевает соловьями. Эта великолепная картинка, нарисованная удивительно нежной кистью, содержит в зародыше все те бесконечные чудеса, которыми так богата будет потом романтическая поэзия в Англии, Германии и Дании.
Во французской литературе существует прелестная, более поздняя мифологическая пьеса— «Психея» Мольера. Самые прекрасные стихи любовного характера, произносимые героиней, написаны шестидесятилетним Корнелем. Это тоже в своем роде шедевр. Но сравните его со «Сном в летнюю ночь» и вы почувствуете, насколько великий англичанин превосходит величайшего француза своей свободной лирикой, чуждой всякого риторического напряжения, своей глубоко непосредственной поэзией, благоухающей как полевой клевер, сладкой, как цветочный мед, подобной сновидению с его воздушными, быстро сменяющимися фигурами.
В этой пьесе нет пафоса. Страсть не проявляется здесь с той опустошающей силой, с какой она проявится впоследствии у Шекспира. Нет, здесь поэт имеет в виду только любовь мечтательную, творящую все новые образы, стремление влюбленных пересоздавать и видоизменять предметы, словом, все то, что в чувстве любви надо отнести на счет воображения, в том числе ее изменчивость и непостоянство. Человек — существо без внутреннего компаса, находящееся под властью своих инстинктов и грез. Он живет в постоянном самообмане, и другие его также постоянно обманывают. В эти молодые годы Шекспир взглянул на это свойство человека не очень серьезно. Вот поэтому действующие лица в нашей пьесе кажутся в своей влюбленности и именно вследствие своей влюбленности в высшей степени неразумными существами. Они стремятся друг к другу и избегают друг друга, они любят, не находя взаимности. Молодой человек ухаживает за той, которая равнодушна к нему; молодая девушка покидает того, который ее любит, — и поэт доводит эту комическую путаницу до ее крайних пределов в той сцене, не лишенной некоторого символического смысла, когда царица фей, опьяненная любовными грезами, находит воплощение своего идеала в молодом ткаче с ослиной головой. Словом, в этой пьесе царит та форма любви, которая является результатом воображения. Вот почему Тезей восклицает:
Влюбленные равно, как и безумцы, Имеют все такой кипучий мозг, Столь странные фантазии, что часто Им кажется за истину такое, Чего никак смысл здравый не поймет. Безумный, и влюбленный, и поэт Составлены все из воображенья[2].И вслед за тем Шекспир излагает в первый раз, полный гордого самосознания, свой взгляд на личность и на творчество поэта. Обыкновенно он не очень высокого мнения о назначении художника. Он чужд самообожания позднейших романтиков, называвших поэта — вождем народа. Если он выводит в своих пьесах (например, в «Юлии Цезаре» или «Тимоне») поэтов, то они играют обыкновенно самую жалкую роль. Но именно в нашей пьесе встречаются прекрасные знаменитые стихи:
…Поэта взор, Пылающий безумием чудесным, То на землю, блистая, упадет, То от земли стремится к небесам, Потом, пока его воображенье Безвестные предметы облекает В одежду форм, поэт своим пером Торжественно их всех осуществляет И своему воздушному ничто Жилище он и место назначает.Шекспир почувствовал, как у него выросли крылья. Так как «Сон в летнюю ночь» не был издан раньше 1600 г., то теперь невозможно точно определить, к какому именно году относится тот текст, который находится в наших руках. Вероятно, пьеса подверглась до напечатания всевозможным изменениям и прибавлениям. Уже очень рано обратили внимание на следующие стихи в реплике Тезея в начале пятого действия:
Скорбь трижды трех прекрасных муз и смерти, Постигнувшей науку в нищете.Тут тонкая и острая сатира. Многие усматривали здесь намек на смерть Спенсера, который умер, однако, только в 1599 г., следовательно, слишком поздно для того, чтобы можно было себе позволить такого рода намек; другие видели в этих словах указание на смерть Роберта Грина, последовавшую в 1592 г. Но вероятнее всего эти стихи намекают на поэму Спенсера «The tears of the Muses» («Слезы Муз»), изданную в 1591 г. и оплакавшую высокомерное отношение знати к искусству. Если же пьеса написана к свадьбе Эссекса, — а очень многое говорит в пользу именно такого мнения, — то означенные стихи вставлены позднее, что, конечно, нетрудно было сделать в этом месте, где перечисляется целый ряд сюжетов, пригодных для так называемых «масок».
Мы уже привели то важное для хронологического определения место, где Оберон говорит о своем видении (II, 1). Оно следует как раз за рассказом Оберона о сирене, которая, сидя на спине дельфина, поет так прекрасно, что звезды в экстазе выходят из своих орбит, — это, конечно, намек на известные празднества с фейерверком, устроенные в 1585 г., когда Елизавета посетила замок Кенилворт. Это место интересно также в том отношении, что представляет одну из немногих аллегорий, попадающихся у Шекспира; но здесь аллегория явилась неизбежно вследствие того, что неудобно было говорить о событиях прямо и без обиняков. Шекспир опирается в данном случае на аллегории в мифологической пьеске Лилли «Эндимион». Нет никакого сомнения, что Цинтия олицетворяет здесь королеву Елизавету, а Эндимион — Лейстера, который изображен безнадежно в нее влюбленным. Теллус же и Флоскула, из которых одна любит самого Эндимиона, а другая его добродетели, — это графини Сассекс и Эссекс, находившиеся обе в любовной связи с Лейстером. Вся пьеса представляет точно рассчитанный льстивый панегирик в честь королевы и вместе с тем столь же льстивую защиту ее фаворита. Вопреки действительности поэт рисует Елизавету совершенно равнодушной к ухаживанию своего поклонника и выставляет связь Лейстера с графиней Шеффилд просто как средство, маскирующее его любовь к королеве; другими словами, он изображает всю эту запутанную любовную интригу так, как желала Елизавета, чтобы на нее взглянул народ, а Лейстер — объяснил ее самой королеве. Что же касается графини Эссекс, которой суждено было сыграть такую выдающуюся роль в жизни Лейстера, то ее роль в пьесе самая ничтожная. Она высказывает свою любовь лишь в нескольких скромных словах, выражающих ее радость по поводу того, что Эндимион, находившийся 40 лет в состоянии сна и превратившийся под его влиянием в старца, пробужден одним поцелуем Цинтии и снова помолодел. Вероятно, связь Лейстера с графиней Летицией Эссекс произвела на Шекспира глубокое впечатление. По приказанию Лейстера муж этой дамы находился долгое время в отлучке, сначала в качестве губернатора в Ольстере, а потом в качестве наместника в Ирландии, и когда он в 1575 г. умер, — народ говорил о яде, хотя это и не доказано — то его вдова вступила несколько дней спустя в тайный брак с его предполагавшимся убийцей. Когда же Лейстер через 12 лет скоропостижно скончался, — народ и на этот раз заговорил о яде — то в этом факте все увидели справедливую кару неба, ниспосланную на голову великого преступника. Быть может, Шекспир воспользовался этими событиями как одним из мотивов для своего «Гамлета». Находился ли Лейстер в связи с графиней еще при жизни мужа, неизвестно, хотя и очень вероятно. Но отношения леди Эссекс к Роберту, ее сыну от первого брака, оставались во всяком случае самыми теплыми. Впрочем, графиня впала в немилость у королевы и лишилась права являться ко двору. Шекспир сохранил имена, встречающиеся у Липли, и перевел их только на английский язык. Таким образом, Цинтия превратилась в луну, Теллус — в землю, Флоскула — в маленький цветочек, и с этим комментарием в руках каждый будет, конечно, удивляться той тонкой, деликатной и поэтической манере, с которой здесь затронуты семейные обстоятельства графа Роберта Эссекса, предполагаемого жениха:
В то самое мгновенье Я увидал (но видеть ты не мог), Что Купидон в своем вооруженьи Летел меж хладною луною и землей И целился в прекрасную весталку, Которая на западе царит. Вдруг он в нее пустил стрелу из лука Так сильно, что как будто был намерен Он не одно, а тысяч сто сердец Пронзить одной пылающей стрелой! И что ж! Стрела, попавши в хладный месяц, Потухла там от девственных лучей. И видел я, как царственная дева Свободная пошла своим путем. И в чистые вновь погрузилась думы. Однако я заметил, что стрела На западный цветок упала: Он прежде был так бел, как молоко, Но раненый любовию, от раны Он сделался пурпурным.И вот, при помощи сока из этого цветка, Оберон заставляет каждого мужчину и каждую женщину влюбляться в первого встречного.
Шекспир позволил себе этот льстивый намек на королеву, являющийся совершенно единичным случаем в его произведениях, только с тем, чтобы расположить королеву благосклонно к свадьбе фаворита, другими словами, чтобы смягчить тот гнев, с которым она встречала каждую попытку не только своих любимцев, но и вообще своих придворных вступать в брак по собственному желанию. А ведь Эссекс находился с ней в очень интимных отношениях. В 1587 г. он вытеснил из ее сердца Вальтера Рэлея, и хотя королева была 34 годами старше того, кто недавно был ее любовником, Шекспиру не удалось заручиться ее благосклонным отношением к молодой чете. Невеста получила приказание «жить в полном уединении в доме своей матери!»
«Сон в летнюю ночь» — это первое цельное, вечное произведение искусства, созданное Шекспиром. Если влюбленные парочки очерчены слабо и не возбуждают никакого интереса, то этот недостаток не вносит диссонанса в общее впечатление. Если перемены в чувствах героев остаются без всякой мотивировки, то за это едва ли следует обвинять автора, так как эти неожиданные метаморфозы объясняются волшебством Оберона, воспроизводящим символически непостоянство и силу эротического воображения. В изображении Титании, влюбленной до безумия в ткача с ослиной головой, сквозит наряду с глубокомыслием шаловливая насмешка. А за непостоянными отношениями молодых людей, то стремящихся друг к другу, то изменяющих друг другу, скрывается целая шутливая философия любви.
Нигде у Шекспира не выделяется так резко струя народная и сельская, как именно в этой пьесе. Здесь всюду чувствуется любовь к природе и знание природы, столь свойственные деревенским обывателям, но только просветленные поэтическим настроением. Здесь говорится о бесконечном количестве растений и насекомых, и все, что о них говорится, доказывает, что сам автор их наблюдал и изучал. Ни в одной пьесе не перечисляется и не описывается такая масса цветов, плодов и деревьев. Эллакомб в статье «О временах года у Шекспира» насчитывает около 42 видов, упоминаемых в нашей пьесе. Сравнения, взятые из жизни природы, мелькают на каждом шагу. Когда Елена описывает так мило свою школьную дружбу с Гермией, она говорит так (III, 2):
О! Мы росли, как вишенка двойная, Что раздвоенной кажется на взгляд, Но связана одним и тем же стеблем.Когда Титания требует, чтобы эльфы исполняли все прихоти ее поклонника с ослиной головой, она заявляет (III, 1):
Любезными прошу быть с этим смертным. Все прыгайте, резвитесь перед ним, Его кормить несите абрикосы, Смородину, пурпурный виноград, И ягоды шелковицы, и фиги. У диких пчел похитьте сладкий мед, А ножки их, напитанные воском, Повырвите, и факелы поделав, Зажгите их у светляков в глазах, Чтоб освещать и сон, и пробужденье Любезного. У бабочек цветных Вы крылышки цветные оборвите, Чтоб отгонять, как веерами, ими Лучи луны от усыпленных глаз…Приветствуйте его скорее, эльфы!
В связи с чувством природы находится у Шекспира его народность. Он глубоко проник в тайники народных поверий, он оживил те образы, в которые верит крестьянин и о которых поется в балладах, и он, не стесняясь, составляет гномов и эльфов с более изящными фигурами искусственного эпоса, с Обероном, который, несомненно, французского происхождения (l’aube du jonr), и с Титанией, именем которой Овидий называет в «Метаморфозах» сестру Титана-Солнца. Весьма возможно, что пьеса Лилли «The Maid’s Metamorphosis», напечатанная в 1600 г., написана несколько раньше «Сна в летнюю ночь». В таком случае Шекспир мог заимствовать из прекрасного хора эльфов, встречающегося здесь, несколько мотивов для своих собственных реплик. Существует вообще некоторое сходство в диалоге обеих пьес. Манеру Лилли напоминает, например, следующий отрывок (III, 1):
Основа. Не угодно ли вашей чести сказать мне свое имя.
Первый эльф. Паутинка.
Основа. Я бы желал покороче с вами познакомиться, любезная Паутинка. Если я обрежу палец, то я возьму смелость прибегнуть к вашей помощи. Ваше имя, честный господин?
Второй эльф. Душистый Горошек.
Основа. Прошу вас поручить меня благосклонности госпожи Шелухи — вашей матушки, и господина Стручка — вашего батюшки. Любезный господин Душистый Горошек, я чрезвычайно желаю познакомиться с вами покороче. Ваше имя, сударь?
Третий эльф. Горчичное Зернышко.
Основа. Любезный господин Горчичное Зернышко, я очень хорошо знаю ваши злоключения. Этот бессовестный, этот гигантский ростбиф перевел множество благородных членов вашего дома и т. д[3].
Контраст между прозаическими неуклюжими ремесленниками и поэтическими существами, обитающими в стране фей, этот контраст, производящий такой глубоко юмористический эффект, нашел в XIX столетии многих подражателей, в Германии — Тика, в Дании — Гейберга, написавшего три пьесы в подражание «Сну в летнюю ночь».
Вмешательство эльфов в действие пьесы является не только причиной целого ряда запутанных любовных интриг, но обусловливает собою также много других забавных положений, отличающихся, впрочем, более внешним комизмом. Обманчивые голоса дразнят героев, заставляют их ночью плутать в лесу и водят их за нос самым невинным образом. Эльфы сохраняют до конца свою кокетливую шаловливость. Но отдельные фигуры не очерчены еще достаточно резко: Пок только тень в сравнении с воздушным гением Ариэлем в «Буре», созданной 20 лет спустя. Но как бы ни были прекрасны в целом те сцены, где действующими лицами являются эльфы, нигде гениальность Шекспира не проявляется так ярко, как в грубо-комических эпизодах пьесы, где горсть честных ремесленников готовит к свадьбе Тезея постановку истории о Пираме и Тисбе. Никогда юмор Шекспира не достигал раньше такого блеска и такого добродушия, как здесь, при обрисовке этих добрых простаков. Весьма вероятно, что эти сцены навеяны воспоминаниями детства, когда Шекспир присутствовал при театральных представлениях на площадях в Ковентри и других местечках. Здесь можно найти также комические, остроумные выходки против старого английского театра. Если, например, во второй сцене первого действия говорится: «Наша пьеса: плачевная комедия и жесточайшая смерть Пирама и Тисбы», то эти слова намекают на длинное, забавное заглавие старой пьесы «Камбиз»: A lamentable tragedy mixed full of pleasant mirth и т. д. (Плачевная трагедия, полная забавных шуток). Но великий ум Шекспира выражается особенно рельефно в той веселой иронии, с которой он смеется над собственным искусством, т. е. сценическим, и над театром с его тогда еще очень примитивными и немногочисленными средствами влиять на воображение зрителей. Ремесленники, исполняющие роли стены или луны, и бесподобный актер, играющий роль льва, все это символические фигуры, созданные безудержной веселостью…
Шекспиру доставляло вообще, по-видимому, большое удовольствие (так же, как несколькими столетиями позже немецким романтикам, подражавшим ему) вводить на сцену — театр. Правда, не он придумал эту особенность. Она встречается уже в пьесе Кида «The Spanish Tragedy» (1587), над пафосом которой Шекспир так часто трунил, хоть она и оказала косвенное влияние на его «Гамлета». Но этот прием, придающий больше жизненности и правдоподобности ходу самой пьесы, с самого начала привлекал Шекспира.
Сравните с этими сценами появление Костарда и его товарищей в ролях Помпея, Гектора, Александра, Геркулеса и Иуды Маккавея в V действии «Потерянных усилий любви». Уже здесь принцесса говорит весьма снисходительно о жалких актерах-дилетантах:
…Приятна та забава, Что нравится помимо своего Старания. Когда усердье тщится Нам угодить и все его труды От рвения самих актеров гибнут, Тогда смесь форм является сама Уродливой и шутовскою фирмой; И эти все тяжелые труды При самом их рожденьи умирают.В насмешках придворных над актерами слышится все же много бессердечности, свойственной юному возрасту, тогда как в пьесе «Сон в летнюю ночь» все проникнуто чистым, добродушным юмором. Можно ли себе представить нечто более комическое, нежели успокаивающие речи льва, который, прежде чем зарычать, объявляет дамам, что он не настоящий лев:
Сударыни, в коих все чувства столько тонки, Что их тревожат и ничтожные мышонки! Вы, может быть, теперь здесь все затрепетали, Когда бы точно льва рев дикий услыхали, Но знайте, я не лев, ни львица по натуре. Нет! Я — Бурав, столяр и лев по львиной шкуре: Но если б я был лев и вдруг пришел сюда, Сударыни, тогда была бы мне беда… —и как благотворно действует после его рычания реплика Тезея: «Славно рычишь, лев!», реплика, превратившаяся, как известно, в поговорку.
«Сон в летнюю ночь» представляет в целом скорее лирическое стихотворение в драматической форме, нежели драму в собственном смысле слова. Это — игривое изображение чувства любви со всеми свойственными ему атрибутами, с его грезами, самообманом и экстазом и сквозь художественный рисунок пробивается всюду шутливая насмешка над неразумной сущностью этого чувства. Когда Лизандр находится под влиянием волшебного зелья, он обращается к женщине, которую любит не сердцем, а воображением, со следующими словами:
…Волей человека Владеет ум, а ум мне говорит, Что ты из всех достойнейшая дева.Здесь ирония поэта достигает своей предельной точки. Шекспир убежден, что человек влюбленный не есть существо разумное. Он вообще рисует людей только изредка таковыми. Он рано почувствовал и угадал, что область бессознательной жизни в нас шире сознательной, и понял очень метко, что как наши капризы, так и наши страсти коренятся в сфере бессознательного. За воздушными эротическими шалостями пьесы «Сон в летнюю ночь» кроется в зародыше целое мировоззрение.
И вот, окончив эту комедию, Шекспир выбирает снова на склоне ранней молодости сюжетом для пьесы самое могущественное чувство, царящее в дни молодости над сердцем человека. Но теперь он видит в нем не просто игру воображения, а серьезную, жгучую страсть, носящую в себе и счастье, и несчастье, являющуюся одновременно источником жизни и источником смерти, словом, он пишет свою первую самостоятельную трагедию «Ромео и Джульетта». Эта несравненная и бессмертная трагедия любви обозначает еще теперь один из кульминационных пунктов, достигнутых мировой литературой. Если «Сон в летнюю ночь» есть торжественный гимн граций, то «Ромео и Джульетта» представляет собою апофеоз любовной страсти.
Глава 11
«Ромео и Джульетта». — Два издания пьесы. — Романское искусство. — Пользование старыми мотивами. — Взгляд на любовь
Трагедия «Ромео и Джульетта» возникла в своем первоначальном виде, вероятно, около 1591 г., следовательно, когда поэту было 27 лет. Сюжет не отличался новизной. Он был впервые рассказан Масуччио из Салерно в одной повести, относящейся к 1476 г. Ею воспользовался Луиджи да Порта, когда издал в 1530 г. свою историю «О двух благородных любовниках». За ним последовал Банделло со своей новеллой «Несчастная смерть двух несчастных влюбленных» («La sfortonata morte di due infelicissimi amanti»). На основании ее некий англичанин написал трагедию о Ромео и Юлии, пользовавшуюся в свое время (раньше 1562 г.) крупным успехом, но не дошедшую до нас. Из новеллы Банделло английский поэт Артур Брук заимствовал сюжет для своей поэмы «Трагическая история Ромео н Юлии, написанная сначала на итальянском языке Банделло, а недавно изданная по-английски Ар. Бр.» («The tragicall Historye of Romeus and Juliet, written first in Italian by Bandell and now in English by Ar. Br.») Эта поэма написана рифмованным ямбом, причем 12-стопный стих чередуется с 14-стопным. Хотя этот ритм не отличается особенной быстротой, но нельзя сказать, чтобы он был слишком утомителен и докучлив. Сама манера повествования наивная, многословная и пространная: так рассказывают способные дети, описывающие все с щепетильной точностью, не опускающие ни одной подробности и придающие всему одинаковую цену.
Шекспир воспользовался этой поэмой. Здесь он нашел уже роли главных действующих лиц, затем фигуры Лоренцо, Меркуцио, Тибальта, кормилицы и аптекаря, очерченные слабыми контурами в виде силуэтов. Увлечение Ромео до знакомства с Юлией другой девушкой рассказано здесь также очень подробно. Вообще весь ход действия такой же, как в драме.
Первое издание «Ромео и Джульетты» in-quarto, относящееся к 1597 г., носит следующее заглавие: «Прекрасно придуманная трагедия о Ромео и Джульетте, часто игранная публично (с большим успехом) слугами достопочтенного лорда Гонсдона». (An excellent conceited Tragedie of Romeus and Juliet. An is hath been often (with great applause) plaid publiquely, by the right Honourable the Lord of Hunsdon Ms Servants). Лорд Гонсдон умер в сане лорда-камергера в июле 1596 г. Его преемник был назначен только в апреле 1597 г. В означенный промежуток времени его труппа не называлась труппой лорда-камергера, а просто труппой лорда Гонсдона. Таким образом, пьеса была поставлена как раз в это время.
Однако многое говорит в пользу гораздо более раннего возникновения пьесы. Для определения хронологии может служить намек кормилицы на землетрясение (I, 3):
Одиннадцать годов с землетрясенья Прошло.Или:
С тех пор прошло одиннадцать годов.А землетрясение случилось в Англии как раз в 1580 г.
Но если бы мы даже предположили, что Шекспир приступил к сочинению своей трагедии в 1591 г., то не может быть никакого сомнения, что он подвергнул пьесу, по своему обыкновению, тщательной переделке в промежуток времени между 1591 г. и 1599, т. е. тем годом, когда он выпустил второе издание in-quarto почти в том виде, в каком пьеса существует теперь. На заглавном листе этого второго издания сказано, что пьеса «недавно исправлена и дополнена». Однако имя автора обнаружилось только при четвертом издании.
Едва ли мнение такого выдающегося шекспиролога, как Холиуэлл Филипс, считающего издание 1597 г. только плохим воровским изданием, покажется кому-нибудь правдоподобным, если только сравнить это издание с изданием 1599 г. тщательно стих за стихом. Правда, если принять в расчет частые и важные прибавления в тексте, то можно вынести впечатление, что будто первое из этих изданий сделано по сокращенной рукописи. Но если обратить внимание на такие места, где (как, например, в I, 6) выпущена большая часть диалога как лишняя, или где первоначальный текст заменен другим, гораздо лучшим, такое впечатление неминуемо испаряется. Вернее всего, что мы имеем в данном случае две редакции одного и того же шекспировского произведения.
Второе издание содержит меньше простых намеков и больше детально отделанных сцен. Прибавлены картины и реплики, рисующие ярче задний фон пьесы. Расширена сцена уличной схватки в начале пьесы, присоединены разговоры слуг и музыкантов. Кормилица сделалась еще словоохотливее и забавнее; остроумие Меркуцио брызжет причудливее и оригинальнее, старик Капулетти получил более резкую физиономию, а роль Лоренцо увеличилась вдвое. Вы чувствуете во всех прибавлениях, с какой заботливостью поэт подготовляет зрителя к тому, что должно совершиться, как добросовестно он мотивирует и устраивает почву для будущего; Шекспир прибавил, например, слова Лоренцо, обращенные к Ромео, когда он приходит в такой необузданный восторг (II, 6):
Мой юный сын, поверь, такая страсть Кончается здесь горестью нередко И гибнет при начале самом счастья. Так жгучею своею лаской пламя В мгновенье пожирает пылкий порох[4],или его замечание по поводу легкой походки Джульетты:
Любовники пройдут по паутине, Что тянется по воздуху весной, И не споткнутся.Шекспир прибавил далее (исключая, впрочем, первые 12 стихов) великолепную, увлекательную речь Лоренцо, когда он пытается образумить Ромео, готового в отчаянии лишить себя жизни (III, 3):
Идешь ты против неба и земли, А небо и земля в тебе самом. И потерять хотел ты их в мгновенье. Стыдись! Ведь ты срамишь любовь и разум, А ими ты так щедро наделен.Прибавлены даже те эпизоды, где (IV, 1) Лоренцо говорит Джульетте так подробно о действии усыпительного порошка и о том, как ее будут хоронить; и, наконец, мастерская сцена (IV, 3), где Джульетта просыпается в страшном подземном помещении и старается с кубком в руке побороть свой страх.
Главное достоинство второй переработки заключается в том, что вместе с серьезностью молодых влюбленных возрастает и их душевная красота. Только во втором издании Джульетта обращается к Ромео со словами (П, 2):
О, нет границ для щедрости моей, И глубока любовь моя, как море! Чем больше я даю, тем больше я Имею, милый мой, и потому И та здесь, и другая беспредельна.Только во втором издании описывается нетерпение Джульетты, ожидающей возвращения кормилицы с ответом от Ромео (II, 5). Только здесь встречаются следующие ответы:
О, если б страсть кипела в ней и кровь По жилам бы струилась молодая, Она была проворна бы, как мяч. Но старики почти как мертвецы: И медленны всегда, и неподвижны, И бледны, как свинец.В значительном монологе Джульетты (III, 2), поджидающей в первый раз поздним вечером Ромео, исполненной наивной прелести и захватывающей страсти (из этих крайностей состоит вообще ее нравственный облик), первоначальной редакции принадлежат только первые четыре стиха мифологического характера.
О кони огненогие, неситесь Быстрее к храму Феба! Если б вашим Был Фаэтон возницей — он к закату б Направил вас…Все остальные стихи, в которых выразилось таким неподражаемым образом любовное томление молодой красавицы, Шекспир прибавил только, когда приступил к окончательной отделке своей трагедии:
О ночь, приют любви! Раскинь скорее Свой занавес, чтоб взор мимо ходящих Не видел ничего, и чтоб Ромео Мог броситься в объятия мои… Иди же ночь… иди же… и внуши Как проиграть в игре мне этой сладкой, Устроенной союзом чистоты И непорочности! Сокрой собою К лицу мне приливающую кровь, Пока огонь любви его неробкой Не превратит мой стыд в законный долг…Прибавлен также весь остальной разговор между Джульеттой и кормилицей, когда девушка узнает, к своему горю, весть о смерти Тибальта и об изгнании Ромео из Вероны. Именно в этом месте встречаются некоторые из самых сильных и самых смелых выражений, на которые Шекспир отважился для обрисовки страсти Джульетты:
Но слово есть… и это слово хуже Чем смерть сама Тибальта, я его Забыть могу, но скована им память… Изгнанник — он! Звук этот умерщвляет Вдруг десять тысяч братьев… А коль беда одна уж не приходит И любит посещать всегда сам-друг Зачем же вслед за вестью о Тибальте Мне про отца, про мать иль про обоих Не принесла она печальной вести? Печаль была б страшна, но преходяща; Прибавить же за смертию Тибальта, Что осужден Ромео на изгнанье, Произнести то слово, — это значит, Отца и мать, Ромео и Джульетту Всех, всех убить.Напротив, к первоначальной редакции относятся те далеко не целомудренные намеки и остроты, которыми Меркуцио открывает первую сцену второго действия и большинство тех реплик, в которых сквозит настоящая кончеттомания. Насколько вкус Шекспира еще не установился во время второй переработки, видно из того, что он не только сохранил все эти реплики, но прибавил к ним еще несколько столь же манерных.
Если Ромео обращался в первоначальном тексте к любви со следующими словами (I, 1):
Легкость тяжелая, серьезное тщеславье! Прекрасных образов ужасный хаос! Свинцовый пух, блестящий ясный дым, Холодный пыл, здоровие больное… —то подобные фразы так мало шокировали слух Шекспира, что он вложил во втором издании совершенно аналогичные восклицания в уста Джульетты (III, 2):
Тиран, злой дух Под ангельской личиной! Ворон в белых И чистых перьях голубя! Ягненок С ненасытимой алчностью волка!Уже в первоначальном очерке пьесы Ромео произносит следующую жалостно-выспренную тираду (I, 2):
О, если глаз моих очарованье Ей изменить способно, пусть в огонь Все слезы их внезапно обратятся, И пусть они — отступники любви От этих слез не высыхают вечно И будут сожжены за ложь свою.Уже там мы встречаем варварски длинную и чудовищную по своему безвкусию реплику Ромео, завидующего мухам, которые целуют ручку Джульетты (III, 3):
…Даже мухи И те в сто раз имеют больше прав Чем он: они всегда свободно могут Владеть ее прекрасной, белой ручкой, И всех лишен восторгов тех Ромео… Они для мух — и мухи все свободны, Ромео лишь изгнанник!Однако при переработке Шекспир нашел нужным прибавить еще следующие манерно-искусственные стихи по поводу все тех же счастливых мух:
Они всегда свободно могут Блаженство пить в дыханьи милых губок. А губки те, в невинности своей, Стыдятся и за грех считают даже Взаимное свое прикосновенье.Удивительно, что наряду с этим безвкусием, которого не превзошли даже знаменитые Precieuses ridicules следующего столетия, встречаются вспышки такого великолепного лиризма, ослепительного остроумия и возвышенного пафоса, которые редки в поэзии какой угодно страны и какого угодно народа.
Быть может, «Ромео и Джульетта» по своим художественным достоинствам ниже «Сна в летнюю ночь» и не отличается той же нежной, гармонической прелестью. Но эта пьеса имеет более серьезное значение — это самая типическая трагедия любви, созданная на нашем земном шаре. Подобно солнцу затемняет она все аналогичные произведения. Если бы датчанин вздумал сравнить «Ромео и Джульетту», например, с драмой Эленшлегера «Аксель и Вальборг», он выказал бы, разумеется, больше патриотизма, нежели эстетического чутья. Как бы ни была прекрасна датская пьеса, однако она по сюжету не подходит к пьесе Шекспира. Датская трагедия воспевает не любовь, а верность; это — поэма, где нежное чувство, женское великодушие и рыцарская доблесть борются со страстями и со злом, но это не есть, подобно «Ромео и Джульетте», в драматической форме гимн радости и печали.
«Ромео и Джульетта» — трагедия юной всепоглощающей любви, зарождающейся при первом взгляде. В этой любви столько страсти, что для нее не существует преград; она так сосредоточена, что умеет выбирать только между своим предметом или смертью, так сильна, что соединяет молодых людей мгновенно неразрывными узами и, наконец, так трагична, что вслед за упоением свидания следует с поразительной быстротой гибель влюбленных.
Никогда Шекспир не изучал с таким вниманием ту характерную особенность чувства любви, что наполняет душу до опьянения блаженством и при разлуке доводит до отчаяния. Если он в комедии «Сон в летнюю ночь» выдвигал те качества любви, которые следует отнести на счет воображения, характеризовал ее как нечто своевольно-капризное и прихотливо-обманчивое, то здесь он рисует ее как страсть, сулящую блаженство и смерть.
Источник дал Шекспиру возможность вставить роман молодых людей в такую рамку, которая сильнее оттеняла их светлое чувство. Две знатные фамилии живут в непрерывной вражде и мстят друг другу кровавыми убийствами; распря заражает весь город и разделяет его на две партии. По старой традиции молодые люди должны ненавидеть друг друга. Тем не менее они чувствуют взаимное влечение, и его сила уничтожает старый предрассудок в их сердцах, несмотря на то, что в окружающей среде эти предрассудки господствуют и постоянно сталкиваются. В том чувстве, которое наполняет их сердца, нет места уравновешенной, безмятежной нежности. Оно вспыхивает подобно молнии при первом взгляде и проявляется с губительной силой, благодаря несчастному стечению обстоятельств.
Посредине между героями любящими и героями враждующими стоит фигура монаха Лоренцо. Перед нами одна из тех симпатичных, исполненных благоразумия натур, которые встречаются так же редко в драмах Шекспира, как и в самой жизни. Но не следует обходить ее молчанием, как это сделал, например, Тэн при своем слегка одностороннем взгляде на гений Шекспира. Шекспир допускает и ценит бесстрастное настроение. Но он придает ему лишь второстепенное значение. Однако в человеке, возраст и общественное положение которого заставляют поневоле быть только созерцателем жизни, такое настроение вполне естественно. Лоренцо — добр и благочестив, это — монах во вкусе Гёте или Спинозы, мыслитель, не придающий никакого значения внешней обрядности, умный и благодушный, как старый духовник из иезуитов, питающийся молоком и хлебом жизненной философии, а не возбуждающим наркозом религиозного фанатизма.
Если Шекспир нарисовал фигуру монаха бесстрастной кистью, без всякой ненависти к побежденному католицизму, но и без всякой склонности к католическому вероучению, то этот факт, столь много знаменательный для него, доказывает только раннюю интеллектуальную независимость Шекспира в области, в которой тогда, напротив, господствовали только предубеждения. Здесь Шекспир стоит несоизмеримо выше своего источника Артура Брука, который в наивно назидательном «обращении к читателям» сваливает на голову католической церкви вину за «безнравственность» Ромео и за все вытекающие отсюда трагические последствия.
Шекспир не думает упрекать Лоренцо за то, что само средство, которым он хотел спасти влюбленную парочку (т. е. усыпительный напиток, данный им Джульетте), было не только фантастично, но прямо нелепо. Шекспир просто заимствовал эту подробность из своего источника с обычным равнодушием к внешним фактам. Поэт вложил в уста Лоренцо жизненную философию, дышащую кротостью. Монах излагает ее сначала в виде абстрактных положений и применяет ее потом к влюбленным героям. Он входит в свою келью с корзиной растений, сорванных в саду; одни из них обладают целебными свойствами, другие скрывают смертельные соки; растение, выдыхающее сладкое благоухание, может быть ядовитым, так как добро и зло, в сущности, только два различных качества одной и той же субстанции (II, 3):
Вот этот цвет… два свойства он хранит: Употреби его для обонянья Он пользу принесет, он оживит. Вкуси его — и чудо перемены! Он все оледенит внезапно члены.И явления, имеющие место в растительном царстве, находят аналогии в жизни людей:
Таких же два противника и в нас: То благодать и гибельные страсти: И если у вторых душа во власти Завянет цвет пленительный тотчас.Когда Ромео призывает вслед за венчанием скорбь и смерть в реплике, начинающейся словами (II, 6):
…Аминь! Какая б ни ждала в грядущем скорбь, Блаженства ей того не перевесить, Которое дарит ее мне взгляд, —то Лоренцо применяет именно к нему свою жизненную мудрость. Он боится этого потока нахлынувших радостных чувств и пользуется этим случаем, чтобы провозгласить свою философию «золотой середины», эту старческую мудрость, гласящую: «Люби меня умеренно, и ты полюбишь меня надолго».
Именно здесь он произносит упомянутую фразу, что такая необузданная радость не может привести к хорошему концу, подобно тому, как огонь и порох, целуясь, уничтожают друг друга. Замечательно, что воображение Шекспира, перед которым носились образы Ромео и Джульетты, было постоянно занято представлением о порохе и взрыве. В одном из монологов Джульетты (II, 5) в первоначальном тексте встречалось следующее сравнение: «Пусть будут гонцами любви мысли, которые помчатся быстрее пороха из жерла пушки». Когда далее Ромео хватается за меч, чтобы лишить себя жизни, монах восклицает (III, 3):
Ум украшать бы должен был тебя, А он обезображен этой мыслью, Как порохом солдат неосторожный, Вдруг вспыхнувшим в его пороховнице.Наконец, сам Ромео, узнав о мнимой смерти Джульетты и придя в отчаяние, требует у аптекаря такой сильный яд (V, 1),
Который действовал бы так мгновенно… чтобы дух Мог вылететь из тела так же быстро, Как порох вылетает вон из пушки.Словом, Шекспир хочет сказать, что молодые люди носят в своих жилах не кровь, а порох. Он еще не успел отсыреть под туманом жизни, и любовь — тот огонь, который его воспламеняет. Гибель молодых людей неизбежна, и поэт хотел именно таким образом мотивировать их трагическую смерть. Однако эта последняя не является вовсе наказанием за какую-нибудь «вину», и мы тщетно будем искать в трагедии точки отправления для педантически поучительного толкования Гервинуса и др. «Ромео и Джульетта» принадлежит еще во многих отношениях к тому периоду в творчестве Шекспира, когда он подражал итальянским образцам. Если стихи превращаются в самых важных местах диалога в рифмованные куплеты, если на каждом шагу мелькают причудливые concetti, то все эти особенности необходимо отнести на счет итальянского влияния. Кроме того, вся постройка пьесы во многом напоминает пьесы романского типа.
Греческое и романское искусство поражает нас своей любовью к порядку, своим стремлением к симметрии. Напротив, английское искусство ближе к действительной жизни и нарушает часто симметричность ради высшей, неосязаемой цельности: так точно превосходный прозаик избегает симметрии, чтобы достигнуть более тонкой и менее отчетливой гармоничности, чем та, которая отличает рифмованные стихи, построенные по всем правилам метрики.
В первый период сценической деятельности Шекспира у него заметно преобладает романский тип драмы. Порою он даже силится превзойти свои образцы. В комедии «Бесплодные усилия любви» короля окружают трое придворных, принцессу — три дамы. В пьесе «Два веронца» честному Валентину противопоставляется вероломный Протей: каждый из них имеет по забавному и юмористическому слуге. В комедии Плавта «Менехмы» выведен только один раб. В пьесе Шекспира «Комедия ошибок» (соответствующей комедии Плавта), напротив, каждый из братьев-близнецов имеет своего раба, и эти последние также близнецы. В комедии «Сон в летнюю ночь» героической паре (Тезей и Ипполита) противополагается парочка эльфов (Оберон и Титания). В той же пьесе находятся еще две пары, соответствующие друг другу: сначала оба кавалера ухаживают за одной из молодых женщин, за Гермией, Елена же — предана забвению и одиночеству, потом, напротив, оба волочатся за этой последней, а Гермия — остается без любовника. Наконец, в той же пьесе есть еще пятая чета, Пирам и Тисбе (в фарсе, поставленном лондонскими ремесленниками), которая дополняет с шутливым оттенком пародии общую симметричность.
Французы, усматривающие в Шекспире эстетический тип, совершенно противоположный романскому художественному принципу, не подметили этих особенностей его раннего творчества. Если бы Вольтер изучил Шекспира серьезнее, он едва ли пришел бы в такой неописуемый ужас, и если бы Тэн не был так поверхностен в своем гениально написанном этюде, он не утверждал бы так категорично, что воображение и техника Шекспира чужды и непонятны латинской расе.
Композиция «Ромео и Джульетты» так же симметрична и даже почти так же архитектонична, как техника первых комедий. Сначала появляются двое слуг Капулетти, потом двое слуг Монтекки; затем выступают Бенволио как представитель последнего семейства и Тибальт как вождь первого; далее являются горожане, придерживающиеся и той, и другой партии, потом — старик Капулетти со своей супругой и старик Монтекки со своей женой и, наконец, сам герцог как центральная фигура, вокруг которой группируются действующие лица и от которой зависит судьба влюбленных героев.
Но трагедия «Ромео и Джульетта» завоевала сердца всех не своими сценическими достоинствами. Хотя она в этом отношении превосходит несоизмеримо комедию «Сон в летнюю ночь», но подобна ей, и юный шедевр любовной трагедии пленил всех своим грациозным и прелестным лиризмом, освещающим все своим сияющим блеском и проникающим все своими романтическими чарами.
Самые прекрасные лирические места следующие: объяснение в любви Ромео на балу, монолог Джульетты перед брачной ночью и прощание молодых супругов, когда на небосклоне забрезжил рассвет.
Гервинус, отличавшийся, при всей своей склонности видеть в Шекспире полезного для современной ему Германии моралиста, очень добросовестными приемами исследования и большими познаниями, доказал, следуя Гэльпину, что Шекспир подражал во всех трех случаях вековым формам лирики. В первой из упомянутых сцен он приближается к стилю итальянского сонета, во второй воспроизводит форму и содержание эпиталамы, наконец, в третьей сцене его образцом является средневековая утренняя песня. Но комментаторы напрасно думают, что Шекспир придерживался преднамеренно этих традиционных форм лирической поэзии, чтобы снабдить драматическую ситуацию известной перспективой. Он просто случайно, невольно нарисовал этот фон, идущий вглубь и вширь, желая выразить самым полным и самым верным образом чувства своих героев.
Ромео заканчивает свой первый разговор с Джульеттой, в котором обычная салонная галантность возведена в светлую область художественной красоты, просьбой поцеловать ее (каждый кавалер имел по английским обычаям того времени это право). Этот диалог написан в стиле итальянского сонета, столь популярного благодаря Петрарке. Но стиль Петрарки был прост и изящен. Напротив, у Шекспира попадаются искусственные обороты, хитроумные объяснения, наконец, взрывы любовного пафоса с чисто спиритуалистической окраской.
Сцена начинается невыразимо нежно:
Когда тебя руки прикосновеньем Я оскорбил, любви чистейший храм, Внемли мольбе: позволь моим губам, Двум этим пилигримам, в наказанье, Стереть его живым огнем лобзанья.И если Ромео выражается далее манерным слогом более поздних итальянцев:
Ромео. С уст моих сними мой грех устами. Джульетта. И снятый мной, ужель навек он лег Мне на уста? Ромео. О, сладостный упрек! Нет, нет, отдай назад мой грех ужасный, —то обычная любовная болтовня итальянцев дышит здесь такой жизненностью, что сквозь изысканную грацию выражений чувствуется невольно биение двух сердец, возгоревшихся страстью.
Единственное отличие монолога Джульетты перед брачной ночью от настоящей эпиталамы заключается в отсутствии рифм. В современных Шекспиру брачных песнях пели о Гименее и Купидоне: сначала является только первый, а второй пугливо прячется, но у порога брачной комнаты старший брат уступает свое место младшему. Очень интересно, что первые четыре стиха с мифологическими образами, относящиеся еще к первому изданию, имеют большое сходство с одним местом в трагедии Марло «Король Эдуард II». Остальная часть монолога принадлежит, как упомянуто, к лучшему, что написано Шекспиром. Некоторые из самых изящных и смелых стихов встречаются вновь в пьесе Мильтона «Комус». Но так как они употребляются совершенно в другом смысле, то освещают очень ярко контраст между великим поэтом Ренессанса и великим певцом пуританства.
Джульетта выражает желание, чтобы ночь, покровительствующая любви, спустила скорее свою густую завесу; тогда Ромео незаметно прилетит в ее объятия:
Никто, никто любовникам не нужен, Для упоения их счастьем, кроме Их красоты; и раз любовь слепа, То мрак приличен ей.Мильтон заимствовал эту мысль и этот оборот, но то, что Шекспир говорит о красоте, Мильтон приписывает добродетели. Джульетта изливает свою страсть всегда в благородных, женственных и стыдливых словах и незачем повторять, что вследствие этого ее желания целомудреннее тех, о которых пелось в старых гименеях.
Бесподобный, сверкающий как алмаз, диалог в комнате Джульетты ранним утром, когда на небе зарделась заря, написан на мотив средневековых «утренних» песен. Содержание всегда одно и то же. Двое любящих, которые вместе провели ночь, не желают расставаться и вместе с тем боятся, что их могут застать. И вот они спорят рано утром между собою: сияет ли свет солнца или луны, раздается ли песня соловья или жаворонка. Как воспользовался Шекспир этим старинным мотивом и как многозначителен он здесь у него, так как жизнь Ромео, изгнанного из Вероны под страхом смертной казни, висит на волоске, если он останется в городе до рассвета:
Уж ты идешь? Ведь день еще не скоро. То соловей — не жаворонок был, Чьим пением смущен твой слух пугливый, Он здесь всегда на дереве гранатном Поет всю ночь. Поверь мне, милый мой! Ромео. То жаворонок пел, предвестник утра Не соловей. Смотри, моя краса, Как облака сияют на востоке, Облитые зари ревнивым светом.Ромео — знатный, богато одаренный юноша, сосредоточенный в себе мечтатель. Мы видим в начале пьесы, как он равнодушно относится к фамильной распре, и как он безнадежно влюблен в даму из враждебной семьи, в прекрасную племянницу Капулетти, Розалину Меркуцио называет ее бледной девушкой с черными глазами. Так как Бирон описывает в «Бесплодных усилиях любви» точно так же Розалинду (III, в конце):
С лицом, как снег, с бровями, как агат, С двумя шарами смоляными в виде Двух глаз… —то обе эти фигуры списаны, вероятно, с одного и того же оригинала. Шекспир нарочно сохранил это первое мимолетное увлечение Ромео, которое нашел в своем источнике. Он знал, что сердце человека никогда так легко не воспламеняется новой страстью, как в тех случаях, когда старые раны еще не успели зажить. Кроме того, эта первая страсть рисует Ромео одинаково склонным как к обожанию, так и к самозабвению. Молодой итальянец еще не видал той женщины, которой суждено сделаться его роком, и уже молчалив и меланхоличен, полон нежного томления и мрачных предчувствий. Первая встреча с четырнадцатилетней родственницей Розалины увлекает и опьяняет его.
Характер Ромео менее тверд, чем характер Джульетты. Страсть сильнее подтачивает его, и юноша менее владеет собой, нежели молодая девушка. Но любовь одухотворяет его и облагораживает. Он находит совсем иные выражения для своей страсти к Джульетте, чем для своего увлечения Розалиной. Правда, в сцене перед балконом встречается вся та нелепая риторика, в которую облекается обыкновенно поэтическое чувство молодых влюбленных: луна, например, побледнела от зависти к Джульетте; или две самые светлые звезды покидают небо и просят очи Джульетты сверкать, покуда они не вернутся и т. д. Но наряду с этими нелепыми, напыщенными выражениями, свойственными языку влюбленных, красуются вечные и самые великолепные слова любви, когда-либо кем-нибудь написанные:
Чрез эту стену На крылиях любви я перенесся. Не удержать им каменной преградой Любви… То милая зовет. Как сладки звуки Мелодии в полуночной тиши, Так сладостны и внятны для души Здесь голоса двух любящих.Здесь постоянно царит какой-то получувственный, полу-идеалистический экстаз.
Джульетта выросла в беспокойной, неуютной среде. Отцом ее является ворчливый, деспотический старик, не лишенный, правда, некоторого добродушия, но до того грубый и беспощадный, что грозит не только побить, но и проклясть свою дочь, если она не покорится его желаниям. Мать — женщина бессердечная. Когда Ромео выводит ее из себя, ее первая мысль — отравить его. Единственное существо, близкое Джульетте, — это забавная, грубоватая кормилица (одна из самых мастерских фигур Шекспира, предвещающая Фальстафа), но ее анекдоты и россказни познакомили Джульетту только с самой низменной формой любви. Хотя Джульетта по летам полный ребенок, она обладает уже умением каждой юной итальянки притворяться. Когда мать излагает ей свой план отравить Ромео, она не изменяется в лице и соглашается во всем с матерью, чтобы знать наверное, что никто кроме нее не приготовит ему яда.
Джульетта — блестящая красавица. Я ее видел однажды на улицах Рима. Я невольно переглянулся со своим спутником, и мы одновременно воскликнули: «Джульетта!» — Слова, сказанные Ромео при первой встрече:
Во тьме ночной блещет взор ее чудных очей. Как в ушах эфиопки алмаз дорогой. — Нет, она недоступна для страсти земной, —указывают на ее благородную красоту, умственное превосходство и неиспорченную, непосредственную свежесть… Ив несколько дней этот ребенок превращается в героиню.
Мы знакомимся с нею на балу во дворце Капулетти и затем в саду, в лунную ночь, когда с гранатовых деревьев раздаются песни соловья… Эта рамка соответствует как нельзя лучше духу всей пьесы, подобно тому, как резкий воздух морозной зимней ночи, веющий над кронборгской террасой, куда долетает шум от пиршества, устроенного королем во дворце, отвечает как нельзя строже настроению трагедии «Гамлет». Но Джульетта не сентиментальная девушка. Напротив, она очень практична. Ромео ограничивается многоречивыми, восторженными дифирамбами, она же предлагает ему немедленно тайный брак и обещает послать кормилицу для более подробных переговоров. После убийства Тибальта Ромео приходит в отчаяние, она, напротив, предпринимает все, чтобы избежать брака с Парисом. Смело и не бледнея выпивает она кубок с усыпительным напитком и вооружается на всякий случай кинжалом, чтобы сохранить власть над собой. Что же это за любовь, дающая ей такую нравственную стойкость? Некоторые современные немецкие и шведские писатели признают единодушно страсть Джульетты чисто чувственной, низменной и достойной осуждения. Чувства и мысли, речи и поступки Джульетты не согласуются, по их мнению, с целомудренной стыдливостью молодой девушки. Ведь она совершенно незнакома с Ромео, — возражают они, — ясно, что ее любовь есть не что иное, как тяготение к прекрасному телу. Как будто в самом деле в данном случае позволительно делать такие тонкие разграничения? Как будто душа и тело две самостоятельные субстанции? Как будто любовь, являющаяся для героев с самого начала силой, стоящей выше жизни и смерти, по своему существу ниже той любви, которая зиждется на взаимном уважении, любви-выродка, которой требует наше время?
Увы! Добродетельные философы и степенные профессора не в состоянии оценить по достоинству эпоху Возрождения: она слишком далека от их образа мыслей и слишком непохожа на их способ чувствовать. А ведь слово «возрождение» говорит, между прочим, о возрождении горячей любви к жизни и языческой наивности воображения.
Джульетта питает к Ромео не рассудочную любовь и не искусственно воспроизведенное чувство обожания, не сентиментальную нежность и не восторженное увлечение собственными ощущениями, наконец, не просто чувственную страсть. Эта любовь коренится в непогрешимом инстинкте человека. В чувстве молодых людей концентрируются все их интимные желания и все безграничное томление их душ. Оно приводит в колебание все струны их внутреннего существа, от самой низкой до самой высокой, и ни он, и ни она уже не в силах различить, где кончается тело и где начинается душа.
Ромео и Джульетта являются центральными фигурами трагедии. Однако по своим художественным достоинствам они стоят никак не выше прекрасных второстепенных фигур Меркуцио и кормилицы. Здесь, в этой драме, где Шекспир возносится впервые на свойственную ему высоту пафоса, он так разносторонен, его стиль так разнообразен, что охватывает и остроумие Меркуцио, и неотесанную грубость кормилицы.
«Тит Андроник» был еще однообразен и серьезен, как любая из трагедий Марло. «Ромео и Джульетта» сияет, как звезда, освещающая одновременно оба полушария, трагическое и комическое.
В этой пьесе все сливается в одну несравненную, дивную симфонию — наивный тон сказки в рассказе о королеве Маб, веселое настроение комедии в остроумных, цинических восклицаниях Меркуцио, брызжущих юмором, необузданно фривольные звуки фарса в анекдотах кормилицы, мечтательные аккорды любовной поэзии в дуэте Ромео и Джульетты и величественная органная мелодия в монологах и репликах Лоренцо.
Как же живут Ромео и Джульетта в окружающей их обстановке? Прислушайтесь к раздающемуся вокруг них то веселому, то грозному шуму, к беспечному смеху и звонким ударам мечей, наполняющих улицы Вероны. Прислушайтесь к громкому хохоту кормилицы, к шуткам и руготне старого Капулетти, к спокойным речам монаха, произносимым полушепотом, наконец, к взрывам ослепительно гениальных мыслей Меркуцио. Постарайтесь проникнуться той атмосферой кипучей молодости, окружающей героев, той молодости, которая дышит страстью и благородством, исполнена любви и отчаяния, которая живет и умирает под южным небом с его сверкающим солнцем и теплыми, благоуханными лунными ночами.
И тогда вы поймете, что Шекспир достиг первой станции на пути своего триумфального шествия.
Глава 12
Современные нападки на Шекспира. — Бэконовская ересь. — Сведения Шекспира во всех областях знания
В одном из своих сонетов Роберт Браунинг восклицает, что имя Шекспира так же не следует произносить всуе, как имя еврейского Иеговы. В этих словах слышалось разумное предостережение нашему времени, которое руками американских и европейских глупцов закидало грязью имя величайшего английского поэта. Как известно, толпа полуграмотных людей доказывает ныне, что Шекспир совершенно неповинен в тех произведениях, которые ему приписываются, что он не только не мог их создать, но даже — понять. К сожалению, литературная критика такой тонкий инструмент, которым может пользоваться только человек, чувствующий к ней призвание, и которым, во всяком случае, следует пользоваться очень осторожно.
В данном случае этот инструмент попал неожиданно в руки невежественных американцев и фанатических женщин. И вот женская критика, с ее отсутствием эстетического чутья, совершила в союзе с американской предприимчивостью, лишенной духовной культуры, самую дикую атаку на личность Шекспира и приобрела в немногие годы массу приверженцев. Этот факт доказывает лишний раз, что в вопросах эстетики суждение большинства ничего не доказывает.
В первой половине XIX столетия никто не сомневался, что Шекспир в самом деле автор приписываемых ему творений. Судьба предоставила последнему сорокалетию незавидное право направить на величайшего поэта новой литературы все усиливавшуюся струю бранных и оскорбительных слов.
Сначала нападки на Шекспира носили очень неопределенный характер. В 1848 г. американец Гарт высказал в самых общих выражениях свое сомнение в авторстве Шекспира. Затем в августе 1852 г. в «Эдинбургском журнале» Чэмберса появилась анонимная статья, где автор заявлял убежденным тоном, что полуобразованный Вильям Шекспир содержал какого-то бедного поэта, вроде Чаттертона, продававшего ему за деньги свой гений, что он, другими словами, купил чужую славу и чужое бессмертие. Никто не будет сомневаться, говорилось в этой статье, — что каждая новая пьеса, выходившая из-под пера этого человека, превышала своими художественными достоинствами предшествовавшие. Вообще это был гений, стремившийся неудержимо вперед… И вдруг он покидает Лондон с большим капиталом и — перестает писать. Как объяснить этот странный факт? Конечно, поэт умер, а заказчик пережил его!
В такой форме было впервые высказано мнение, в силу которого Шекспир являлся просто подставным лицом, присвоившим себе заслуги какого-то бессмертного незнакомца.
В 1856 г. некто Вильям Смит издал письмо на имя лорда Элсмера, утверждая, что темное происхождение, плохое воспитание и поверхностное образование лишали Шекспира возможности создать приписываемые ему драмы. Их автором мог быть только человек, много изучавший и много путешествовавший, начитанный в литературе и знаток человеческого сердца вроде, например, величайшего англичанина того времени, Френсиса Бэкона. Чтобы не скомпрометировать свое положение в суде и парламенте, он тщательно скрыл свое имя. Постановкой этих пьес он думал улучшить свои финансовые дела и выбрал актера Шекспира в виде подставного лица. Смит утверждает далее, что Бэкон приготовил издание in-folio 1623 г., так как впал в 1621 г. в немилость.
Если против этого предположения, в высшей степени беспочвенного, ничего нельзя было бы возразить, то один простой факт должен был бы навести на размышления. Бэкон заботился об издании своих произведений с редкой добросовестностью, постоянно переписывал и переделывал их, так что в них едва ли можно встретить описку. И он же издает в свет 36 драм, изобилующих недоразумениями и содержащих около 20 000 ошибок!
Однако это нелепое мнение получило особенно широкое распространение только с тех пор, когда мисс Бэкон высказала в том же самом году в разных американских журналах мысль, что не Шекспир, а ее однофамилец является творцом так называемых «шекспировских» драм. Через год она написала на эту тему очень неудобочитаемое произведение в 600 страниц. По ее стопам пошел ее ученик, тоже американец, судья Натаниэль Холмс, автор книги в 696 страниц. Этот последний возмущался всей душой, что невежественный бродяга Вильям Шекспир, едва умевший подписать свое имя и мечтавший только о том, чтобы сколотить копейку, присвоил себе беззаконно половину славы, принадлежавшей по праву Бэкону.
Предпосылка, точка отправления и здесь — те же самые: Шекспир, родившийся в захолустном городке, дитя полуобразованных родителей, сын отца, занимавшегося, между прочим, продажей мяса, был не больше и не меньше, как грубый мужик или «мясник», как его называли враги. Холмс пользуется для доказательства своей мысли (как и его последователи) так называемым «юридическим» методом, т. е. он сопоставляет такие места в сочинениях Бэкона и Шекспира, где говорится о чем-нибудь аналогичном, не обращая при этом никакого внимания на форму и дух этих отрывков.
Мисс Делия Бэкон посвятила свою жизнь буквально преследованию Шекспира. Она усматривала в его произведениях не поэзию, а широкую политико-философскую систему. Она утверждала, что в могиле Шекспира похоронено неопровержимое доказательство справедливости ее теорий. Она была убеждена, что нашла в письмах Бэкона ключ к шифрованной азбуке, но сошла, к сожалению, с ума, прежде чем поведала миру эту тайну. Она отправилась в Стрэтфорд, добилась позволения раскрыть могилу Шекспира, блуждала днем и ночью кругом нее, но оставила ее, в конце концов, в покое, находя ее слишком миниатюрной для сохранения «архива елизаветинского клуба». Впрочем, она и не мечтала найти здесь шекспировские рукописи. В статье «Вильям Шекспир и его драмы» она восклицает: «Нет, конюх лорда Лейстера не заботился, конечно, об этих рукописях. Ему было только важно извлечь из них материальную выгоду. Что могло удержать его от желания топить ими свою печку, когда он выжал из них все, что только мог! Этот человек видел первоначальный текст „Гамлета“, столь дивный в своем совершенстве, и первоначальный текст „Лира“, блиставший своеобразно прекрасным стилем, он видел их такими, какими они вышли из рук этого полубога, и этот человек заставил нас прокоптить всю молодость над старыми, искаженными, режиссерскими копиями, заставил нас тщетно ломать голову над их исправлением… Что сделал ты с этими рукописями? Долго трусил ты отвечать… Но ты отдашь в них отчет. Грядущие столетия посадят тебя на скамью подсудимых. Ты не покинешь ее, пока не ответишь на вопрос: „Что сделал ты с этими рукописями?“»
Что за жестокая участь! Проходят 200 лет со дня смерти величайшего драматурга земного шара и у него требуют в таком тоне отчет об исчезновении его рукописей.
Если в данном случае будет позволено сослаться на чей-либо авторитет, то не мешает выслушать мнение одного из лучших знатоков Бэкона, его биографа и издателя — Джеймса Спеддинга. На запрос, сделанный ему по этому поводу Холмсом, он ответил:
«Потребовать от меня признания, будто Бэкон — автор приписываемых Шекспиру произведений, значит то же самое, что навязать мне убеждение, что сочинения Диккенса, Теккерея и Теннисона написаны лордом Брумом». И Спеллинг заключает свое письмо словами: «Если бы в самом деле существовала причина приписать эти драмы кому-нибудь другому, то мне кажется, я в состоянии ответить: „Кто бы ни был этот загадочный автор, но это не Френсис Бэкон!“»
Читателя с критическим чутьем поражает в этой бэконовской ереси главным образом то обстоятельство, что принадлежность шекспировских драм Бэкону доказывается тем, что они исполнены знания и мудрости, которых человек с поверхностным школьным образованием Шекспира никогда бы не мог приобрести.
Все доводы бэконовских пасквилей стараются бросить тень на Шекспира, а служат в действительности только к упрочению его славы, освещая ярче богатую разносторонность его гения. Вообще соображения, которыми представители этой ереси доказывают свое мнение, так нелепы, что их не стоит даже подвергать серьезной критике. Противники этой ереси сопоставили, например, филистерские суждения Бэкона о любви, браке и одинокой жизни с шекспировскими репликами аналогичного содержания, блещущими умом и глубокомыслием. Они сравнили также несколько строчек из перевода семи еврейских «Псалмов», сделанного Бэконом в последние годы своей жизни, с некоторыми стихами из «Гамлета» и «Ричарда III» на те же темы (посев, всходящий слезами; уличение тайных преступлений), чтобы подчеркнуть поражающий контраст между этими аналогичными отрывками. Но указывая на частности, мы будем бесцельно тратить время. Кто читал хоть несколько этюдов Бэкона, хотя бы несколько стихов из его немногочисленных стихотворных переводов, и кто сумеет в них уловить стиль шекспировской прозы и поэзии, тот имеет такое же право рассуждать об этом вопросе, как мужик, работающий на торфяном болоте, о мореплавании.
Но оставим в стороне гипотезу, выдвигающую Бэкона как автора шекспировских пьес. Одно предположение, что не Шекспир был их творцом, явная нелепость. Подумайте только, к каким абсурдам приводит эта гипотеза. Все те люди, которые каждый день видели Шекспира: актеры, которым он передавал свои драмы для постановки, советовавшиеся с ним на этот счет, рассматривавшие и даже описавшие его рукописи (во вступлении к первому изданию in-folio, 1623); драматурги, с которыми он постоянно сталкивался, его соперники и будущие друзья, вроде Дрейтона и Бена Джонсона; театралы, беседовавшие с ним по вечерам за стаканом вина об искусстве; наконец, молодые аристократы, чувствовавшие влечение к этому гениальному поэту и становившиеся его покровителями и друзьями, — все эти люди ни разу не заметили и ни разу не усомнились в том, что Шекспир не тот, за кого выдает себя, что он даже не в силах понять те произведения, которым дает свое имя. Было бы странно, что никто из этих интеллигентных знатоков не уловил поражающего контраста между ежедневным поведением и разговором Шекспира и духом и стилем его мнимых творений.
Переходим теперь к единственному аргументу, выставляемому против Шекспира: в его произведениях слишком много ума и слишком много познаний.
Шекспир обнаруживает такие блестящие сведения в области английского законоведения, что была высказана гипотеза, будто он в молодости служил помощником адвоката. Мнение, лишенное всякого основания.
Шекспир любит, действительно, употреблять юридические термины. Он изучил в превосходстве манеру говорить, свойственную адвокатам и судьям. Тогда как другие современные ему английские писатели впадают в частые ошибки, трактуя о вопросах семейного права, юристы наших дней не нашли ни одной неточности у Шекспира. Судья Кэмбл написал целую книгу об этом вопросе («Shakespeare’s Legal Acquirements»). Любопытно в данном случае то обстоятельство, что поэт обнаруживает эти познания не только в зрелые годы, когда сам часто вел процессы, а уже в своих первых произведениях, например, в некоторых стихах поэмы «Венера и Адонис», вложенных — как это ни странно — в уста богини, или в 46-м сонете, воспроизводящем довольно банально и искусственно настоящий процесс между глазами и сердцем. Но Шекспир не знаком с судебными обычаями чужих стран. Иначе он не нарисовал бы в драме «Мера за меру» такую невозможную картину состояния юстиции в Вене. Шекспир знал досконально только то, что имел случай сам наблюдать.
Он чувствовал себя вообще во всех областях знания, как дома. Если знакомство поэта с юриспруденцией подало повод к гипотезе о его юридической карьере, то его знания в области книжного дела позволили бы заключить, что он служил в книжной лавке. Один английский типографщик, Блэдс, написал очень поучительную книгу «Shakespeare and Typography», в которой доказывает, что Шекспир знал так хорошо все подробности этого дела и все соответствующие технические выражения, словно всю жизнь провел в типографии. Епископ Чарльз Вордсворт издал, со своей стороны, очень солидное и очень благочестивое, но — увы! — неудобочитаемое исследование под заглавием: «Знакомство Шекспира с Библией» («Shakespeares Knowledge and use of the Bible»), где проводит ту мысль, что Шекспир был насквозь проникнут библейским духом и изучил в превосходстве библейский стиль.
Шекспир знает природу так близко, как люди, выросшие на вольном воздухе, в деревенской обстановке. Но сведения его в этой области далеко превышают познания простых деревенских обывателей. Нашлись исследователи, написавшие целые книги о его знании жизни насекомых. Жизнь более крупных насекомых и птиц известна ему до мельчайших подробностей. Эпплтон Морган, защитник бэконовской ереси, приводит в своей книге «Миф о Шекспире» целый ряд поучительных примеров.
В «Много шума из ничего» Бенедикт говорит Маргарите: «Твое остроумие отличается такой же быстротой, как борзая собака. Оно поражает противника на лету». — А известно, что из всех пород собак только борзая схватывает свою жертву на лету. В пьесе «Как вам угодно» Целия говорит (I, 2): «Сюда идет Лебо». Розалинда: «С полным ртом новостей». Целия: «Которыми он нас будет пичкать, как голуби, когда они кормят своих птенцов». Голуби же имеют привычку запихивать корм глубоко в горло своим птенцам. Этого не делает ни одна порода птиц. В комедии «Двенадцатая ночь» (III, 1) шут говорит Виоле: «Дураки похожи на мужей, как сардель на селедку, — мужья только больше». Рыбка, о которой здесь говорится и которая водится в Ла-Манше, похожа, в самом деле, на селедку, но гораздо толще и имеет более крупную чешую. В той же пьесе Мария говорит о Мальволио: «Вот плывет форель, которую можно поймать щекоткой». А известно, что форель можно щекоткой под животом или в боку так утомить, что ее нетрудно поймать руками. В пьесе «Много шума из ничего» Геро восклицает (III, 1):
Смотри, она скользит в траве К земле прижавшись, как пигалица, Чтоб подслушать нас.Пигалица отличается большой быстротой и наклоняет во время бега свою голову к земле, как бы желая проскользнуть незаметной. В «Короле Лире» дурак поет (I, 4): «Добрая малиновка кукушку кормила, а кукушка птичке голову скусила!»
А в Англии кукушка кладет свои яйца обыкновенно в гнездо малиновки. В комедии «Конец — делу венец» (II, 5) Лафе говорит: «Я считал этого жаворонка за подорожника». Английский подорожник в самом деле похож на жаворонка, но поет не так хорошо.
Нетрудно доказать столь же близкое знакомство Шекспира с жизнью растений. Но люди отвергали возможность, что такой великий поэт мог обладать такими богатыми познаниями природы, и чтобы объяснить его произведения, решили приписать их естествоиспытателю.
Понятнее то удивление, которое вызвали сведения Шекспира в областях менее доступных непосредственному наблюдению. Медицинские познания поэта рано обратили на себя всеобщее внимание.
В 1860 г. врач Бекниль написал по этому поводу целую книгу: «Medical Knowledge of Shakespeare». Он пошел так далеко, что приписал поэту все научно-медицинские сведения шестидесятых годов нашего века. Шекспир превосходит всех писателей в воспроизведении душевных болезней. Психиатры в восторге от верной картины умопомешательства Лира и Офелии. Шекспир предвосхитил даже мысль о необходимости более гуманного отношения к душевнобольным, тогда как его современники относились к ним грубо и жестоко. Он имел, по-видимому, также некоторое представление о той науке, которую мы называем судебной медициной. Во II части «Генриха VI» Уоррик говорит (III, 2):
Взгляните, как застыла кровь в лице Покойного. Я часто видел лица Умерших от болезни: все они Подобны цветом пеплу, бледны, впалы, Без крови на щеках, затем что сердце В борьбе с упорной болью привлекает Всю кровь себе на помощь.Правда, эти слова встречаются уже в древнейшем тексте. Но все дальнейшее принадлежит, без сомнения, Шекспиру:
…Поглядите ж Теперь в лицо покойника: оно Налито черной кровью, круг зрачков Расширился сильней, чем у живого: Он смотрит, как удавленный; взгляните, Как страшно встали дыбом волоса На голове, как ноздри от усилий Расширились, как разметались руки. Он явно защищал с упорством жизнь И был повержен силой. Вон там видны Клочки волос, приставших к простыне, Взгляните, как всклокочена его Густая борода, с таким стараньем Расчесанная прежде, а теперь Подобная грозой побитой жатве. О! Он убит, наверно! Это вам Способен доказать малейший признак Из высказанных мной.Естественнонаучные познания Шекспира превосходят также во многих отношениях сведения его современников. Вот почему решили прибегнуть к имени Бэкона. В самом деле удивительно, что Шекспир, скончавшийся в 1616 г., говорит довольно часто в своих драмах о кровообращении. Однако Гарвей, сделавший это открытие, сообщил о нем только в 1619 г. и издал свой труд лишь в 1628 г. Так Брут обращается в «Юлии Цезаре» со следующими словами к Порции (II, 1):
…Нет, ты Вполне моя достойная жена! Я дорожу тобой, как красной кровью, Которая мне к сердцу приливает!В «Кориолане» Менений приписывает желудку следующие слова:
…Не забудьте, Что пищу ту я шлю вам вместе с кровью, Что чрез нее и мозг, и сердце живы, Что от меня вся сила человека, Что жилы все мельчайшие его Через меня свою имеют долю!Но не говоря уже о том, что несчастный, гениальный Серве, сожженный Кальвином, сделал то же самое открытие в 1530 или 1540 г., читал даже о нем публичные лекции, во всяком случае, каждый образованный англичанин знал уже задолго до Гарвея, что кровь течет, описывая при этом круговое движение, и что она передается от сердца к другим органам и частям тела. Все думали только, что она распространяется по венам, а не, как в действительности, по артериям. Ни одно из тех 70 мест, где Шекспир говорит о кровообращении, не доказывает, что он разделял наш современный взгляд. Однако хорошее знакомство с этим вопросом обнаруживает его широкую образованность. Другое соображение, принудившее некоторых принять Бэкона за автора шекспировских пьес, можно сформулировать таким образом. Хотя закон тяготения был впервые открыт Ньютоном, который родился через 26 лет после смерти Шекспира, т. е. в 1642 г., и хотя до Кеплера, нашедшего свой третий закон механики небесных тел через два года после смерти поэта, никто не имел никакого представления о законе притяжения к центру земли, тем не менее уже героиня пьесы «Троил и Крессида» восклицает (IV, 2):
…Время может Убить во мне блеск, юность, красоту, Но ни оно, ни смерть, ни все насилья Не вырвут никогда любви к Троилу Она во мне останется недвижна, Как центр земли! — О, я уйду чтоб плакать!Так просто высказал здесь Шекспир такую великую гипотезу! Сопоставление имен Ньютона и Шекспира поражает, конечно, сильнее ботанических и остеологических открытий Гёте. Гёте ведь получил совсем иное образование и пользовался для своих научных исследований полным досугом. Но строго говоря, нельзя утверждать, что Ньютон именно «открыл» закон тяготения. Он только распространил его на небесные тела и доказал его космическую всеобщность. Уже Аристотель определил вес «как стремление тяжелого тела к центру земли». И представление, что центр земли притягивает к себе все тела, было очень распространено среди классически образованных англичан времен Шекспира. Приведенные стихи доказывают только, что некоторые из близких знакомых Шекспира принадлежали к числу умственно передовых людей эпохи. Его же собственные астрономические познания не опередили столетие. Это видно из выражения «Прекрасная планета солнце» («The glorious planet Sol») в пьесе «Троил и Крессида» (1,3). Очевидно, Шекспир не пошел дальше птолемеевой системы. Еще один аргумент в пользу бэконовского происхождения шекспировских драм усматривали в том, что поэт имел некоторое представление о геологии. Однако основание этой науки положил Нильс Стено; родившийся в 1638 г., т. е. через 22 года после смерти Шекспира. Во второй части «Генриха V» (III, 1) король Генрих заявляет:
Да если б мы могли читать заветы Грядущего… Каждый день У нас в глазах поднявшиеся горы Свергаются в широкий океан, Иль вдруг наоборот, где было море, Внезапно надвигается земля.Но ведь король указывает здесь только на непредвиденные изменения, совершающиеся в жизни природы и жизни людей. Правда, поэт исходит из той мысли, что историю земли можно и должно читать в ее же вечных скрижалях, и что эти изменения обусловлены повышением и понижением почвы. Он предвосхищает таким образом как бы теорию нептунизма. Но и в данном случае исследователи преднамеренно усилили впечатление гениальной проницательности поэта. Ведь в сущности Стено внес только некоторый порядок в понятия современников. Не он первый учил, что земля возникла постепенно, и что различные геологические наслоения могут служить свидетельствами ее исторического развития. Главная его заслуга заключается в том, что он обратил внимание на формацию пластов земли как на главный материал при решении вопроса о ее постепенном возникновении. Все сказанное доказывает разностороннюю гениальность Шекспира, предвосхитившего с редкой проницательностью научные знания будущих поколений, но не обязывает нас непременно считать автором его произведений естественника-специалиста. Вот небольшая аналогия. На картине Микеланджело «Сотворение Адама» Бог призывает Адама к жизни, прикасаясь перстом к его пальцу. Это как бы намек на действие электрической искры. Но ведь только в XVIII столетии было изучено в точности это явление и Микеланджело не имел о нем никакого научного представления.
Вообще познания Шекспира не носили научного характера. Он изучал людей и книги с легкостью гениальной натуры. Конечно, он тратил на это изучение много труда. Но все его время принадлежало театру, необразованным актерам, развлечениям и таверне. Он работал легко. Вы не чувствуете в его произведениях ни напряжения, ни переутомления. Влагая во вступительной сцене к «Генриху V» характеристику молодого короля в уста архиепископа, он, быть может, имел в виду самого себя:
Послушайте, как судит он о вере, И вы невольно будете жалеть, Что он король, а не прелат; начните С ним речь о государстве — он ответит, Как будто б занимался целый век Делами управленья; пусть начнет он Речь о войне — и слух ваш поразится Ужасным громом битв, переведенным На звуки нежной музыки. Сведите Речь на дела политики — он легче Ее развяжет узел, чем подвязку. Его словам готов бы был внимать И сам повеса воздух. Уши ж смертных Заботливо боятся проронить Сладчайший мед разумных изречений. Поистине нельзя понять, где мог он Так воспитать себя. Когда припомним В каком кругу испорченных людей Вращался он дотоле, убивая Златые дни в пирах и буйных играх. Кто видел хоть когда-нибудь, чтоб он Чуждался низких сходок и скрывался В глуши уединенья, предаваясь Ученью и трудам!На эти слова мудрый епископ отвечает: «Клубника растет и под крапивой». Нам кажется, однако, более вероятным, что по воле доброй судьбы Шекспир находил ту умственную пищу, в которой нуждался, в богатой культуре современной эпохи.
Глава 13
Театры и их устройство. — Актеры и драматурги. — Народная и аристократическая публика. — Аристократические воззрения Шекспира
Театры находились на берегу Темзы на болотистой почве. Самые большие из них были только наполовину крыты камышом и представляли собой деревянные сараи, окруженные рвом и украшенные флагом. Начиная с семидесятых годов, когда был выстроен первый театр, они стали быстро вырастать из земли. К концу столетия то и дело строились новые здания. В 1633 г. в Лондоне уже существовало 19 театров (по свидетельству Прайна в «Hystriomastyx»), т. е. столько, сколько не имеет ни один из современных городов с населением в 300 000 жителей. Эта цифра доказывает, каким сочувствием пользовалась драма. За 100 лет до постройки первого театра в Англии существовали уже актеры по профессии. Они вышли из сословия странствующих фокусников, дававших попеременно акробатические и театральные представления. Первые сценические зрелища были устроены церковью, которая передала впоследствии этот обычай цехам. Сначала актерами были священники и певчие, потом — представители отдельных гильдий. И те, и другие давали представления только в большие праздники, и среди них еще не было профессиональных актеров. Но уже в эпоху Генриха VI знатные вельможи стали содержать на свой счет актеров, а в эпоху Генриха VII и Генриха VIII даже короли имели своих придворных артистов. Так называемый Master of the revels (заведующий удовольствиями) был обязан заботиться о музыкальных и драматических развлечениях двора. С половины XVI в. парламент начинает контролировать театральные представления. Он налагает запрещение на т. н. «Miracle plays» и пьесы, противные догматам церкви, но разрешает пение таких песен и постановку таких драм, которые преследовали бы пороки и восхваляли бы добродетели. Таким образом, драматическому искусству была навязана резко выраженная моральная тенденция и условие не выходить из рамок светской жизни.
При королеве Марии опять вошла в моду религиозная драма. Елизавета запретила сначала вообще какие бы то ни было сценические представления, однако в 1560 г. она разрешила их под условием цензуры. Вероятно, она руководилась при этом как политическими, так и религиозными соображениями. Кажется, цензура не отличалась особенной строгостью. По крайней мере, в 1572 г. вышел указ, в силу которого актеры, не находившиеся на службе у одного из знатных вельмож, причислялись к бродягам и должны были, следовательно, подвергнуться изгнанию. Этот указ принудил, конечно, актеров поступить на службу к аристократам, и мы видим, как высшее общество берет на себя обязанность покровительствовать искусству. В эпоху Елизаветы каждый знатный вельможа содержал такую труппу. Актеры считались его слугами (servants) и получали от него плащ, украшенный соответствующим гербом. Они получали жалованье только в том случае, когда играли в присутствии хозяина. Таким образом, Шекспир щеголял до 40-летнего возраста в плаще, украшенном гербом, — сначала графа Лейстера, потом лорда-камергера. Когда в 1604 г. король Иаков принял труппу, к которой он принадлежал, под свое покровительство, и она получила титул «слуг его величества», Шекспир украсил свой плащ королевским гербом, хотелось бы сказать — он променял ливрею на мундир.
В 1574 г. Елизавета дала актерам лорда Лейстера привилегию устраивать в Лондоне и в других местах театральные представления для ее собственного развлечения и для забавы подданных. Однако городская администрация нигде не хотела признавать этого права. Враждебное отношение лондонской администрации принудило актеров построить свои театры вне городской черты, куда не простиралась ее юрисдикция. Если бы они вздумали играть в самом городе, например, в просторных гильдейских залах или на открытых дворах таверн, то им пришлось бы каждый раз ходатайствовать о разрешении и, кроме того, отдать половину доходов в городскую казну.
Спокойные обыватели Лондона не желали, чтобы театры строились вблизи их домов, ибо около театров кипела шумливая, веселая и легкомысленная толпа, не отличавшаяся строго нравственными принципами. В дни представлений там царила такая давка и толкотня, что в тесных, узких улицах прекращалось всякое сообщение, купцы и лавочники терпели убыток, процессии и похороны задерживались и т. д. Это давало повод к постоянным жалобам. Вблизи театров ютились всевозможные притоны. А так как театры были построены из дерева и крыты соломой, то они не были безопасны и в пожарном отношении.
Но главными противниками театра были не лондонские филистеры и не городская буржуазия, а фанатики-пуритане. Они убили старую веселую Англию с ее майскими праздниками, простонародными плясками и разнообразными сельскими увеселениями. Они не могли равнодушно видеть, как театр, бывший доселе религиозным учреждением, превратился в арену для светских забав. Они нападали на драматургов главным образом за то, что они лгут. Эти тупоумные головы не могли понять различия между поэтическим вымыслом и ложью. Они укоряли актеров за то, что они наряжаются в женские костюмы, выступая в женских ролях, а это — противно словам Библии (Моис. V. 22, 6). Они усматривали в этом совершенно невинном маскараде проявления противоестественных и унизительных инстинктов. Они презирали актеров, как фокусников, ненавидели их, как людей, живущих в антагонизме с обществом, и обвиняли их в том, что они предаются за кулисами тем порокам, которые изображают на сцене. В скором времени пуритане стали оказывать давление на городскую администрацию.
Совершенно естественно, что при таких условиях антрепренеры и актеры стремились выйти из-под опеки городского управления. Они стали арендовать себе участки, лежавшие вне Сити, но все-таки вблизи от города. К югу от Темзы находился пустырь, принадлежавший не городу, а епископу винчестерскому. Этот духовный вельможа заботился лишь о том, чтобы получить побольше доходов от этого участка, и не стеснялся в способах его эксплуатации. Здесь возле медвежьего зверинца высились театры «Надежда», «Лебедь», «Роза» и т. д. («The Норе», «The Swan», «The Rose»). Когда в 1598 г. наследники Джеймса Бербержа после неудачного процесса должны были снести здание своего театра, они здесь же выстроили из того же самого материала знаменитый театр «Глобус», открытый в 1599 г.
Театры в Англии были двоякого рода, «частные» (private) и «общественные» (public). Различие между ними долго не было выяснено. Но оно не заключалось, во всяком случае, в том, что частные театры посещались только избранными зрителями по приглашению, а общественные всеми за плату. Каждый вельможа мог нанять один из этих театров, если желал угостить своих гостей сценическим зрелищем. Нет, различие состояло в данном случае в том, что частные театры были устроены по образцу ратуши или гильдейских зал, а публичные театры представляли копию с трактирных дворов. Другими словами, частные театры имели настоящую крышу и в них можно было иметь стулья, даже в партере, который здесь назывался «pit». В таких театрах представления могли происходить не только днем, но также при искусственном освещении. Напротив, в общественных театрах только сцена была крыта крышей, как в древней Греции или, например, теперь в Тироле, зрители же находились под открытым небом. Здесь играли только днем. Но в Греции воздух был чист, а климат — мягок. В Тироле же представления происходят только в известное время и длятся лишь несколько дней. А в Англии играли в то время, когда дождик моросил, и снег падал хлопьями, когда туман спускался на зрителей, и ветер играл их одеждой. Так как подобные театры были устроены наподобие трактирных дворов, где зрителям приходилось либо стоять на самом дворе, либо помещаться на открытых галереях вдоль отдельных ярусов здания, то здесь самая бедная и черная публика занимала партер или «yard». Более состоятельные зрители сидели на галереях (scaffolds), тянувшихся двумя или тремя этажами вокруг здания. Публику извещали о представлении тем, что поднимали флаг. Начинали ровно в три. Антрактов не существовало. Представление длилось обыкновенно только два или два с половиной часа. Недалеко от театра «Глобус» находился зверинец, и его острый запах разносился далеко. Знаменитый медведь Сакерсон, упоминаемый в «Виндзорских проказницах», часто срывался с цепи и пугал женщин и детей, шедших по направлению к театру. Билетов также не существовало. Каждый платил при входе один пенни и получал право на место в партере. Затем каждый клал в кружку известную сумму, смотря по тому, какое место он желал иметь; цены колебались между одним пенни и двумя с половиною шиллингами. Если принять во внимание, что деньги были в то время впятеро дороже, то цена за лучшие места была довольно внушительная: более состоятельные граждане платили за места в литерных ложах около 12 марок. В верхней ложе авансцены помещался в театре «Глобус» оркестр, состоявший из 10 человек: арфистов, гобоистов, трубачей и барабанщиков, в своем роде виртуозов. Это был самый большой оркестр в Лондоне. Самые лучшие места, вход к которым был через уборную артистов, находились на самой сцене. Здесь помещались любители и покровители искусства, вроде Эссекса, Саутгемптона, Пемброка или Рутленда, и сидели на стульях или табуретах молодые франты; в случае недостатка в стульях они раскидывали свои плащи на полу, усыпанном еловыми ветками, и преспокойно растягивались на них (подобно Браккианно в пьесе Вебстера «Виттория Аккаромбони»). Здесь размещались также драматурги-конкуренты, имевшие право на даровой вход, и стенографы, подосланные книгопродавцами: они записывали под предлогом критических замечаний весь диалог. Поэты горько страдали от них, актеры избегали их, как зачумленных, но именно им потомство обязано не одной уцелевшей пьесой. Все эти важные люди разговаривали между собой полушепотом, приказывали слугам приносить напитки, требовали огня для своих трубок, и актеры с трудом пробирались между ними. Правда, этот беспорядок не способствовал иллюзии, но и не ослаблял ее. Никто в то время не требовал ослепительных феерий, созданных при помощи всевозможных машин. До 1600 г. кулисы были совершенно неизвестны. Стены были либо совершенно голы, — тогда в глубине отчетливо виднелись деревянные двери, ведущие в уборные артистов, а если сцена представляла открытую равнину, то победители выталкивали в одну из этих дверей отдельного солдата или целое римское войско, или же стены были покрыты свободно ниспадавшими обоями.
Когда ставили трагедию, то потолок затягивался черным сукном, когда играли комедию — голубым. На английской сцене, так же как в древнегреческом театре, существовало несколько машин, которые поднимали или опускали действующих лиц, затем отверстие в полу и слуховое окно возле потолка. Незадолго до Шекспира ввели некоторые довольно примитивные средства производить эффект. В религиозных и аллегорических драмах адская пропасть изображалась в виде громадной пасти, нарисованной на полотне, со сверкающими глазами и длинным красным носом, с подвижными челюстями и большими зубами. Когда эта пасть раскрывалась, в ней виднелось пламя. Вероятно, там были прикреплены факелы, облитые смолой. Когда ставили мистерию о сотворении Адама, то одно из первых мест среди бутафорских предметов занимало ребро, выкрашенное в красный цвет. Разумеется, подобные предметы теперь совсем вышли из употребления. Иниго Джонс первый стал рисовать декорации и кулисы для придворных увеселений. Впрочем, народные театры не обладали этими вспомогательными средствами в то время, когда Шекспир работал для них. Все воображали себе то, что поэт желал представить; так ребенок видит то, что взрослые ему внушают; так дети, играющие в куклы, уверяют друг друга в том, что перед ними проходят эпизоды из жизни людей. А зрители той эпохи были непосредственны, как дети, и воображение их было наивно, как детская фантазия. Читая на дверях сцены надпись «Париж» или «Венеция», они живо переносились в эти далекие края.
Иногда пролог сообщал подробности о месте действия. Классически образованные англичане, почитавшие свято единство места, возмущались этими постоянными переменами места и вообще бедной и жалкой обстановкой. В своей «Апологии поэзии» (1583) Филипп Сидней поднял на смех те драмы, «где одна сторона сцены изображает Азию, другая — Африку, и где каждый актер непременно должен сказать, в каком месте находится, иначе никто не поймет пьесы».
Эта простодушная понятливость публики была большим счастьем для молодого английского театра. Если актер делал жест, будто срывает цветок, то это означало, что сцена представляет сад, как например, в «Генрихе VI», где объясняется происхождение двух враждебных партий, Белой и Алой розы. Если актер заявляет, что находится на корабле, что кругом бушует буря, и волны высоко вздымаются, то вместе с этим сцена превращалась в палубу, например, в знаменитой сцене в «Перикле» (III, 2). Хотя нетребовательные вкусы публики были Шекспиру как раз на руку, но мы видели, что в комедии «Сон в летнюю ночь» он слегка подтрунил над бедностью сценического аппарата провинциальных театров. В прологе к «Генриху V» он также жалуется на ограниченность сцены и на отсутствие декоративных и бутафорских средств:
Простите ж — все, собравшиеся здесь, Тому, кто вывел дерзко на подмостках Предмет такой высокий: посудите, Возможно ли вместить в такой курятник Равнины Франции, иль сгромоздить В ничтожном этом, о, хоть только шлемы Пугавшие окрестность Азенкура? Простите ж нас! Ведь ряд ничтожных цифр Дает подчас понятье о мильонах; Так почему ж нельзя решиться нам Нулям такого счета вам представить Что мы задумали? Вообразите, Что здесь в стенах, вместилися равнины Двух королевств…Оба эти королевства были, таким образом, охвачены рамкой, образованной молодыми аристократами, знатоками искусства и разными франтами, помещавшимися на самых подмостках: они шутили с юными актерами, исполнявшими женские роли, рассматривали кружевные ткани их нарядов и курили свои глиняные трубки.
Занавес не поднимался кверху, а раздвигался. Несколько лет тому назад Гедерц нашел в утрехтской университетской библиотеке единственный известный нам рисунок, изображающий внутренность одного театра времен Елизаветы, именно театра «Лебедь» («Swan»). Этот рисунок был изготовлен в 1596 г. ученым голландцем Яном де Витом. На сцене, покоящейся на крепких подпорках, стоит одна скамейка, на которой расположился актер. Представлен задний фон уборной, к которой ведут две двери. Наверху виднеется открытый балкон под навесом: им могли пользоваться как актеры, так и зритель: Над крышей уборной высится еще одна надстройка, на верхушке которой развевается флаг с фигурой лебедя. Здесь у открытой двери стоит трубач, созывающий публику. Форма театра продолговатая. В нем имеются три яруса с местами для сидения. В партере можно только стоять. Балкон, пристроенный к уборной, соответствовал т. н. «внутренней сцене» в других более богатых театрах. Эта последняя доставляла немало удобств и делала весь обстановочный аппарат следующих веков почти излишним. Тик, относившийся с таким презрением к устройству современных сцен, восхищавшийся примитивной архитектурой шекспировского театра, пошел в этом увлечении дальше кого бы то ни было. В повести «Молодой столяр» он старается воспроизвести картину шекспировского театра.
Посередине сцены возвышались, по его описанию, две колонны вышиною в 10 футов, на которых покоилось нечто вроде балкона. Колонны были прикреплены к трем широким ступенькам, изображавшим лестницу от авансцены к внутренней части сцены, иногда открытой, иногда отделенной занавесью. Смотря по необходимости, эта часть сцены служила пещерой, комнатой, беседкой, склепом и т. д. Здесь пировал Макбет, и показывалась тень Банко, здесь Отелло убивал Дездемону, здесь актеры в «Гамлете» исполняли вставную трагедию, здесь Глостера лишали зрения. А наверху на балконе стояла Джульетта, ожидая Ромео, или Слай, когда перед ними играли комедию «Укрощение строптивой». На этом же балконе защитники города вступали в переговоры с врагами, занимавшими авансцену, когда представлялась осада города. Довольно широкие ступени вели с обеих сторон к балкону. Там заседали государственные и военные советы. Так как сцена была не объемиста, то уже несколько фигур могли вполне наполнить ее. По этим ступеням всходил Макбет, а в «Виндзорских проказницах» Фальстаф. Вообще устройство сцены давало возможность эффектной группировки действующих лиц, приблизительно как мы это видели на картине Рафаэля «Афинская школа». Актеры не заслоняли друг друга. По обе стороны авансцены могли размещаться отдельные группы и не казалось странным, если они не замечали друг друга.
Большие деньги тратились только на костюмы актеров. Эти суммы были настолько громадны, что пуритане обвиняли представителей театра в мотовстве и расточительности. Генсло отметил в своем дневнике, что за пару панталон было заплачено 4 ф. 14 шил., а за бархатный плащ–16 ф. Известно, что один знаменитый актер истратил на свой плащ 20 ф. 10 шил. В списке движимого имущества труппы лорда-адмирала (1599 г.) перечисляется целый ряд великолепных костюмов: например, пара «панталон из венецианского шелка, телесного цвета, затканных золотом», или «юбка оранжевого цвета, затканная золотом». Суммы, потраченные на эти костюмы, представляли режущий контраст с тем ничтожным гонораром, который получали поэты. С 1600 г. им платили обыкновенно за пьесу не больше 5 или 6 ф., т. е. почти столько же, сколько платили за панталоны актера, исполнявшего роль короля или принца.
В ложах сидели более состоятельные люди: офицеры или купцы из Сити, появлявшиеся иногда в сопровождении своих жен. Последние носили обыкновенно шелковые или бархатные маски, отчасти в защиту от солнечных лучей, отчасти чтобы никто не видел, как они будут краснеть или не краснеть, когда на сцене послышится неприличная фраза. Впрочем, прекрасный пол пользовался тогда масками, как в наше время — вуалью. В первых рядах нашего первого яруса сидели красотки, вовсе не желавшие прятаться и кокетничавшие из-под маски, как теперь кокетничают из-за веера. То были содержанки знатных вельмож или расфранченные дамочки, посещавшие театр ради выгодных знакомств. Позади сидели степенные горожане. А над ними галерею занимала более темная публика: матросы, ремесленники, солдаты и женщины легкого поведения. Женщины никогда не выступали на сцене. Грубая и необузданная публика, стоявшая в партере, наводила ужас на весь театр. Здесь можно было встретить угольщиков, работников с верфей, прислугу и праздношатающихся. Они запасались колбасами и пивом у бродячих разносчиков, покупали орехи и яблоки. Они пили, откупоривали бутылки, курили, дрались в то время, как происходило представление, и когда они бывали чем-нибудь недовольны, то бросали в актеров остатками съестных припасов или даже камнями. Порою они вступали в пререкания или кулачные схватки с изящными кавалерами, сидевшими на сцене; тогда представление прекращалось, и театр закрывался. За партером находилось громадное общее отхожее место, и все старания главных актеров уничтожить его не увенчались успехом. Когда запах становился нестерпимым, то сжигали можжевельник, чтобы его заглушить.
Так как в театре не было полиции, то сама публика производила расправу. Иногда в толпе задерживали карманника, которого привязывали к столбу около авансцены, или, вернее, около перил, отделявших сцену от зрительного зала.
Три трубных звука извещали публику о начале представления. Актер, произносивший пролог, выступал в длинном плаще с лавровым венком на голове, вероятно, потому что раньше сам автор декламировал пролог. По окончании спектакля клоун танцевал «джиг», т. е. танец, состоявший из целого ряда прыжков, напевая веселую песенку и аккомпанируя себе на флейте и на маленьком барабане. Эпилог заключался молитвой за здравие королевы, причем все актеры опускались на колени.
Сама Елизавета и ее двор никогда не посещали этих театров. Там не существовало царской ложи, и публика была слишком разношерстной. Но королева не считала позорным приглашать актеров в свой дворец, и нам известно, что труппа лорда-камергера, к которой принадлежал Шекспир, часто разыгрывала там пьесы в праздничные дни на Рождество или в день Крещения. Не подлежит сомнению, что Шекспир участвовал в двух комедиях, представленных на Рождество 1594 г., в Гринвичском дворце. Его имя упоминается рядом с именами знаменитых актеров Бербеджа и Кемпа. Елизавета платила за подобные представления 20 ноблей гонорара и 10 ноблей наградных, — итого 10 фунтов.
Но королева не хотела довольствоваться этими случайными и исключительными представлениями. Она организовала свою собственную труппу, т. н. «детскую труппу», составленную из певчих королевской капеллы. Эти певческие школы служили как бы подготовительным классом драматического искусства. Подростки-актеры, исполнявшие женские роли, пользовались большим почетом у публики и при дворе. Мы знаем, что одно из этих обществ, образовавшееся из певчих храма св. Павла, представляло одно время на сцене Блэкфрайрского театра довольно серьезную конкуренцию труппе Шекспира. В «Гамлете» поэт жалуется в таких горьких словах на эту конкуренцию:
Гамлет. Что, эти актеры пользуются тем же уважением, как и прежде, когда я был в городе? По-прежнему их посещают?
Розенкранц. Нет, уже не столько.
Гамлет. Отчего? Позаржавели они?
Розенкранц. Нет, они трудятся, как и прежде. Но нашлось гнездо детей, маленьких птенцов, которые вечно пищат громче смысла, и им бесчеловечно за то аплодируют. Теперь они в моде и шумят на народных театрах.
Гамлет. И дети победили.
Розенкранц. Без сомнения, принц, и самого Геркулеса[5].
Число актеров каждой труппы было очень ограниченное. В большинстве случаев их было не больше восьми или десяти. Самое большое количество было двенадцать. Актеры распадались на несколько категорий. Самый низкий класс состоял из наемников, или «hirelings». Они получали жалованье от тех актеров, которым служили. Это были статисты или исполнители небольших ролей. Они не принимали никакого участия в управлении театром. Положение настоящих актеров было тоже неодинаково. Оно зависело от того, являлись ли они только актерами или же одновременно пайщиками, получавшими часть доходов с каждого представления. Директора не существовало. Сами актеры выбирали пьесу, распределяли роли, разделяли между собою прибыль по заранее установленным правилам. Если актер был вместе с тем акционером, положение его было очень выгодное. Пайщики платили, правда, за костюмы и уплачивали гонорар авторам, но за него они получали половину доходов.
Если Шекспир разбогател так быстро, то это объясняется тем, что он был одновременно и актером, и драматургом и сделался в скором времени, вероятно, также пайщиком, так что театр давал ему тройные доходы. Он не принадлежал к первоклассным актерам. Для него это было счастьем. Иначе он едва ли нашел бы достаточно досуга творить. Он исполнял второстепенные роли пожилых и почтенных людей. Он был лишен комического таланта. Нам известно, что он в «Гамлете» исполнял роль духа: она по объему невелика, но от ее исполнения зависит общее впечатление. Он играл также, по-видимому, старого слугу Адама в «Как вам угодно» и роль старика Ноуэлля в комедии Бена Джонсона «У каждого человека свои причуды». Кажется, он изображен именно в этой роли на известном портрете Droeshout’a, украшающем первое издание in-folio. Предание говорит, что Шекспир исполнял однажды в придворном спектакле роль Генриха IV. Когда Елизавета прошлась по сцене и уронила в знак благоволения свою перчатку, он поднял ее и передал ей со словами: «Мы откладываем на время наши высокие планы, чтобы поднять перчатку нашей племянницы». Во всех списках актеров, принадлежавших к той же труппе, имя Шекспира красуется рядом с лучшими и знаменитейшими. Конечно, нас удивляет многое в его гениальной натуре. Но особенно изумительно то обстоятельство, что он, по утрам занятый ежедневно репетициями, а с трех часов находясь в театре на службе, потом просматривал, исправлял, одобрял или забраковывал театральные пьесы, мог проводить вечера в клубе «Сирена» или в таверне, успевая в то же время ежегодно написать две драмы — и какие драмы!
Мы поймем эту плодовитость Шекспира, если вспомним, что в промежуток времени от 1557 по 1616 г. драматургическая производительность англичан достигла своего апогея. При этом в Англии насчитывалось 40 выдающихся и 233 посредственных лирических и эпических поэтов, издававших сборники своих стихотворений. Каждый даровитый англичанин елизаветинской эпохи мог написать сносную драму точно так, как каждый грек времен Перикла мог слепить посредственную статую, и каждый современный европеец сумеет написать порядочную газетную статью. Тогдашние англичане родились драматургами, как древние греки — ваятелями, как мы — злополучные люди — журналистами. Античный грек обладал врожденным чувством пластики, имел постоянную возможность наблюдать нагое человеческое тело и был проникнут вдохновенной любовью к его красоте. Видел ли он, как пашет крестьянин, он получал тысячу разнообразных впечатлений и тысячу новых представлений о мускулах обнаженной ноги. Современный европеец владеет своим родным языком, умеет рассуждать и излагать свои мысли и описывать совершающиеся события в понятной форме и имеет известную газетную начитанность: при таких условиях ему нетрудно написать газетную статейку. Напротив, англичане эпохи Елизаветы следили чутко за человеческой судьбой и за человеческими страстями, а эти последние господствовали без удержу в короткий промежуток времени между падением католицизма и торжеством пуритан. Они привыкли видеть, как люди подчиняются безусловно своим инстинктам, как они следуют только внушениям собственной головы и часто за это лишаются своей головы. Высокая культура эпохи не исключала возможности диких порывов, а эти последние приводили неоднократно к драматическим перипетиям. От престола к эшафоту был только один шаг (вспомните судьбу супруг Генриха VIII, участь Марии Стюарт, позорную смерть фаворитов Елизаветы вроде Эссекса или Рэлея). Картины утонченной жизнерадостности и картины насильственной смерти проходили ежеминутно перед глазами англичан елизаветинской эпохи. Сама жизнь была богата драматическими конфликтами, подобно тому как древнегреческая блистала пластической красотой, а наша современная отличается фотографической, журналистской мелочностью и тщетно старается фиксировать события и интересы дня, лишенные колоритности и твердых очертаний.
Подобно современному журналисту, драматурги елизаветинской эпохи приноравливались к потребностям и вкусам своей публики. Тогда, в продолжение 60 лет, все умственные дебаты велись на подмостках театров, как в наше время на столбцах газет. Драматурги то и дело пикировались друг с другом (по этому поводу Розенкранц говорит Гамлету: «Одно время нельзя было выручить ни копейки за пьесу, если авторы и актеры не бранились в ней со своими противниками»). Расцвет драматического искусства был такой же кратковременный, как расцвет фламандской живописи. Но в эту быстро минувшую эпоху драма была господствующей, национально-британской формой искусства и опиралась на большую публику.
Шекспир не написал ни одной драмы для чтения. Такая мысль не могла ему прийти в голову. Он был настолько актером и присяжным драматургом, что никогда не упускал из вида сцену, и все его художественные образы и мысли всегда невольно облекались в драматическую форму. Хотя творческий процесс удовлетворял, прежде всего, его самого, но он всегда имел в виду тех, для кого писал. Он должен был поневоле считаться с простым зрителем. Хотя этот последний не был ни в каком случае плохой публикой, но он прежде всего жаждал развлечений и не мог слишком долго выносить серьезных и высоко настроенных произведений. Вот именно в угоду этой простой публики чередуются в пьесах современного репертуара торжественные и изысканно-изящные сцены с грубо-комическими. Для развлечения той же публики выступал также клоун, как в наше время он забавляет в цирке публику в антрактах. Антракты обозначались в шекспировском театре не при помощи поднятия или опускания занавеса, а посредством диалога, например, вроде разговора между Петром и музыкантами в «Ромео и Джульетте». Здесь говорится только о том, что действие кончилось. Впрочем, Шекспир никогда не писал специально для толпы. Он презирал ее суждения. Гамлет обращается к одному из актеров со следующими словами: «Я слышал когда-то, как ты декламировал монолог, но его никогда не произносили на сцене больше одного раза. Я помню — пьеса не нравилась толпе: это были апельсины для известного рода животных. Но я и другие, которых мнение в этих вещах гораздо основательнее моего, считали ее превосходной пьесой». В этой фразе «пьеса не понравилась толпе» высказался весь Шекспир. Доводя английскую драму до совершенства, поэт творил для лучших людей своего времени. То были молодые, знатные покровители театра, которым он отчасти был обязан своим образованием, своей славой, наконец, своим знанием образа мыслей интеллигентной аристократии. Юный английский лорд того времени представлял один из самых благородных человеческих типов. Это было нечто среднее между бельведерским Аполлоном и премированным жеребцом в человеческом образе. Он был столько же человеком дела, сколько и художником. Мы видели, что Шекспир рано познакомился с Эссексом, самым могущественным человеком в Англии до своего падения. К его свадьбе поэт написал «Сон в летнюю ночь». В прологе к пятому акту «Генриха V» содержатся также комплименты по его адресу. Здесь говорится следующее:
Точно так, — пусть это сравнение ниже, но оно довольно соответственно, если бы теперь возвратился из Ирландии, что очень может быть, полководец нашей милостивой королевы с возмущением, воткнутым на меч, как многие оставили бы мирный город, чтобы встретить его.
Мы видели также, что Шекспир сошелся рано и близко с молодым графом Саутгемптоном, которому посвятил те же поэмы, которые были единственными, изданными им же самим. Эти молодые вельможи внушили Шекспиру свой аристократический взгляд на историю. В этом нет ничего странного. Буржуазия была враждебно настроена против него, чуждалась и презирала его как актера. Духовенство преследовало и проклинало его. Толпа не имела, по его убеждению, собственного мнения. Шекспир вообще не восхищался своими буржуазными современниками. Он не рисовал, наподобие других поэтов, жизнь среднего класса. Он избегал такого реализма — во вред своей литературной репутации. Общественное мнение решило, что он под конец своей жизни остался далеко позади остальных реалистов. Князья и вельможи, короли и бароны — вот герои Шекспира. Они создают в его драмах историю, на которую он смотрел с наивно-героической точки зрения. Главнокомандующие и герои решают у него все военные дела. Генрих V побеждает при Азенкуре, как Ахиллес под стенами Трои. А на самом деле битвы решались пехотой. При Азенкуре 14 000 английских стрелков победили 50 000 французов, англичане потеряли 1600, французы 10 000 человек.
Шекспир не мог понять, что рост и предприимчивость третьего сословия положили при Елизавете основание могуществу Англии. Он смотрел на своих современников, как человек, привыкший считать молодых, богато одаренных вельмож самыми Выдающимися людьми, покровителями искусства и науки, виновниками великих событий. Обладая ничтожными историческими сведениями, он воображал себе Древний Рим и старую Англию такими же, как современную действительность. Вы чувствуете это уже во II части «Генриха VI». Здесь встречается несколько незабвенных страничек (IV, 2):
Кэд. Будьте же храбры, потому что ваш предводитель храбр и клятвенно обещает вам полное преобразование. Семипенсовые хлебы будут продаваться в Англии по одному пенни. Тройная мера будет десятерной. Пить дрянное пиво будет считаться преступлением. Все государство станет общим достоянием, и моя лошадь будет пастись в Чипсайде. Когда же я буду королем, а я им буду…
Все. Да здравствует его величество…
Кэд. Благодарю, добрый народ! — тогда денег не будет; все будут пить и есть на мой счет; я одену всех в одинаковое платье, чтобы все жили, как братья и чествовали меня, как государя.
Дик. Прежде всего перережем всех законников.
Кэд. Я и сделаю это. Ну, не скверно ли, что из шкуры невинного ягненка сделают пергамент, испишут его, и этот пергамент губит человека…
Входят несколько человек с чатамским клерком.
Что там такое? Кого вы тащите?
Смит. Чатамского клерка. Он умеет читать, писать и сводить счеты.
Кэд. Ужасно!
Смит. Мы видели, как он раздавал ребятишкам прописи.
Кэд. Каков бездельник!
Дик. Кроме того, он мастер сочинять обязательства и разные судейские бумаги.
Кэд. Как жаль. Он, клянусь честью, парень хороший, если я не найду его виновным — он не умрет. Подойди поближе, приятель, я должен допросить тебя. Как тебя зовут?
Клерк. Эммануил.
Дик. Т. е. «с нами Бог». Они всегда пишут это в заголовках бумаг. Ну, плохо тебе будет.
Кэд. Не мешай! Скажи, как ты подписываешь свое имя? Буквами или каким-нибудь знаком, как все добрые, честные люди?
Клерк. Благодаря Богу, сэр, я получил такое образование, что могу сам подписывать свое имя.
Все. Признался, признался! Казнить его! Он злодей, изменник!
Кэд. Взять его и повесить с пером и чернильницей на шее.
Эти блестящие сцены удивительны и поучительны в том смысле, что Шекспир отступает здесь против обыкновения от своего источника. В хронике Холишпеда Джек Кэд и его приверженцы не являются теми полоумными Калибанами, как в драме Шекспира. Они жалуются на то, что король расточает свои доходы и налагает слишком тяжелые налоги; они жалуются на отсутствие правосудия и на несправедливости при сборе податей. Трудно представить себе более резкий контраст того, который существует между шекспировскими сценами и третьим параграфом их жалобы, где говорится о том, что король отстраняет от себя людей, в жилах которых течет королевская кровь (это, вероятно, намек на Йорка) и дает ход выскочкам из простого народа, становящимся стеной между королем и народом, раздающим чины и места за взятки, а не по закону. Они жалуются, наконец, на ограничения в избирательном праве, словом, действуют умеренно и сообразно с конституцией. Вся эта жалоба проникнута, кроме того, поистине национально-английским негодованием по поводу потери Нормандии, Гаскони, Анжу и Мэна. Но Шекспир не увлекся мыслью вывести Джека Кэда во главе такого народного движения. Он вообще мало интересовался вопросами парламента и конституции. Чтобы найти краски для описания этого народного восстания, Шекспир изучает в хронике альбанского монастыря, составленной Стоу, мятежи Уота Тайлера и Джека Строу при Ричарде II, эти две вспышки дикого коммунистического разгула, приправленного религиозным фанатизмом. Вот именно из этой хроники он заимствовал дословно реплики для своих мятежников. А во время этих восстаний все юристы и законники были в самом деле повешены, все акты и бумаги сожжены, чтобы помещики впредь не могли доказать своих прав на землю. Так как Шекспир с самого начала относился с презрением к интеллектуальным способностям толпы и всегда отличался этим антидемократическим настроением, то он подыскивал все новые доказательства в его пользу и все новые подтверждения его справедливости. Вот почему он подтасовывал факты, если они не укладывались в рамки его воззрений, и перестраивал их по образцу тех, которые им соответствовали.
Глава 14
Закрытие театров вследствие чумы. — Возможность путешествия в Италию. — Места в «Укрощении строптивой», «Венецианском купце» и «Отелло», говорящие в пользу этого путешествия
С осени 1592 г. до осени 1593 г. все лондонские театры были закрыты. В городе свирепствовала чума, этот ужасный бич, так долго до сих пор щадивший Англию. Даже суд прекратил свои заседания в столице. Королева решила на рождество 1592 г. обойтись без придворных спектаклей. Уже раньше государственный совет издал официальный указ, запрещавший всякие публичные представления на том весьма разумном основании, что «больные, находившиеся долгое время в уединении и еще не окончательно выздоровевшие, жаждут развлечений и очень охотно посещают подобные зрелища, заражая благодаря господствующей там жаре и давке здоровых людей».
Этот факт любопытен в том отношении, что имеет, может быть, значение для биографии Шекспира. Если поэт действительно путешествовал, то вероятнее всего тогда, когда театры были закрыты. В этом едва ли кто будет сомневаться. Гораздо труднее решить вопрос, был ли Шекспир на самом деле за границей.
Мы видели уже в первых его драмах, как он любил Италию. Пьесы «Два веронца» и «Ромео и Джульетта» служат наглядным доказательством этой симпатии. Но на основании этих двух пьес мы еще не могли заключить, что поэт видел собственными глазами ту страну, куда он перенес действие. Однако драмы, созданные им около 1596 г., т. е. переделка «Укрощения строптивой» и «Венецианского купца», а также более поздний «Отелло» наводят на размышления. Здесь мы замечаем такой верный местный колорит и такую массу подробностей, предполагающих личное знакомство с описываемыми местностями, что поневоле приходится поверить в посещение Шекспиром таких городов, как Верона, Венеция и Пиза.
Разумеется, нет ничего удивительного в том, что Шекспир постарался при первой же возможности заглянуть в Италию. Сюда устремлялись все англичане той эпохи. Италия считалась обетованной страной цивилизации. Все изучали итальянскую литературу и подражали итальянской поэзии. Это был тот чудный край, где царила вечная жизнерадостность. Особенно сильное впечатление производила Венеция, и даже Париж не выдерживал конкуренции с нею. Путешествие в Венецию и жизнь в этом городе не были очень дороги. Многие ходили пешком, как Кориат, познакомившийся там впервые с употреблением вилок. Останавливались в дешевых гостиницах. Передовые англичане елизаветинской эпохи, жизнь которых нам лучше и ближе известна, посетили Италию. Побывали там научные деятели вроде Бэкона и Гарвея, такие писатели и поэты, как Лилли, Мондэй, Наш, Грин и Дэниель, оказавший своими сонетами такое решающее влияние на Шекспира. Такой художник, как Иниго Джонс, также посетил Италию. Большинство этих туристов оставили нам описание своих путешествий. Так как сам Шекспир не рассказал нам ничего о своей жизни, то отсутствие известий о его путешествиях не может служить веским аргументом против такого предположения в том случае, если в его пользу найдутся другие красноречивые факты. И такие факты нашлись.
В эпоху Шекспира не существовало ни гидов, ни так называемых «путеводителей». Не из них почерпнул он, следовательно, свои знания чужих местностей и иноземных обычаев. Ранее выхода в свет «Венецианского купца» ни один англичанин не издал описания Венеции, которую Шекспир обрисовал так мастерски. Книга Льюкнора, составленная почти исключительно на основании посторонних сообщений, относится к 1598 г., путешествие Кориата к 1611 г., описание Морисона — к 1617.
В пьесе «Укрощение строптивой» поражает нас не только верное употребление итальянских имен, но также меткие эпитеты, которыми во вступительных сценах характеризуются разные местечки и города Италии. Эльце указал на следующие факты. Ломбардия называется «прекрасным садом великой Италии». Пизанские горожане именуются «степенными», и это слово подходит действительно, как нельзя лучше, к жителям этого города. Броун обратил в своей книге «Автобиографические стихотворения Шекспира» («Shakspeares Autobiographical Poems») внимание на ту замечательную подробность, что при помолвке Петруччио и Катарины отец последней соединяет руки молодых людей в присутствии двух свидетелей. Это не английский, а итальянский обычай. В старой пьесе, где действие происходит, кроме того, в Афинах, эта подробность отсутствует. Далее, уже давно обратили внимание на следующую за этой сценой реплику Гремио, который перечисляет очень подробно домашнюю утварь и драгоценности, украшающие его дом (конец второго действия):
Вы знаете, во-первых, дом, снабженный Серебряной и золотой посудой Для умыванья рук ее прекрасных, Обит обоями из тирских тканей; Набиты кронами ларцы из кости; А в кипарисных сундуках ковры, Наряды, пологи, белье, завесы, И с жемчугом турецкие подушки, Шитье венецианцев золотое, И медная посуда — все, что нужно Для дома и хозяйства.Уже леди Морган заметила, что видела во дворцах Венеции, Генуи и Флоренции все эти предметы роскоши. А известная писательница мисс Мартино, не знавшая ни книги Броуна, ни наблюдений леди Морган, сказала биографу Шекспира Чарльзу Найту, что, по ее убеждению, бытовые подробности, встречающиеся в «Укрощении строптивой» и «Венецианском купце», предполагают такое близкое знакомство с нравами, обычаями и мельчайшими подробностями семейной жизни итальянцев, которого нельзя приобрести из книг или из случайного знакомства с человеком, прокатившимся раз на гондоле. Единодушный взгляд нескольких наблюдательных женщин на этот вопрос имеет в данном случае веское значение. Броун указал далее еще несколько итальянских черт. Яго, например, называет Кассио насмешливо «великим арифметиком», намекая на его флорентийское происхождение, а флорентийцы славились именно как прекрасные счетоводы и бухгалтеры. Или, например, Гоббо приносит в «Венецианском купце» сыну своего хозяина блюдо голубей. Карл Эльце, высказавший настойчиво предположение, что Шекспир предпринял в 1593 г. путешествие в Италию, указывает, между прочим, на прекрасное знакомство поэта с Венецией. Имя «Гоббо» чисто венецианского происхождения. Как известно, каменная фигура, изображающая коленопреклоненного человека и поддерживающая гранитную колонну, на которой республика развешивала свои указы, носит название II Gobbo di Rialto. Шекспир знал далее, что биржа находилась именно на Риальто. Он, далее, не мог изучать в самой Англии еврейские типы, так как евреи были изгнаны из Англии в 1290 г., и лишь некоторые получили при Кромвеле позволение вернуться. В Венеции же находилось около 1100 евреев (по свидетельству Кориета, даже 5000 или 6000).
Вот еще одна из поразительных подробностей, говорящая в пользу итальянского путешествия Шекспира. Порция посылает Бальтазара с важным поручением в Падую. Она приказывает ему съехаться с ней «около пристани, от которой суда плывут в Венецию». Шекспир представлял себе прекрасный дворец Порции, Бельмонт, в виде одной из тех богатых, украшенных произведениями искусства вилл, которые строились венецианскими миллионерами на берегах Бренты. От местечка Доло близ Бренты до Венеции около 20 миль, а Порция должна пройти как раз такое расстояние, чтобы к вечеру быть в городе. Если вообразить, что Бельмонт лежит недалеко от Доло, то слуга может в самом деле при быстрой езде достигнуть Падуи и нагнать на обратном пути именно около «пристани» медленно подвигающуюся вперед Порцию. Эта пристань находилась тогда около Фузины при устье Бренты. Прекрасное знакомство Шекспира с этими подробностями и необычайность этих сведений видны как из самого выражения, употребленного здесь поэтом, так и из недоумения, в которое он привел издателей и наборщиков. В переводе это место гласит:
Он даст тебе бумаги И платье, ты как можно поскорей Их привези на пристань, от которой Суда плывут в Венецию.Но во всех выходивших когда-либо английских изданиях in-quarto и in-folio сказано именно так: unto the tranect.
Слово «tranect» не имеет никакого смысла. В тексте стояло, без сомнения, «traject». По мнению Эльце это слово есть не что иное, как искажение венецианского «traghetto» (ит. tragitto). Конечно, Шекспир мог узнать эту подробность и это выражение только на месте. Другие детали, встречающиеся во второй из этих пьес, написанных, вероятно, немедленно после предполагаемого возвращения из Италии, только усиливают данное впечатление. Во вступительных сценах к пьесе «Укрощение строптивой» лорды предлагают Слаю показать ему разные картины:
Покажем Ио. Нежная девица Взята обманом и обольщена. Написано так живо, как на деле.Эльце заметил очень метко, что эти стихи намекают явственно на знаменитую картину Корреджио «Юпитер и Ио». Есть основание предполагать, что Шекспир видел эту картину, если путешествовал в означенное время в северной Италии. Между 1585 и 1600 гг. картина Корреджио находилась во дворце ваятеля Леони в Милане, и туристы того времени считали своим долгом взглянуть на нее. Если далее принять во внимание, что Шекспир говорит очень часто о морских путешествиях, бурях и страданиях от морской болезни; если вспомнить, что в его пьесах встречаются частые сравнения и обороты, касающиеся провианта и костюмов моряков, если, наконец, признать, что все эти мелочи указывают на довольно продолжительное морское путешествие, предпринятое им, то почти необходимо предположить, что Шекспир был знаком с Италией не по одним книгам и устным сообщениям.
Однако этот факт не безусловно достоверный.
В картинах итальянской жизни, нарисованных Шекспиром, отсутствуют порой такие типические черты, которые настоящий знаток Италии едва ли обошел бы молчанием.
Так, например, Шекспир, говоря о Венеции, никогда не упоминает о гондолах, а заставляет героев прогуливаться по улицам, словно мы находимся в самом обыкновенном городе.
Конечно, читатель приходит в некоторое недоумение, замечая, как ученые пользуются всеми попадающимися у Шекспира неточностями и промахами, чтобы в них усмотреть доказательства его удивительно широких познаний. Но желая открыть новые достоинства там, где Шекспир говорит явные нелепости, можно было бы доказать, что он посетил Италию прежде, чем стал писать драмы. В «Двух веронцах» говорится, что Валентин сядет в Вероне на корабль, чтобы поехать в Милан. Здесь Шекспир обнаруживает полное незнание географии Италии. Однако Эльце нашел, что в XVI в. Верона и Милан были соединены каналом. В «Ромео и Джульетте» героиня спрашивает монаха Лоренцо, вернуться ли ей к «вечерней мессе». Так как католическая церковь не знает вечерней мессы, то такой вопрос кажется странным. Этот простой факт должен был бы быть известен Шекспиру. Однако Р. Симпсон нашел, что в XVI в. в самом деле существовали «вечерние мессы», и что они были особенно в ходу в Вероне. Шекспир знал все эти подробности так же мало, как то обстоятельство, что в 1270 г. Богемии принадлежали некоторые провинции, лежавшие на берегу Адриатического моря. Он мог поэтому, вопреки своему незнанию географии, без угрызений совести заимствовать у Грина для «Зимней сказки» факт морского путешествия в Богемию.
Ученые отыскивали слишком легкомысленно доказательства в пользу тех или других подробностей, встречающихся в итальянских пьесах Шекспира. Найт утверждал, например, без всякой критической проверки, что «the Sagittary» («Стрелок»), куда Отелло приводит похищенную им Дездемону, была казенной квартирой венецианского главнокомандующего, помещавшейся в оружейной палате, украшенной фигурой стрелка. Но потом выяснилось, что главнокомандующий никогда не квартировал в оружейной палате, и что никакой фигуры стрелка там не бывало. Или Эльце, например, пришел в восторг от меткой характеристики Джулио Романо: «О знаменитом художнике Джулио Романо говорят, что если бы он имел дар оживлять свои произведения, то лишил бы природу всех ее поклонников, — так умеет он ей подражать» («Зимняя сказка» V, 2). Но, строго говоря, Шекспир приписал здесь только художнику, имя которого повсюду славилось, то качество, которое считал наивысшим в области искусства. Если бы поэт видел на самом деле картины Джулио Романо с их внешними эффектами и грубым безвкусием, то он едва ли пришел бы в такой восторг от него. И Шекспир, действительно, не знал этого художника. Это видно из того, что он прославляет его не как живописца, а как скульптора. Правда, Эльце ссылается в виду этой неточности на латинскую эпитафию, приведенную Вазари, где говорится о фигурах, «писанных кистью и вырезанных резцом», и находит, таким образом, новое доказательство всеведения Шекспира. Но критик, благоговеющий перед величием умершего гения, может впадать в своем увлечении в такие же ошибки, как человек, критическое чутье которого парализовано излишним недоброжелательством.
Глава 15
Шекспир обращается к исторической драме. — Его «Ричард II» и «Эдуард II». — Марло. — Отсутствие юмора и недостатки стиля
В тридцать лет человек, даже склонный преимущественно к самоанализу, обращает свои взоры с особенным вниманием на окружающую действительность. Когда Шекспир достигает этого возраста, он принимается серьезно за изучение истории, за чтение хроник и за разработку целого ряда исторических драм. Немного лет прошло с тех пор, как он подновил и исправил старые пьесы о Генрихе VI. Эта работа возбудила и укрепила его интерес к историческим деятелям и к исторической Немезиде. После того, как он облек в целом ряде лирических и драматических созданий беспечность, лиризм и эротику молодости в пестрые, сменяющие друг друга образы, он снова устремил свой взгляд на английскую историю. Он чувствовал себя здесь настолько же поэтом, насколько патриотом. Шекспир написал десять драм из английской истории: четыре из династии Ланкастеров («Ричард II», «Генрих IV» (две части) и «Генрих V»), четыре из династии Йорков («Генрих VI» в трех частях и «Ричард III»), и затем две пьесы, стоящие особняком, «Король Джон», предшествующую в хронологическом отношении всем остальным, и «Генрих VIII», замыкающую собою эту длинную цепь. Впрочем, время возникновения этих произведений не имеет ничего общего с исторической хронологией, которая для нас не имеет поэтому никакого значения. Но, во всяком случае, интересно отметить, что все эти драмы (с исключением более позднего «Генриха VIII») написаны в десятилетний период, в те годы, когда национальное самосознание англичан пробудилось с особенной силой и английская гордость достигла своего апогея. Впрочем, эти «исторические хроники» не обладают одинаковыми достоинствами и не должны быть рассматриваемы вместе. «Генрих VI» представляет работу новичка и переделку чужого произведения. В 1594 г. Шекспир принимается за «Ричарда II», и мы замечаем, как в этой первой самостоятельной исторической драме оригинальность поэта еще борется с его склонностью к подражанию.
О короле Ричарде II существовали более старые пьесы, но, кажется, Шекспир ничего не заимствовал из них. Его образцом была лучшая из трагедий Марло «Эдуард II». Но драма Шекспира не просто удачный этюд в духе Марло. Она отличается не только более строгим единством действия и более продуманной композицией, но также большей сочностью, роскошью и жизненностью, тогда как стиль Марло утомляет своей сухой серьезностью. Суинбери не был справедлив по отношению к Шекспиру, ставя характеристики пьес Марло выше характеристик в драме «Ричард II».
Болезненная, противоестественная страсть короля к фавориту Гавестону занимает в пьесе Марло всю первую половину. Все реплики короля выражают либо его скорбь по поводу изгнания Гавестона и желание, чтобы он вернулся, либо состоят из страстных, радостных излияний, вызванных первым и вторым свиданиями. Страсть к Гавестону доводит Эдуарда до того, что он негодует на королеву, ненавидит лордов, которые презирают с аристократическим высокомерием его любимца, вышедшего из темной массы, и без колебания все ставит на карту, лишь бы не расстаться с этим человеком, столь дорогим для него и столь ненавистным окружающей среде. Полуэротиче-ская окраска этой страсти возбуждает в зрителе отвращение к личности короля и не вызывает того сочувственного отношения к нему, которое поэт намерен пробудить в конце пьесы.
А в четвертом и пятом действиях драмы все симпатии Марло лежат на стороне Эдуарда, как бы ни был он слаб и изменчив. Правда, его одинокое положение, его скорбь и самобичующие размышления не лишены трогательного характера. «Обида, причиненная простому смертному, легко забывается, говорит он. Но король находится в ином положении. Раненый олень отыскивает растение, способное залечить больное место. Но царственный лев бешеной лапой сильнее растравляет кровавые раны». Это сравнение не так метко, как шекспировские, но оно выражает именно то, что хотел сказать Марло. Порою Эдуард напоминает Генриха VI. Отношения королевы к Мортимеру напоминают отношения Маргариты к Суффолку. Сцена отречения от престола, когда король сначала решительно отказывается отдать свою корону, а затем поневоле дает свое согласие, является тем образцом, по которому Шекспир написал аналогичную сцену в «Ричарде II». Но в сцене убийства Марло рисует с таким жестоким натурализмом те муки, на которые обрекают короля, и описывает с таким беспощадным эффектом контраст между благородством, страхом и благодарностью короля и лицемерием и кровожадностью убийцы, что более мягкая натура Шекспира никак не могла за ними последовать. Правда, мы встречаем нередко и у Шекспира весьма грубые черты: например, на сцену приносят отрубленную голову действующего лица, только что сошедшего с подмостков. Но он бы никогда не нарисовал такой картины убийства, как здесь, где на короля наваливают подушки, потом стол и топчут ногами, пока король, наконец, не оказывается раздавленным. В таких подробностях обнаруживается более суровый характер Марло. Он вдохнул частицу своей собственной страстной и необузданной души в фигуры второстепенных действующих лиц, обрисованных твердой рукой, каковы, например, фигуры бурных баронов с Мортимером во главе.
Ведь время, когда убийство считалось непременным условием драматического впечатления, было еще так недалеко. Одному из актеров лорда Лейстера, Вильсону, заказали в 1581 г. пьесу, которая должна была быть не только оригинальной и забавной, но также содержать всевозможные убийства, безнравственные истории и разбойничьи приключения.
«Ричард II» принадлежит к тем из шекспировских пьес, которые никогда не пользовались успехом на сцене. Причина этого обстоятельства заключается в чисто политическом содержании драмы и в отсутствии женских ролей. Но она интересна как первая попытка Шекспира в области самостоятельной исторической поэзии и превышает свой образец художественными достоинствами.
Поэт придерживается довольно близко истории в том виде, как он ее нашел в хронике Холиншеда. Но вступительная сцена, выдвигающая вместо истинной причины ссоры двух могущественных баронов — вымышленный и довольно неудачный повод и к тому же не объясняющая совсем, почему непременно необходимо было прибегнуть к поединку как к божьему суду, чтобы узнать истину, — эта сцена является отступлением от истории. Если Шекспир вводит далее в свою пьесу фигуру королевы, чтобы оживить, по-видимому, действие хотя бы одним женским характером, чтобы расположить сердца зрителей к королю в виду преданной любви к нему этой женщины и растрогать их сценой разлуки перед тем, как Ричарда отводят в темницу, то и в данном случае Шекспир отступает от истории. Французской принцессе Изабелле, невесте Ричарда, было в 1398 г., когда начинается действие пьесы, только 12 лет, и она никогда не была его женой, ибо низложение и смерть короля последовали слишком быстро. Если, наконец, король умирает храбро, с мечом в руке, то это тоже исторически неверно. Его уморили голодом в темнице, чтобы выставить его труп и показать, что он умер естественной смертью.
Шекспир не постарался дать зрителю ключ к пониманию характеров. Поступки действующих лиц приводили часто в недоумение. Но Суинберн жестоко оскорбляет Шекспира, восхваляя на его счет Марло за то, что его второстепенные герои — люди цельные, а личности вроде шекспировского герцога Йорка очерчены бледно. Только во вступительной сцене фигура Норфолка производит впечатление чего-то недоказанного. Личность же герцога Йоркского слабохарактерная, непостоянная, противоречивая, сложная и непоследовательная, но нельзя сказать, что неясная. Сначала Йорк упрекает короля за его недостатки, принимает от него потом ответственный пост, обманывает его, осыпая в то же время мятежника Болингброка бранью, удивляется величию короля накануне его падения и сам же заставляет его отречься от престола; затем, возмущенный кознями собственного сына против нового монарха, он спешит поклясться этому последнему в верности и потребовать казни своего детища. В этой характеристике слышится глубокое политическое разочарование и ранняя политическая опытность. Шекспир изучил, по-видимому, с большим вниманием ближайший к нему период английской истории, государственные перевороты в эпоху королев Марии и Елизаветы, чтобы вынести оттуда яркое представление о политической изменчивости, воплощенной им здесь в драматических образах.
Личность старого патриота Гаунта, преданного королю, дает Шекспиру впервые повод выразить свою любовь к Англии, свою гордость тем, что он англичанин. Умирающий Гаунт возвышается до истинного лиризма в полных скорби патриотизма и любви словах, которыми он оплакивает своевольное, деспотическое правление Ричарда. Какое тут может быть сравнение с Марло? Здесь вы слышите голос самого Шекспира и понимаете, насколько этот пафос, уравновешенный при всей своей страстности, превосходит необузданный и напыщенный стиль Марло. В громовой речи старого Гаунта, обвиняющего короля в том, что он закладывает английские земли, чувствуется патриотическое самосознание молодой Англии елизаветинской эпохи[6]:
И этот царственный престол, этот венценосный остров, эта земля величия, эта отчизна Марса, этот второй Эдем, полурай, эта крепость, которую природа создала для самой себя в защиту от зараз и войн, это счастливое поколение мужей, этот маленький мир, этот драгоценный камень, вставленный в серебристое море, которое защищает его, как стена, как ров замка от зависти государств не столь счастливых, и эта благословенная земля, этот остров, это королевство, эта Англия, эта кормилица, эта мать королей, страшных своим племенем, знаменитых рождением, прославившихся подвигами, — и эта родина душ великих, эта драгоценная страна, драгоценная своей знаменитостью во всей вселенной отдана — о, это убивает меня! — отдана на откуп, как поместье, как ничтожная мыза! Англия, объятая победоносным морем, Англия, скалистые берега которой отбивают завистливый напор водного Нептуна, опоясана теперь позором, чернильными пятнами, крепостями из гнилого пергамента! Англия, привыкшая завоевывать другие земли, завоевала теперь постыднейшим образом самое себя. О, если бы этот позор исчез вместе с моей жизнью, как счастлив был бы мой близкий конец!
Это поистине рычание молодого льва: пафос, свойственный только Шекспиру.
Поэт обратил главное свое внимание на обрисовку центральной фигуры и ему вполне удалось дать блестящую, разностороннюю характеристику выродившегося, но интересного сына знаменитого Черного Принца. Но Ричард такой же неудачный герой трагедии, как король Эдуард. В первой половине пьесы он производит такое отталкивающее впечатление на зрителя, которого не в силах стушевать его дальнейшее поведение. Ричард совершает до начала пьесы массу бессмысленных и неполитических поступков, которые доказывают его полную несостоятельность как правителя. Он относится к умирающему Гаунту так грубо и обнаруживает после его смерти такую гнусную и низкую жадность, что его ссылка на свое право кажется кощунством.
Впрочем, он имеет в виду не обыкновенное, не земное право, над которым глумится. Он верит в свою королевскую неприкосновенность, как в религиозный догмат. Но так как это убеждение не внушило ему в дни счастья мысли о каких-нибудь обязанностях перед короной, украшающей его главу, то оно и не захватывает зрителя и не повышает общего впечатления. Если Шекспир заставляет события и действующие лица говорить за себя, не пытаясь взглянуть на них под известным углом зрения, то вы чувствуете в этой манере руку новичка. Поэт слишком скрывается за своим произведением. В этой пьесе нет еще проблесков юмора и в ней не чувствуется объединяющей руководящей мысли.
Ричард становится интересным в психологическом отношении только с того момента, когда его могущество ослабевает. Как все бесхарактерные люди, он то и дело переходит от отчаяния к высокомерию. На предложение отречься от короны он отвечает в одном месте очень характерно: Да! Нет; Нет! Да!
В этих словах — весь его характер! В несчастье он обнаруживает наклонность к рефлексии, довольно естественную при поэтических задатках его натуры. Порою его глубокомыслие доходит до схоластической вычурности, его фантастическая эксцентричность — до болезненного суеверия (во второй сцене третьего действия). Иногда его размышления носят такой же меланхолический характер, как раздумье Гамлета:
Никто ни слова утешительного; будем говорить о могилах, о червях, о надгробных надписях; сделаем прах нашей бумагой, напишем нашу грусть на груди земли слезящимися глазами. Изберем исполнителей нашей последней воли и поговорим о завещаниях… Ради Бога, сядем наземь и примемся рассказывать грустные повести о кончинах королей: как те свергнуты с престола, те убиты на войне, тех посещали духи обестроненных, или как те отравлены женами, те зарезаны во сне. Все умерщвлены — потому что в венце, обнимающем смертное чело короля, живет смерть. Сидя тут, старая шутиха издевается над его величием, скалит зубы на окружающий его блеск — позволяет какую-нибудь минуту разыгрывать коротенькую сцену царствования…
В этом угнетенном настроении, когда Ричард становится глубокомысленным и остроумным, он прекрасно понимает, что король — только человек.
«Все это время, — говорит он, — вы принимали меня не за то, что я есть. Я так же, как и вы, кормлюсь хлебом, чувствую недостатки, горе, нуждаюсь в друзьях, и мне, всему этому подчиненному, вы говорите — я король».
Но каждый раз, когда его охватывает мания величия и в нем оживает монархический принцип, он выражается совсем иначе: «И все воды сурового, бурного океана не смоют мира с чела помазанника; дыхание смертного не свергнет наместника, избранного Господом. За Ричарда, на каждого человека, которого Болингброк принудит поднять злобную сталь против нашей золотой короны, Всевышний выставит по светлому ангелу».
Точно в таком же тоне разговаривает король при первом свидании с победоносным Генрихом Герфордским, которому он вскоре покоряется (III, 3):
Так знай — мой властитель, Господь Всемогущий, собирает в облаках нам на помощь войска сейчас, которые изведут нерожденных и незачатых еще детей, кичливых вассалов, поднимающих руку на нашу голову, грозящих славе нашей драгоценной короны.
Через несколько столетий после смерти Ричарда прусский король Фридрих-Вильгельм IV представлял такое же сочетание глубокомыслия, остроумия, религиозности, трусости, монархического самосознания и декламаторских наклонностей.
В четвертом и пятом действиях как Ричард, так и искусство поэта достигают своей кульминационной точки. Сцена, где конюх, последний из оставшихся верными королю, посещает его в темнице, полна трогательной красоты. Когда он рассказывает Ричарду, что Генрих Ланкастерский въезжал в Лондон на том же самом арабском коне, который был его любимцем, что конь выступал, гордясь своим новым седоком, «как будто бы презирал землю», — то этот рассказ производит потрясающее впечатление. Этот арабский конь является великим в своей простоте символом, намекающим на поведение всех тех, которые когда-то служили низложенному королю.
В сцене отречения от престола Ричард поражает нас нежной деликатностью чувства и богатой игрой воображения. Когда Генрих и Ричард оба держатся за корону, последний произносит одну из самых прекрасных реплик, когда-либо написанных Шекспиром:
Теперь эта золотая корона точь-в-точь, как глубокий колодезь с двумя бадьями, наполняющими одна другую. Порожняя все качается в воздухе, другая внизу, невидимая и полная воды; эта нижняя и полная слез — я, упивающийся горем, между тем как ты возносишься вверх.
Вся эта сцена является, как уже было замечено, снимком с аналогичной сцены в трагедии Марло. Когда один из баронов обращается у Шекспира к развенчанному королю со словами «Мой господин!», он отвечает: «Нет, я не твой господин!» (No lord of thine). У Марло эта реплика звучит почти так же: «Не называй меня господином» (Call me not lord). Впрочем, шекспировская сцена имеет свою историю. Цензура елизаветинской эпохи запретила ее печатать, и она встречается только в четвертом издании in-quarto от 1608 года.
Это запрещение объясняется тем, что Елизавету — как это ни странно — часто сравнивали с Ричардом II. Кроме того, оно доказывает также, что пьеса, игранная, по свидетельству судебных протоколов, в 1601 г. труппой лорда-камергера накануне возмущения Эссекса по инициативе зачинщиков мятежа, была именно трагедия Шекспира (а не одна из более ранних пьес о том же короле). Если актеры называют драму при этом случае устарелой пьесой, «вышедшей из моды», то это обстоятельство ничего не доказывает, так как по понятиям того времени пьеса, написанная в 1593 или 1594 г., считалась в 1601 уже устарелой. Если автор отнесся в конце пьесы симпатично к своему герою, то это тоже неважно. Недостатки короля, позволявшие уловить намек на Елизавету, не подлежали никакому сомнению.
Генрих Герфордский являлся носителем будущности Англии: этого было достаточно для крепких и малочувствительных нервов того времени. Этот король, которому суждено было сделаться одним из главных героев шекспировских драм, отличается уже в этой пьесе всеми качествами узурпатора и властителя: проницательностью и ясностью мысли, умением притворяться, способностью заручаться любовью толпы и большой решительностью.
В одной из своих реплик (V, 3) будущий Генрих IV рисует уже портрет своего необузданного сына, любимого героя Шекспира: он проводит свое время в лондонских тавернах в компании разгульных собутыльников; порою они даже грабят по дорогам путешественников, но, несмотря на свою дерзость и смелость, он все же подает надежду на более благородное будущее.
Глава 16
«Ричард III». — Психология и монологи. — Способность Шекспира перевоплощаться. — Презрение к женщине. — Лучшие сцены. — Классическое направление трагедии
В 1594–1595 гг. Шекспир возвращается к сюжету, бывшему у него под руками в то время, как он переделывал вторую и третью части «Генриха VI»; он снова останавливается на столь смело там задуманном характере Ричарда Йоркского и, как в «Ричарде II» он шел по следам Марло, так и теперь он всецело погружается в чисто марловский образ, но лишь с тем, чтобы выполнить его со свойственной ему лично энергией и на нем, как на фундаменте, построить первую из написанных им исторических трагедий с цельным драматическим действием. Прежние его исторические пьесы были еще наполовину эпического характера. Эта же — чистая драма, быстро сделавшаяся одной из любимейших и эффектнейших на сцене и запечатлевшаяся в памяти всех и каждого благодаря монументальному характеру главного действующего лица.
Поводом к тому, что Шекспир именно теперь занялся этой темой, послужило, вероятно, то обстоятельство, что в 1594 г. была напечатана довольно старинная, ничтожная пьеса на тот же сюжет «The True Tragedy of Richard III» («Истинная трагедия о Ричарде III»). Своим появлением в печати она была, вероятно, обязана представлением на сцене «Генриха VI», возбудившим новый интерес к герою драмы.
Определить вполне точно дату шекспировской пьесы невозможно. Как старейшее издание in-quarto «Ричарда II» было занесено в регистры (Registers) книгопродавцев лишь 29 августа 1597 г., так и старейшее издание «Ричарда III» — лишь 20 октября того же года. Но нет никакого сомнения в том, что в самой ранней своей форме пьеса гораздо старше; разнородность стиля показывает, что Шекспир переработал ее еще до первого издания, что между первым in-quarto и первым изданием in-folio произошла радикальная переработка пьесы. Эту драму, очевидно, подразумевает Джон Уивер, когда (уже в 1595 г.) в стихотворении «Ad Gulielmum Shakespeare», восхваляя образы, созданные Шекспиром, упоминает под конец о Ричарде.
Из старой драмы о Ричарде III Шекспир не взял ничего, или, точнее, взял, быть может, половину каких-нибудь трех или четырех стихов в первой сцене второго акта. Он придерживался с начала до конца Холиншеда, списавшего свою хронику от слова до слова с Холла, который, в свою очередь, только перевел рассказ о жизни Ричарда III, составленный Томасом Мором. Мы можем даже видеть, каким изданием Холиншеда пользовался Шекспир, так как он сохранил описку, или опечатку, встречающуюся лишь в этом издании. В V акте, 3-й сцене, 324-й строке значится:
Long kept in Bretagne at our mothers cost! (Долго живший в Бретани на счет нашей матери. Здесь mother ошибочно поставлено вместо brother).
Текст в «Ричарде III» причиняет издателям Шекспира немало затруднений. Ни первое издание in-quarto, ни значительно исправленное in-folio не свободны от грубых и сбивающих с толку ошибок. Редакторы так называемого кембриджского издания сделали попытку вывести оба шекспировских текста из плохих копий с подлинных рукописей. В этом еще не было бы, пожалуй, ничего удивительного, так как собственноручная рукопись поэта, при постоянном употреблении ее суфлером и режиссером, всегда так быстро уничтожалась, что приходилось то один, то другой лист заменять копией. Но со всем тем издатели несомненно придали слишком мало значения увеличенному и исправленному тексту первого in-folio. Джеймс Спеддинг доказал в превосходной статье, что изменения, казавшиеся здесь случайными или произвольными, следовательно, предпринятыми не самим поэтом, объясняются — одни — стремлением его усовершенствовать стихотворную форму, другие — его старанием избежать повторения одних и тех же слов, третьи — его желанием удалить устарелые обороты и выражения.
Всякий, кто воспитался на Шекспире, с недоумением останавливался в ранней юности перед Ричардом, этим дьяволом в человеческом образе, и со страстным участием следил за взрывами его дикой силы, когда он переходит от убийства к убийству, пробирается через омут лжи и лицемерия к новым злодействам, становится цареубийцей, братоубийцей, тираном, убийцей своей жены и своих союзников, и в последний момент — хотя весь запятнанный кровью и неправдой — с непреклонным величием испускает свой бессмертный крик: «Коня! Коня!..»
Когда Гейберг отказался поставить «Ричарда III» на сцене королевского театра в Копенгагене, он выразил сомнение в том, чтобы «мы когда-либо могли привыкнуть видеть кинжал Мельпомены превращенным в нож мясника», и, как и многие до и после него, он возмутился словами Ричарда в первом монологе; что он поставил себе задачей быть злодеем[7]. Он сомневался, чтобы этот оборот речи был психологически возможен, — в чем был прав, — но ведь сам монолог есть уже несогласное с действительностью развитие в словах сокровенных мыслей, а с некоторым различием оттенка в выражении эта мысль легко могла найти себе оправдание. Ричард ведь не хочет сказать, что он решил быть тем, что в его собственных глазах беззаконно, но только утверждает с горькой иронией, что так как он не может разделять наслаждение мирного и изнеженного времени, в котором живет, то выступит злодеем и даст полный простор ненависти к суетным радостям своей эпохи.
В этих словах есть программная откровенность, которая поражает; Ричард стоит здесь наивный, как пролог, и предвозвещает содержание трагедии. Можно почти подумать, что Шекспир хотел здесь с первого шага обеспечить себя против обвинения в неясности, которому, вероятно, подвергся его Ричард II. Но надо помнить, что властолюбивые люди в его время обладали менее сложным характером, чем в наши дни, и что, кроме того, он вовсе и не хотел изобразить кого-либо из своих современников, а хотел изобразить личность, стоявшую перед его фантазией, как историческое чудовище, отделенное от его эпохи более чем столетием. Его Ричард подобен портрету из тех времен, когда как у опасных, так и у благородных людей был более простой механизм мышления, и когда у выдающихся личностей еще встречались такие несложно-крепкие затылки, какие после них можно было бы найти лишь у диких вождей в отдаленных частях света.
На такие-то образы, как этот Ричард, нападают те, кто не видит в Шекспире первостепенного психолога. Но Шекспир не был детальным живописцем. Психологическая детальная живопись, вроде той, какая встречается в наши дни у Достоевского, была не его делом, хотя он и умел изображать разнообразные душевные оттенки, как он и доказал это на Гамлете. Разница лишь в том, что он создает многообразие не посредством дробления, а тем, что оставляет впечатление внутренней бесконечности в индивидууме. Он, очевидно, лишь в редких случаях мог наблюдать в свою эпоху, как обстоятельства, переживаемые события, изменяющиеся условия жизни шлифуют личностей до такой степени, что они начинают сверкать мельчайшей гранью. Если исключить Гамлета, стоящего особо в известных отношениях, то его мужские образы имеют, правда, углы, но не имеют граней.
Возьмите этого Ричарда. Шекспир создает его из немногих простых основных свойств: уродства, могучего сознания умственного превосходства и властолюбия. Все в нем можно свести к этим простым элементам. Он храбр из самолюбия, притворно влюблен из неутолимой жажды могущества, он хитер и лжив, он комедиант и кровопийца, он столь же жесток, как лицемерен, — все это ради того, чтобы достигнуть высшей власти, составляющей его цель.
Шекспир нашел в хронике Холиншеда некоторые основные черты: Ричард родился с зубами, умел кусаться прежде, чем улыбаться. Он был безобразен; одно его плечо было выше другого. Он был зол и остроумен; он был храбрый, щедрый полководец; он был скрытен; он был коварен и лицемерен из честолюбия, жесток из политических видов.
Шекспир упрощает и преувеличивает, как это делает всякий художник. Делакруа тонко заметил: «Искусство — это преувеличение кстати».
Ричард является в трагедии уродом: он маленького роста, с искривленным станом, у него горб на спине, одна рука у него сухая. Он не обманывает себя, как другие уроды, относительно своей наружности, не воображает себя красивым, вместе с тем он не встречает любви в дщерях Евы, как это бывает со многими уродами, благодаря сострадательному инстинкту у женщин, способному иногда превратиться в любовь.
Нет, Ричард чувствует себя обиженным природой, чувствует, что он с самого рождения терпел несправедливость и рос, как какой-то отверженец, несмотря на свой сильный и стремящийся вперед ум. Он с самого начала был лишен любви своей матери и должен был слышать издевательства своих врагов. На его тень указывали со смехом. Собаки лаяли на него, когда он проходил мимо, — до того был он хром и безобразен. Но в этой внешней оболочке обитает властолюбивая душа. Пути, ведущие других к радости и наслаждению, для него закрыты. Но он хочет господствовать; он создан для этого. Власть для него все; она — его idee fixe; одна только власть может отомстить за него окружающим его людям, которых он или ненавидит, или ставит ни во что, или ненавидит и презирает вместе. Он жаждет блеска короны над головой, сидящей на его уродливом теле. Он видит, как светится вдали ее золотое сияние; между ним и целью стоит много, много жизней. Но нет лжи, нет убийства, нет вероломства, нет предательства, перед которыми он отступил бы, раз он может их ценою приблизиться к ней.
И в этот-то характер Шекспир — в тайниках своей души — превращает самого себя. Драматург, как известно, должен постоянно уметь совлекать с себя свое «я» и переходить в существо другого. Но в позднейшие времена некоторые из величайших драматических поэтов содрогались перед необходимостью превратиться в злодея, как это, например, было с Гёте. Его преступно действующие персонажи только слабохарактерны, как Вейслинген или Клавиго; даже его Мефистофель вовсе не зол. Шекспир попытался усвоить себе чувства Ричарда. Что сделал он для этого? Точь-в-точь то же, что делаем мы, когда стараемся уразуметь другую личность, того же Шекспира, например. Он переселяется в него с помощью своей поэтической фантазии, то есть пробивает в его образе отверстие, через которое может проникнуть в него, и вот он очутился в нем и живет в нем. Ведь для поэта вопрос всегда сводится к следующему: как чувствовал бы я и как поступал бы, если бы был принцем, женщиной, если бы был победоносен, покинут и т. д.?
Шекспир берет исходной точкой оскорбление, нанесенное природой его герою. Ричард — человек, обиженный природой. Как мог почувствовать это Шекспир, — Шекспир, имевший здоровые члены и выше всякой меры бывший любимцем природы? Он тоже долгое время терпел унижения, он жил в низменных условиях, не соответствовавших его таланту и стремлениям. Бедность есть то же увечье, а положение актера было бесчестьем, своего рода горбом на спине. Таким образом, ему легко было почувствовать, что должен выстрадать обиженный природой человек. Он только расширяет в себе все настроения, вызванные нанесенными ему унижениями, и заставляет их принимать грандиозные размеры.
Затем следовало чувство превосходства и проистекающая отсюда жажда могущества и владычества у Ричарда. Шекспир не мог иметь недостатка в сознании своего личного превосходства, что же касается властолюбия, то у него, как и у всякого гения, был, несомненно, зародыш этого чувства. Что он был честолюбив, это, разумеется, само собой, — правда, не в том смысле, в каком честолюбивы актеры и драматурги нашего века, простое фиглярство которых считается искусством, между тем как его искусство было лишь фиглярством для значительного большинства; правда, его художническое самолюбие было придавлено в самом своем росте; но в страсти, сделавшей его в несколько лет из помощника актеров руководителем театра и заставившей его проявить во всем блеске величайшее творческое дарование своей страны, пока он не затмил собою всех соперников в своей профессии и не был оценен знатнейшими и наиболее сведущими в искусстве людьми, — в этой страсти все же было честолюбие. Совокупность чувств, наполнявших его, он переносит в другой жизненный круг, круг внешнего господства, и инстинкт его души, никогда не допускавший ни перерыва, ни остановки, но побуждавший его совершать один умственный подвиг за другим и, не давая себе ни минуты отдыха, бросать по своим следам одно за другим готовое произведение, этот бурный инстинкт с неизбежно сопутствующим ему эгоизмом, заставившим его в молодости покинуть свою семью, в зрелые годы наживать себе состояние, без сентиментальной жалости к должникам и (per fas et nefas) домогаться своей скромной дворянской грамоты, — вот что помогает Шекспиру понять и почувствовать стремление к высшей власти, попирающее и разрушающее все преграды. Все же прочие свойства (например, лицемерие, бывшее в хронике главным свойством) он делает простыми средствами, орудиями властолюбия.
Обратите внимание на то, как он сумел индивидуализировать это чувство. Оно унаследовано. Во второй части «Генриха VI» (III, 1) отец Ричарда, Йорк, говорит следующее:
Пусть страх в душе гнездится подлой черни; Ему в державном сердце места нет. Как дождь весной, так мысль бежит за мыслью, Но все они стремятся к главной цели. ………………………………………… Политики искусные вы, лорды, Меня отсюда шлете дальше с войском! Но на груди вы греете змею, И скоро вас она ужалит в сердце.В третьей части «Генриха VI» Ричард показывает себя истинным сыном своего отца. Его брат добивается женской любви; он же мечтает лишь о королевском сане. Если бы для него не существовало короны, то мир не мог бы ему дать никакой радости. Он сам говорит (III, 2):
Во чреве матери любовью проклят Я был, не мог сносить ее закона, И ей подкуплена была природа: Свела мне руку, как сухую ветвь, А на спину взвалила эту гору. И ноги мне дала длины не равной. Все члены сделавши несоразмерно, Так я, как медвежонок неумытый, И матери подобья не имею. Так разве полюбить меня возможно? Нелепый бред — об этом даже думать. Но если нет мне радости иной, Как угнетать и властвовать, царить Над теми, кто красивее меня, Мысль о венце моим пусть будет раем.Властолюбие является у него внутренним страданием. Он говорит, что он подобен человеку, попавшему в чащу терновника. Шипы колют его, и он, в свою очередь, разрывает их и не видит другого выхода на волю, кроме того, который он может проложить себе топором. Так и он терзается из-за английской короны. Поэтому, как значится в его монологе, он будет завлекать в пучину, как сирена, будет лукавить, как Улисс, менять цвет, как хамелеон, достигнет того, что сам Макиавелли найдет чему поучиться у него (последняя черта анахронизм, так как Ричард умер за 50 лет до того времени, когда вышла в свет книга «О государе»).
Если это значит быть злодеем, то он, конечно, злодей. И Шекспир, в интересе художественного эффекта, нагромоздил над головой Ричарда гораздо более преступлений, чем он совершил по свидетельству истории. Это объясняется тем, что поэт, читая у Холишпеда о вопиющих злодеяниях Ричарда, был убежден, что есть действительно такие люди, как тот человек, который в это время овладел его фантазией. Он верил в существование злодеев, — вера, по большей части уступающая место в наши дни неверию, в сильной степени облегчающему всем злодеям их работу, — он изобразил их не в одном Ричарде: он создал Эдмунда в «Лире», для которого незаконное рождение имеет подобное же значение, как уродство у Ричарда, и создал великого магистра злобы — Яго в «Отелло».
Но оставим в стороне это пустое бранное слово «злодей», которым называет самого себя Ричард. Шекспир, вероятно, теоретически верил в свободную волю, могущую проявлять себя в самых различных направлениях, следовательно, и в направлении злодейства, но на практике все у него мотивировано.
Три сцены были здесь, очевидно, главными пунктами для Шекспира, и эти три сцены останутся навсегда в нашей памяти, если мы хоть раз внимательно прочли пьесу.
Первая из этих сцен та, где Ричард покоряет сердце Анны, вдовы принца Эдуарда, которого он умертвил в союзе со своими братьями, наследницы престола после Генриха VI, которого он равным образом убил. Шекспир все довел здесь до крайних пределов. В то самое время, когда Анна провожает гроб с останками убитого Ричардом Генриха VI, Ричард выходит к ней навстречу, останавливает похоронное шествие обнаженным мечом, спокойно выслушивает все взрывы ненависти, отвращения и презрения, которыми старается уничтожить его Анна, и, стряхнув с себя ее издевательства, начинает свое сватовство, разыгрывает свою комедию влюбленного и тут же изменяет ее образ мыслей тем, что она сразу подает ему надежду на взаимность и даже принимает его перстень.
С исторической точки зрения эта сцена невозможна, так как королева Маргарита взяла с собой Анну во время своего бегства, и Кларенс скрывал ее целых два года после смерти Генриха VI, пока Ричард не отыскал ее в Лондоне. Помимо того, при первом чтении эта сцена имеет в себе нечто изумляющее или, скорее, ошеломляющее, производит такое впечатление, точно она написана на пари или с целью превзойти какого-нибудь предшественника. Тем не менее, в ней нет ничего неестественного. Что справедливо можно возразить против нее, это лишь то, что она не подготовлена. Поэт сделал ошибку, заставив нас в этой самой сцене впервые познакомиться с Анной, — следовательно, лишив нас возможности составить себе мнение относительно того, насколько ее поступки согласуются или нет с ее характером. Драматическое искусство есть почти всецело искусство подготавливать и, несмотря на подготовку, а, может быть, и в силу ее, производить впечатление неожиданности. Впечатление неожиданности без подготовки только наполовину достигает художественного воздействия.
Но это лишь технический недостаток, который такой первостепенный художник в более зрелые годы легко бы исправил. Решающим фактом остается безмерная смелость и сила этой сцены или, говоря психологически, пучина рано развившегося презрения к женщинам, в которую она дает нам заглянуть. Ибо именно потому, что поэт вовсе не дал характеристики этой женщины, он как будто хочет сказать: вот какова женская натура вообще! Очевидно, в молодые годы поэт не испытал такого сильного впечатления от достоинств женской натуры, какое испытал в более поздний период своей жизни. Он любит изображать грубых женщин, как Адриана в «Комедии ошибок», необузданных и испорченных, как Тамора в «Андронике» и Маргарита в «Генрихе VI», или сварливых, как Катарина в «Укрощении строптивой». Здесь он дает образ специально женской слабохарактерности и олицетворяет свое собственное пренебрежение к ней в презрении, которое питает Ричард к женщинам.
И вот что говорит это презрение: ожесточи против себя женщину, причини ей какое хочешь зло, убей ее мужа, лиши ее этим надежды на корону, наполни сердце ее ненавистью и проклятиями, но если ты только сумеешь заставить ее вообразить, что все, все, что ты сделал, все твои преступления, все это совершено из пламенной страсти к ней, с целью стать к ней ближе и, если возможно, добиться ее руки, — тогда ты одержал верх, и раньше или позже она сдастся, — ее тщеславие не устоит. Если оно устоит против десяти мер поклонения, то не устоит против ста, а если и этого недостаточно, то дай ей больше. У всякой женщины есть своя цена, за которую можно купить ее тщеславие, — стоит только решиться и начать торг. И Шекспир заставляет урода-убийцу, не поморщившись, стереть с лица своего плевок Анны и бросить ей в лицо свое жаркое объяснение в любви, — он делается менее безобразным в ее глазах, когда она слышит, что он ради нее совершал преступления. Шекспир заставляет его подать ей свой обнаженный меч, чтобы она заколола его, если хочет; он вполне уверен в том, что она этого не сделает. Она не выносит силы воли, горящей в его взоре, он гипнотизирует ее ненависть, ее смущает его превосходство над другими, которое дает ему жажда власти, и он становится почти красивым в ее глазах, когда подставляет свою грудь для ее мести. Она поддается ему под обаянием, представляющим смесь головокружения, ужаса и сладострастия развращенной натуры. Его безобразие только еще больше подстрекает ее. Точно воркование испуганной голубки слышится в этой стихомифии (состязательных стихах) в стиле античной трагедии, которое начинается отсюда:
Леди Анна. Кто может знать, что в сердце у тебя? Глостер. Перед тобой язык мой сердце выдал. Леди Анна. Боюсь я, оба лгут. Глостер. Тогда и правды нет на свете.Но зато в нем клокочет торжество:
Была ль когда так ведена любовь? Была ль когда так женщина добыта?Торжество при мысли о том, что он, урод и чудовище, только показался и пустил в ход свой бойкий язык и мгновенно остановил проклятие на устах, осушил слезы на глазах и возбудил желание в душе. После этой сцены он чувствует в себе головокружительное чувство неотразимости.
Шекспир при своей гениальной обработке этого сватовства, найденного им в хронике, следовал своему поэтическому стремлению придать Ричарду величие, свойственное трагическому герою. В действительности же он, конечно, не обладал такими демоническими инстинктами. Причина, по которой он домогался руки леди Анны, была чистая алчность к деньгам. И Кларенс, и Глостер — оба строили планы относительно того, как бы им захватить крупное состояние умершего графа Уоррика, хотя графиня была еще жива и по закону имела право на большую часть состояния. Кларенс, женившийся на старшей дочери, был спокоен насчет своей доли в наследстве, но Ричард полагал, что заручившись младшей дочерью, вдовой принца Эдуарда, он может сделаться обладателем половины состояния. Парламентским актом дело было решено так, что братья получили каждый свою долю добычи. На место этой-то низменной хищности у Ричарда Шекспир поставил торжествующее чувство урода, оказавшегося счастливым претендентом.
Тем не менее Шекспир не имел в виду представить Ричарда неодолимым для всякой женской хитрости. Эта первая сцена имеет в трагедии соответствующую ей в другом месте (IV, 4), где король, отделавшись посредством яда от добытой таким образом жены, просит у Елизаветы, вдовы Эдуарда IV, руки ее дочери.
Мотив производит впечатление повторения. Ричард отправил на тот свет обоих сыновей Эдуарда, чтобы проложить себе путь к престолу. Снова ищет здесь убийца руку ближайшей родственницы убитых, и здесь даже через посредство их матери. Шекспир в этом месте проявил весь блеск своего искусства. Елизавета тоже выражает ему глубочайшее отвращение. Ричард отвечает, что если он отнял у сыновей ее царство, то теперь сделает ее дочь королевой. И здесь обмен реплик переходит в стихомифию, что достаточно ясно указывает на то, что эти части принадлежат к старейшим местам пьесы:
Ричард. Скажи, что тем союзом прочный мир Дадим мы Англии. Елизавета. Борьбой и скорбью Тот прочный мир придется ей купить. Ричард. Скажи: король и повелитель просит. Елизавета. Но Царь царей согласья не дает.Ричард не только уверяет ее в чистоте и силе своих чувств, но настаивает на том, что лишь этот брак и ничто иное может воспрепятствовать ему повергнуть в бедствие и гибель многих и многих в стране. Тогда Елизавета делает вид, будто сдается, и Ричард восклицает совершенно так, как в первом акте:
Непостоянная, дрянная дура!Но он сам оказывается одураченным: Елизавета только притворно дала ему согласие, чтобы тотчас же после того предложить свою дочь его смертельному врагу.
Другая незабвенная сцена следующая:
Ричард устранил все препятствия, лежавшие между ним и троном. Его старший брат Кларенс убит и утоплен в бочке с вином, малолетние сыновья Эдуарда сейчас будут задушены в тюрьме, Гастингса только что, без допроса и суда, повели на место казни, — теперь необходимо сохранить вид непричастности ко всем злодеяниям и совершенного равнодушия по отношению к власти. С этой целью Ричард заставляет своего наперсника, негодяя Букингема, уговорить простодушного и перепуганного лондонского лорд-мэра явиться к нему вместе с именитыми гражданами столицы, чтобы просить его, упорно тому противящегося, принять в свои руки бразды правления. Букингем подготовляет Ричарда к их прибытию (III, 7):
Не позабудьте Прикинуться встревоженным, не вдруг Вы соглашайтесь выслушать его. Молитвенник, меж тем, в руках держите; Да надобно, милорд, чтоб вы стояли Между двумя священниками. Я На святость эту приналечь намерен. Затем, не вдруг склоняйтесь; как девица, Твердите «нет», а делайте, что надо.Являются депутаты от граждан Лондона. Кетсби просит их прийти в другой раз. Его высочество заперся в замке с двумя благочестивыми епископами, — он благоговейно погружен в святые помыслы и не желает отвлекаться от своего душеспасительного упражнения никакими мирскими делами. Они снова осаждают посланного от короля, умоляют дать им возможность держать речь к его высочеству по крайне важному делу.
И вот Глостер показывается наверху, на балконе, посреди двух епископов.
Когда Дизраэли, без всякого, впрочем, сомнения, ничуть не похожий на Ричарда, на выборах 1868 года, где дело шло о положении ирландской церкви, в равной степени опирался на английских и ирландских прелатов, так как обе церкви, и английская, и ирландская, обещали ему свою безусловную поддержку, то «Панч» нарисовал его в костюме XV века, стоящим на балконе с невыразимо плутовской и в то же время смиренной миной, с молитвенником в руках, между тем как два епископа, долженствовавшие представлять англиканскую и ирландскую церковь, поддерживали его, каждый со своей стороны. Это была иллюстрация к восклицанию лорд-мэра:
Вот и его высочество! Стоит он Меж двух духовных лиц.А Букингем подходит и поясняет:
… Святому принцу Они подпора от грехопаденья. Смотри: молитвенник в его руках, Краса и честь людей благочестивых.Депутация получает строгий отказ, пока Ричард, наконец, не меняет гнев на милость и не приказывает воротить депутатов.
Третья решительная сцена — это сцена в палатке Ричарда при Босворте (V, 3). Непоколебимая до этого самоуверенность его как будто сломилась, он ослабел, он не хочет ужинать: «Что же, поправили мой шлем? Налей мне кубок вина! Позаботься, чтоб у меня были к утру новые копья, и не слишком тяжелые!» — и опять: — «Дай мне кубок вина!» Он уже не чувствует в душе того огня, той бодрой отваги, которые прежде никогда не покидали его.
Затем, в то время, как он спит на походной кровати, во всех доспехах, крепко стиснув в пальцах рукоятку меча, ему являются в сновидении одна за другой тени всех тех, кого он убил или велел убить. Он просыпается в ужасе. Совесть заговорила в нем тысячью языков, и каждый из них произносит над ним приговор, как над клятвопреступником и убийцей:
Отчаянье грызет меня. Никто Из всех людей любить меня не может. Умру я — кто заплачет обо мне?Это — муки совести, порой охватывавшие самых закаленных и черствых людей в те времена, когда вера и суеверие были в большой силе, когда даже тот, кто глумился над религией или извлекал из нее выгоду, все же колебался в тайниках своей души, и, в то же время, здесь выражается чисто человеческое чувство сиротливости и потребности в любви, которое никогда не умирает в человеке.
Нельзя не восторгаться тем, как Ричард ободряет самого себя и вселяет мужество в своих окружающих. Так говорит тот, кто изгоняет отчаяние из своей души:
Про совесть трусы говорят одни, Пытаясь тем пугать людей могучих.В его речи к войскам слышатся неотразимые звуки дикой и возбуждающей военной музыки; она построена так же, как строфы Марсельезы:
Припомните, с кем вы на бой идете, Со стадом мерзких плутов и бродяг, С бретонским сором, жалкими рабами. У вас есть земли, — им земель тех надо; Красивых жен послала вам судьба, И ваших жен пришли они бесчестить. Сметем же в море пакостных бродяг!И в словах Ричарда звучит такая стремительность, такое дикое презрение, такое народное красноречие, в сравнении с которыми пафос марсельезы представляется декламаторским, даже академическим.
Положительно удивительны последние слова его речи:
Им наших жен? Им наших дочерей? Им наши земли? Чу! их барабаны! На бой, дворяне Англии! На бой, Британии лихие поселяне! Стрелки, вперед, — и бейте прямо в сердце! Ломайте копья, небесам на страх. Сильней, сильней и вскачь по лужам крови! Входит гонец. Король Ричард. Ну, что же Стэнли? Где его войска? Гонец. Мой государь, идти он отказался. Король Ричард. Георгу Стэнли голову долой! Норфолк. Враги уже болото перешли. Окончив бой, его казнить успеем. Король Ричард. В груди забилась тысяча сердец. Вперед, знамена! Прямо на врага! Святой Георг! Пусть древний бранный клич Вдохнет в нас ярость огненных драконов! Спустилася победа нам на шлемы! Вперед — и на врага!Потом он убивает одного за другим пятерых рыцарей в доспехах Ричмонда. Его конь убит. Он, пеший, в шестой раз ищет Ричмонда:
Коня, коня! Престол мой за коня! Кетсби. Вам конь готов. Спасайтесь, государь! Король Ричард. Прочь, раб! Я жизнь мою на карту ставлю, И я дождусь, чем кончится игра! Шесть Ричмондов, должно быть, вышло в поле: Я пятерых убил, а не его! Коня, коня! Престол мой за коня!Нет сомнения, что ни в какой другой шекспировской пьесе главное действующее лицо не господствует до такой степени над остальными. Ричард поглощает почти весь интерес, и только великое искусство Шекспира заставляет нас, вопреки всему, с участием следить за ним. Это, в известной мере, зависит от того, что некоторые из его жертв так ничтожны; судьба их представляется нам заслуженной. Слабохарактерность Анны лишает ее нашего сочувствия, и, кроме того, кровавое злодеяние Ричарда кажется нам менее ужасным, когда мы видим, как легко оно прощается ему тою, сердце которой оно всего больнее должно было поразить. Несмотря на все свои пороки, он имеет остроумие и мужество, — остроумие, возвышающееся порою до мефистофелевского юмора, — мужество, не изменяющее ему даже в минуту гибели и окружающее его падение таким блеском, какого не имеет торжество его корректного противника. Как ни лжив и лицемерен он по отношению к другим, перед самим собой он никогда не лицемерит; он химически чист от самоукрашения, до того, что сам себе дает самые унизительные наименования. Эта искренность, таящаяся в глубине его существа, действует привлекательным образом. Кроме того, он имеет за себя еще то, что угрозы и проклятия от него отскакивают, что его не пугают ни ненависть, ни оружие, направленное против него, ни перевес на стороне врага; сила характера столь редкая вещь, что даже к преступнику вызывает симпатию. Быть может, если бы Ричарду был дарован более продолжительный срок правления, он остался бы в истории королем типа Людовика XI, злокозненным, всегда прикрывающимся религией, но умным и твердым. Теперь же он и в действительности, как в драме, провел все время в усилиях упрочить за собою место, которое он отвоевал себе, как хищный зверь. Его внешний облик стоит перед нами так, как изображали его современники: маленького роста и крепкого сложения, с приподнятым правым плечом, с красивыми каштановыми волосами, ниспадающими на плечи, чтобы скрыть их уродливость; он постоянно закусывает нижнюю губу, постоянно тревожен, постоянно выдергивает и снова прячет в ножны свой кинжал, но никогда среди разговора не обнажает его совсем. Шекспир сумел озарить ореолом поэзии эту гиену в человеческом виде.
Самый яркий контраст Ричарду представляют две детские фигуры, сыновья Эдуарда. Старший мальчик уже занят великими помыслами, склад ума у него царственный, он глубоко проникнут тем, что значат исторические подвиги; тот факт, что Юлий Цезарь построил Тауэр, должен бы, даже и не внесенный в летописи, переходить из рода в род. Он поглощен мыслью о том, что как подвиги Цезаря давали материал его гению, так его гений давал его подвигам жизнь, и он с жаром восклицает: «Героя победы не победила смерть!» Младший брат по-детски остроумен, полон забавных выходок, полон ребяческих насмешек над безобразной фигурой дяди и невинной радости при виде кинжалов и мечей. Шекспир в нескольких штрихах наделил этих малолетних братьев невыразимой прелестью. Убийцы плачут, как дети, делая доклад об их смерти:
…Так они лежали, Обняв друг друга. ……………………………………. Как на одном стебле четыре розы Пурпурные блистают в летний день, Так целовались губы спящих братьев.Наконец, вся трагедия жизни и смерти Ричарда точно вставлена в рамку женской печали и насквозь пронизана женскими воплями. По своей внутренней форме она имеет сходство с греческой трагедией, подобно тому, как и фактически образует собой последнее звено тетралогии.
Нигде Шекспир не стоит так близко к классическому направлению драмы, развившемуся в Англии по образцу Сенеки.
Все исходит здесь от проклятия, которое Йорк в третьей части «Генриха VI» (I, 4) изрекает над головой Маргариты Анжуйской. Она глумилась над своим пленным врагом, она вонзила кинжал в сердце его сыну, малолетнему Рутленду, и подала отцу платок, смоченный его кровью. За это она теряет своего мужа и корону, своего сына, принца Уэльского, своего любовника Суффолка, — все, что привязывает ее к жизни.
Но теперь и для нее наступило время отмщения. Поэт хотел олицетворить в ней древнюю Немезиду; он придал ей размеры, превышающие действительность, и поставил ее вне условий действительной жизни. Она, изгнанница, беспрепятственно возвращается в Англию, бродит по замку Эдуарда IV и дает полную волю своей ненависти и ярости в присутствии его самого, его родственников и придворных. Точно так же бродит она и при Ричарде III, единственно для того, чтобы проклинать своих врагов, и эти проклятия даже у Ричарда вызывают порой суеверный трепет.
Никогда после того Шекспир не удалялся до такой степени от возможного с целью достигнуть сценического воздействия. И все же сомнительно, чтобы оно им достигалось здесь. При чтении все эти проклятия, конечно, потрясают нас с необычайной силой; на сцене же Маргарита, нарушающая и замедляющая ход действия, но ни разу не вступающая в него, может только утомлять. Впрочем, даже и не вступая в действие, она все же производит достаточно сильное впечатление. Все, кого она прокляла, все умирают, — король и его малолетние дети, Риверс и Дорсет, лорд Гастингс и т. д.
Она встречается с герцогиней Йоркской, матерью Эдуарда IV, и с королевой Елизаветой, его вдовой, под конец и с Анной, так нагло добытой и так скоро покинутой Ричардом. И из уст всех этих женщин снова и снова раздаются в рифмованных стихах, точно в греческом хоре, проклятия и стоны в могучем лирическом стиле. В двух главных местах (II, 2, и IV, 1) они поют настоящие хоры в форме реплик.
Прочтите эти строки, как образчик лирического тона дикции:
Герцогиня Йоркская (Дорсету). Беги же к Ричмонду И счастлив будь! (Леди Анне.) Ты к Ричарду иди и пусть тебя Хранят святые ангелы. (Кор. Елизавете.) Не медли, Укройся в храме и молися там! А мне — одна могила остается: Там я найду покой и тишину. Я восемьдесят горьких лет прожила, За каждый час платя неделей горя.Вот каково это юношеское произведение, где все твердо, все богато и уверенно, не все одинаково хорошо. Все здесь разработано только на поверхности; действующие лица сами говорят, что они такое, и все они, буйные и кроткие, прозрачны и слишком знают самих себя. Каждое из них вполне высказывает себя в монологах, и над каждым отдельным лицом произносится приговор как бы в пении античного хора.
То время еще не настало, когда Шекспиру не придет мысль заставлять действующее лицо торжественно протягивать зрителю ключ для его уразумения, и когда он, наоборот, запрятывает этот ключ на дно природы своего действующего лица, так глубоко, как только позволяет его дар проникновения в тайны и противоречия душевной жизни.
Глава 17
Шекспир теряет сына. — Следы скорби в драме. — «Король Иоанн». — Старая пьеса того же имени. — Перенесение центра тяжести. — Устранение религиозной полемики. — Сохранение национального отпечатка. — Патриотизм Шекспира. — Поэт игнорирует противоположность между англосаксонской и нормандской расой и совсем не упоминает о Великой хартии вольностей
В церковных книгах города Стрэтфорда-на-Эвоне, в регистре смертных случаев за 1596 г. можно прочесть следующие слова, написанные красивым и четким почерком: 11 августа. Гамнет, сын Вильяма Шекспира (August XL Hamnet filius William Shakespeare). Единственный сын Шекспира родился 2 февр. 1585 г.; ему исполнилось, следовательно, только 11 лет. Понятно, что эта смерть глубоко потрясла отца, обладавшего таким сердцем, как Шекспир, тем более что он, постоянно мечтавший поднять значение обедневшей семьи, теперь лишился наследника своего имени. Мы находим отголоски его отеческой скорби в ближайшем произведении, в драме «Король Иоанн», обработанной, по-видимому, в 1596 или 1597 г.
Одним из основных мотивов драмы является отношение Иоанна Безземельного, похитившего английский престол, к его законному наследнику, юному Артуру, сыну старшего брата короля.
В тот момент, когда начинается драма, принцу было приблизительно 14 лет. Но в интересах более поэтического впечатления и, быть может, под влиянием тех чувств и мыслей, которые его волновали во время работы, Шекспир сделал его более юным и вследствие этого более трогательным и детски чутким. Король захватил в свои руки мальчика. Самая знаменитая сцена драмы та, когда королевский камергер Губерт де Бург, получивший приказ ослепить маленького заключенного раскаленным железом, входит к Артуру с двумя слугами, которые должны привязать мальчика к стулу и крепко держать во время страшной операции. Маленький принц, не имеющий никакого подозрения против Губерта и только вообще боящийся козней дяди, не чует опасности и полон участия и детской нежности. Эта сцена невыразимо прелестна (IV, 1):
Артур. Ты что-то грустен.
Губерт. Да, я бывал веселее.
Артур. Извини, мне все кажется, что кроме меня никто не должен печалиться… Если бы я был твой сын, Губерт, ведь ты любил бы меня?
Губерт. Если я разговорюсь с ним, его невинная болтовня пробудит замершее сострадание. Кончу скорей, разом.
Артур. Не болен ли ты, Губерт; ты нынче такой бледный. А знаешь ли что? Мне, право, хотелось бы, чтобы ты в самом деле немножко захворал; я просидел бы подле тебя целую ночь, не спал бы вместе с тобой. Право, я люблю тебя больше, чем ты меня.
Губерт дает ему прочесть королевский указ.
Что, разве не прочтешь? разве дурно написано?
Артур. Нет, Губерт, слишком хорошо для такого гадкого дела. Ты должен мне выжечь оба глаза раскаленным железом?
Губерт. Должен, дитя мое.
Артур. И выжжешь?
Губерт. Выжгу.
Артур. И у тебя достанет духа? Когда у тебя болела голова, я обвязал ее моим платком: его вышила принцесса, и я никогда не просил его у тебя назад. В полночь я поддерживал твою голову и сокращал тебе тягостное время беспрестанными вопросами: что с тобой? где болит? чем помочь тебе?
Губерт созывает своих слуг. Тогда мальчик обещает смирно сидеть и всему покориться, если он только прогонит этих кровожадных людей. Выходя, один из слуг выражает свое участие, и Артур приходит в отчаяние, что выбранил и выгнал своего единственного друга. Потом он обращается к Губерту с трогательной мольбой, и так как во время разговора железо остыло, — Губерт не находит в себе достаточно сил снова его раскалить.
Когда Артур обращается к суровому Губерту с задушевными просьбами не лишать его зрения, Шекспир, может быть, вспомнил молитвы своего маленького Гамлета, да позволит ему Бог наслаждаться светом дня, или, вернее, свои собственные мольбы, чтобы смерть пощадила жизнь ребенка; но эти просьбы и молитвы не были услышаны.
Но где вы чувствуете особенно явственно скорбь отца-Шекспира, так это в жалобах матери-Констансы, когда ее Артура уводят в плен (III, 4):
Пандульфо. Герцогиня, вами говорит не горе, а безумие.
Констанса. Нет, я не безумна; о, когда небу было бы угодно лишить меня ума — может быть, тогда я забыла бы самое себя… В безумии я забыла бы моего сына или видела бы его в какой-нибудь тряпичной кукле. Я не безумная. Я слишком живо чувствую все мучительные оттенки каждого несчастья.
Охваченная страхом и заботами, Констанса живо представляет себе все те муки, которые ожидают ее любимца в темнице.
Червь грусти источит мою нежную распукольку, сгонит врожденную красоту со щек, он исхудает, как тень, исчахнет, посинеет, как лихорадочный, и так умрет.
Пандульфо. Вы придаете грусти слишком уж безбожное значение.
Констанса. Это говорит человек, никогда не бывший отцом.
Кор. Филипп. Ты так же пристрастна к своей грусти, как и к сыну.
Констанса. Грусть занимает место моего сына, ложится в его постельку, бродит везде со мной, глядит на меня его светлыми глазками, повторяет его слова, припоминает мне все его чудные свойства, наполняет оставленное платье формами его[8].
Кажется, великое сердце Шекспира облегчило свои страдания тем, что перенесло свою скорбь и тоску в душу Констансы.
Шекспир воспользовался для своей драмы старой пьесой о короле Джоне, изданной в 1591 г. Она наивна и нелепа, но содержит уже все действие, обрисовывает все действующие лица и намечает все главные сцены. Поэту не пришлось тратить свои силы на изобретение внешних фактов. Он употребил свой талант на то, чтобы все оживить, одухотворить и углубить. Хотя эта драма никогда не принадлежала к его популярным пьесам, хотя она при его жизни редко появлялась на подмостках и была напечатана только после его смерти в издании in-folio, — однако в ней можно найти некоторые из самых мастерских характеристик и портретов и массу прелестных реплик, блещущих глубокомыслием и фантазией. Старая пьеса представляла собой протестантскую тенденциозную драму, направленную против эксплуататорских наклонностей католицизма, и была наполнена грубыми насмешками и жестокой ненавистью к монахам и монахиням, свойственными реформационному периоду. С обычным своим тактом Шекспир устранил религиозную полемику и сохранил только политические выходки против римского католицизма, благодаря чему пьеса представляла интерес современности при Елизавете. Кроме того, Шекспир переместил центр тяжести. В его драме все вертится вокруг незаконных притязаний короля Джона на престол: отсюда вытекает его преступление и (хотя оно приводится в исполнение не по его приказанию) отпадение баронов.
Хотя пьеса превосходит «Ричарда II» своими сценическими достоинствами, но в качестве хроники она страдает теми же недостатками и даже в более сильной степени. Фигура короля слишком несимпатична, чтобы занять центральное место в драме. Его бесхарактерность отвратительна, так как он принимает корону, стоя на коленях, из рук того же папского легата, которого только что поносил хвастливыми словами. Его замысел погубить невинного ребенка и его раскаяние, вызванное сознанием, что исполнение этого замысла удалило от него приверженцев престола, — гнусны и низки. Все эти отрицательные и некрасивые качества без единой положительной, благородной черты заставляют зрителя смотреть на второстепенные действующие лица как на главные и не позволяют ему сосредоточить свое внимание на главном герое. В пьесе нет единства действия, потому что король не в силах сгруппировать его вокруг своей личности. Он мастерски обрисован в той сцене, когда (III, 3) дает Губерту понять свое желание видеть Артура убитым, воздерживаясь при этом от всяких точных приказаний:
Если бы ты мог видеть меня без глаз, слышать без ушей, отвечать без языка, одной мыслью, без глаз, ушей и опасного звука слов, — я перенес бы в твою грудь то, что думаю.
Губерт клянется в своей верности и преданности. Он готов даже на убийство, чтобы угодить королю. Тогда король становится сердечным, почти задушевно-искренним. «Мой Губерт, добрый Губерт!» — восклицает он. Король указывает на Артура, и далее мы читаем следующие удивительные реплики:
Король Джон. Я скажу тебе все, мой друг: он настоящая змея на пути моем. Куда бы я ни ступил, он лежит передо мною. Понимаешь ли ты меня? Ты его страж.
Губерт. Я буду стеречь его так, что он не будет опасен вашему величеству.
Король Джон. Смерть.
Губерт. Государь!
Король Джон. Могила.
Губерт. Ему не жить.
Король Джон. Довольно. Теперь я мог бы быть веселым. Губерт, я люблю тебя. Я не скажу, что предназначаю тебе. Помни! Прощайте, королева. Я пришлю вашему величеству подкрепление.
Элеонора. Да будет над тобой мое благословение!
Фигура, долженствовавшая доставить пьесе сценический успех, — это незаконный сын Ричарда Львиного Сердца, Филипп Фолконбридж. Это настоящее воплощение Джона Буля в образе средневекового рыцаря, одаренного физическим здоровьем и грубым английским юмором. Этот юмор не является, как у Меркуцио, остроумием юного итальянского кавалера, а бесцеремонным выражением здоровой жизнерадостности и откровенности национального Геркулеса. Сцена в первом действии, когда он появляется вместе с братом, который желает лишить его, незаконного отпрыска, наследства старого Фолконбриджа, и следующая сцена, где он настойчиво допрашивает мать о своем истинном происхождении, — обе эти сцены уже существовали в старой пьесе, но все, что здесь говорит бастард, глубоко серьезно, тогда как Шекспир превратил его в остроумного юмориста. Он влагает в его уста выражения вроде следующих:
Но все-таки я не сын сэра Роберта. Я отрекся от сэра Роберта и от моей земли, законности, имени, от всего.
И сын утешает мать после ее признания совершенно в шекспировском духе:
Клянусь светом этого дня, если бы мне было суждено родиться опять, я не пожелал бы лучшего отца. Есть на земле грехи, которые в себе самих несут и извинение. Таков и твой грех, матушка!
Если Шекспир в более поздние годы своей жизни, когда его взгляд на человеческую жизнь становится все сумрачнее, мотивирует в «Короле Лире» преступления и бесчеловечность Эдмунда его незаконным происхождением, то здесь, в этой пьесе, он наделяет Филиппа тем здоровьем, той естественностью, непосредственностью и силой, которые народ приписывает в своих поверьях детям любви.
Прямой противоположностью этого национального героя является «герцог Австрийский, граф Лиможский». По примеру старой пьесы Шекспир слил в его личности две разные фигуры, именно Вид омара, виконта Лиможского, при осаде замка которого пал Ричард Львиное Сердце в 1199 г., и затем Леопольда V, эрцгерцога Австрийского, державшего Ричарда в плену. Но последний умер за пять лет до смерти Ричарда, был, следовательно, совершенно неповинен в смерти короля и не существовал уже в то время, когда происходит действие пьесы. Однако все считают его трусливым убийцей героя-короля. В память своего злодейского поступка он носит на плечах львиную шкуру и должен поэтому выносить как негодующие нападки Констансы, так и остроумные сарказмы Фолконбриджа:
Констанса. А ты еще носишь львиную шкуру? Сбрось ее скорей от стыда и накинь на свои плечи телячью.
Эрцгерцог. О, если бы это сказал мужчина!
Фолконбридж. И накинь на свои плечи телячью.
Эрцгерцог. Страшись за жизнь, если осмелишься еще раз сказать это.
Фолконбридж. И накинь на свои плечи телячью.
И каждый раз, когда герцог вставляет впоследствии свои замечания или советы, Филипп бросает ему в лицо эту грубую насмешку… В начале пьесы он отличается юношеским высокомерием и презирает, как истинный средневековый рыцарь, горожан. Когда жители города Анжера отказываются впустить короля Иоанна и французского короля Филиппа, то бастард так возмущается этой миролюбивой предосторожностью, что советует королям соединить свое оружие против этого злополучного города, сровнять его с лицом земли и уже потом снова приняться за свою старую распрю. Но постепенно он вырастает на наших глазах и обнаруживает все более ценные и достойные качества: гуманность, справедливость и преданность королю, не лишающую его поведение ни благородства, ни свободы. Все выражения и речи Филиппа доказывают, что он обладает более богатым воображением, нежели все остальные действующие лица. Он облекает даже самые отвлеченные понятия как бы в телесную оболочку. Так, например, он говорит (III, 1):
Время — этот старый, лысый пономарь.В старой пьесе рассказывается очень пространно в целом ряде сцен, как Филипп исполнил данное ему поручение — осмотреть английские монастыри и опустошить слишком туго набитые кошельки аббатов. Шекспир уничтожил эти вспышки страстной ненависти против католицизма. Взамен этого он наделил бастарда истинно нравственным превосходством. В начале он изображает из себя только жизнерадостное физически здоровое и крепкое дитя природы, презирающее социальные обычаи, обороты речи и манерные ужимки культурных людей. Он сохраняет до конца свое негодование на «франтиков», то негодование, которым впоследствии выделится в такой сильной степени Генрих Перси. Но все его существо дышит истинным величием, когда он в конце пьесы обращается к своему слабохарактерному брату со следующим мужественным воззванием:
Не показывайте свету, что страх и бледное сомнение могут отуманить и царственные очи. Будьте же так быстры и деятельны, как время, несите огонь и грозу — грозящему. Глядите прямо в лицо хвастливого страха, и низшие, перенимающие все у высших, возвысятся вашим примером, исполнятся духа решимости.
Бастард Филипп является в пьесе выразителем патриотического настроения. Насколько поэт заботился о том, чтобы все время звучала струна этого патриотического настроения, доказывает то обстоятельство, что он влагает в уста врага Англии, умертвившего Ричарда Львиное Сердце, в уста австрийского герцога первый панегирик своей родине (II, 1):
Я не возвращусь в отчизну до тех пор, пока эти бледные набеленные берега, подошва которых отбивает ревущие волны океана, отрезывающего их жителей от прочих стран мира; пока и Англия, эта окруженная водой твердыня, не будет за тобой упрочена и обезопасена от всяких притязаний других! Да, до тех пор, пока и этот отдаленный уголок запада не признает тебя королем, — я не подумаю о родине, не сойду с поля битвы.
Посмотрите, как ничтожно различие в патриотически-восторженном стиле обоих закоренелых врагов, когда бастард, убивший герцога, заключает пьесу следующей репликой, находившейся уже в старой пьесе и только слегка переработанной: «Англия не падала и не падет никогда к ногам горделивого победителя. Пусть идут на нее и три конца мира — мы отразим. Ничто не преодолеет нас, если только Англия останется верной сама себе!»
Наряду с Филиппом Констанса является самым интересным характером пьесы, и слабое впечатление, производимое этой драмой, обусловлено отчасти тем, что Шекспир убивает Констансу уже в конце третьего действия. Он так поверхностно отнесся к факту ее смерти, что мы узнаем о ней только через гонца. Она не показывается более на сцене с того момента, когда ее сын, Артур, устранен. Быть может, Шекспир хотел избежать слишком частого повторения типа тоскующей или негодующей матери, который уже встречался в его более ранних исторических драмах. Он обрисовал личность Констансы с тем особенным вниманием, с которым обыкновенно относился к людям, борющимся так или иначе против нивелирующего влияния бесхарактерной светскости или традиционной благовоспитанности. Он наделил ее не только страстной, восторженной материнской любовью, но и таким богатством чувства и воображения, которое придает всем ее словам оттенок поэтического величия. Она выражает желание, чтобы «громовая туча говорила ее языком», тогда она потрясла бы своей страстью весь мир. Она величественна в своей грусти над потерянным сыном:
Я научу мою скорбь гордости, потому что горе гордо, оно преклоняет пред собою даже и хозяина своего. Пусть короли соберутся вокруг меня и моего великого горя (садится на землю). Вот престол моего горя и мой; зову королей; пусть придут и преклонят пред ним колена.
Третья фигура, приковывающая внимание читателя, — маленький Артур. Все те сцены, где выступает ребенок, встречаются уже в старой пьесе того же имени, даже первая сцена второго действия; потому трудно понять, на каком основании Флей высказывает свою гипотезу, будто первые 200 стихов вставлены на скорую руку, когда Шекспир лишился своего сына. Правда, только Шекспир придал этой личности свойственную ей прелесть и трогательность. Наилучшей сценой в старом тексте является та, где Артур бросается с дворцовой стены и погибает. Здесь Шекспир ограничился только сокращением реплики. В старой пьесе Артур, распростертый на земле, обращается с длинными жалобами к отсутствующей матери и с пространными молитвами к «сладчайшему Иисусу». У Шекспира он после падения произносит только два стиха.
В этой пьесе, как вообще во всех ранних произведениях Шекспира, читателя постоянно поражает то обстоятельство, что самые выдающиеся в поэтическом и риторическом отношениях отрывки находятся рядом с удивительно нелепыми эвфуистическими тирадами. При этом нельзя даже сослаться на то, что поэт унаследовал эти последние от старой пьесы. Напротив, здесь нет ничего подобного. По-видимому, Шекспир прибавил эти стихи нарочно с той целью, чтобы блеснуть изяществом и глубокомыслием. В сценах перед стенами Анжера он придерживался довольно близко порядка и смысла более важных реплик старой драмы. Так, например, один из граждан, находящихся на городской стене, говорит там о браке между Бланкой и дофином. Шекспир сохраняет эту реплику и вплетает в нее следующие чудные стихи:
Пожелает ли любовь сластолюбивая красоты, — где найдет она кого-либо прекраснее Бланки? Пожелает ли любовь целомудренная добродетели, — где найдет она ее столь чистой, как в Бланке? Пожелает ли любовь честолюбивая благородства происхождения, — чья кровь благороднее крови, текущей в жилах Бланки?
Разве не удивительно то обстоятельство, что то же самое перо, которое написало эти стихи, было способно тут же рядом нанизывать одну выспреннюю фразу на другую, например, таким образом:
Как она совершенна красотой, добродетелью и рождением, так совершен и юный дофин; а если чем и уступает ей, так разве только тем, что он не она… И ей, в свою очередь, ничего не достает, если не назовем недостатком того, что она не он.
Но эта глубокая мысль затем положительно тонет под роскошным убором изысканных сравнений. Конечно, неудивительно, если Вольтер и французы XVIII в. смеялись над подобным стилем и не сумели уловить сквозь него брызжущую в других местах гениальность поэта. Даже захватывающую сцену между Артуром и Губертом Шекспир испортил подобными мнимо-остроумными стихами. Маленький мальчик, умоляющий на коленях пощадить его зрение, произносит, среди самых трогательных слов, подобные аффектированные, изысканные и вычурные фразы:
Само раскаленное железо, приблизившись к этим глазам, упилось бы их невинными слезами, загасило бы ими свою распаленную ярость и потом уничтожилось бы ржавчиной за то, что пылало на беду глазам моим.
Или:
Если ты только это сделаешь, Губерт, эти уголья покраснеют, запылают стыдом от твоего поступка!
Модный вкус времени оказал такое сильное влияние на ум Шекспира, что он не чувствовал, как неестественны подобные остроумные фразы в устах ребенка, умоляющего не лишать его зрения.
Нравственно-моральные убеждения, высказанные Шекспиром в этой пьесе, ничем не рознятся от старой драмы о короле Джоне. Поражение и мучительная смерть короля рассматриваются в обоих случаях как кара за его преступление. Произошло только, как уже упомянуто, перемещение центра тяжести. В старой пьесе умирающий король заявляет лепечущим языком, что лишился счастья на земле с той минуты, как получил благословение от папы: ибо проклятие папы равносильно благословению, его благословение равносильно проклятию. Шекспир же напирает не на малодушие короля в его религиозно-политической борьбе, а на его несправедливость по отношению к Артуру. Незаконный сын Фолконбриджа выражает основную мысль пьесы, восклицая (IV, 3):
И жизнь, и право, и верность целого государства отлетели вместе с жизнью этого куска умершей царственности!
Шекспир стоит в своих политических убеждениях на той же почве, как автор старой пьесы, на которой вообще стояли все тогдашние писатели. Важнейшие контрасты и события той эпохи, которую он здесь воспроизводит, как бы не существуют для него. В первых государях династии Плантагенетов и вообще во всех нормандских князьях он наивно видит английских национальных героев. Он не имеет, по-видимому, никакого представления о коренном различии между норманнами и англосаксами, о той розни между ними, которая характеризует ту эпоху и которая стала исчезать только при короле Иоанне, когда оба народа, возмущенные тиранией короля, слились в одну нацию. Шекспиру стоило только вспомнить, что Ричард Львиное Сердце, желая солгать, любил восклицать: «Ужели вы меня принимаете за англичанина?», или нормандскую божбу: «Чтобы я сделался англичанином, если…» Ни словом не упоминает он в своей драме о том событии, которое казалось будущим поколениям центральным фактом, совершившимся в правление короля Иоанна — о Великой хартии. Это зависело, вероятно, отчасти от того, что Шекспир близко придерживался своего источника, старой пьесы, отчасти от того, что он не оценил этого события по достоинству. Он не понял, что благодаря Великой хартии укрепилась гражданская свобода в стране и образовалось среднее сословие, помогавшее династии Тюдор в ее борьбе против необузданных баронов. Но главная причина того, что он умалчивает о Великой хартии, заключается, кажется, в том факте, что Елизавета не любила, если ей напоминали об этом старом документе, охранявшем гражданскую свободу.
Она не выносила, если говорили об ограничении ее монархической власти или ссылались на поражения ее предков в борьбе с воинственными и свободолюбивыми вассалами. Подданные шли навстречу этому желанию.
Национальное могущество Англии было результатом ее правления, поэтому считали неудобным особенно резко подчеркивать права народа и не находили особенного удовлетворения при виде изображения того исторического эпизода, который доставил ему эти привилегии.
Лишь гораздо позднее, в эпоху Стюартов, английский народ стал обращать больше внимания на конституцию. Современные поэты-хронисты упоминают лишь вскользь о победе баронов в борьбе за Великую хартию. Взгляд Шекспира на эти исторические события был, следовательно, навеян столько же духом времени, сколько и личным настроением.
Глава 18
Обработка пьесы «Укрощение строптивой». — Происхождение «Венецианского купца». — Шекспир думает о богатстве. — Его состояние растет. — Покупка домов и земельных участков. — Денежные дела и процессы
Первые две пьесы, в которых, как полагают, отразилось влияние путешествия в Италию, это «Укрощение строптивой» и «Венецианский купец». Первая комедия написана не позже 1596 г., вторая, без всякого сомнения, в том же самом или в следующем году. Мы говорили уже достаточно подробно о пьесе «Укрощение строптивой». Это смелая и быстрая переделка старой пьесы, здание которой Шекспир разрушил, чтобы из его архитектурного материала воздвигнуть красивый дворец, полный воздуха и света. Уже старая комедия пользовалась большим успехом на сцене. Гений Шекспира вдохнул в нее новую и лучшую жизнь. Его пьеса не более и не менее, как фарс, не лишенный, однако, драматического движения и некоторого огня, и производящий незабвенно-комическое впечатление своим контрастом между грубоватым, мужественным Петруччио и избалованной, капризной, страстной, миниатюрной женщиной, которую он укрощает. «Венецианский купец» — первая самостоятельная комедия Шекспира. Она имеет больше литературного значения, и сам поэт отнесся к ней иначе. В нее он вложил в гораздо большей степени свою душу, чем в легкую пьеску «Укрощение строптивой». Мысль написать «Венецианского купца» была дана Шекспиру трагедией Марло «Мальтийский жид».
В первой сцене герой Барабас (Варавва) сидит в своей конторе и рассматривает с восхищением лежащие перед ним груды золота. В длинном монологе, занимающем несколько страниц, он перечисляет свои сокровища: тут есть жемчуг, подобный большим круглым камням, опалы, сапфиры, аметисты, топазы, зеленые смарагды, чудные рубины и сверкающие алмазы. В начале пьесы он владеет всеми сокровищами, которые доставили Алладину духи чудодейственной лампы и о которых хоть раз в жизни мечтал каждый бедняга поэт.
Подобно Шейлоку, Барабас — еврей и ростовщик; подобно ему он имеет дочь, влюбленную в христианина: он так же мстителен, как Шейлок. Но это не человек, а чудовище. Когда христиане лишают его всех богатств, он становится преступником в грандиозном стиле сказки или в духе сумасшедшего дома. Он пользуется собственной дочерью, чтобы отомстить за нанесенные обиды, и отравляет ее потом вместе со всеми монашенками того монастыря, где она нашла приют. Шекспир преобразил этого скучного дьявола в коже еврея в простого человека и настоящего еврея. Но поэт едва ли увлекся бы этим сюжетом, если бы образы и мысли, наполнявшие в это время его воображение, не походили бы совсем на впечатления, полученные от трагедии Марло. А ум Шекспира был тогда всецело поглощен такими представлениями и понятиями, как богатство, нажива, имущество и т. д. Он только не мечтал, подобно еврею, не имевшему нигде права владеть землей, о деньгах и драгоценных камнях, а желал, как дитя деревни, как истый англичанин, приобрести дома и участки земли, поля и сады, затем и капитал, который можно было бы выгодно поместить, и стремился к тому, чтобы вместе с тем возвысить свое общественное положение.
Мы видели, как равнодушно Шекспир относился к своим пьесам, как мало он заботился о том, чтобы упрочить свою славу их изданием. Все издания, вышедшие в свет при его жизни, были напечатаны помимо его участия и даже, вероятно, против его воли. Ведь продажа книг не доставляла ему никакой выгоды, напротив, наносила ему только один убыток, уменьшая наплыв публики в театр. Если далее вспомнить его сонеты, где он скорбит о своей актерской профессии и ссылается с такой грустью на презрение общества к его сословию, то не может быть никакого сомнения в том, что бедный юноша прибегнул к этому занятию только ради необходимости заработать кусок хлеба.
Правда, актеры вроде Бербеджа, да и он сам, были очень популярны и любимы в некоторых великосветских кружках, так как далеко превзошли обычных представителей этой профессии. Но они все-таки считались чем-то вроде вольноотпущенников и не были гражданами или джентльменами. В стихах поэта Дэвиса из Гирфорда, начинающихся словами «Актеры, я вас люблю…» с примечанием «W. S.» и «R. В.» (т. е. Вильям Шекспир и Ричард Бербедж) оба актера упомянуты как редкое исключение. Далее следуют очень многозначительные слова: «Хотя подмостки грязнят человека благородной крови, но образ мыслей и поведение обоих благородны».
Однако профессия актера была очень выгодной. Все почти выдающиеся актеры разбогатели. В современной литературе мы находим достаточно много указаний на то, что этот факт представлял одну из причин враждебного отношения к ним общества. В пьесе «Возвращение с Парнаса» актер Кемп заявляет двум студентам Кембриджского университета, пожелавшим учиться у него и у Бербеджа, что самая выгодная из всех профессий — актерская. В одном памфлете того же времени повешенный вор дает одному странствующему актеру совет купить землю, если ему надоест писать комедии: тогда он достигнет почетного положения. Конечно, это колкий намек на Шекспира. Наконец, в одной эпиграмме сборника «Laquei Ridiculosi» (1616), озаглавленной «Theatrum um licentia», говорится о том, что некоторые актеры приобретают такие богатства, которые положительно достойны осуждения.
Шекспир мечтал прежде всего не о том, чтобы прославиться в качестве поэта или актера, а о материальном богатстве, в котором видел верное средство улучшить свое общественное положение. Банкротство отца, лишившее его всякого социального значения, отозвалось тяжело на сыне. Он с юных лет никогда не терял из вида свою заветную цель — реабилитировать имя и авторитет своей семьи. В 32 года он уже успел сколотить небольшой капитал, и, стремясь неуклонно к тому, чтобы возвыситься над своим сословием, он старался поместить его как можно выгоднее.
Отец Шекспира боялся переходить улицу, потому что его могли арестовать за неоплаченные долги. Сам поэт подвергся юношей телесному наказанию по приказанию помещика и заключению в темный погреб. Маленький городок, бывший свидетелем его унижений, должен был сделаться очевидцем его реабилитации в общественном мнении. Он хотел вернуться почтенным домовладельцем и помещиком туда, где о нем говорили как о сомнительном актере и драматурге. Люди, причислявшие его к пролетариату, должны были его вновь увидеть джентльменом, т. е. представителем низшего дворянства (the gentry). Роу сообщает со слов сэра Вильяма Давенанта предание, будто лорд Саутгемптон положил основание богатству Шекспира, подарив ему 1000 фунтов. Ввиду значительности этой суммы приведенное известие кажется маловероятным, хотя, правда, Бэкон получил от Эссекса гораздо больший подарок. Разумеется, молодой лорд вознаградил поэта за посвящение ему двух эпических поэм; тогдашние поэты жили вообще не гонораром, а посвящениями. Так как обычное вознаграждение за посвящение достигало пяти фунтов, то даже 50 фунтов могли считаться значительным подарком.
Шекспир сделался, без сомнения, очень рано пайщиком театра: он обладал, по-видимому, особенным умением выгодно помещать свои капиталы. Упорное желание выбиться во что бы то ни стало в люди в связи с присушим англосаксонской расе практическим чутьем сделали его первоклассным дельцом. Он развернул вскоре такие блестящие финансовые таланты, которыми обладали среди других великих национальных писателей разве только еще Гольберг и Вольтер. Мы видим по документам, как начиная с 1596 г. Шекспир богатеет. В этом году отец поэта подает, вероятно, по его инициативе и на его средства, прошение в Herald College (учреждение, соответствующее нашему департаменту герольдии) о выдаче ему дворянского герба, рисунок которого, с пометкой «октябрь 1596 г.», сохранился до наших дней. Другими словами, Шекспир был официально зачислен в список дворянства. Это обстоятельство давало ему (равно как и отцу) право присоединять к своей фамилии эпитет «джентльмен». Мы заключаем это из некоторых более поздних документов и из его завещания. Конечно, сам Шекспир не имел право хлопотать о выдаче ему дворянского герба. Актер считался слишком презренным существом, чтобы отважиться на такой шаг. Он поступил очень разумно, снабдив отца необходимыми средствами к осуществлению своей мысли. Положим, старик Шекспир не имел по понятиям того времени никакого права на дворянский патент.
Но сэр Вильям Детик, «король гербов», был очень услужливым чиновником, доступным, по всей вероятности, «звонким» аргументам. За это он часто подвергался суровым обвинениям и лишился под конец своей должности: уж слишком легкомысленно раздавал он гербы. До нас дошла его самозащита по поводу шекспировского прошения. В ней он прибегает к разным невинным вымыслам, вроде, например, того, что Шекспир уже получил лет 20 тому назад эскиз своего дворянского герба от тогдашнего «короля гербов» Кука, и что он был назначен именным указом королевы мировым судьей, тогда как в действительности его должность считалась не более, как коммунальной. Однако это дело затянулось. Еще в 1597 г. Джон Шекспир именуется «йоменом». Он получил дворянский патент только в 1599 г. вместе с разрешением (которым, впрочем, его сын никогда не пользовался) соединить герб семейства Шекспиров с гербом семейства Арденов. Поле этого герба занято копьем, лежащим поперек острием вниз, слева направо, и на нем начертана фамилия владельца. Копье золотое, острие железное. Над щитом красуется в виде шлема серебряный сокол, держащий в когтях другое золотое копье. Девиз гласит (не без некоторой иронии): «Non s’ans droict» (не без права). Но разве существовал такой дворянский герб, которого Шекспир был бы недостоин.
Весной 1597 г. Вильям Шекспир купил «New Plays», самый большой и одно время самый красивый дом в Стрэтфорде. Так как в то время он был довольно ветх, то за него потребовали довольно незначительную сумму в 60 фунтов. Шекспир отремонтировал его, разбил вокруг него два сада и присоединил к этому участку еще несколько других. Зимой 1598 г. в Стрэтфорде господствовала дороговизна на хлеб. В списке домовладельцев Шекспир значился в это время как собственник 10 квартеров хлеба и ячменя, другими словами он был третьим богачом в городе. Дом «Ньюплейс» лежал как раз напротив часовни гильдии; ее колокольный звон он слышал уже маленьким мальчиком. В то же самое время Шекспир дает отцу деньги, чтобы вновь начать процесс против Джона Ламберта из-за имения Эшби, заложенного 19 лет тому назад. Мы видели, что сын так близко принял к сердцу неудачный исход этого процесса, что вплел в пролог только что им оконченной пьесы «Укрощение строптивой» выходку против семейства Ламберт. Из одного письма некоего Авраама Сторлея от 24 января 1597 г., адресованного на имя его шурина Ричарда Куини (сын которого впоследствии женился на младшей дочери Шекспира), видно, что поэт считался в то время уже весьма денежным человеком. В этом письме уроженец того же города Стрэтфорд советует Шекспиру вместо того, чтобы приобретать участки земли в соседнем Шоттери, лучше купить право сбора десятинной пошлины в Стрэтфорде. Это было, действительно, очень выгодное предприятие. Кроме того, городу было далеко не безразлично, кто получал это право, так как община участвовала в доходах. Шекспир нашел тогда арендную сумму слишком высокой. Только семь лет спустя, в 1605 г., он приобрел право на половину десятинной пошлины в Стрэтфорде, Старом Стрэтфорде, Бишоптоне и Велкомбе за значительную сумму в 440 фунтов. Раньше эту пошлину взимала церковь, начиная с 1554 г. — община, а с 1580 г. — частные лица. Разумеется, эта привилегия запутала Шекспира, как и следовало ожидать, в частые процессы.
В одном письме от 1598 г. Ричард Куини, поверенный жителей Стрэтфорда в столице, писал одному родственнику: «Если вам удастся устроить с Вильямом Шекспиром коммерческое дело, и если он вам даст деньги, то привезите их с собой домой». Тот же самый Куини написал письмо Шекспиру, — это единственное письмо на его имя, дошедшее до нас, быть может потому, что никогда не было отправлено, — умоляя здесь трогательными, задушевными словами своего любезного земляка одолжить ему 30 фунтов под проценты и с условием поручительства. В другом письме от 4 ноября того же самого года Сторлей выражает свое удовольствие, узнав, что Шекспир изъявил свое согласие ссудить стрэтфордских граждан некоторой суммой, и просит более подробные сведения об условиях.
Все эти документы доказывают с достаточной убедительностью, что Шекспир не разделял официального отвращения своих современников ко взиманию процентов, которое отличает венецианского купца от Шейлока.
По понятиям того времени христианину не следовало брать проценты. Однако в большинстве случаев поступали наперекор этому правилу. Шекспир взимал по тогдашнему обычаю 10 процентов. В следующие годы он продолжает приобретать участки земли. В 1602 г. он покупает в Стрэтфорде на 320 ф. земли, годной под пашню, и за 60 ф. дом с прилежащим участком. В 1610 году он прикупает еще 20 акров, а в 1612 г. приобретает в компании с двумя знакомыми дом с садом в Лондоне за 440 фунтов.
Шекспир был настоящим деловым человеком. Находясь в Лондоне, он ведет процесс с каким-то бедняком Филиппом Роджерсом из Стрэтфорда, купившим у него в 1603 и 1604 гг. небольшими партиями солода на 1 ф. 19 шил. 10 пенс, и занявшим у него, кроме того, два шиллинга. Он уплатил только 6 шиллингов. Итак, Шекспир ведет процесс из-за 1 ф. 15 шил. 10 пенсов! В 1609 г. он опять предъявляет иск к одному из стрэтфордских жителей на сумму в 6 ф. 24 шил. и привлекает к ответственности поручителя, так как должник успел скрыться.
Все эти подробности доказывают прежде всего, что между Стрэтфордом и Шекспиром существовала самая тесная связь даже в период его лондонской жизни. В 1596 г. он восстановил, наконец, в глазах общества репутацию своей семьи. Он сделал бедного, запутавшегося в долгах отца джентльменом, доставил ему дворянский герб и сам сделался одним из самых богатых и видных землевладельцев родного городка. Он неустанно увеличивал свои капиталы, округлял свои поместья, и если покинул Лондон, театр и литературу еще во цвете сил и окончательно поселился в Стрэтфорде, чтобы дожить там свой век зажиточным помещиком, то поступил, по-видимому, совершенно логично.
Мы видим далее, как ревностно Шекспир стремился к тому, чтобы возвыситься над сословием актеров, к которому принадлежал. В 1599 г. он получил, наконец, право подписываться «В. Шекспир из города Стрэтфорда-на-Эвоне, в графстве Уоррикшир, джентльмен». Разумеется, он еще не мог считаться представителем настоящего дворянства. Оба актера, издавшие в 1623 г. в качестве добрых товарищей его произведения, называют его в своем посвящении просто «слугою» графов Пемброка и Монтгомери, а его драмы безделками. «Их сиятельства воздадут этим „безделкам“ слишком великую честь, если удостоят их прочтением. Они посвящают обоим знатным братьям эти произведения только потому, что последние оказали покойному поэту столько снисхождения и столько милостей».
Изучение этих старых деловых писем и коммерческих актов любопытно в том смысле, что освещает такую область душевной жизни Шекспира, о которой мы иначе не имели бы никакого представления. Поэт мог иметь в виду самого себя, влагая следующие слова в уста Гамлета, стоящего у открытой могилы Офелии (V, 1): «Этот молодец был, может статься, в свое время ловким прожектером, скупал и продавал имения. А где теперь его крепости, векселя и проценты? Неужели всеми купчими купил он только клочок земли, который могут покрыть пара документов?»
Мы возвращаемся к нашей исходной точке.
Ясно, что Шекспир, рисуя в «Венецианском купце» различное отношение людей к понятиям нажива, имущество, капитал, богатство и т. д., приступал к решению этих вопросов с живым, личным интересом.
Глава 19
«Венецианский купец». — Источники и характеры. — Антонио, Порция, Шейлок. — Лунный пейзаж и музыка. — Взгляд Шекспира на музыку
Из пьесы Бена Джонсона «Вольпоне» видно, что туристы, посещавшие Венецию, нанимали себе комнату и поручали какому-нибудь еврею меблировать ее. Если путешественник был в то же время и писателем, то он получал таким образом возможность, которая не существовала в самой Англии, — изучить характер и речь евреев. Шекспир воспользовался этим случаем. Он заимствовал имена евреев и евреек, встречающиеся в «Венецианском купце», из Ветхого Завета. В первой книге Моисея (10, 24) попадается имя Села, или по-еврейски Шелах (имя одного маронита из Ливана). Шекспир видоизменил это имя в Шейлок. Далее в той же книге встречается (И, 24) имя Джиска (выглядывающая, высматривающая). В двух английских переводах Библии, относящихся к 1549 и 1551 гг., оно писалось Джеска. Шекспир превратил его в Джессика. Ведь Шейлок говорит, как известно, что Джессика имеет привычку выглядывать из окна и любоваться уличными зрелищами.
Шекспировская публика узнала различными путями легенду о еврее, который упорно требовал от своего должника-христианина взамен уплаты денежного долга фунт его собственного мяса, и который был принужден не только с позором отказаться от своего иска, но даже принять христианство. Этот сюжет (равно как и мотив с тремя ящиками) оказался буддийского происхождения, и многие исследователи придерживаются того мнения, что он из Индии перекочевал в Европу. Однако можно предположить и обратное движение. Как бы там ни было, но мы находим уже в 12 таблицах Древнего Рима закон, в силу которого кредитор имел право вырезать у несостоятельного должника кусок мяса. Один из источников шекспировской пьесы ссылается именно на это постановление. В старину этот обычай существовал везде, и Шекспир только перенес его из седой, варварской древности в современную ему Венецию. В этом рассказе рисуется переход от периода безусловного исполнения строгого закона к более позднему периоду господства принципа справедливости. Этот рассказ представлял, таким образом, удобный повод к красноречивой тираде Порции о различии между законом и милосердием, тираде, превращавшейся в уме зрителей в доказательство превосходства христианской морали над еврейским культом формального закона. Одним из источников, которым Шекспир пользовался для личности Шейл ока, особенно для сцены в суде, является трактат Сильвейна «Оратор». Двадцать пятая глава этого сочинения озаглавлена «О еврее, потребовавшем от христианина вместо уплаты долга фунт его собственного мяса». Так как книга Сильвейна вышла в английском переводе Энтони Мондея в 1596 г., а «Венецианский купец» упоминается в 1598 г. у Миреса в ряду других шекспировских пьес, то нет никакого сомнения, что драма написана именно в этот промежуток времени. В упомянутом произведении купец и еврей произносят каждый по речи, и обвинения, взводимые на второго, интересны в том смысле, что живо рисуют отношения того времени к евреям: они потому так упрямы и жестоки, говорится здесь, что желают во что бы то ни стало глумиться над распятым ими христианским Богом; они всегда были безбожным народом, так как Библия полна рассказов о их возмущениях против Бога, судей и священников. Даже больше, их прославленные патриархи продали собственного брата.
Но главным источником для пьесы Шекспира была, без сомнения, повесть «Приключения Джанетто» из сборника Джованни Фиорентини «II Pecoroni», вышедшего в 1558 г. в Милане.
Молодой купец Джанетто приезжает со своим богато нагруженным кораблем в гавань близ дворца Бельмонте, принадлежащего одной прелестной юной вдове. Много поклонников окружает ее. Она готова подарить свою руку и свое состояние тому, кто исполнит никем пока еще не исполненное условие. Оно выражено в чисто средневековом грубо-наивном духе. Когда наступает ночь, дама приглашает своего гостя разделить с нею ложе. Но усыпительный напиток, который она ему перед этим подносит, погружает его в глубокий сон, и когда всходит солнце, он обязан отдать прекрасной вдове свой корабль вместе с грузом и покинуть ее с позором и убытками. Джанетто терпит неудачу, но он находится до такой степени под обаянием своей страсти, что когда добрый Ансальдо, воспитавший его, снаряжает для него корабль, он снова возвращается в Бельмонте. Однако и это посещение оказывается столь же бесполезным. Чтобы послать Джанетто в третий раз, Ансальдо принужден занять у одного еврея под известным нам условием 10 000 дукатов. На этот раз молодой человек избегает опасности благодаря доброму совету одной из служанок. Он женится на прелестной вдове и забывает в своей радости вексель, данный еврею Ансальдо. Он вспоминает о нем только в самый день срока. Жена советует ему немедленно поехать в Венецию и дает ему на дорогу 100 000 дукатов. Переодевшись затем адвокатом, она отправляется вслед за ним и появляется в Венеции в виде молодого, известного юриста из Болоньи. Но еврей отказывается наотрез от всех предложений, имеющих в виду спасти Ансальдо, даже от 100 000 дукатов. Затем сцена в суде происходит так же, как и в пьесе Шекспира. Молодая супруга Джанетто произносит тот же приговор, что и Порция. Еврей не получает ни гроша и не имеет возможности пролить ни одной капли крови Ансальдо. Благодарный Джанетто предлагает адвокату все 100 000 дукатов, но тот требует только перстень, данный ему женой, и шутливая завязка развязывается так же легко, как у Шекспира.
Так как поэт нашел неудобным сохранить условие, поставленное прекрасной вдовушкой новеллы для получения ее руки, он нашел другое в одном из рассказов сборника «Римские деяния». Здесь молодая девушка должна выбирать между тремя ящиками: золотым, серебряным и оловянным, если желает сделаться невестой царевича. Надпись на золотом ящике обещает тому, кто его выберет, дать то, что он заслуживает. Молодая девушка отказывается из скромности и поступает разумно, так как ящик наполнен костями скелета. Надпись на серебряном ящике обещает то, чего каждый желает больше всего. Девушка проходит также мимо этого ящика, замечая наивно, что ее природа требует прежде всего чувственных удовольствий. Наконец, оловянный ящик предвещает тому, кто на нем остановит свой выбор, то, что сам Бог ему назначит: оказывается — он наполнен драгоценными камнями.
У Шекспира Порция заставляет сообразно с завещанием отца своих поклонников выбирать между тремя ящиками, которые носят другие надписи и из которых самый неказистый на вид содержит ее портрет. Едва ли Шекспир заимствовал что-нибудь из более ранней, не дошедшей до нас пьесы, которая, по словам Стефана Госсона в его «Школе злоупотреблений», бичевала алчность светских женихов и кровожадность ростовщиков.
Значение «Венецианского купца» обусловлено той серьезностью и гениальностью, с которой Шекспир обработал психологические эскизы характеров, заимствованные им из старых сказок, тем увлекательным лиризмом, той поэзией лунной ночи, которые дышат в заключительных сценах его драмы.
Шекспир вдохнул в царственного купца Антонио, который при всем своем богатстве и счастье страдает меланхолией, и которого предчувствие грядущих невзгод и мук поражает сплином, частицу своей собственной души. Меланхолия Антонио имеет много общего с той, которая завладеет в скором времени сердцем Жака в комедии «Как вам угодно» душою герцога в «Двенадцатой ночи» и умом Гамлета. Она служит как бы черной подкладкой к светлому, жизнерадостному настроению, которое еще преобладает в этом периоде шекспировской биографии. Эта меланхолия заставит в недалеком будущем поэта уступить главное место в своих пьесах героям мечтательным и рефлектирующим, тогда как в эпоху цветущей молодости это место занимают натуры решительные и активные. Впрочем, Антонио при всем своем царственном благородстве далеко не безупречный человек. Он издевался над Шейлоком, обращался с ним свысока, презирал его за веру и происхождение. Зритель понимает, какой дикой необузданностью отличались средневековые предрассудки против евреев, когда даже такой великодушный человек, как Антонио, находится всецело под их гнетом. Если он с некоторым правом презирает и ненавидит Шейлока за его денежные аферы, то он, с другой стороны, забывает, к нашему глубокому удивлению, тот простой факт, что у евреев отняли всякую возможность существовать иными средствами, и что им, в сущности, позволяли сколачивать капиталы только затем, чтобы иметь на всякий случай жертву, которую можно было бы бесцеремонно ограбить. Но сам Шекспир едва ли смотрел на Шейлока глазами Антонио. Шейлок не в силах понять венецианского купца и характеризует его словами (III, 3):
…Это вот: Тот дуралей, что деньги без процентов Дает взаймы.Шекспир не принадлежал к числу таких «дуралеев». Он наделил Антонио таким идеализмом, который не соответствовал его собственным наклонностям и который не казался ему достойным подражания. В отношениях Шейлока к нему рисуется, таким образом, ненависть и мстительность человека отверженного племени.
С особенным вниманием и с особенной любовью обрисовал Шекспир фигуру Порции. В том условии, которое она ставит претендентам на ее руку, сквозит так же, как в конфликте, вызванном Шейлоком, сказочный мотив. Таким образом, обе половины действия соответствуют друг другу как нельзя лучше.
Конечно, странное завещание отца, позволяющее Порции выйти замуж только за того, кто сумеет отгадать загадку на простую тему: «не все то золото, что блестит», кажется нам слишком наивным и сказочным. Шекспир, по-видимому, так обрадовался случаю высказать по поводу этой старой повести о трех ящиках свое отвращение ко всякой внешней мишуре, что не обратил никакого внимания на такой неправдоподобный способ выходить замуж. Он хотел сказать другими словами: Порция не только изящная, но и глубоко серьезная женщина. Ее сердце может покорить только тот, кто презирает внешний блеск. Бассанио намекает на это обстоятельство в длинной реплике перед выбором (III, 2). Если Шекспир ненавидел что-нибудь в продолжение всей своей жизни такой страстной ненавистью, которая не находилась ни в какой пропорции с ничтожностью самого предмета, то это были: румяна и искусственные волосы. Вот почему он настойчиво подчеркивает, что красота Порции ничем не обязана искусству. Красота других женщин имеет совсем иное происхождение:
… Взгляните только На красоту — увидите сейчас, Что ценится она всегда по весу Наружных украшений. Когда порою мы глядим На мнимую красавицу и видим, Как кудри золотистые ее Вниз с головы бегут двумя змеями, Кокетливо играя с ветерком, То знаем мы, что это достоянье Уже второй головки: череп тот, Что их родил, давно лежит в могиле. Поэтому на блеск наружный их Должны смотреть, как на коварный берег Опаснейшего моря[9].Перед выбором Порция высказывает в высшей степени кокетливо, почти против желания, делая полусознательную ошибку, свою любовь к Бассанио:
Проклятие глазам чудесным вашим! Они меня околдовали всю И на две половины разделили; Одна из них вам вся принадлежит, Другая — вам… мне, я сказать хотела, Но если мне, то также вам — итак, Вам все мое принадлежит.Когда Бассанио выражает в своей реплике желание как можно скорее приступить к выбору между ящиками, так как ожидание для него хуже пытки, то Порция намекает в своем ответе, по-видимому, на варварскую казнь дона Родриго Лопеса, испанского врача Елизаветы, состоявшуюся в 1594 г. после того, как два негодяя сделали под пыткой какие-то разоблачения в пользу совершенно неосновательного обвинения:
…Да, но вы Мне, может быть, все это говорите, Как человек, который может все Под пыткою сказать.Бассанио отвечает:
Пообещайте Мне только жизнь — и правду я скажу.Когда исход выборов оправдал надежды Порции, она говорит и поступает так, как женщина, нравственный облик которой Шекспир считал в этот период своей жизни идеальным. Это не бурное самозабвение Юлии, а беспредельная нежность благородной и разумной женщины. Она не желала бы для себя — быть лучше, но для него она хотела бы в двадцать раз утроить свою цену. Она говорит:
Но, ах, итог того, что стою я Ничто. Теперь я девушка простая, Без сведений, без опытности, тем Счастливая, что не стара учиться, И тем еще счастливей, что на свет Не родилась тупою для ученья: Всего же тем счастливее, что свой Покорный ум она теперь вверяет Вам, мой король, мой муж, учитель мой.Так кротко любит она своего жениха, бесхарактерного расточителя, приехавшего в Бельмонте только ради того, чтобы получить вместе с рукой невесты возможность заплатить легкомысленно наделанные долги. Хотя отец Порции желал достигнуть путем странного завещания того, чтобы дочь не сделалась добычей сребролюбивого человека, но именно эта участь постигает ее, правда, после того, как первоначальный мотив сватовства затмевается в ее глазах достоинствами Бассанио.
Хотя Порция отдается совершенно своей любви, тем не менее в ее характере много самостоятельности и мужественности. Как все дети, рано лишившиеся своих родителей, она умеет сама распоряжаться, другим повелевать и энергично действовать, не спрашивая ни у кого совета, не обращая внимания на требования светского этикета. Поэт воспользовался данными итальянской новеллы, чтобы наделить Порцию не только благородством, но и решительностью. «Сколько денег должен Антонио?» — спрашивает она. — «Три тысячи дукатов». «Дай еврею шесть тысяч и разорви расписку». Шекспир наделил далее Порцию тем светлым, победоносным темпераментом, которым некоторое время будут отличаться все молодые девушки в его комедиях. К одной из них обращаются с вопросом: «Вы, вероятно, родились в веселый час?» Она отвечает: «О нет, моя мать страдала. Но на небе плясала сияющая звезда, и я родилась под этой звездой!» Все эти молодые женщины родились под звездой, которая плясала. Даже из сердца самых тихих и кротких из них вырываются потоки ликующей жизнерадостности.
Все существо Порции дышит здоровьем. Радостные восклицания так и льются с ее уст. Счастье — ее настоящая стихия. Она дитя счастья, она выросла и воспиталась в атмосфере счастья, она окружена всеми условиями и атрибутами счастья и сыплет щедрой рукой счастье кругом себя. Она — олицетворение великодушия. Это не лебедь, вылупившийся на утином дворе. Вся обстановка гармонирует как нельзя лучше с ее фигурой.
Имущество Шейлока состоит из золота и драгоценных камней: их можно спрятать или захватить с собою в случае бегства, но ведь их так же легко своровать и отнять. Богатство Антонио заключается в нагруженных кораблях, рассеянных по всем морям, угрожаемых бурями и разбойниками. Капиталы Порции — более надежные. Это унаследованные от предков участки земли и роскошные постройки. Понадобилось не одно столетие работы, забот и трудов, чтобы могло родиться существо, подобное ей. Ее аристократические предки должны были жить в продолжение нескольких поколений безупречно и беспечно и быть любимцами, избранниками фортуны, чтобы накопить те богатства, которые являются как бы подножием к ее трону, достигнуть того почетного положения, которое сияет ореолом короны вокруг ее головки, создать и поставить на ноги то хозяйство, которое заменяет ей двор, свиту, воздвигнуть тот великолепный дворец, где она царит, как княгиня, и доставить ей то образование и те знания, которые придают ей величие истинной правительницы. Порция отличается при всем своем здоровье редким изяществом. Хотя она умнее всех окружающих, но это не мешает ей быть веселой. Она исполнена мудрости, несмотря на свои молодые годы. Порция — дитя более здоровой и свежей эпохи, нежели наш нервный век. Здоровье ее натуры никогда не истощается, ее жизнерадостность никогда не иссякает. Хотя неопределенное положение, в котором находится Порция, угнетает ее, но оно не лишает ее веселости, а эта последняя не мешает ей владеть собою. В критических обстоятельствах, при непредвиденных случаях растут ее энергия и решительность. Неиссякаемые родники и ключи бьют в ее душе. В голове Порции столько же мыслей, сколько планов. Она так же богато одарена остроумием, как и материальными благами. В противоположность возлюбленному, она тратит только проценты со своего капитала: отсюда ее уравновешенность и царственное спокойствие. Если не оценить по достоинству веселую жизнерадостность, составляющую коренную сущность ее характера, то с первой сцены с Нериссой ее шутки должны показаться вымученными, ее остроумие манерным, и тогда легко может прийти в голову, что только бедный ум любит фокусничать и играть словами. Но кто способен открыть в ее натуре тот неиссякаемый родник здоровья, тот поймет, что ее мысли льются так же свободно и необходимо, как бьет вода из фонтана, что она переходит с такой же быстротой от одного сравнения к другому, как срывает и бросает цветы, когда под ногами цветет целый луг, и что она играет словами, как своими локонами. Если она говорит в одном месте (I, 2): «Мозг может изобретать законы для крови, но горячая натура перепрыгивает через холодное правило. Безумная молодость — заяц, перескакивающий через капкан, который ставит ему благоразумие», то эти слова вполне гармонируют с ее характером. Необходимо предположить, что эти сравнения и обороты просто вызваны потребностью шутить и смеяться, иначе они покажутся неуклюжими и натянутыми. Читая далее, например, такую реплику (IV, 2):
…Ну, если бы жена Услышала, чем жертвовать хотите Вы для него — не слишком-то она Была бы вам за это благодарна, —опять-таки необходимо предположить, что Порция твердо убеждена в победе, иначе эта задорная реплика, произносимая в ту минуту, когда жизнь Антонио висит на волоске, покажется беспощадной. В душе Порции царит какая-то врожденная гармония, но до того полная, богатая и скрывающая в себе различные противоречия, что без некоторого воображения не составишь себе верного представления о ее характере. В ее сложной, гармонически спокойной физиономии многое невольно напоминает женские головки Леонардо. Здесь таинственно перемешаны: чувство личного достоинства и нежность, умственное превосходство и желание подчиняться, серьезность, доходящая до стойкой твердости, и кокетливая шаловливость, граничащая с иронией.
Шекспир желал, чтобы мы отнеслись к Порции с таким же восторгом, с каким о ней выражается Джессика (III, 5). Если одна молодая женщина говорит с таким благоговением о другой, то достоинства последней должны быть выше всяких подозрений. «Бассанио, — говорит она, — зажил теперь, вероятно, счастливой жизнью, так как встретил в своей жене такое благо. Он найдет здесь на земле все наслаждения неба, и если он их не оценит, то недостоин попасть и на небо».
Да, если бы случилось двум богам Держать пари на двух из смертных женщин, И Порция была б одной из них — То уж к другой пришлось бы непременно Хоть что-нибудь прибавить — потому Что равной ей нет в этом жалком мире.Однако для современного читателя и зрителя центральной фигурой пьесы является, конечно, Шейлок, хотя он в то время играл, без сомнения, роль комической персоны и не считался главным героем, тем более, что он ведь покидает сцену до окончания пьесы. Более гуманные поколения усмотрели в Шейл оке страдающего героя, нечто вроде козла отпущения или жертву. Но в то время все свойства его характера: жадность, ростовщические наклонности, наконец, его неизменное желание вырыть другому яму, в которую сам попадает, — представляли чисто комические черты. Шейлок не внушал зрителям даже страха за жизнь Антонио, потому что развязка была заранее всем известна. Когда он спешил на пир Бассанио со словами:
…Я все-таки пойду И буду есть из ненависти только Пусть платится мой христианин-мот! —то он становился мишенью всеобщих насмешек; или, например, в сцене с Тубалом, когда он колеблется между радостью, вызванной банкротством Антонио, и отчаянием, вызванным бегством дочери, похитившей бриллианты. Когда он восклицал: «Я хотел бы, чтобы моя дочь лежала мертвая у моих ног с драгоценными камнями в ушах!» — он становился прямо отвратительным. В качестве еврея он был вообще презренным существом. Он принадлежал к тому народу, который распял Христа, и его ненавидели кроме того как ростовщика. Впрочем, английская театральная публика знала евреев только по книгам и театральным представлениям, так же как, например, норвежская еще в первой половине XIX века. От 1290 по 1660 г. евреи были окончательно изгнаны из Англии. Никто не знал ни их добродетелей, ни их пороков, поэтому всякий предрассудок относительно их мог беспрепятственно зарождаться и крепнуть.
Разделял ли Шекспир это религиозное предубеждение, подобно тому как он питал национальный предрассудок против Орлеанской Девы, если только сцена в «Генрихе VI», где она выведена в виде ведьмы, принадлежит ему? Во всяком случае, только в незначительной степени. Но если бы он выказал яркую симпатию к Шейлоку, то, с одной стороны, вмешалась бы цензура, а с другой стороны, — публика не поняла и отвернулась бы от него. Если Шейлок подвергается в конце концов каре, то это обстоятельство соответствовало как нельзя лучше духу времени. В наказание за свою упрямую мстительность он теряет сначала половину той суммы, которой ссудил Антонио, потом половину своего капитала и вынужден, наконец, подобно «мальтийскому жиду» Марло, принять христианство. Этот последний факт возмущает современного читателя. Но уважение к личным убеждениям не существовало в эпоху Шекспира. Ведь было еще так близко время, когда евреям предоставляли выбор между распятием и костром. В 1349 г. пятьсот евреев избрали в Страсбурге второй исход. Странно также то обстоятельство, что в то время, когда на английской сцене мальтийский жид отравлял свою дочь, а венецианский еврей точил нож для казни над своим должником, в Испании и Португалии тысячи героически настроенных евреев, оставшиеся верными иудейской религии после изгнания 300 000 соплеменников, предпочитали измене иудейству пытки, казни и костры инквизиции.
Никто другой, как великодушный Антонио, предлагает крестить Шейлока. Он имеет при этом в виду его личное благо. Крещение откроет ему после смерти путь к небесам. К тому же христиане, лишившие Шейлока посредством детских софизмов всего его имущества, заставившие его отречься от своего Бога, могут гордиться тем, что являются выразителями христианской любви, тогда как он стоит на почве еврейского культа формального исполнения закона.
Однако сам Шекспир был свободен от этих предрассудков. Он не разделял фанатического убеждения, что некрещеный еврей осужден навеки. Это ясно видно из сцены между Ланселотом и Джессикой (III, 1). Ланселот высказывает не без юмора предположение, что Джессика осуждена. Единственное средство спастись это доказать, что ее отец не ее настоящий отец:
Джессика. Да, это действительно какая-то незаконнорожденная надежда. Но в этом случае на меня упадут грехи моей матери.
Ланселот. Это точно; ну, так значит, мне следует бояться, что вы пропадете и по папеньке, и по маменьке. Избегая Сциллу, т. е. вашего батюшку, я попадаю в Харибду — вашу матушку. Вот и выходит, что вы пропали и с той, и с другой стороны.
Джессика. Меня спасет мой муж: он сделал меня христианкой.
Ланселот. За это он достоин еще большего порицания. Нас и без того было много христиан на свете — как раз столько, сколько нужно, чтобы иметь возможность мирно жить вместе. Это обращение в католическую веру возвысит цену на свиней, коли мы все начнем есть свинину, так что скоро ни за какие деньги не достанешь жареного сала.
И Джессика повторяет дословно мужу выражения Ланселота: «Он мне прямо говорит, что мне нет спасенья в небе, потому что я — дочь жида, и говорит, что вы дурной член республики, потому что, обращая евреев в христианскую веру, увеличиваете цену на свинину».
Конечно, человек убежденный не шутил бы в таком тоне над такими мнимо-серьезными вопросами.
Замечательно также, что Шекспир наделил Шейлока, при всей его бесчеловечности, — человечными чертами и показал, что он имел некоторое право быть столь несправедливым. Зритель понимает, что при том обращении, которому подвергался Шейлок, он не мог сделаться другим. Шекспир пренебрег мотивом атеиста Марло, что еврей ненавидит христиан за то, что у них еще больше развиты ростовщические инстинкты, чем у него самого. При своем спокойно-гуманном взгляде на человеческую жизнь Шекспир сумел поставить жестокосердие и кровожадность Шейлока в связь с его страстным темпераментом и с его исключительным положением. Вот почему потомство усмотрело в нем трагический символ унижения и мстительности порабощенной нации. Никогда Шекспир не возвышался до такого непобедимого и захватывающего красноречия, как в знаменитой главной реплике Шейл ока (III, 1):
Я — жид. Да разве у жида нет глаз? Разве у жида нет рук, органов, членов, чувств, привязанностей, страстей? Разве он не ест ту же пищу, что и христианин? Разве он ранит себя не тем же оружием, подвержен не тем же болезням, лечится не теми же средствами, согревается и знобится не тем же летом и не тою же зимою? Когда вы нас колете, разве из нас не течет кровь, когда вы нас щекочете, разве мы не смеемся? Когда вы нас отравляете, разве мы не умираем, и когда вы нас оскорбляете, разве мы не отомстим? Если мы похожи на вас во всем остальном, то хотим быть похожи и в этом. Когда жид обидит христианина, к чему прибегает христианское стремление? К мщению. Когда христианин обидит жида, к чему должно по вашему примеру прибегнуть его терпение? Ну, тоже к мщению. Гнусности, которыми вы меня учите, я применяю к делу — и коли не превзойду своих учителей, так значит мне сильно не повезет!
Но с особенной гениальностью схватил Шекспир типические расовые черты и подчеркнул еврейские элементы в фигуре Шейлока. Если герой Марло часто приводит сравнения из области мифологии, то начитанность Шейлока исключительно библейская. Торговля служит единственной нитью, связующей его с культурой более поздних поколений. Шейлок заимствует свои сравнения у патриархов и пророков. Когда он оправдывается примером Иакова, его речь становится торжественной. Он все еще считает свой народ «священным», и когда дочь похищает его бриллианты, он чувствует впервые, что над ним тяготеет проклятие. Герой же Марло произносит следующую немыслимую реплику:
Я — еврей и вследствие этого осужден на погибель.
В Шейл оке также много других еврейских черт: его уважение к букве закона, постоянные ссылки на свое формальное право, являющееся его единственным правом в человеческом обществе, наконец, наполовину естественное, наполовину преднамеренное ограничение своих нравственно-моральных понятий принципом мести. Шейлок — не дикий зверь и не язычник, свободно проявляющий свои инстинкты. Он умеет обуздывать свою ненависть и заключает ее в рамки законного права, как разъяренного тигра в клетку. Он не обладает той ясностью и свободой, той беспечностью и беззаботностью, которые отличают добродетели и пороки, благотворительность и бессмысленную расточительность господствующей касты. Но совесть никогда не мучает его. Все его поступки соответствуют логически его принципам.
Отчужденной от той почвы, того языка и общества, которые он считает родными, Шейлок сохранил свой восточный колорит. Страстность — вот основной элемент его характера. Он разбогател через нее. Она сквозит во всех его поступках, соображениях и предприятиях. Она воодушевляет его ненависть и его мстительность. Шейлок гораздо более мстителен, чем жаден. Он падок до денег, но если представляется случай отомстить, он их не ставит ни во что. Негодование на бегство дочери и кражу драгоценностей обостряет его ненависть к Антонио настолько, что он отказывается от суммы, превышающей долг втрое. Он и свою честь не продаст за деньги, хотя его представления о чести ничего не имеют общего с рыцарскими. Он ненавидит Антонио больше, чем любит свои сокровища. Не жадность, а страстная ненависть превращает его в бесчеловечного изверга.
В связи с этой чисто еврейской страстностью, проглядывающей в мельчайших оттенках его речи, находится его нескрываемое презрение к лени и тунеядству. Это ведь тоже чисто еврейская черта, в чем нетрудно убедиться при самом поверхностном чтении библейских изречений. Шейлок прогоняет Ланселота со словами: «В моем улье нет места трутням». Восточный оттенок страстности Шейлока выражается также в его сравнениях, приближающихся по форме к библейской притче (обратите, например, внимание на его рассказы о хитрости Иакова или на его защитительную речь, начинающуюся словами: «Обдумайте вы вот что: есть немало у вас рабов»). Специфически еврейское состоит в данном случае в том, что Шейлок употребляет при всей своей необузданной страстности такие образы и такие сравнения, которые запечатлены трезвым и своеобразным умом. У него постоянно торжествует острая, саркастическая логика. Каждое обвинение он возвращает назад с процентами. Эта здоровая логика не лишена даже некоторого драматизма. Шейлок мыслит в форме вопросов и ответов. Это, конечно, второстепенная, но очень характерная черта. Она напоминает ветхозаветный стиль, и вы можете ее иногда встретить в речах и описаниях некультурных евреев. По словам Шейлока можно догадаться, что голос его певуч, движения быстры, жесты резки. С ног до головы он является типическим представителем своего народа.
В конце четвертого действия Шейлок исчезает с подмостков, чтобы не вносить дисгармонии в гармонический конец пьесы.
Шекспир старается стушевать при помощи последнего действия мрачный тон общего впечатления. Перед нами пейзаж, озаренный луной и оглашаемый звуками музыки. Весь пятый акт состоит из музыкальных звуков и лунного света. Именно такой была душа Шекспира в этот период его жизни. Все дышит здесь гармонией и миром. Все озарено серебряным блеском, и всюду слышится вдохновляющая музыка. Реплики сплетаются и сливаются, как отдельные голоса хора:
Лоренцо. Луна блестит. В такую ночь, как эта, Когда зефир деревья целовал, Не шелестя зеленою листвою, В такую ночь, я думаю, Троил Со вздохом восходил на стены Трои И улетал тоскующей душою В стан греческий, где милая Крессида Покоилась в ту ночь. Джессика. В такую ночь Тревожно шла в траве росистой Тизба… Лоренцо. В такую ночь Печальная Дидона с веткой ивы Стояла на пустынном берегу…и затем следуют еще четыре реплики, производящие впечатление, будто поэзия лунного блеска положена на музыку для разных голосов.
«Венецианский купец» вводит нас в тот период в жизни Шекспира, когда он особенно жизнерадостен и смел. В эту светлую эпоху он ценит в мужчине — силу и ум, а в женщине — кокетливое остроумие. Вместе с тем в нем замечается особенная любовь к музыке. Вся его жизнь и вся его поэзия разрешаются теперь, при всей их возвышенности и энергии, в музыкальные аккорды. Шекспир познакомился с этим искусством и, вероятно, часто слышал музыку. Уже первые пьесы показывают его хорошее знакомство с техникой музыки, как это, например, видно из разговора Юлии и Лючеты в «Двух веронцах» (I. 2). Шекспир слышал придворную капеллу, а также оркестры знатных вельмож и дам. Порция имеет также свой домашний оркестр. Шекспир слышал, без сомнения, музыку и в частных домах. Современные ему англичане были, не в пример следующим поколениям, очень музыкальны. Пуритане изгнали музыку из их обычной жизни. Самым излюбленным инструментом был тогда спинет. Даже в парикмахерских можно было его найти и клиенты развлекались на нем в ожидании своей очереди. Сама Елизавета играла на клавикордах и на лютне. В 128-м сонете Шекспир изображает себя, стоящим около клавикорда рядом с возлюбленной, которую он называет ласкательным именем «моя музыка», и завидует клавишам, которые целуют ее ручки. Вероятно, Шекспир был лично знаком с Джоном Доулендом, знаменитейшим английским музыкантом того времени, хотя стихотворение в сборнике «Страстный пилигрим», где упомянуто имя этого последнего, принадлежит не Шекспиру, а Ричарду Барнфидду.
Еще ранее «Венецианского купца» Шекспир выказал снова свои знания в области теории пения и игры на лютне в комедии «Укрощение строптивой», в шутливой сцене, где Люченцио произносит несколько глубоко прочувствованных слов о цели музыки:
Она дана, чтоб освежать наш ум, Ученьем иль трудами утомленный.Шекспир понимал также благотворное влияние музыки на душевнобольных, как это видно из «Короля Лира» и из «Бури». Но здесь, в «Венецианском купце», где звуки сливаются с лунным блеском, восторг поэта принимает более возвышенный полет:
Как сладко спит сияние луны Здесь на холме! Мы сядем тут с тобою, И пусть в наш слух летит издалека Звук музыки; тишь безмятежной ночи Гармонии прелестной проводник.И Шекспир, никогда не упоминающий о церковной музыке, которая, по-видимому, не производила на него никакого впечатления, влагает в уста далеко не мечтательного Лоренцо несколько восторженно-мечтательных стихов о музыке сфер в духе эпохи Возрождения:
Сядь, Джессика! Смотри, как свод небесный Весь выложен мильонами кружков Из золота блестящего. Меж ними Нет самого малейшего кружка, Который бы не пел, как ангел, вторя В движении размеренном своем Божественным аккордам херувимов. Такою же гармонией души Бессмертные исполнены; но мы До той поры ее не можем слышать, Пока душа бессмертная живет Под грубою и тленною одеждой.Итак, гармония сфер и гармония души, но не колокольный звон и не церковное пение, — вот для Шекспира наивысшая музыка. Через всю пьесу проходит эта восторженная любовь к музыке, которую он в последнем действии облек в такие роскошные стихи. Когда Бассанио приступает к выбору между ящиками, Порция восклицает (III, 4):
…Пусть оркестр Гремит, меж тем как выбирать он будет! Тогда, коли не угадает он, То кончит так, как умирает лебедь При музыке… Но может он и выиграть. Тогда же Чем будут звуки музыки? Тогда Те звуки будут трубным ликованьем, С которым верноподданный народ Перед своим царем нововенчанным Склоняется.Словно Шекспир хотел здесь, в «Венецианском купце», выразить впервые всю глубокую музыкальность своей природы. Он влагает в уста ветреной Джессики следующие глубокомысленные слова:
Становится мне грустно всякий раз, Как музыку хорошую услышу, —и Лоренцо объясняет ей, что это происходит оттого, что к звукам музыки душа прислушивается с напряженным вниманием.
Трубный звук укрощает лихой табун молодых коней. Орфей увлекал, по словам легенды, деревья, волны и утесы.
Нет на земле живого существа Столь жесткого, крутого, адски злого, Чтоб не могла хотя на час один В нем музыка свершить переворота. Кто музыки не носит сам в себе, Кто холоден к гармонии прелестной, Тот может быть изменником, лгуном, Грабителем: души его движенья Темны, как ночь, и как Эреб черна Его приязнь. Такому человеку Не доверяй. Послушаем оркестр.Конечно, эти слова не следует понимать в буквальном смысле. Но обратите внимание на все немузыкальные натуры у Шекспира. В данном случае это Шейлок, который ненавидит «мерзкий писк искривленной трубы», затем героический, совсем не культурный Готспер, далее упрямый Бенедикт, политический фанатик Кассий, африканец-варвар Отелло и, наконец, существа вроде Калибана, но и эти последние покоряются чарам музыки. Зато все более мягкие натуры музыкальны. Так, например, в первой части «Генриха IV» Мортимер и его жена, уроженка Уэльса, не понимающие друг друга, говорят между собой:
О милая моя, поверь, что скоро Я буду в состояньи говорить С тобою на твоем же языке, В твоих устах он так же мне приятен, Как пение прекрасной королевы, В саду, сопровождаемое лютней.Музыкальны далее трогательно-нежные женские натуры вроде Офелии или Дездемоны или мужские фигуры, как Жак в комедии «Как вам угодно» и герцог в «Двенадцатой ночи». Последняя пьеса вся проникнута любовью к музыке. Уже в первой реплике она раздается первым аккордом.
Когда музыка пища для любви Играйте далее! Насытьте душу! Пусть пресыщенное желанье звуков От полноты их изнеможет и умрет. Еще раз тот напев! Он словно замер! Он обольстил мой слух, как ветерка дыханье, Что веет над фиалковой грядой, Уносит и приносит ароматы.Здесь Шекспир высказал также свою любовь к простонародным мелодиям. Герцог восклицает (II, 4):
Цезарио мой добрый, сделай милость, Спой ту старинную, простую песнь Вчерашней ночи. Грусть мою как будто Она отвеяла и дальше, и свежее, Чем красные слова воздушных арий, Пленяющих наш пестрый век.Эта жажда звуков и любовь к музыке, которые отличают здесь герцога, а в «Венецианском купце» — Лоренцо, наполняли душу Шекспира в тот короткий, счастливый период, когда он, не порабощенный еще меланхолией, коренившейся в нем, как во всех глубоких натурах, в потенциальном виде, чувствовал, как с каждым днем растут и крепнут его способности, как его жизнь становится богаче и значительнее, и как все его внутреннее существо дышит гармонией и творческой силой. Заключительная симфония в «Венецианском купце» является как бы символическим изображением того духовного богатства, которое Шекспир ощущал в себе, и того духовного равновесия, которого он теперь достиг.
Глава 20
«Эдуард III» и «Арден Февершем». — Дикция Шекспира. — Первая часть «Генриха IV». — Введение в историческую драму личного жизненного опыта. — Чем мог заинтересовать его сюжет? — Трактирная жизнь. — Кружок Шекспира. — Джон Фальстаф. — Сопоставление его с gracioso испанской комедии. — Рабле и Шекспир. — Панург и Фальстаф
К 1596 г. относится драма «Царствование короля Эдуарда III», «игранная в разное время в городе Лондоне». Английские критики и знатоки Шекспира приписывают ее частью Шекспиру. По их мнению, Шекспир заметно ретушировал лучшие места этой пьесы.
Существует достаточно причин присоединиться к этому взгляду. Правда, упомянутая драма похожа на шекспировские столько же, сколько многие другие пьесы елизаветинской эпохи; правда также, что Суинберн приписывает ее одному из подражателей Марло, однако в высшей степени вероятно, что Шекспир принимал некоторое участие в создании «Эдуарда III». Замечательны следующие стихи из одной реплики Уоррика: «Я мог бы, дочь моя, еще расширить поле моих сопоставлений между величием короля и твоим позором. Яд, поднесенный в золотом сосуде, кажется еще противнее; вспышка молнии, сверкнувшей во мраке, заставляет ночь казаться еще темнее. Лилия, подвергшаяся разложению, пахнет хуже сорной травы, а если добрая слава клонится к греху, то позор принимает втрое большие размеры» (III, 2).
Напечатанные курсивом слова «подвергшаяся разложению лилия пахнет хуже сорной травы» являются заключительным стихом 94-го шекспировского сонета. Нет никакого основания предполагать, что этот сонет, намекающий, как будет показано ниже, на более поздние события в жизни поэта, был уже в то время написан. По-видимому, Шекспир воспользовался для этого сонета одним стихом, сочиненным им для упомянутой драмы.
Иностранному исследователю, разумеется, неудобно возражать англичанину, если речь идет об английском языке и английском поэтическом стиле. Но так как многие критики приписывают то одну, то другую пьесу елизаветинской эпохи либо полностью, либо частью Шекспиру, приходится, тем не менее, часто делать такие возражения. Это в особенности касается драмы «Арден из Февершема», одной из самых прекрасных пьес этой богатой произведениями эпохи. Даже если вы прочтете эту драму в ранней молодости, не подвергая ее тонкой критической оценке, то вы невольно будете поражены ее достоинствами. Суинберн прямо заявляет: «Я считаю не только возможным, но даже необходимым утверждать, что это произведение, написанное без всякого сомнения, молодым человеком, может принадлежать только перу юного Шекспира».
Конечно, я заслуживаю в этом вопросе гораздо меньше доверия, чем Суинберн, тем не менее я не разделяю его мнения. При всем моем уважении к драме «Арден из Февершема», я не могу допустить, чтобы Шекспир написал хоть одну строчку в этой драме. Ни выбор сюжета, ни манера его обработки не напоминают Шекспира. Это — мещанская драма. Героиней является женщина, покушающаяся трижды на жизнь своего доброго и деликатного мужа, чтобы свободнее отдаться своему гнусному любовнику. Автор драматизировал настоящее уголовное дело, придерживался очень добросовестно судебных протоколов и внес во всю эту историю свои богатые психологические сведения и наблюдения. Шекспир не любил таких сюжетов. Он впоследствии никогда на них не останавливался. Главное же возражение заключается в том, что в стиле и дикции этих монологов лишь изредка встречаются присущие Шекспиру черты: выражения, блещущие фантазией и тот роскошный лиризм, который подобно солнечным лучам золотит собою реплики его действующих лиц. В драме «Арден из Февершема» царит будничное настроение. Напротив, Шекспир подкладывает под все слова и реплики своего рода качели. Один шаг мы делаем по земле, еще один — и мы поднимаемся на воздух. Стих Шекспира звучит всегда богатой и полной мелодией, он никогда не становится плоским или обыденным. В драмах из английской истории его слог сближается со стилем баллады или романса. У него всюду сквозит или пафос, или мечтательность, или веселый задор, которые нас увлекают за собой. Вы не чувствуете у него никогда серого, будничного настроения, не озаренного блеском воображения. Все его герои, исключая смешных глупцов, обладают яркой и богатой фантазией.
Если вы хотите убедиться в истинности этого замечания, то обратите внимание на дикцию в первой части «Генриха IV», этом великом произведении, созданным тотчас после «Венецианского купца». С одной стороны, вы видите Глендовера, который ходит вечно на котурнах, подвержен галлюцинациям, верит в приметы, повелевает духами и т. д., с другой стороны, — трезвого и благоразумного Генри Перси, который никогда не покидает почвы земли и верит только в то, что доступно его чувствам и понятно его рассудку Однако и в нем есть такая пружина, которую стоит только надавить, и он поднимается до чистой поэзии, торжественной, как ода. Король называет Мортимера вероломным. Перси возражает (I, 3), что Мортимер не для вида только воевал с Глендовером:
Чтобы доказать это, разве недостаточно и одного языка ран, зияющих ран, которыми он покрылся так доблестно на усеянных тростниками берегах прекрасного Северна, безбоязненно сражаясь почти целый час один на один с великим Глендовером? Три раза останавливались они, чтобы перевести дух, три раза, по обоюдному согласию, принимались они пить воду быстрого Северна, и Северн, ужаснувшись их кровожадных взоров, бежал боязливо между трепещущих тростников и прятал свою курчавую голову под нависший берег, обагренный кровью мощных противников.
Так Гомер поет о реке Скамандре.
Ворчестер обещает Перси найти для него предприятие более опасное, чем «переправа по тонкому и длинному копью через бурливый поток». Он отвечает:
Пошлите опасность от востока к западу, только бы честь перекрестила ее от севера к югу, и пусть их борются! — Ведь в битве со львом кровь движется сильнее, чем при охоте на зайца.
Когда Нортумберленд замечает ему, что мысль о великих подвигах лишает его хладнокровия, он восклицает:
Клянусь небом, мне кажется одинаково легко и вскочить на бледноликий месяц, чтобы сорвать с него светлую честь, и нырнуть в такую глубь, в которой свинец никогда не доставал еще дна, чтобы за кудри вытащить оттуда утонувшую честь!
Вы видите, как этот враг пафоса и музыки нагромождает образные выражения друг на друга! Он переходит от сравнительно слабой метафоры «говорящих ран» к настоящим мифологическим картинам. Река страшится огненных взоров бойцов и прячет свои кудрявые локоны в камыше — это напоминает классические легенды о богах. Опасность является из одной страны света, а честь — с другой, чтобы вступить в поединок; это напоминает легенды о валькириях из скандинавской мифологии. Венок чести, висящий на рогах луны, — это образ, заимствованный из области рыцарских турниров и увеличенный в стиле старых сказок. Потонувшую честь вытаскивают за волосы из морской глубины — это картина, взятая из жизни водолазов: понятие о чести облекается в фантастический образ женщины, бросившейся в море и спасаемой из него! И все это богатство метафор — в трех коротких репликах. Там, где, как в драме «Арден из Февершема», отсутствует эта роскошная фантазия, не следует говорить об участии Шекспира. Даже когда его стиль отличается трезвостью и сдержанностью, в нем столько скрытой фантазии, которая подобно скрытому электричеству разряжается при малейшей случайности, вспыхивает ослепительным фейерверком и действует на слух подобно мелодии бушующего водопада.
В 1598 г. вышла в свет драма in-quarto под следующим заглавием: «История Генриха IV. С прибавлением битвы при Шрусбери, происшедшей между королем и лордом Генри Перси, известным под именем северного Готспера, и присоединением также комических выходок сэра Джона Фальстафа. Лондон. Напечатано у П. С. Для Эндрю Уайз, что на погосте церкви св. Павла под вывеской „Ангела“. 1598».
То была первая часть «Генриха IV», написанная, вероятно, в 1597 г., т. е. та драма, в которой самобытность Шекспира достигает своей великой подавляющей силы. Тридцати трех лет он уже стоит на высоте своего художественного величия. Эта пьеса, богатая разнообразными характерами, блещущая остроумием и гениальностью, осталась недосягаемым произведением. В драматическом отношении она построена довольно слабо, хотя несколько лучше второй части, которая вообще по своим достоинствам ниже первой; но если взглянуть на нее просто, как на поэтическое произведение, то необходимо признать в нем одно из лучших произведений мировой литературы. В нем героические сцены сменяются забавными, захватывающие эпизоды следуют за грубо-комическими. Но эти контрасты не противополагаются друг другу, как впоследствии у Виктора Гюго в его этюдах, написанных в том же самом стиле. Нет, здесь они являются с той же естественностью, как в самой жизни.
Когда Шекспир писал эту драму, XVI столетие, одно из самых величайших в истории человеческого духа, клонилось к концу. Однако тогда никому не приходило в голову символически выразить в этом факте упадок жизнерадостности и энергии. Совсем напротив. Трезвое самосознание и продуктивные силы как английского общества, так и самого Шекспира никогда не достигали раньше таких широких размеров. Пьеса «Генрих IV» и примыкающая к ней драма о Генрихе V проникнуты таким духом, который мы тщетно будем искать в первых произведениях Шекспира и которого мы никогда больше не встретим у него…
Шекспир заимствовал сюжет своей драмы из хроники Холиншеда и из старой, наивной пьесы, озаглавленной «Славные победы Генриха V и знаменитая битва при Азенкуре». Здесь Шекспир нашел будущего короля Генриха V, тогда еще юного принца, в компании пьяниц и грабителей. Этот источник подал мысль и вооружил его смелостью отважиться на такой шаг, который казался ему раньше слишком рискованным. Другими словами, он решился изобразить под личиной драматизированной истории одного английского государя, считавшегося национальным героем родины, жизнь своих современников, свой собственный ежедневный опыт и свои приключения в тавернах. Вот почему историческая картина заблистала такими свежими красками.
Впрочем, Шекспир почти ничего не заимствовал из старой, бездарной пьесы, игранной в промежуток времени от 1580 по 1588 г. Он воспользовался только анекдотом о пощечине, данной принцем Гарри верховному судье, и некоторыми именами, например, «Истчипская таверна», «Гадсхил», «Нэд» и, наконец, не фигурой, а только именем сэра Джона Олдкэстля, которым первоначально назывался Фальстаф.
Шекспир чувствовал к главному герою, к молодому принцу, глубокую, как бы органическую симпатию. Мы уже видели, как долго и живо его интересовал контраст между показной внешностью и истинной сущностью человека. Мы отметили эту особенность в последний раз при изучении «Венецианского купца». Шекспир негодовал на тех людей, которые хотели казаться тем, чем они не были в действительности, он ненавидел всякую аффектацию и напыщенность, он возмущался, наконец, теми женщинами, которые желали казаться красивее, чем были в действительности, которые с этой целью красились и пользовались чужими волосами.
Но он не менее горячо сочувствовал тем, кто скрывал под маской незначительной внешности и скромного поведения великие качества. Ведь самому Шекспиру пришлось всю жизнь страдать под гнетом того противоречия, что он, ощущавший в глубине души своей драгоценные сокровища туманностей и гения, с внешней стороны был только фокусником, легкомысленно забавлявшим своими шутками и вымыслами большую толпу, чтобы на ее счет набить свой кошелек. Порою суждения света смущали и тревожили поэта, как это видно из его сонетов. Тогда он почти стыдился своего общественного положения, той показной, мишурной жизни, среди которой протекали его дни. Тогда он особенно сильно чувствовал потребность вскрыть зияющую пропасть, лежащую иногда между показной ролью человека и его истинным значением. Кроме того, этот сюжет давал Шекспиру возможность, прежде чем настроить свою лиру на героический лад, преломить копье за законность «бурных порывов» задорной, даровитой молодежи и защитить ее против филистерских, слишком поспешных осуждений пуритан и моралистов. Здесь нетрудно было показать, что человек с великими намерениями и героической энергией выйдет невредимым из лабиринта самых сомнительных развлечений. Герой драмы, принц Уэльский, являлся одновременно олицетворением как «веселой», так и «воинственной» Англии.
В самом деле, разве для юных аристократических зрителей могло быть что-нибудь интереснее, как видеть великого короля в тех самых местах, которые они сами так часто посещали, замечая в то же время, что он — подобно лучшим среди них — никогда не терял сознания своего высокого значения? Им доставляло большое удовольствие видеть, что принц, несмотря на свои отношения к Фальстафу и Бардольфу, миссис Куикли и Долли Тиршит, никогда не отказывался от надежды на великую будущность, от желания прославиться громкими подвигами.
Эти молодые лондонские аристократы, которые появляются у Шекспира то в виде Меркуцио и Бенедикта, то под именами Грациано и Лоренцо, искали целый день развлечений. Юный джентльмен, разодетый в шелк или бархат пепельного цвета, в плаще, украшенном золотыми шнурами, начинал свой день тем, что отправлялся верхом в храм Св. Павла, прогуливался несколько раз взад и вперед по главной галерее и любезничал, по образцу Эвфуэса, с молодыми мещанками. Он заглядывал от нечего делать в лавки книгопродавцев и перелистывал или новейшую брошюрку против употребления табака, или последние театральные пьесы. Затем он отправлялся в таверну отобедать в компании товарищей: разговаривал о путешествиях Дрейка в Португалию, о подвигах Эссекса под стенами Кадикса или о том, что он недавно на турнире преломил копье с великим Рэлеем. В разговоре он пересыпал английские фразы итальянскими и испанскими словами и прочитывал иногда после обеда, по просьбе друзей, сонет собственного сочинения. В три часа он шел в театр, любовался игрой Бербеджа в роли Ричарда III, смеялся, когда Кемп танцевал и пел свой «джиг», просиживал несколько часов в зверинце, где смотрел, как собаки травили медведя, и отправлялся, наконец, к парикмахеру — привести себя в порядок для вечерней пирушки с друзьями и знакомыми в одной из модных таверн. Такими тавернами были «Митра», «Сокол», «Аполлон», «Безмен», «Кабанья голова», «Черт» и, самая знаменитая из всех, «Сирена», где происходили заседания литературного клуба, основанного Вальтером Рэлеем. Здесь, в этих тавернах, молодой аристократ встречал лучших актеров вроде Бербержа и Кемпа, и знаменитых писателей, как то: Лилли, Джорджа Чапмана, Джона Флорио, Михаила Дрейтона, Самуэля Дэниеля, Джона Марстона, Томаса Наша, Бена Джонсона и Вильяма Шекспира.
Торнбери заметил очень метко, что наклонность к общественности была одной из самых характерных черт елизаветинской эпохи. Англичане того времени находились всегда в обществе: в храме св. Павла, в театре, в таверне. Семейные визиты были совершенно неизвестны. Женщины ничего не вносили в общественную жизнь, как и в Древней Греции. Мужчины собирались по вечерам в таверне пить, пировать и беседовать. Пили очень много, даже больше, чем в Дании, которая считалась обетованной страной пьянства (сравните слова в «Гамлете» с замечаниями в «Отелло»). Таверны служили также местом свиданий для знатных кавалеров и женщин мещанского сословия. Легкомысленные юноши приводили сюда своих возлюбленных. После ужина здесь обыкновенно играли в карты или в кости. Писатели и поэты вступали в словесные поединки и состязались в остроумии, задорном и сверкавшем, как дорогое вино. Это была своего рода игра в мячи — но словами, или нечто вроде сражения, где роль ядер исполняли шутки. В нескольких стихах, посвященных Бену Джонсону, Бомонт воспел эти заседания. Вот как он описывает эти словесные турниры: «Сколько разнообразных событий видели мы в „Сирене“! Сколько разговоров слышали мы, таких великих и остроумных, что казалось, будто каждый из собеседников хотел вложить в одну шутку все свое остроумие, чтобы остаток жизни прожить дураком».
В пьесе «У каждого человека свои причуды» Бен Джонсон вывел Марстона под именем Карло Буффоне. В таверне «Митра» он поджидает своих друзей, и когда трактирный слуга Джордж приносит ему требуемое вино, он говорит: «Так, сэр, вот это и есть та самая субстанция. О Джордж, мой милый негодяй, я готов от избытка нежности откусить твой нос! То, что ты мне принес, это истинный нектар, это — самая душа винограда! Я омочу им свои виски и проглочу дюжину глотков, чтобы согреть свой мозг и придать огонь своему воображению. Сегодня вечером мои речи будут похожи на ракеты! Это будет настоящий фейерверк! Так, сэр. Будьте так любезны, сэр, стойте там, а я здесь!» Он ставит оба стакана на некотором расстоянии друг от друга, выпивает один и чокается с другим, говорит то от имени одного стакана, то от имени другого и пьет по очереди из обоих.
Очень часто цитировали известные слова Фоллера из его «Истории достопримечательных людей» о частых словесных турнирах между Шекспиром и ученым Беном Джонсоном. Фоллер сравнивает последнего с неуклюжей испанской галерой, а Шекспира — с английским военным кораблем. «Мастер Джонсон был весь выстроен из солидной учености, но зато отличался медленностью и неповоротливостью. Напротив, Шекспир был менее массивен, как настоящий английский man-of-war. Движения его были быстры. Он умел приноравливаться к каждому течению, неожиданно поворачиваться и извлекать выгоду из каждой перемены ветра, — все благодаря своему легкому остроумию и своей находчивости». Хотя Фоллер и не был свидетелем этих разговоров, однако его сообщение носит печать достоверности. В том кружке, который Шекспир посещал в молодости, можно было, разумеется, встретить самые разнообразные типы от гения вплоть до карикатуры. Многие из них отличались какой-то странной смесью гениальных порывов и карикатурных черт, смешных и забавных сторон. Подобно тому, как в каждом богатом доме существовал шут или скоморох (Jester) так точно каждая веселая компания имела своего присяжного остряка. Шут-джестер был грозой всей кухни. Как только повар оборачивался к нему спиной, он немилосердно воровал один пудинг за другим. Но за обедом он оживлял всех домочадцев своим умением подражать разным животным и разгонял плохое расположение своих хозяев забавными рассказами и шутливыми выходками. В таверне комической персоной был тот, кто вечно острил и над которым вечно острили. Он был мишенью для всеобщих насмешек и старался, тем не менее, превзойти своей веселостью всех собеседников.
К шекспировскому кружку принадлежал, без сомнения, также тот Четтль, который, как мы видели, издал памфлет Грина «Грош ума, купленный за миллион раскаяний», и который извинялся потом перед Шекспиром за направленные против него грубые выходки этой брошюрки. Деккер вывел этого самого Четтля в своем произведении «Заколдованный рыцарь», где он описывает литературный клуб, собирающийся на елисейских полях: «Вот входит Четтль. Он так жирен, что весь вспотел и еле дышит. Чтобы встретить как следует этого доброго старого знакомого, все поэты поднимаются с места и опускаются сразу на колени. В этой позе они пьют за здоровье всех любителей Геликона!» Быть может, Эльце был прав, высказав догадку, что в лице этого старого добродушного, вспотевшего и сопящего толстяка мы имеем перед собой тот оригинал, по которому Шекспир создал своего полубога, бессмертного Джона Фальстафа, бесспорно самую веселую, цельную и забавную из всех комических фигур, созданных Шекспиром.
Веселость Фальстафа так сочна и солидна, в нем такая бездна смешных сторон, что он превосходит все комические персонажи древней, средневековой и новоевропейской литературы. Он слегка напоминает античного Силена и Видушакаса древнеиндийской драмы. Он — наполовину придворный шут, наполовину друг и собутыльник героя. Он совмещает в себе оба комических типа староримской комедии, Артотрога и Пиргополиника, паразита и фанфаронствующего солдата. Подобно римскому паразиту он позволяет патрону платить за себя и забавляет его взамен этого своими веселыми выходками. Подобно хвастливому воину плавтовой комедии он — первоклассный хвастун, первоклассный лгун и порядочный дон-жуан. Но он разнообразнее и забавнее всех античных силенов, придворных шутов, фанфаронов и паразитов вместе взятых.
В то столетие, которое следовало за созданием Фальстафа, Испания и Франция могли также гордиться самобытным театром. Во всей французской литературе только одна забавная и комическая фигура слабо напоминает Фальстафа, это — личность Морона в мольеровской «Princesse d’Elide». В Испании, где дивная фигура шутника Санчо Пансы вдохновила Кальдерона к целому ряду комических образов, герою всегда противоставлялся шут gracioso, порою напоминающий Фальстафа, но только потому, что он является олицетворением какой-нибудь одной черты его характера, или потому что находится в аналогичном положении. В «Даме-невидимке» он — пьяница и трус. В «Великой Зиновии» он хвастается и запутывается, подобно Фальстафу, в сетях собственной лжи. В пьесе «Мантивльский мост» он так же ухитряется прослыть храбрецом, как Фальстаф в сценах с верховным судьей и Кольвилем. Однако он чувствует себя подобно Фальстафу во время боевых стычек всегда очень плохо и часто прячется за кустом или деревом. В пьесах «Дочь воздуха» и «Стойкий принц» он прибегает к той же хитрости, как Фальстаф и некоторые низшие породы животных: он бросается наземь и прикидывается мертвым.
Знаменитый монолог Фальстафа о чести, напоминающий сходную тираду мольеровского Морона, Кальдерон вложил в уста Эрнандо в пьесе «Los empenos de un acaso». Покровительственный тон и самодовольную, отеческую снисходительность Фальстафа мы снова находим у Фабио в «Официальной тайне». Здесь, как видно, отдельные качества и черты характера Фальстафа воплощаются в образах различных действующих лиц. Кальдерой смотрит обыкновенно с отеческой благосклонностью на своего грациозо. Но иногда он возмущается эпикурейскими взглядами своего шутника, чуждыми христианских и рыцарских воззрений. В пьесе «Жизнь — сон» пуля убивает бедного Кларина, который во время битвы спрятался за кустом. Кальдерой хотел показать этим, что и трус не избегает опасности. Он произносит над его трупом торжественную надгробную речь, отличающуюся таким же нравоучительным характером, как прощальные слова Генриха V, обращенные к Фальстафу.
Но как ни Кальдерон, ни Мольер не знали шекспировского Фальстафа, так точно поэт, создавая фигуру толстого рыцаря, не находился под влиянием кого-либо из своих предшественников в области комического искусства. Однако одного из великих писателей, который был вообще одним из величайших мировых поэтов, следует в данном случае сопоставить с Шекспиром. Это — Рабле. Мы знаем достоверно, что великий представитель раннего французского Возрождения принадлежал к числу тех немногих писателей, которых Шекспир, без сомнения, изучал. Он намекает в одном месте именно на него. Когда в комедии «Как вам угодно» Розалинда обращается к Целии с целым рядом вопросов, требуя на все один ответ, Целия говорит: «Добудь мне прежде рот Гаргантюа, потому что слово, которое ты требуешь, слишком велико для какого бы то ни было рта нашего времени».
Если сравнить мысленно Фальстафа с Панургом в истории Пантагрюэля, то приходишь невольно к тому заключению, что Рабле относится к Шекспиру, как титан к олимпийскому богу. Рабле — это в самом деле титан, грандиозный, непропорционально сложенный, мощный, но бесформенный. А Шекспир похож на олимпийского бога. Он — миниатюрнее и соизмеримее, у него меньше идей, но больше изобретательности. Вся его фигура дышит стройностью и силой.
Рабле умер семидесяти лет, приблизительно за 10 лет до рождения Шекспира. Между тем и другим такое же различие, как между ранним и поздним Возрождением. Рабле — поэт, философ, публицист и реформатор в самом грандиозном стиле; он не умер на костре, но эта смерть ему всегда угрожала. В сравнении с цинизмом Рабле грубости Шекспира то же самое, что унавоженная гряда в сравнении с римской cloaca maxima. С его пера так и льются грязные буффонады. Его Панург настолько же грандиознее Фальстафа, насколько Утгарделока колоссальнее Азалоки. Панург так же болтлив, остроумен, коварен и бессовестен. Это — шутник, заставляющий всех своими забавными дерзостями молчать. На войне Панург сражается так же мало, как Фальстаф; он убивает подобно последнему только тех врагов, которые уже убиты. Он суеверен и в то же время настоящий скоморох, для которого не существует ничего святого и который обкрадывает святыни. Он эгоистичен до мозга костей, полон чувственных инстинктов, ленив, бесстыден, мстителен, вороват, и чем дальше, становится все более и более трусливым и хвастливым.
Пантагрюэль— это благородный великан. Он — царевич, как принц Гарри. У него та же слабость, как у последнего: он не может обходиться без компании людей, которые гораздо ниже и хуже его. Так как Панург остроумен, то Пантагрюэль не в силах отказаться от удовольствия смеяться над его шутками, приводящими в сотрясение его крепкие легкие. Но Панург является в противоположность Фальстафу грандиозной сатирой. Если он выдающийся знаток в финансовых вопросах и податной системы, если ему известны 63 способа получать доходы и 214 способов делать расходы, и если он называет долги кредитом, то он является типическим представителем тогдашнего французского двора. Если Панург выжимает из своих владений 6 биллионов 789 миллионов, 406 000 талеров и облагает, кроме того, майских жуков и морских улиток податями, в размере 2 435 768 длинношерстных ягнят, то это явная сатира на наклонности тогдашних французских сеньоров к эксплуатации.
Шекспир не идет так далеко. Он — только поэт и никогда не выходит из оборонительного положения. Единственная сила, на которую он нападал, было пуританство («Двенадцатая ночь», «Мера за меру» и т. д.). Но и в данном случае это была скорее самозащита. Его нападки в высшей степени умеренны в сравнении с атакой драматургов накануне победы пуританства и кавалеров-дилетантов после открытия театров. Но Шекспир был, в противоположность Рабле, художником, и как художник он обладал способностью настоящего Прометея, — творить людей. Он превосходит Рабле также роскошью и богатством выражений. Уже Макс Мюллер обратил внимание на изобилие слов в шекспировском лексиконе. Он превосходит, по-видимому, в этом отношении всех писателей. Либретто итальянской оперы содержит редко 600 или 700 слов. Современный образованный англичанин употребляет, как говорят, в своем обыденном разговорном языке не более 3 или 4 тысяч слов. Далее вычислено, что великие английские мыслители и ораторы владеют капиталом в 10 000 слов. Весь Ветхий Завет написан при помощи 5642 слов. Шекспир пользуется в своих стихотворениях и драмах 15 000 слов. И в редкой из его пьес вы найдете такой избыток выражений, как в «Генрихе IV».
Как уже упомянуто, первоначальное имя Фальстафа было — сэр Джон Олдкэстль. Во второй сцене первого действия (ч. I) мы встречаем следы этого имени. Принц величает жирного рыцаря «ту old lad of the castle»: это — явный намек на его прежнее имя. Во второй сцене второго действия стих
Away, good Ned, Falstaff sweats to death. (Едем, добрый Нэд, теперь Фальстаф запотеет насмерть) —отличается потому некоторой шероховатостью, что более длинное имя было на скорую руку заменено двухсложным. В древнейших изданиях второй части in-quarto перед одной из реплик сохранилось сокращенное Old и во второй сцене третьего действия говорится, что Фальстаф служил пажом у герцога Норфолкского, Томаса Моубрея, что совершенно верно относительно исторического Олдкэстля. Однако последний вовсе не походил на того толстяка, которого изобразил Шекспир. Как приверженец реформаторского учения Уиклифа он был, по приказанию Генриха V, предан церковному суду и сожжен на костре вне города Лондона на рождество 1417 г. Так как потомки сэра Олдкэстля протестовали против того унижения, которому подвергалось в драме имя их предка, то Шекспир перекрестил толстого рыцаря. Вот почему автор заявляет в эпилоге ко второй части, что он намерен написать продолжение этой истории и поставить в центре фигуру сэра Джона, который «запотеет до смерти». «Он не Олдкэстль, умерший мучеником, а совсем другой человек!» Через пятьдесят лет после смерти Шекспира Фальстаф сделался самой популярной из его фигур. В промежуток времени от 1641 по 1694 г. его имя упоминается чаще всех остальных шекспировских героев и произведений. Но в высшей степени характерно, что современники говорили при всей своей симпатии к нему гораздо чаще о Гамлете, имя которого упоминается до 1642 г. 45 раз, тогда как имя Фальстафа только 20 раз. Даже «Венера и Адонис» и «Ромео и Джульетта» приводятся чаще, а поэма «Лукреция» — столько же раз. Грубо-комический оттенок его фигуры лишал его изящества, и Фальстаф был всем слишком близок, чтобы его верно оценили.
Он является как бы богом Вакхом «старой веселой Англии» в тот момент, когда одно столетие сменило другое. Никогда в Англии не было такой массы различных крепких напитков; тут были: эль и другие сорта крепкого и более слабого пива, яблочное вино, земляничная настойка, три сорта меда, и все эти напитки отдавали запахом цветов и были приправлены разными пряностями. Так, например, в белый мед клали: розмарин, тмин, шиповник, мяту, лавровый лист, настурцию, репейник, шалфей, исландский мох, бегонии, колокольчики, листья ясеня, остролистник, полынь, тамаринд и часто землянику и фиалковый лист. А в вино по имени Sack клали сироп из пряностей.
Кроме собственных вин в Англии были в ходу 56 сортов французских и 36 сортов испанских и итальянских вин. Но из всех иностранных вин ни одно не пользовалось такой популярностью, как любимый напиток Фальстафа — Sack. Это было сначала сухое, потом сладкое вино, получившее свое имя от искаженного слова sec. Оно привозилось из города Хереса в Испании, но не походило, несмотря на свою сладость, на наш херес. Это было превосходное вино, ароматичнее малаги и Канарских вин, которые были, впрочем, крепче и слаще. Хотя оно и отличалось большой сладостью, в нем, однако, распускали по тогдашнему обычаю сахар. Ведь англичане никогда не отличались тонким вкусом. И Фальстаф всегда подслащивает свое вино. Вот почему он восклицает в сцене (II, 4), когда изображает принца, а принц — короля: «Если пить херес с сахаром — порок, то да помилует нас Бог!» Он кладет в вино не только сахар, но также подожженный хлеб: «Принеси мне кружку вина, да подложи в него подожженного хлеба» («Виндзорские проказницы», III, 5). Зато он терпеть не может любимого напитка других: вина с яйцами. «Дайте мне простого хереса, я не желаю, чтобы в моем напитке плавало куриное семя». Он также терпеть не мог присутствие в вине извести, служившей дли сохранения и увеличивавшей крепость вина. «Бездельник! Этот херес с известью!» («Генрих IV», 1 часть, II, 4). Фальстаф такой же знаток в вине и такой же любитель вина, как древний Силен. Но он не только Силен!
Это — одна из самых светлых и остроумных голов, когда-либо существовавших в Англии. Редко мозг поэта создавал такую грандиозную фигуру. В нем много беспутства и много гения. В нем нет ничего посредственного. Он никогда не теряет своего превосходства; он всегда находчив и остроумен; он всегда чувствует почву под своими ногами и, благодаря своей изобретательной дерзости, выходит победителем из самого унизительного положения. Как представитель известного сословия Фальстаф выродился. Он проводит свое время в самой плохой (и вместе с тем для него в самой лучшей) компании. У него нет ни души, ни чести, ни морали; но он грешит, разбойничает, врет и хвастает так задорно, весело, без всякой задней мысли, что его поступки никогда не вызывают отвращение. Хотя он служит мишенью всеобщих насмешек, однако все к нему расположены. Он поражает богатством своей натуры. Он старик и юноша, испорчен и безвреден, негодяй без злости, лгун, но не обманщик, рыцарь, джентльмен и воин, без достоинства, без чувства приличия и без чести! Если юный принц то и дело возвращается к Фальстафу, он доказывает этим только свой развитый вкус.
Как остроумен Фальстаф в гениальной сцене, когда он пародирует свидание принца с разгневанным отцом, прежде чем мы сами становимся очевидцами этой встречи, и как остроумен сам Шекспир, пародируя вместе с тем Лилли, Грина и старую пьесу о Камбизе! И как забавен Фальстаф, обращаясь к ограбленным купцам со следующими словами, содержащими беспощадную иронию над самим собой (II, 2):
Бей, вали, режь горла бездельникам! А, проклятые гусеницы! Свиноеды! Они ненавидят нас, молодежь; вали же их наземь, обирай! На виселицу вас, толстопузых негодяев! Разорены? Врете, жирные олухи, я желал бы, чтобы все ваше добро было теперь с вами. Ну, поворачивайтесь же, свиные туши, поворачивайтесь! Ведь и молодежи пожить-то хочется, подлецы вы этакие!
Сколько юмора в его репликах, когда он, проникнутый скорбным состраданием к своей загубленной молодости, выставляет себя неопытным, соблазненным юношей. «Я не хочу попасть в ад ни из-за какого принца в мире». — «Вот 22 года, как я даю себе ежечасно слово с ним развязаться, а все-таки не могу покончить.» — «Меня испортило плохое общество!» — («Генрих IV». ч. II).
Но если его лично никто не соблазнял, то и он не является вовсе тем «негодным развратителем юности», как его называет принц, исполняя роль короля. Тот, кто соблазняет, преследует известную цель. У Фальстафа нет никакой определенной цели. В первой части «Генриха IV» Шекспир смотрел на своего героя только как на комическую фигуру и старался улетучить в эфире смеха все низкое и грязное, свойственное его природе. Но чем больше поэт привыкал к Фальстафу и чем резче он подчеркивал контраст между нравственной мощью принца и той развращенной средой, среди которой он вращался, тем беспощаднее заставлял он Фальстафа падать все ниже. Во второй части его остроумие становится более неуклюжим, его поведение — бессовестным, его цинизм — менее изобретательным, его отношение к хозяйке таверны, которую он обманывает и грабит, — низким. Если он в первой части драмы смеялся без задней мысли над своим цветущим здоровьем и веселым расположением духа, над уличным грабежом, в котором принимал участие, и собственными вымыслами, которыми он забавлял других, то он потом обращает все больше внимания на то, чтобы извлечь как можно больше выгоды из своего знакомства с принцем, и вращается в более низкой среде. Ведь все сводится к тому моменту, когда принц, унаследовавший престол и сознающий ответственность своей роли, покажет всем серьезное лицо и произнесет над Фальстафом громовое слово кары.
Но зато в первой части Фальстаф еще настоящий полубог по остроумию и комизму. В образе этого героя народная драма, представителем которой был Шекспир, восторжествовала впервые решительно над учеными поэтами, подражавшими Сенеке. Вы словно слышите, как каждая реплика Фальстафа вызывает шум аплодисментов в партере и на галерее, подобный шуму бушующего моря вокруг ладьи. Старинный эскиз фигуры Пароля в пьесе «Вознагражденные усилия любви» облекся здесь в кровь и плоть. Простой зритель любовался этим подвижным толстяком, который не помнит того времени, когда в последний раз видел свои колени, этим забавным стариком, который так молод в своих желаниях и пороках. Более развитый и образованный зритель наслаждался его находчивостью, умением парировать удары, способностью выпутываться из самого стесненного положения, не теряясь и не ослабевая. Да, каждый зритель находил что-нибудь интересное в этом куске мяса, насыщенном остроумием, в этом герое без совести и стыда, в этом разбойнике, трусе и лгуне, воображение которого так же богато, как фантазия поэта или фантазия барона Мюнхгаузена, в этом цинике с медным лбом и языком, острым, как толедская шпага, в его речах, похожих, как впоследствии песнь Бельмана, «на хоровод олимпийских богов, в котором участвуют фавны, грации и музы». — Остроумие Фальстафа доставляло людям Возрождения такое же наслаждение, как средневековым слушателям народная поэма о хитростях Рейнеке-Лиса. Остроумие и комизм Фальстафа в первой части «Генриха IV» достигают своей кульминационной точки в известном монологе о чести, на поле битвы при Шрусбери (V, 1), в этом монологе, который освещает так ярко контраст между его характером и характером других главных героев. Все действующие лица имеют свои индивидуальные представления о чести. Король усматривает ее в личном достоинстве, Готспер ищет ее в блеске славы, принц любит в ней прямую противоположность показной внешности. Фальстаф, проникнутый горячей жаждой материальных жизненных благ, совсем не признает ее и подчеркивает ее ничтожество:
Зачем же мне, впрочем, и соваться вперед, когда судьба этого не требует? Это так, но ведь меня подстрекает не она, а честь. Ну, а если честь вытолкнет меня из жизни, когда сунусь вперед? Что тогда? Может честь приставить ногу или руку? Нет. Уничтожить боль раны? Нет. Так, стало быть, честь не знает хирургии? Нет. Что же такое честь? Слово. Что же такое в этом слове «честь»? Что же такое честь? Воздух. Славная штука! — Кто же приобрел ее? А вот тот, кто умер в прошедшую среду. Что же, чувствует он ее? Нет. Слышит ее? Нет. Как же чувствовать мертвому? А разве она не может жить с живым? Нет. Почему же? Злословие не позволяет, — так и я не нуждаюсь в ней. Честь — просто надгробная надпись; вот и конец моего катехизиса.
Фальстаф не желает быть рабом чести. Он предпочитает лучше совсем обходиться без нее. Он хочет показать, как можно жить без чести, и вы не чувствуете этого пробела, потому что Фальстаф в своем роде — цельная натура.
Глава 21
Принц Генрих. — Связь между ним и Шекспиром. — Национальный герой Англии. — Свежесть и совершенство пьесы
Генрих V жил в памяти потомства как образ национального героя. Это был тот государь, который покорил блестящими победами половину Франции. Вокруг него сосредоточивались воспоминания о той великой эпохе, когда английской короне принадлежали земли, которые его бессильные преемники не сумели удержать за собой.
Исторический Генрих служил с отроческих лет в войске, был с шестнадцатого по двадцать первый год офицером в одном из отрядов, стоявших на валлийской границе, и заслужил полное доверие отца и парламента. Но уже в старой хронике встречается намек на то, что он в молодые годы вел разгульную жизнь в плохой компании, так что никто не мог предугадать его будущего величия. Старая, бездарно написанная пьеса о славных победах Генриха V разработала этот намек подробней, и его было совершенно достаточно, чтобы наэлектризовать фантазию Шекспира.
Он сразу увлекся мыслью изобразить молодого принца Уэльского в обществе пьяниц и распутных женщин, чтобы потом ярче и величественнее оттенить его способности безупречного правителя и даровитейшего среди английских государей полководца, унизившего Францию при Азенкуре.
Шекспир нашел, без сомнения, не одну точку соприкосновения между этим историческим сюжетом и своей собственной жизнью. В качестве молодого актера и поэта и он вел, по-видимому, в Лондоне беспорядочную жизнь богемы, и если он не был вполне безнравственным и легкомысленным человеком, то здоровый темперамент, кипучая энергия и положение вне гражданского общества доводили его часто до всякого рода излишеств. Мы можем себе составить на основании его сонетов, свидетельствующих так красноречиво о сильных и роковых страстях, ясное представление о тех соблазнах, которым он не мог противостоять. В одном сонете (119) говорится: «Сколько я испил слез, пролитых сиренами и дистиллированных в ретортах, смрадных, как ад! Когда мне казалось, что на моем сердце покоится благословение неба, оно впадало в самые низкие заблуждения. Мои глаза хотели выскочить из своих орбит, когда я находился в таком лихорадочном состоянии». Или в другом сонете (129) он говорит о том, что «в чаду сладострастия тупеют жизненные силы. Мы бессмысленно жаждем наслаждений, которые вызывают в нас одно только отвращение, когда мы приходим в себя. Мы снова проглотили приманку вместе с крючком удочки. Она приводит в бегство того, кто ею насладился. И никто из смертных не миновал этого неба, ведущего в ад». — Подобные стихи могли быть написаны только на другой день после оргии. Впрочем, в жизни Шекспира бывали также минуты более беспечного и легкомысленного настроения; тогда его размышления не носили такого возвышенного, нравственного характера. Это доказывается некоторыми дошедшими до нас анекдотами. В дневнике юриста Джона Мэннингема под 13 марта 1602 г. мы читаем следующую заметку: «Однажды, когда Бербедж исполнял роль Ричарда III, одна лондонская мещанка увлеклась им так безумно, что пригласила его на ночное свидание, на которое он должен был явиться под именем Ричарда III. Шекспир, подслушавший их разговор, пришел на свидание первым и получил то, что было предназначено на долю Бербеджа. Вдруг хозяйку извещают, что Ричард III ждет у дверей. Однако Шекспир распорядился послать ответ: Вильгельм Завоеватель предшествовал Ричарду III».
Обри, записавший, правда, свои воспоминания только в 1680 г., и некоторые другие (Поп, Олдис) сохранили предание, что Шекспир, который каждый год путешествовал из Лондона через красивый городок Вудсток и великолепный Оксфорд в свой родной Стрэтфорд-на-Эвоне, любил посещать оксфордскую таверну Давенанта, и что он находился в любовной связи с веселой и красивой хозяйкой, «которой он очень нравился». Молодой Вильям Давенант, впоследствии известный поэт, считался в Оксфорде всеми сыном Шекспира и, как говорят, походил в самом деле на него. Впрочем, сэр Вильям любил, если его считали не только «литературным» потомком Шекспира.
Как бы там ни было, поэт имел достаточно причин симпатизировать царственному юноше, который при всем сознании своей великой будущности, беспечно пользуется своей свободой, чувствуя отвращение к придворной жизни и к придворному этикету, игнорируя свой высокий сан и отдаваясь игривому и задорному веселью, который дает верховному судье на улице пощечину и в то же время настолько владеет собой, что позволяет себя без сопротивления арестовать, который участвует в турнире, приколов к своей шляпе перчатку публичной женщины, словом, поступает на каждом шагу вразрез с нравственными понятиями нации и благоразумными принципами отца. И тем не менее его поступки лишены грубости, дышат некоторой наивной простотой и никогда не доводят, его до самоунижения. Король так же мало понимает принца, как понимал Фридриха Великого его царственный отец.
Мы видим, как он совершает самые мальчишеские и бессмысленные шалости в компании собутыльников, трактирщиц и половых, и как он в то же время исполнен великодушия и восторженного благоговения перед Генри Перси, т. е. благоговения перед личным врагом — чувство, до которого сам Перси никогда не мог подняться. А затем мы видим, как он вырастает среди этого мира ничтожества и лжи до недосягаемой высоты. В нем проявляются очень рано в целом ряде мелких черт — непоколебимое сознание своих сил и вытекающая отсюда гордая самоуверенность. Когда Фальстаф обращается к нему с вопросом, не пробирает ли его страх при одной мысли о союзе трех таких могущественных витязей, как Перси, Дуглас и Глендовер, он, смеясь, отвечает, что это чувство ему совершенно неизвестно. Впоследствии он играет на начальническом жезле, как на флейте. Он отличается беспечным спокойствием великого человека. Даже подозрение отца не излечивает его от этой болезни. Впрочем, он такой же прекрасный брат, как идеальный сын; он горячий патриот и прирожденный властелин. Он не такой оптимист, как Готспер (усматривающий нечто хорошее даже в том факте, что отец опоздал на поле битвы). Он не чувствует также его неблагоразумной страсти к войне. Тем не менее, в нем достаточно задатков дерзкого английского завоевателя, смельчака и политика, довольно бессовестного, при известных обстоятельствах жестокого, но неустрашимого даже в виду врага, превосходящего его силы в десять раз. Это первообраз тех героев, которые через 150 лет после смерти Шекспира завоевали Индию.
Если Шекспир не нашел иного средства показать военное превосходство принца как полководца над Перси, как только тем, что заставляет его лучше фехтовать и, наконец, убить на поединке своего противника, то это, разумеется, недостаток. Шекспир вернулся, таким образом, к представлениям гомеровской эпохи о величии воина. Подобные черты отталкивали от него Наполеона. Такие взгляды казались ему детскими. Он считал Корнеля лучшим политиком.
С редким великодушием отказывается принц Генрих— в пользу Фальстафа от чести считаться победителем Готспера, т. е. от той чести, вокруг которой вертится вся драма, как вокруг своей главной оси, хотя ни в одной реплике не высказывается эта основная мысль. Странно, однако, то обстоятельство, что Шекспир заставляет порой принца как бы перевоплотиться в своего пораженного противника. Он, например, восклицает: «Если честолюбие — грех, то я величайший грешник в мире!» Он заявляет, что ничего не понимает в рифмах и стихосложении. Когда он сватается за свою невесту, он такой же негалантный кавалер, как Готспер в своем обращении с женой. На вызов французов он отвечает с таким хвастовством, которое превосходит фанфаронство Перси. В «Генрихе V» Шекспир впадает прямо в панегирический тон. Эта пьеса национальный гимн в пяти действиях.
Это зависело от того, что фигура принца стесняла с самого начала свободное проявление творчества в поэте. Даже в описании шалостей и выходок юного Генриха чувствуется национальное самосознание, граничащее с религиозным благоговением, и высокоторжественное настроение. К концу второй части «Генриха IV» принц совершенно перерождается под влиянием своей ответственной роли. А в качестве короля Генриха V он высказывает столько искреннего смирения и так проникнут благочестивым сознанием незаконного поступка отца, что никто в нем не узнает прежнего легкомысленного «принца Гарри».
Но ведь эти более поздние драмы не выдерживают никакого сравнения с первой частью «Генриха IV», имевшей в свое время такой шумный и вполне заслуженный успех. Здесь блистала сама жизнь со всем богатством своих ярких красок. На подмостках, где разыгрывалась незабвенная история, проходили великие, образцовые фигуры и сочные в своем реализме картины, проходили свободно, не находясь друг к другу в отношениях симметрии, параллелизма или антитезы. Здесь не чувствуется деспотической власти одной какой-нибудь основной мысли. Далеко не каждое слово, произносимое героями, находится в прямой связи с целым. Здесь нет ничего отвлеченного. Только что устроен заговор в королевском дворце, как второе действие открывается сценой в таверне на большой дороге. Рассвет уже забрезжил. Несколько возчиков с фонарями в руках проходят через двор в конюшню, чтобы запрячь лошадей. Они перекликаются и рассказывают друг другу, как провели ночь. Они ровно ничего не говорят о принце Генрихе или Фальстафе. Они беседуют о ценах на овес и о том, что весь дом пошел вверх дном с тех пор, как умер старый Робин. Между их репликами и действием нет ничего общего: они рисуют только место, где происходит это последнее, они дают настроение и носят только подготовительный характер. Но редко поэт выражал столь многое в таком небольшом количестве слов. Вы чувствуете, видите и ощущаете ночное небо, на котором блестит прямо над трубой созвездие Большой Медведицы, мерцающий свет фонарей на грязном дворе, дуновение свежего предрассветного ветерка, пропитанный туманом воздух, запах влажного горошка и бобов, сала и имбиря. Вся эта картина захватывает вас своим могущественным реализмом.
Шекспир создал эту драму, полный сознания своей гениальности, с несравненной быстротой. Читая ее, вы начинаете понимать выражение его современников, что в своих рукописях он никогда не вычеркивал ни одной строчки.
Основным материалом пьесы служило политическое состояние государства в тот момент, когда Генрих IV завладел незаконным путем престолом Ричарда II. Король, находящийся приблизительно в том же положении, как Луи-Филипп или Наполеон II, старается изо всех сил, чтобы забыли о его противозаконном поступке. Однако это ему не удается. Почему? Шекспир указывает на две причины. Первая — чисто человеческая: известное сочетание характеров и обстоятельств. Король получил престол благодаря «проискам друзей». Он боится, что они же могут его свергнуть. Он становится поневоле мнительным и отталкивает своей подозрительностью сначала Мортимера, потом Перси и, наконец, почти так же собственного сына. Вторая причина была ему подсказана религией: это та мысль, что каждое преступление влечет за собой возмездие в силу того, что принято называть «поэтической справедливостью»! Шекспир не мог ее игнорировать уже ввиду цензуры и полиции. Само существование театров считалось чуть ли не преступлением. Если бы авторы отважились к тому же изображать порок безнаказанным, а добродетель не вознагражденной, они рисковали бы подвергнуться каре.
Характеристика короля — настоящий chef d’oeuvre. Это — тип умного, недоверчивого, осторожного государя, которого рукопожатия и улыбки довели до престола; который воспользовался всеми хитростями и тонкостями, чтобы произвести впечатление, который расположил к себе народ любезностями и оказался потом очень скупым на их выражение. Отсюда следующая реплика: «Если бы я, так же как ты, расточал повсюду свое присутствие, так же приучал к себе взоры народа, так же сбивал себе цену обращением с простолюдинами, общественное мнение, которое помогло мне надеть корону, не изменило бы прежнему венценосцу и оставило бы меня в безусловной неизвестности, как человека ничтожного, ничего не заслуживающего. Но меня видели редко, и потому, когда я появлялся, дивились, как комете».
В этих словах старый, опытный дипломат старается объяснить, что плохое общество, в котором вращается сын, вредит его репутации.
Однако сын похож в гораздо большей степени на отца, чем тот думает. В сущности, он ведет себя с не меньшим дипломатическим тактом. Он поступает нарочно так, чтобы все убедились в его ветрености и извращенности, и поражает потом тем глубже всех своей силой, твердостью и гениальностью. Он высказывает уже в первом монологе свое намерение с такой ясностью, которая в высшей степени наивна в психологическом отношении (I, 2): «О, я знаю вас всех, и несмотря на то, будущее некоторое время буду покровительствовать необузданным прихотям вашего разума: я подражаю в этом случае солнцу, которое позволяет же презренным, заразительным тучам скрывать красоту его от целого мира, чтобы мир, потерявший его на время из виду, дивился ему еще более, когда оно, задумав явиться в полном блеске, вдруг прорежет мрачные, густые туманы, которые, казалось, задушили его».
Впрочем, Шекспир и не мог иначе поступить.
Вывести национального героя в такой плохой компании и лишить его вместе с тем этих благородных намерений было крайне неудобно. Но если бы принц стремился прямо и сознательно к этой цели, он был бы просто шарлатаном в грандиозном стиле. Но здесь не следует забывать, как в том месте, где Ричард III называет себя так антипсихологически подлецом, взгляды Шекспира на монолог. Он видит в нем иногда не столько средство разоблачить душу говорящего, сколько удобный случаи дать зрителям точку отправления или несколько сведений, в которых они нуждаются. Актер, исполняющий роль принца, должен поэтому произнести упомянутый монолог в тоне слегка софистической самозащиты. В этом монологе сквозит, наконец, желание Шекспира, выраженное, правда, в очень грубой форме, исправить нелепую психологию хроники, по которой принц перерождается сразу, как бы под влиянием чуда. Этот монолог должен спасти внутреннее единство в характере принца, чтобы переворот, происшедший в его душе, не казался бы зрителю чисто внешним театральным эффектом, лишенным психологической правды. Шекспиру доставляло особенное удовольствие рисовать этот душевный перелом. Он увлекался, конечно, сам той картиной веселой, бессмысленной жизни, протестующей против общепринятых принципов морали, которую он развертывал перед глазами зрителей. Но когда он достиг зрелого возраста, он находил больше наслаждения в изображении той морали, которая заключается в добровольной переработке собственного существа и в умении владеть собой, той морали, без которой невозможны душевное спокойствие и целесообразная деятельность. Вновь венчанный король Генрих не желает больше узнавать Фальстафа, отталкивает его от себя словами:
Я не знаю тебя, старик. Займись молитвами, белые волосы не идут шуту и забавнику! Мне долго снился такой же человек, так же распухший от распутства, так же старый и так же бесчинный; я проснулся и гнушаюсь моим сном.
Эти слова вылились прямо из души Шекспира. В них кипит совершенно новый, подавленный и далеко не пламенный гнев. В них явственно чувствуется спокойное, серьезное, чисто английское чувство справедливости и законности. Король дает Фальстафу пожизненную пенсию и прогоняет его от себя. Герой Шекспира проникнут здесь насквозь чувством ответственности, являющимся в глазах поэта, которому один из его величайших и талантливейших поклонников, Тэн, отказал в нравственном инстинкте, непременным условием истинно великих нравственных подвигов.
Глава 22
Вторая часть «Генриха IV». — Старое и новое. — «Генрих V» как национальная драма. — Любовь к отчизне и шовинизм. — Мечты о Великобритании
Вторая часть «Генриха IV» написана, вероятно, в 1598 г., потому что судья Сайленс упоминается уже в 1599 г. в комедии Бена Джонсона «У каждого человека свои причуды». Хотя это скорее драматизированная хроника, чем драма, но она отличается той же богатой, поэтической силой, как первая часть. В серьезных местах поэт придерживался здесь ближе истории и, конечно, не его вина, если серьезные герои вышли менее интересными. В комических эпизодах, занимающих довольно обширное место, Шекспиру удался художественный фокус — вывести снова Фальстафа таким же интересным и забавным. Он одинаково достоен удивления в своих отношениях к верховному судье и к трактирщицам; он так же величественен в качестве вербовщика, как и в качестве гостя у мирового судьи Шеллоу в деревне. Шекспир присоединил к нему, отчасти в виде товарищей, отчасти ради контраста, обоих жалких провинциальных судей, Шеллоу и Сайленса. Фигура первого — настоящее чудо искусства. Он весь соткан из глупости, тупости, щегольства, беспутства и старческого слабоумия. Однако в сравнении с бесподобным Сайленсом он кажется гением. По-видимому, Шекспир срисовывал здесь, как в первой части, с современных моделей. Другой новой забавной фигурой, нашедшей тотчас, подобно Фальстафу, целый ряд подражателей среди второстепенных драматургов того времени, является хвастливый Пистоль, швыряющий направо и налево выспренными цитатами. Его шутовская аффектация в высшей степени комична. Шекспир осмеивает в его цитатах патетический стиль прежних трагиков, возбуждавший его отвращение. Если Пистоль восклицает: «Вьючные лошади и тощие, изнеженные азиатские клячи, которые не пройдут более тридцати миль в день, будут равняться с Цезарями и с Ганнибалами», то Шекспир пародирует здесь трагедию Марло «Тамерлан», где говорится: «Эй вы, откормленные азиатские клячи, разве вы можете в день пробежать больше 20 миль?»
Пиля пародируют слова Пистоля, обращенные к трактирщице: «Так ешь же и толстей, моя прекрасная Каллиполис».
В пьесе Пиля «Битва при Алькасаре» Мулей Магомет приносит своей супруге кусок мяса на острие шпаги и восклицает: «На, держи, Каллиполис, питайся и не томись больше!»
Но центральной фигурой в комических эпизодах является все-таки Фальстаф. Растолстевший рыцарь никогда не был так остроумен, как в той сцене, когда он говорит верховному судье, намекнувшему ему на его почтенный возраст: «Лорд, я родился около трех часов пополудни, с белыми волосами и с несколько кругловатым животом; что же касается до голоса — я надорвал его криком и усердным пением антифонов. Далее доказывать мою молодость я не намерен; я стар только суждением и разумением, а угодно кому выпрыгать у меня тысячу марок, — пусть только вручит мне деньги, и я дам ему знать себя». Пьеса распадается на мелочи, но каждая из этих мелочей — бесподобна. Возьмите для примера монолог короля Генриха, открывающий третье действие, это поэтическое и глубокомысленное воззвание ко сну. Здесь встречаются следующие строки:
О глупое божество, зачем же укладываешься ты с подлым простолюдином на гадкую постель и бежишь от королевского ложа, как от часового футляра или набатного колокола? Ты смыкаешь глаза юнге на вершине высокой мачты; ты укачиваешь его чувства в колыбели бурного моря, когда бешеные ветры, схватывая ярые валы за макушки, взъерошивают их чудовищные головы, взбрасывают их к черным тучам с таким ревом и шумом, что и сама смерть пробудилась бы! Пристрастный сон, ты даруешь успокоение промокшему юнге в такие жестокие мгновения и отказываешь в нем королю в самые тихие, безмолвные часы ночи, когда все зовет тебя. — Спите же, счастливые простолюдины! Покой бежит от чела, увенчанного короной.
Вообще со второй части король, волнуемый заботами и грозящей смертью, особенно глубокомыслен. Кажется, все, что он говорит, и все, что ему говорят, написано поэтом на основании собственного серьезного жизненного опыта, написано для тех людей, которые пережили и передумали то же самое. Вся первая сцена третьего действия интересна и великолепна. Здесь король высказывает свое геологическое сравнение, выражающее символически историческую изменчивость явлений. Когда он вспоминает с грустью предсказание низложенного Ричарда II, что люди, помогшие ему взойти на престол, так же изменят ему, и заявляет, что это предсказание теперь сбывается, Уоррик отвечает в глубокомысленной реплике, поразительной для того времени, что исторические события подвержены, по-видимому, известным законам. В жизни каждого человека много такого, что необходимо вытекает из прошедшего. Если обсудить как следует все факты, обусловливающие то или другое событие, то нетрудно было бы предсказывать будущие события. На это король отвечает с не менее поразительной философской глубиной: «Так это все необходимости? Примем же все это за необходимость».
Но самая глубокомысленная, пессимистическая реплика принадлежит королю в конце четвертого действия в тот момент, когда он, страдая смертельной болезнью, узнает об усмирении мятежа. Он жалуется на то, что счастье приходит всегда пополам с горем и пишет свои прекраснейшие вести отвратительнейшими словами, что жизнь подобна пирушке, для которой недостает либо яств, либо аппетита.
С того момента, когда король умирает, поэт обращает все свои силы на то, чтобы изобразить в лице его великого сына идеал английского короля. Во всех прежних исторических драмах короли обладали большими недостатками. Шекспира вдохновляла задача нарисовать образ безупречного короля.
Пьеса «Генрих V» — патриотический панегирик в честь этого национального идеала. В пяти хоровых песнях, служащих как бы вступлением к пяти действиям, звучит похвальный гимн, являющийся самым лучшим образцом героической лирики Шекспира. В общем пьеса скорее поэма в диалогической форме, в которой нет ни драматической техники, ни драматического развития, ни драматического конфликта. Это — английский «энкомий», вроде «Персов» Эсхила. В смысле поэтического произведения драма не выдерживает сравнения с двумя предшествующими пьесами, которые она дополняет. Эта патриотическая драма написана для английских патриотов, а не для всего мира.
В прологе к пятому действию находится намек на пребывание Эссекса в Ирландии, который позволяет нам установить с достоверностью хронологическую дату первого представления. Эссекс был в Ирландии с 15 апреля 1599 по 28 сентября следующего года. Так как уже в 1600 г. некоторые поэты ссылаются на шекспировскую пьесу, то она возникла, по всей вероятности, в 1599 г.
Насколько Шекспир был проникнут величием своего сюжета, показывают частые пароксизмы авторского смирения. Подобно авторам древних героических поэм он обращается в начале с воззванием к музам; он просит снисхождения не только за несовершенство сценических средств, но и за «плоский, будничный дух», в котором он воспоет такой величественный предмет. В прологе к четвертому действию он вновь возвращается к той же мысли о собственной неспособности и о недостатках сцены, лишающих его возможности воспроизвести достойным образом такие грандиозные события. Вообще поэт старался изо всех сил вознаградить зрителей роскошным лирическим пафосом и прекрасными картинами, наполняющими эти хоровые песни, за отсутствие драматического единства, вызванное требованиями исторической точности. Шекспир не чувствовал, как наивна тирада архиепископа о салическом праве, которой он открывает пьесу и в которой доказывает права Генриха на французский престол. Поэт счел нужным включить это прозаическое рассуждение, ибо стремился к тому, чтобы сделать Генриха воплощением тех добродетелей, которые он сам ценил выше всех остальных. Он наделил его уже в конце «Генриха IV» истинно царственным великодушием. Генрих утверждает верховного судью, который арестовал его некогда принцем, в его должности, говорит с ним в тоне глубокого уважения и называет его даже «отцом». В действительности этот судья получил отставку, когда Генрих взошел на престол. Здесь принц превратился в идеального короля подобно тому, как из куколки или личинки выходит красивая бабочка. Генрих является тем государем, который поступает всегда по-царски и никогда не забывает того, что он представитель английского народа; он ведет себя просто, без претензий и высокомерия, говорит скромно, действует энергично и чувствует, как должен чувствовать благочестивый человек; он — солдат, разделяющий с последним рядовым все нужды и лишения. Он так же груб, когда шутит и когда сватается; он следит с суровой и справедливой строгостью за дисциплиной даже по отношению к своим старым товарищам; он добрый гражданин, который беседует одинаково любезно как с высокопоставленными, так и с простыми людьми; прежняя юношеская веселость превратилась в нем в умеренную радость великого человека по поводу удачной шутки вроде, например, фарса, в котором участвуют Вильяме и Флюэллен. Шекспир наделил своего Генриха страстью воинственного Гаруна аль-Рашида освоиться лично с образом мыслей своих подданных, и он нисколько не порицает своего героя за то, что он, падая низко с прежней идеальной высоты, приказывает умертвить всех плененных при Азенкуре французов. Шекспир оправдывает этот поступок требованиями необходимости.
Это все происходит оттого, что во всей пьесе царит не дух истинного патриотизма, а порою — дух простого шовинизма. Обе речи короля Генриха под стенами Гарфлера (III, 1 и 23) отличаются дикостью и хвастливым фразерским задором. Поэт несправедлив в отношении к французам, хотя они тогда в самом деле доказали свою военную несостоятельность. Правда, Шекспир, отличавшийся всегда удивительной способностью схватывать индивидуальные и национальные особенности, подметил очень удачно некоторые недостатки французской нации, но все-таки эти сцены похожи скорее на карикатуру, рассчитанную на зрителей галереи. Если французы примешивают к своим речам французские слова, то это довольно детский прием. По-видимому, значительная часть пьесы была написана для простой наивной публики, так как сам сюжет был общенациональный. Сюда принадлежит, например, сцена, где хвастливый болтун Пистоль пугает и берет в плен французского дворянина, или сцена, когда одна из придворных дам обучает юную французскую принцессу Екатерину английскому языку. Как эта сцена (III, 4) с ее грубыми, почти скабрезными шутками, так и сцена (V, 2), где король Генрих сватается за принцессу, имеют для нас еще тот интерес, что позволяют нам получить некоторое представление о познаниях Шекспира во французском языке. Он, без сомнения, умел читать по-французски. Но он говорил очень плохо. Быть может, не он виноват в таких ошибках, как le possession, a les anges. Но издатели придерживались, вероятно, его собственной рукописи там, где принцесса, которой Генрих поцеловал руку, произносит такие комичные и невероятные фразы, как-то: «je ne veux point, que vous abaissiez votre grandeur en baisant la main d’une de votre seigneurie indigne serviteur», или «Les dames et demoiselles pour etre baisees devant leur noces il n’est pas coutume de France».
Следуя своему обыкновению и не желая порвать связь с предшествующими пьесами, Шекспир вплел также в «Генриха V» комические фигуры и эпизоды. Хотя сам Фальстаф не появляется на сцене, но в начале пьесы рассказывается о его смерти. Впрочем, его свита прогуливается на подмостках словно живое и забавное воспоминание о нем, пока члены ее один за другим не исчезают на виселице, унося с собой память о легкомысленной молодости великого короля. Взамен их Шекспир вводит целый ряд новых юмористических фигур: это типы солдат и офицеров из всех провинций современной Великобритании. Каждый говорит на своем родном диалекте и от верной передачи этих наречий зависит для слуха англичанина комическое впечатление пьесы. Мы встречаем здесь жителя Уэльса, шотландца и ирландца. Первый из них флегматичный и немного педантичный добряк, стоящий горой за дисциплину и честность; шотландец отличается неизменной уравновешенностью, простотой, многословием и надежностью; ирландец — истинный представитель кельтской расы, вспыльчивый и порывистый, иногда не очень понятливый и любящий повздорить. Из всех этих типов валлиец Флюэллен отделан тщательнее других.
Но, выводя этих представителей отдельных английских племен, Шекспир желал не только позабавить публику пестрой коллекцией разнообразных типов и диалектов, а преследовал гораздо более серьезную и глубокую цель. Каждый раз, когда англичане вели в те времена войны, их старые враги, шотландцы, нападали на них с тыла, а ирландцы подняли тогда как раз известный мятеж. Быть может, Шекспир мечтал о «Великой Англии» (Great England), как говорят о «Великобритании» (Great Britain). В то время, как он писал свою драму, шотландский король Иаков неустанно добивался благоволения англичан, и вопрос о престолонаследии после смерти состарившейся королевы все еще не был решен. Шекспир желал, по-видимому, чтобы старая национальная вражда между англичанами и шотландцами исчезла вместе со вступлением на престол Иакова.
В то же время Эссекс еще находился в Ирландии. Он старался смягчить народное недовольство кротким обращением и переговорами с главарем католических бунтовщиков. Эта политика довела его до гибели. Саутгемптон находился также в Ирландии в качестве начальника кавалерии, и нет никакого сомнения, что мысли Шекспира уносились часто в ирландский лагерь. Шекспир вложил, по-видимому, в уста Бэтса свои политические убеждения (IV, 2): «Полно вам ссориться, глупцы. У вас довольно французов (т. е. испанцев) для драки!»
Пьеса «Генрих V» не принадлежит к лучшим из шекспировских произведений, но она одно из его самых симпатичных. Здесь он является перед нами не в виде гениального сверхчеловека, а в качестве английского патриота, вдохновение которого так же прекрасно, как наивно, и предрассудки которого почти идут к нему. Эта пьеса обращается не только к великому прошлому Англии, но указывает также в будущем на Иакова I как того государя, который мог бы в качестве протестантского сына католички Марии Стюарт положить конец религиозным преследованиям, и который в качестве шотландца и приверженца ирландской политики Эссекса мог бы доказать миру не только могущество Англии, но и могущество Великой Британии.
Глава 23
Елизавета и Фальстаф. — «Виндзорские проказницы». — Прозаический и мещанский тон пьесы. — Эльфы
Тотчас после «Генриха V» Шекспир написал комедию «Виндзорские проказницы», по-видимому, на рождество 1599 г. Сэр Томас Люси, которому поэт отомстил в этой пьесе, умер в 1600 г. Трудно предположить, чтобы Шекспир стал издеваться над своим врагом тотчас после его смерти. Нет никакого сомнения, что пьеса написана не по собственному побуждению, а по требованию человека, желания которого были равносильны закону. Самые веские внутренние причины говорят в пользу предания, что эта комедия возникла по приказанию королевы Елизаветы. На заглавном листе древнейшего издания in-quarto (1602) сказано: «Эта пьеса играна часто труппой почтенного лорда-камергера, в присутствии ее величества и в других местах». Через целое столетие (1702) Джон Деннис, издавший переделку этой пьесы, пишет: «Я прекрасно знаю, что эта пьеса заслужила одобрения одной из самых великих королев, когда-либо существовавших на земле. Эта комедия была написана по ее приказанию и под ее руководством, и королева так жаждала увидеть ее на подмостках сцены, что дала автору только двухнедельный срок». Несколько лет спустя Роу пишет (1709): «Королеве так понравился оригинальный характер Фальстафа, что она приказала Шекспиру вывести его еще раз в одной пьесе и изобразить влюбленным». Так передают историю возникновения «Виндзорских проказниц». Пьеса доказывает блестящим образом, насколько Шекспир выполнил данное ему приказание.
Конечно, старая королева Bess не обладала большим критическим чутьем, иначе она не высказала бы желание увидеть Фальстафа влюбленным. Она поняла бы, что это патологический абсурд. Она сообразила бы также, что фигура Фальстафа закончена раз навсегда, и что ее повторение положительно немыслимо. Правда, в эпилоге к «Генриху IV» (не принадлежащем, быть может, перу Шекспира) поэт обещал продолжение этой «истории», где Фальстаф «запотеет до смерти». Но это продолжение не явилось ни в «Генрихе V», так как Шекспир превосходно чувствовал, что Фальстаф сыграл свою роль до конца, ни в «Виндзорских проказницах», так как Фальстаф не умирает, и комедия вовсе не служит продолжением прежнего сюжета. Напротив, пьеса воспроизводит один из более ранних эпизодов, вырванный, кроме того, из исторической рамки и перенесенный в современную поэту эпоху, причем намеки на последнюю так прозрачны, что в пятом действии говорится прямо о «нашей лучезарной королеве, царящей в Виндзорском дворце».
Не без внутреннего сопротивления подчинился поэт варварскому требованию «лучезарной» королевы и выполнил его, насколько сумел. Ему пришлось испортить гениальную фигуру Фальстафа и унизить растолстевшего рыцаря до пошлого старого шута, падкого до денег, вина и женщин. Он воскресил вместе с ним всю его веселую компанию, умершую незавидной смертью: Бардольфа, Пистоля, Нима и миссис Куикли; вложил в уста Пистоля бесподобную фразу, что жизнь подобна устрице, которую он раскроит своей шпагой, перенес из второй части «Генриха IV» судью Шеллоу, поставил его в менее дружественные отношения к герою и присоединил к нему чрезвычайно комическую фигуру его племянника Слендера, который является при своей глупой самоуверенности и в своем духовном убожестве как бы первым эскизом фигуры сэра Эндрю Эгчика в «Двенадцатой ночи».
Шекспир был поставлен в необходимость доставить развлечение королеве и ее двору, не увлекавшимся отвлеченными идеями, не умевшим ценить красоты, отличавшимся сухой практичностью и любившим грубые шутки.
Подобно тому, как простые лондонские горожане находили большое удовольствие видеть, как на сцене изображалась жизнь вельмож, так точно королеве и ее двору хотелось познакомиться с будничной жизнью горожан, заглянуть в их комнаты, подслушать их разговоры с пасторами и врачами, получить некоторое представление о том богатстве и довольстве, которые расцветали под самыми окнами летней королевской резиденции в Виндзоре, присмотреться к степенной важности и прислушаться к игривым шуткам краснощеких, пышущих здоровьем мещанок. Основной тон пьесы был, таким образом, уже заранее указан. Ни в одной из шекспировских пьес он не отличается таким прозаическим, мещанским духом. Пьеса «Виндзорские проказницы» является единственным произведением поэта, написанным почти исключительно прозой, и единственной его комедией, где действие происходит только в Англии и где рисуется жизнь третьего сословия. Эта пьеса напоминает во многих отношениях мольеровские фарсы, написанные также для увеселения государя и его двора. Однако в высшей степени характерно, что Шекспир и здесь не хотел ограничиться изображением будничной жизни, а вплел в конце пьесы, как во «Сне в летнюю ночь», хороводы и пение фей. Правда, эти эльфы только переодетые дети и девушки, но все слова и стихи, произносимые ими, дышат истинной поэзией эльфов.
Создавая «Генриха V», Шекспир наловчился употреблять юмористический английский жаргон, испещренный валлийскими словами и искаженными галлицизмами. Он понимал, что такого рода комизм найдет благодарную публику при дворе, где обращали особенное внимание на чистоту произношения. Занятый теперь этой случайной и спешной работой, Шекспир решил воспользоваться только что вновь приобретенным талантом и создал, таким образом, две добродушно-забавные фигуры, валлийского пастора Хьюга Эванса, в лице которого он, быть может, увековечил одного из школьных учителей родного Стрэтфорда, и французского врача Каюса, этого балаганного шута, произносящего все шиворот-навыворот.
Так как работа была спешная, то в пьесе встречаются неточности и недоразумения в определении времени. В четвертой сцене третьего действия миссис Куикли отправляется к Фальстафу с приглашением на новое свидание — на второй день после обеда. Однако, когда она является к нему в следующей сцене, оказывается, что уже наступило утро третьего дня. Но, с другой стороны, пьеса выиграла от этой поспешности — в быстроте драматического движения. Здесь нет тех эпизодов, на которых поэт любит обыкновенно останавливаться так долго.
Тем не менее, Шекспир слил в этой пьесе три самостоятельных действия: ухаживание Фальстафа за двумя веселыми мещанками, миссис Форд и миссис Пейдж, и все вытекающие из неудачного rendez-vous события; затем, соперничество из-за руки прелестной Анны Пейдж между глуповатым доктором, жалким Спендером и юным Фентоном и, наконец, комическую дуэль между валлийским пастором и французским врачом, придуманную и устроенную виндзорским шутником трактирщиком.
Шекспир создал здесь, сверх обыкновения, почти всю интригу. Но он заимствовал сцену, когда Фальстафа прячут в корзине с бельем, из сборника Фиорентино «II Ресогопе», где молодая женщина прячет таким же путем своего возлюбленного (Шекспир воспользовался этой книгой, как мы видели, уже для «Венецианского купца»). Если Фальстаф посвящает во все тайны своих намерений и во все подробности своих свиданий именно мужа той особы, за которой волочится, то поэт взял эту черту из другой итальянской новеллы, принадлежавшей перу Страпаролли и появившейся за десять лет в английском переводе Тарльтона в его сборнике «Новости из чистилища» под заглавием «Два пизанских любовника».
Не все подробности интриги одинаково удачны.
Если, например, переодетый Бруком мистер Форд подкупает Фальстафа предоставить ему ту женщину за которой он ухаживает вместе с этим последним (т. е. собственную жену), то это довольно грубая и неправдоподобная черта. Затем тот же Форд выражает свою ревность слишком грубо, наивно и неуклюже. Главный же недостаток заключается в том, что сама сущность интриги и моральная тенденция пьесы превратили умного и продувного Фальстафа в такого дурака, что его постоянные поражения не доставляют никакого удовольствия. Он не знает того, что ему бы следовало знать. Он совершает все новые и все более и более невероятные нелепости. Он глуп, когда пишет двум женщинам, живущим в небольшом городке и заведомо знакомым друг с дружкой, два совершенно одинаковых письма. Он невероятно недальновиден, позволяя себя увлечь три раза подряд в одну и ту же грубо расставленную ловушку. Приходится предположить, что он чудовищно влюблен в свою собственную внешность, но тогда в нем трудно узнать прежнего, иронизирующего над самим собой Фальстафа исторических драм. Он, далее, невыразимо наивен, если не питает никакого подозрения к мистеру Бруку, который в качестве единственного его поверенного только и мог его выдать мужу. Наконец, он не только детски легковерен, но положительно непохож на прежнего здравомыслящего Фальстафа, если принимает переодетых детей, которые ночью в парке жгут и щиплют его, за настоящих эльфов.
Лишь изредка в нем вспыхивает старая веселость и старое остроумие. Он обращается к Шеллоу, Пистолю, Бардольфу и т. д. с четырьмя или пятью репликами в старом духе. Он комичен, когда восклицает после того, как был брошен вместе с грязным бельем в воду, что не желал бы утонуть, «потому что вода раздувает человека. А что за фигура вышла бы из меня, если бы меня еще раздуло!» Он в высшей степени юмористичен, когда говорит в конце пьесы (V, 5): «Я убежден, что дьявол не желает моего грехопадения, боясь, чтобы сало, которым я наполнен, не зажгло весь ад». Но что значат эти вспышки в сравнении с тем неиссякаемым родником шуток и острот, бившим в груди истинного Фальстафа!
Пьеса похожа в гораздо большей степени на фарс, чем все остальные комедии Шекспира, включая сюда также «Укрощение строптивой». В ней мало красивых и поэтических мест. Прекрасна супружеская чета Пейдж, эти честные и добрые представители английского среднего сословия, и молодая парочка, Фентон и Анна, которая появляется, правда, только в одной сцене, но привлекает зрителей своими качествами. Анна Пейдж — симпатичная молодая мещанка из эпохи Шекспира, одна из тех простых, здоровых женских натур, которые в XIX столетии воспевал Вордсворт. Фентон, названный довольно неправдоподобно бывшим товарищем принца Генриха и Пойнса, искренно любит Анну, хотя чистосердечно признается в том, что сватался за нее, собственно, из-за приданого. Но Шекспир, знавший так хорошо цену деньгам, не упрекает его за эту черту, которую мы подметили уже в характере жениха Грациано, созданного несколькими годами раньше.
Истинной поэзией дышит только одна коротенькая сцена в последнем действии, где появляются феи. Шекспир отдыхал здесь от той прозы, до которой его унизил навязанный извне сюжет. Вы слышите в этой сцене запах смолистого лесного воздуха, вьющегося ночной порой над большим виндзорским парком. Вообще, самое драгоценное в «Виндзорских проказницах», — это крепкий аромат английской почвы, которым пропитана вся пьеса. Если она производит впечатление, несмотря на свои недостатки, естественные в произведении, написанном на заказ, то именно благодаря тому, что поэт остался, сверх обыкновения, в пределах своей родины и в рамках своего столетия. Вот почему он дал нам такое яркое представление о жизни тогдашнего третьего сословия, отличавшегося здоровьем, честностью и деятельной энергией, которых не могли затушевать никакие балаганные шутки.
Глава 24
«Остроумный» период в жизни Шекспира. — Новый женский тип. — Остроумные молодые аристократки. — «Много шума из ничего». — Рабская зависимость от сюжета. — Бенедикт и Беатриче. — Духовное развитие. — Грубо-комические фигуры
Шекспир вступает теперь в тот период своего существования, когда он остроумен до мозга костей, остроумен, как никогда до тех пор. В эти годы его жизнь словно озарена солнечным светом. То, наверно, не были годы борьбы, равным образом и не годы печали; в его существовании как будто настало затишье; его корабль, носясь по бурным волнам житейского моря, словно попал в спокойный пояс, и поэт на короткое время мог отдаться меланхолически-счастливому наслаждению своим гением, мог упиться сознанием своей гениальности. Он слышал, как пели соловьи в его священной роще. Все его существо оделось цветами.
В республиканском календаре был месяц флореаль. Такой месяц цветения бывает обыкновенно в каждой человеческой жизни. Этот период floreal Шекспира.
Он, наверно, был в это время влюблен — как и вообще в продолжение всей своей жизни — но не той страстной влюбленностью, которая захватила Ромео, и не с тем полуотчаянным сознанием, что любимый предмет недостоин любви, которое он изображает в своих сонетах, но и не с той легкой экзальтацией в юношеских грезах, какую представляет «Сон в летнюю ночь». Нет! Счастливо влюблен влюбленностью, наполнявшей и сердце его, и голову, и бывшей радостным восхищением перед умом и смелостью возлюбленной, знатной и уверенной дамы, у которой кокетство — веселое, сердце — превосходное, а голова — такая светлая, что она положительно само остроумие в образе женщины.
В годы своей ранней молодости он вывел в своих комедиях немало женщин сварливых, мужеподобных, а в своих серьезных драмах немало женщин властолюбивых, кровожадных или испорченных — фигуры, как Адриана и строптивая Катарина с одной стороны, и как Тамора и Маргарита Анжуйская с другой, которые все отличаются упорной волей и известной необузданностью в поступках. Позднее, в несколько более пожилые годы, он с особенным предпочтением будет рисовать молодых женщин, которые вся душа, вся нежность, тихие и скромные натуры без гения и остроумия, как, например, Офелия, Дездемона, Корделия. Между этими двумя типами, резко отделяющимися друг от друга, стоит группа прекрасных молодых женщин, которые могут сильно любить, но которые особенно замечательны тем, что положительно блещут гениальностью. Они нередко прелестны, как самая верная подруга, и остроумны, как сам Генрих Гейне, хотя их остроумие и иного свойства. Чувствуется, что Шекспир всем своим сердцем и со всем восторгом, какой должен внушать громадному уму другой громадный ум, восхищался их моделями. И эти типы брызжущей умом аристократической женственности никак не могли быть списаны с плебейских моделей.
В первые годы своей лондонской жизни Шекспир как незначительный член театральной труппы не имел случая познакомиться с иного сорта женщинами, кроме тех, которые были оригиналами его миссис Куикли и Долли Тиршит, страстными и бойкими, делавшими первый шаг к сближению с актерами и поэтами, и, наконец, прототипами виндзорских проказниц с их мещанским здравым смыслом и несколько тяжеловесной веселостью. Но жены и дочери простых английских граждан не предоставляли поэту, когда он ближе узнавал их, никакой умственной пищи. Обыкновенно они не умели ни читать, ни писать. Как известно, младшая дочь Шекспира не умела даже подписать своего имени.
Но затем такие лица, как Саутгемптон и Пемброк, оценили поэта, благосклонно приняли его в свой утонченный, в высшей степени просвещенный кружок и, по всей вероятности, Шекспир был представлен дамам этих знатных фамилий. Очевидно, разговорный тон этих аристократок восхитил его, их самоуверенность и изящество очаровали его, их свободная речь сделалась для него источником наслаждения и предметом подражания и идеализации.
В это время женщины высшего общества обладали большими познаниями, получали такое же образование, как мужчины, бегло говорили по-итальянски, по-французски и по-испански, нередко знали латинский и греческий языки. Леди Пемброк, сестра Сиднея, мать покровителя Шекспира, считалась самой развитой женщиной своей эпохи, была столь же знаменита, как писательница и покровительница писателей. И эти женщины не были педантичны или натянуты в способе выражения, они оставались естественными, обнаруживая одинаковое богатство как счастливых мыслей, так и научных сведений, оставались свободными в своем остроумии, как зачастую и в своих нравах, и поэтому легко понять, что в течение целого ряда лет бойкий, аристократический женский ум является предметом, который Шекспир изображает с особенной любовью. Он присоединяет к этому умственному превосходству стремление к независимости, сердечную доброту, гордость, смирение, жизнерадостность, преданность в различной мере, так что из этого сочетания развертывается наподобие веера полукруг разнообразных типов.
О таких-то женщинах мечтал он, когда создавал свою Розалину в «Бесплодных усилиях любви». Теперь он короче узнал их и доказал это уже на своей Порции в «Венецианском купце», первой из их семьи.
Они не встречаются в исторических пьесах, не встречаются даже в комедиях, вмещающих в себе столько серьезного содержания, как комедия о Шейлоке. Достигши 35-летнего возраста, осыпанный милостями судьбы, Шекспир счастлив теперь, несмотря на свою затаенную грусть; солнце его жизни стоит в знаке Льва; он чувствует себя достаточно могучим, чтобы играть с силами жизни, и он пишет теперь одни только комедии. Он их не придумывает, не заботится об этом; он употребляет свой старый метод, выкраивает пьесу из какой-нибудь посредственной, причудливой новеллы; он переделывает старые плохие театральные пьесы и обыкновенно поступает при этом так: он сохраняет без дальних рассуждений фантастические, невероятные, мало того, даже отталкивающие более тонко образованных людей черты фабулы; этому он всегда придает изумительно мало значения; порой он заимствует слишком много из данного материала, не сообразуясь с психологической вероятностью; но он намечает какой-либо один из главных пунктов в новелле или какой-либо один характер в первоначальной пьесе, и этот пункт, этот характер или такие характеры, которые данная ситуация дает ему повод прибавить из собственной фантазии, он зажигает всем огнем своей души, так что реплики пламенеют как бы огненными письменами и мечут искры остроумия или страсти.
Таким образом в комедии «Много шума из ничего» он сохраняет фабулу, представляющую почти непреодолимые трудности для удовлетворительной поэтической обработки и, тем не менее, отчасти независимо от нее, создает перворазрядное поэтическое произведение.
Эта пьеса была занесена в книгопродавческие каталоги 4 августа 1600 г. и вышла в том же году под заглавием «Пьеса „Много шума из ничего“ в том виде, в каком она была много раз публично играна слугами лорда-камергера. Сочинена В. Шекспиром». Следовательно, она должна была быть написана в 1599–1600 гг. Кроме того, в начале ее есть намеки, подходящие к этим годам. Так, надо думать, что и реплика Леонато в первой сцене: «Победа — двойная победа, когда все возвращаются домой» и в том же месте реплика Беатриче: «Вероятно, у вас были залежные припасы» — обе относятся к походу Эссекса в Ирландию.
Шекспир взял частности фабулы из различных итальянских источников. По пятой книге «Неистового Роланда» Ариосто (история о Ариоданте и Дженевре), переведенной в 1591 г. и помимо этого уже прежде послужившей для одной пьесы, поставленной в 1582 г. для королевы, он взял тот мотив, что злонамеренный дворянин предупреждает одного знатного юношу о том, что дама его сердца изменила ему, заставляет ее служанку переодеться в ее платье и принять ночного посетителя, поднимающегося по лестнице, приставленной к окну ее госпожи, для того чтобы жених, присутствующий в некотором отдалении при этой сцене, мог получить мнимое доказательство справедливости клеветы, благодаря которой свадьба расстраивается. Из новеллы Банделло «История Тимбрео из Кардоны» он взял все другие подробности. Тимбрео — это Клавдио; через своего уполномоченного он сватается за дочь мессинского дворянина Леонато. Интрига, разлучающая молодую парочку, пускается здесь в ход неким Джировдо (у Шекспира доном Хуаном) точь-в-точь, как и в пьесе, но имеет более веский мотив, а именно, что Джировдо сам влюблен в молодую девушку. Когда ее обвиняют, она падает в обморок, ее объявляют умершей и, как и в пьесе, устраивают фиктивные похороны. Только здесь встречается обстоятельство, не понадобившееся Шекспиру: все общество в Мессине заступается за невинность невесты, тогда как в пьесе лишь одна Беатриче остается верна своей молодой родственнице. Истина, наконец, открывается, и брак заключается вновь, совершенно так же, как в пьесе.
Это действие может дать мотив для комедии лишь при господстве гораздо более грубых взглядов, сравнительно со взглядами лучших и более тонко организованных людей нашей эпохи. Само заглавие указывает точку зрения, совершенно чуждую нам по своей грубой наивности. Оно говорит, что, так как Геро была невинна и, следовательно, взведенное на нее обвинение было вздорной болтовней, так как она и не думала умирать, и скорбь о ее кончине была, следовательно, неуместна, так как, наконец, она и Клавдио напоследок соединяются, — что они могли бы сделать сразу, — то все происшедшее было не более как большой тревогой из ничего и должно окончиться полной гармонией, не оставляющей за собой диссонанса.
У современного читателя другой слух. Он хорошо видит, что Шекспир немало потрудился для того, чтобы сделать эту фабулу драматически интересной. Он принимает в соображение, что здесь, в лице бастарда, поэт снова изобразил воплощение чистой злобы и не счел возможным мотивировать единичный низкий поступок каким-либо единичным нанесенным дону Хуану оскорблением или отвергнутой склонностью. Дон Хуан — это угрюмая, завистливая натура, высасывающая яд из всех обстоятельств, потому что он постоянно чувствует себя обойденным и пренебреженным. В данную минуту его связывает милость, оказанная ему его победоносным братом, но — «Дай мне волю, — говорит он, — я буду кусаться». И он кусается, как настоящий мошенник и трус, и спасается бегством, когда его подлость выводится на чистую воду. Он — вечно недовольный, низкий, скучный негодяй, и хотя он честно и искренно делает зло ради зла, ему недостает всех тех светящихся мятежным и зловещим блеском свойств, которые позднее проявляются у Яго и у Эдмунда в «Лире». Отталкивающая гнусность дона Хуана немного может вызвать возражений, разве только то, что она является странным двигателем действия в комедии. Но помириться с Клавдио невозможно. Самая неуклюжая выдумка оказывается достаточна, чтобы убедить его в том, что его невеста, которая сама непорочность и нежна, как цветок, — изменница, накануне свадьбы обманывающая его с другим. Затем, вместо того, чтобы молча удалиться, он, как сущий болван, предпочитает опозорить ее в церкви, перед алтарем, в присутствии всех осыпая ее грубыми словами и низкими обвинениями, и заставляет своего покровителя, старого принца дона Педро, мало того, родного отца девушки, Леонато, присоединиться к нему и совсем уничтожить несчастную невесту своими идиотскими подозрениями. Затем, когда ее родственники, по совету монаха, объявили ее умершей, и старый честный Леонато невыносимым для читателя образом протрубил всем уши лживой вестью о ее злополучной кончине, Клавдио, слишком поздно узнающий об обмане, тотчас же вновь попадает в милость к отцу невесты. Леонато — по средневековой фабуле — требует от него только, чтобы он изъявил согласие жениться на любой девушке, какую он сам назначит ему. Он обещает это, ни одним словом, ни одним помыслом не вспоминая о Геро, и вдруг к нему подводят ее, и она склоняется к нему на грудь. Прежние зрители, наверно, находили эту развязку удовлетворительной; зритель же современный возмущается вроде того, как возмущается Нора в пьесе Ибсена, когда видит, что Гельмер, по миновании опасности, считает все происшедшее в их душах как будто вовсе не происходившим в действительности, и это потому только, что небо прояснилось. Если кто-либо недостоин руки Геро, так это Клавдио. Если какой-либо брак неприличен и не сулит ничего хорошего, так это его брак с ней. Выдумка старинной новеллы даже для искусства Шекспира оказалась чересчур неуклюжей.
Между тем мысли современного человека обращаются ведь совсем не к этому действию, когда он вспоминает пьесу «Много шума из ничего», а к молодой парочке, Бенедикту и Беатриче, и к интриге, в которую они вплетены. Блеск, изливающийся от их образов, особенно от образа Беатриче, — вот что светится над пьесой, и мы понимаем, что Шекспир был вынужден сделать Клавдио таким дрянным, потому что лишь благодаря этому очаровательная личность Беатриче могла предстать в полном освещении.
Беатриче — знатная дама Ренессанса, представленная еще молодой девушкой, с избытком жизненной силы и вследствие этого с льющейся через край веселостью, бойкая и неустрашимая в своей неприступной девственности, задорная и вызывающая в своем богатстве смелых острот, прямая, откровенная в речах, по временам доходящих до пределов крайней неблагопристойности с точки зрения современных понятий, потому что, как многие высокопоставленные дамы той эпохи, она получила воспитание, допускавшее вольный язык. По отношению к Бенедикту, которого ей постоянно хочется дразнить и поднимать на смех, она является столь же неукротимой и непобедимой, как сама Катарина в комедии «Укрощение строптивой» по отношению к своему Петруччио.
Ее дикция — нечто чудесное: так и искрится она шаловливой фантазией. Беатриче говорит, например, своему дяде (II, 1), что каждое утро на коленях молит Всевышнего не посылать ей мужа, и объясняет, что муж с бородой для нее был бы невыносим, она уж лучше согласилась бы положить голову на мешок с шерстью, а безбородому мужу она не подходит:
Беатриче. Нет, лучше наймусь за шесть пенсов к какому-нибудь бородатому вожаку медведей отводить его обезьян в преисподнюю.
Леонато. Прекрасно; так ты охотнее пойдешь в ад?
Беатриче. Нет, только до входа; там встретит меня старый рогоносец Сатана и скажет: «Идите на небеса, Беатриче, идите на небеса; здесь для вас, дев, нет места». Тогда я вручу ему обезьян, а сама на небо, к святому Петру, и святой Петр укажет мне, где сидят холостяки, — и заживем мы припеваючи.
Она знает, что сватовство, женитьба и раскаяние похожи на шотландский джиг, менуэт и Cinqpas. Сватовство горячо и бурно, как джиг, женитьба чинно-церемонна, как прадедовский менуэт, а потом является раскаяние, павшее на ноги, и спотыкается в Cinqpas все чаще и чаще, пока, наконец, не упадет в могилу.
Поэтому она и восклицает с лукавой иронией (II, 1):
Господи, опять свадьба! Все выходят замуж, только я, чернушка, не выхожу; приходится сесть в угол и кричать: будьте жалостливы! мужа! мужа! мужа!
В своих словопрениях с Бенедиктом она затмевает его шуточными и характерными остротами. Очевидно, Шекспир еще раз взял себе здесь в образец Лилли и попытался позаимствовать у него шлифовку и грань в репликах, устранив то, что в них было неестественного, и придав им новую жизнь. И Беатриче продолжает свою победу над Бенедиктом в каждой фразе, с которой обращается к другим лицам, доходя при этом до вольностей, в наши дни немыслимых в устах молодой девушки:
Дон Педро. Он пал перед вами, совершенно пал.
Беатриче. Хорошо, что не я перед ним, дураков и без того много родится.
Но эта неудержимая веселость прикрывает самую энергическую добродетель, свойственную твердому и благородному характеру. Когда ее бедную кузину лживо обвиняют и так позорно уничижают, когда те лица, которые должны бы быть ее естественными защитниками, отпадают от нее, и даже непричастные делу, как Бенедикт, колеблются и склоняются на сторону обвинителей, одна только Беатриче, не поддавшись ни на мгновение клевете, со страстью и негодованием заступается за невинную жертву, выказывает себя неизменно верной, великодушной, справедливой, проницательной, превосходящей всех своим умом жемчужиной среди женщин.
Лицом к лицу с нею Шекспир поставил Бенедикта, Меркуцио redivivus: юношу, без малейшей тени влюбчивости, лицом к лицу с девушкой, без малейшей тени приторной чувствительности. Он отнюдь не менее ее страшится помолвки и свадьбы, и так же щедр на насмешки, с мужской точки зрения, над всякого рода сентиментальностью, как и она, с женской точки зрения. Притом они на ножах между собою. В силу глубокого и замечательно верного психологического наблюдения Шекспир заставляет их затем почти разом увлечься друг другом, без ума влюбиться друг в друга, и это благодаря лишь тому простому средству, что их друзья внушают Бенедикту, будто Беатриче сгорает тайной любовью к нему, а Беатриче тоже заставляют вообразить, будто Бенедикт смертельно влюблен в нее, и при этом расточают похвалы им обоим.
Они и раньше были заняты друг другом, теперь же эротическая фантазия вспыхивает у них обоих, и пламя ее еще сильнее разрастается вследствие того, что она так долго лежала под пеплом. И здесь, в этой области, где Шекспир все сам изобрел и мог действовать с полной свободой, он весьма тонко заставил молодую парочку соединиться не при помощи пустых слов, а в общем деле, так как первый шаг к сближению со стороны Беатриче происходит в то время, когда она требует от Бенедикта рыцарского заступничества за свою невинную кузину.
Эта перемена во взаимных отношениях Бенедикта и Беатриче крайне интересна еще по той причине, что это, пожалуй, первое более или менее законченное развитие характера, какое мы встречаем в пьесах Шекспира. В прежних его комедиях не было ничего подобного, а драмы-хроники не давали повода к превращению характеров. Действующие лица и данные историей события должны были быть приведены во взаимное соответствие, и Шекспир строго сохранял характер в том виде, в каком он был построен первоначально. Ни «Ричард III», ни «Генрих V» не рассказывают нам истории своей души; оба короля в драмах, озаглавленных их именами, остаются все те же с первой и до последней реплики. О перемене Генриха по отношению к Фальстафу в более ранней драме говорено уже достаточно; можно только еще заметить, что путь здесь, без всякого сомнения, был уже предначертан Шекспиру в старой пьесе. Но происходящее в занимающей нас комедии таяние всего жесткого и оцепенелого в натурах Бенедикта и Беатриче не имеет себе параллели ни в одной из более ранних работ и, очевидно, проведено con amore. Да и действительно, не фабула, давшая заглавие пьесе, составляет ее истинное главное содержание, а отношения между этими двумя свободно вымышленными Шекспиром характерами.
Еще несколько личностей прибавил Шекспир от себя, и они принадлежат к превосходнейшим среди его представителей низкого комизма: это полицейский констебль Клюква и его подчиненные. Клюква— провинциальный полицейский, наивный, как дитя, и тщеславный, как павлин, смирный донельзя, боязливый, честный, добродушно-глупый. В доказательство того, что такого рода полицейские были в те дни немногим менее невинны в действительности, чем в комедии, Генрих Шюк приводит письмо первого министра Елизаветы, лорда Борлея, в котором он рассказывает, как в 1586 г по пути из Лондона он встречал у каждых городских ворот в стране по десяти, двенадцати человек, вооруженных палками, расспросив их, он узнавал, что они стоят здесь, чтобы арестовать троих молодых людей, у которых окажутся известные им приметы. На вопрос, какие это приметы, он получил ответ, что у одного из преступников должен быть кривой нос. «И никаких других примет у вас нет?» — «Нет», отвечали они. При этом они везде стояли отдельной группой, на виду у всех, так что всякая подозреваемая личность стала бы их остерегаться. Клюква еще менее опасен, чем эти агенты полиции; он, дающий сторожам такое умное и осторожное наставление:
Клюква. В случае, нападете на вора — можете, в силу вашего звания, подозревать его в мошенничестве. С такого рода людьми чем меньше связываться, тем лучше для нравственности.
Второй сторож. Так воров не хватать?
Клюква. Можете и хватать, в силу вашего звания; только я вам скажу: тронешь грязь — сам запачкаешься, а благоприличнее всего, если поймаете вора, пусть сам покажет, что он за птица: дайте ему улизнуть.
Глава 25
Самый светлый период в жизни Шекспира. — «Как вам угодно». — Страсть к скитаниям. — Тоска по природе. — Жак и Шекспир. — Пьеса как праздник остроумия
Никогда Шекспир не творил так быстро и легко, как в этот светлый, счастливый период двух-трех лет. Просто изумительно, какую массу работы он выполнил в 1600 г., когда он достиг не апогея своей поэтической силы, ибо она постоянно находится у него на одинаковом уровне, но вершины своей поэтической предприимчивости. Среди изящных комедий, которые он пишет теперь, «Как вам угодно» — одна из самых изящных.
Эта пьеса была занесена в каталог книгопродавцев 4 августа 1600 г., в один день с комедией «Много шума из ничего», и, по всей вероятности, была написана в 1600 г., ибо Мирес не включил ее в свой список шекспировских пьес 1598 г.; в ней встречается (как мы уже указывали) цитата из вышедшей в свет в 1598 г. поэмы Марло «Геро и Леандр»:
Любил ли тот, кто не с первого взгляда влюблялся? —цитата, заметим в скобках, выражающая именно то, о чем трактует пьеса, и затем, в словах Целии (I, 2): «С тех пор, как ту капельку ума, которую имеют дураки, заставили молчать…» есть намек на произведенное судебным порядком в июне месяце 1599 г. публичное сожжение сатирических книг. Так как в 1599 г. не могло, по-видимому, оставаться места для каких-либо еще работ Шекспира, кроме тех, которые мы уже отнесли к нему, то комедия «Как вам угодно» должна была, следовательно, возникнуть в первой половине следующего года.
Шекспир взял, по своему обыкновению, весь сюжет этой очаровательной пьесы у другого поэта. Его современник Томас Лодж (сделавшийся после пребывания в Оксфорде сначала актером и драматургом в Лондоне, потом врачом и писателем по вопросам медицинской науки и умерший в 1625 г. от чумы) издал в 1590 г. пастушеский роман с множеством вставленных в него стихотворений, под заглавием «Золотое наследие Эвфуэса, найденное по его смерти в его келье в Силекседре», написанный во время путешествия его на Канарские острова, чтобы убить время, пока бушевала буря и волны качали корабль. Стиль романа вялый и крайне растянутый, настоящий пасторальный стиль, но Лодж обладал талантом внешней изобретательности, которого, при всех своих великих дарованиях, до такой степени был лишен Шекспир.
Все события, упоминаемые или заключающиеся в пьесе, уже встречаются у Лоджа, и равным образом все действующие лица, за исключением только Жака, шута Оселка и поселянки Одри. Внимательного читателя должна постоянно поражать пассивность поэта по отношению к данным источникам и к заимствованному из них без особенной разборчивости материалу, пассивность, соединяющаяся у Шекспира с самой энергичной умственной деятельностью в тех пунктах, куда он вкладывает свой талант.
В комедии «Как вам угодно» есть, по примеру Лоджа, злой герцог, изгнавший своего доброго брата, законного правителя страны. Последний укрылся со своими приближенными в Арденнском лесу, где они живут так же свободно, как Робин Гуд и его молодцы, и где впоследствии их отыскивают обворожительная дочь доброго герцога, Розалинда, и ее кузина Целия, дочь узурпатора, не допускающая мысли, чтобы ее изгнанная подруга отправилась бродить по свету одна. В кругу вельмож, стоящем ступенью ниже княжеского, есть еще злой брат Оливер, злоумышляющий на жизнь своего доброго брата. Этот младший брат, Орландо — герой, столь же скромный и привлекательный, как и храбрый; он и Розалинда с первого взгляда полюбили друг друга, и на пространстве всей пьесы она мистифицирует его в мужском костюме, оставаясь неузнанной. Для пьесы было бы выгоднее играть ее так, как будто Орландо до некоторой степени догадывается, кто она. Под конец все приходит к благополучной развязке. Злой герцог, раскаявшись, удаляется в монастырь; злой брат сразу (что совершенно нелепо) обращается на истинный путь, когда Орландо, которого он преследует, убивает льва — лев в Арденнах! — угрожающего его жизни, пока он спит. И злодей в награду за свою злобу или за свое обращение получает (не менее нелепо) руку прелестной Целии.
Все это пока безразлично; то есть, для Шекспира это, очевидно, не имело значения, ибо это не попытка воссоздать действительность; это не что иное, как праздник прихоти и остроумия, душевно возбужденного и вибрирующего в чувствах.
Это, прежде всего другого, означает стремление Шекспира, этого великого человека, уйти прочь от неестественной городской жизни, прочь от неправдивых, деловитых, корыстолюбивых, неблагодарных горожан, прочь от лести, фальши и обмана, уйти в деревню, где еще уцелели простые нравы, где легче осуществить свою мечту о полной свободе, и где лес издает такой славный аромат. Там журчание ручейков звучит более сладким красноречием, чем красноречие, практикуемое в городах; там деревья, даже сами камни больше говорят сердцу путника, чем дома и улицы столицы; «там есть нечто хорошее во всем».
В его душе вновь пробудилась любовь к свободным странствованиям, эта любовь, заставлявшая его когда-то бродить с ружьем по земле помещика и манившая его на лоно природы; но в более далекой, более богатой природе, чем известная ему, видит он в своих грезах совместную жизнь самых лучших и умнейших мужчин, самых прекрасных и утонченных молодых женщин в идеально-фантастической обстановке, куда не доходят докучный шум общественной жизни и тяжкие заботы жизни трудовой. Жизнь, проводимая в охоте, в пении, в веселых пирах под открытым небом и в остроумных беседах, и в то же время полная до краев восторженным счастьем любви. И он населяет фантастический Арденнский лес этой жизнью, которую создают его бродяжническое настроение, его стремление шутить и забавляться и его тоска по природе.
Он не довольствуется этим. Он переживает свой сон с начала до конца и чувствует, что даже такая идеальная, никакими правилами не стесненная жизнь не могла бы доставить удовлетворения тому, что образует самое заветное ядро в нем самом, тому причудливому чудаку, живущему в глубине его существа, имеющему дар делаться грустным и сатирическим по поводу всего на свете. И он создает образ Жака из ребра, вынутого из своих собственных недр, вводит этот образ, которого роман не знал, в свою пастораль, и заставляет его проходить по ней одинокого, поглощенного самим собой, угрюмого и нелюдимого вследствие чрезмерной нежности души, мизантропа в силу своего чувствительного и богатого фантазией темперамента.
Жак представляет как бы первый гениальный и легкий карандашный эскиз Гамлета. Тэн и другие после него хотели провести параллель между Жаком и Альцестом Мольера, без всякого сомнения, тем из его персонажей, в которого Мольер вложил наибольшую долю своей души. Но здесь нет никакой действительной параллели. У Жака все переливается в красках фантазии и остроумия, у Альцеста все — горькая серьезность. Альцест нелюдим от негодования. Ему противна окружающая его фальшь, он возмущается тем, что плут, с которым он ведет процесс, везде хорошо принят и всюду легко находит себе доступ, хотя и всеми презираем. Он не хочет быть в дурном обществе, не хочет даже оставаться в сердце своих друзей; поэтому он и расстается с ними. Он питает отвращение к двум классам людей:
К злым и негодным людям, И к тем, которые с ними любезны.Это старое изречение Тимона Афинского: «Я ненавижу злых и ненавижу прочих за то, что они не чувствуют отвращения к злым». А потому только с написанным много лет позднее «Тимоном» Шекспира и можно сопоставлять Альцеста, в виде пояснительного контраста.
Преобладающая черта в характере Альцеста — резкая рассудочная логика, его характер — классически французский, чистая гордость без всяких прикрас, любовь к правде без сентиментальности и без грусти. Меланхолия Жака поэтическая мечтательность. Еще не видав его, мы слышим, как о нем говорят в пьесе (II, 1). Добрый герцог только что благословлял превратность судьбы, выгнавшую его в зеленый лес, где ему не грозят никакие опасности завистливого двора, и собирается как раз отправиться на охоту, как вдруг мы узнаем, что меланхолический Жак сокрушается об этом и по этому поводу называет герцога таким же тираном, как и те, которые изгнали его из его владений. Придворные нашли его сидящим у подножия дуба и чуть не плачущим от жалости к бедному раненому оленю, стоящему поблизости у ручья и стонущему так, «что кожаный покров его костей растягивался страшно, точно лопнуть сбирался он», между тем как крупные, круглые слезы печально текли по его бедной мордочке. Жак придумал целый ряд различных уподоблений его участи, и между прочим следующее:
…При мысли, что оленя Оставили лохматые друзья, Что он один, беспомощный, скитался Жак говорил: «Да, это как всегда: Товарищей несчастье прогоняет». Вдруг несколько оленей перед ним Промчалися — и веселы, и сыты И ни один привета не послал Несчастному. — «Ну, да, бегите мимо, Воскликнул Жак, — бегите поскорей! Вы, сытые, зажиточные люди! Таков уж свет! Ну, стоит ли смотреть На жалкого, несчастного банкрота!»Его горечь имеет своим источником слишком нежную чувствительность, чувствительность, которую до него выказал Будда, включивший в свою религию гуманное отношение к животным, и после него Шелли, ощущавший в своем пантеизме родство между душой животного и своей.
Таким образом, мы уже подготовлены к появлению Жака. Он выступает в герцогском кружке и начинает с прославления шутовской профессии. Он встретил в лесу придворного шута Оселка и в экстазе от этой встречи. Пестрый шут лежал и грелся на солнце, и когда Жак приветствовал его словами: «Здорово, шут!», тот отвечал: «Нет уж, сударь! Не называйте вы меня шутом, пока небо не послало мне счастья». Потом этот умный шут вытащил часы из кармана, изрек мудрые слова: «Десятый час!» и вслед затем прибавил:
Здесь видим мы, как двигается мир: Всего лишь час назад был час девятый, А час пройдет — одиннадцать пробьет. И так-то вот мы с каждым часом зреем И так-то вот гнием мы каждый час И тут конец всей сказочке.С энтузиазмом восклицает Жак:
О славный шут! О превосходный шут! Нет ничего прекрасней пестрой куртки!В минуты грустно-юмористические Шекспиру, вероятно, приходило в голову, что он сам как будто один из тех шутов, которым перед великими и сильными мира сего на сцене разрешалось говорить правду, лишь бы только они высказывали ее не прямо, а под маской фиглярства. В подобном же настроении несколькими веками позже обратился Генрих Гейне к немецкому народу с этими словами: «Я твой Кунц фон-дер-Розен, твой шут».
Поэтому Шекспир и заставляет своего Жака воскликнуть;
О, когда бы Мне стать шутом! В ливрее пестрой я Свое все честолюбье заключаю.И когда герцог отвечает: «И ты ее получишь», он объясняет, что это единственная вещь, которую он для себя желает; другие должны будут тогда изгнать из своей головы фантазию, будто он умен. Затем он говорит:
Свободу вы должны Мне дать во всем, чтоб я, как вольный ветер, Мог дуть на все, на что я захочу. Попробуйте напялить на меня Костюм шута, позвольте мне свободно Все говорить, и я ручаюсь вам, Что вычищу совсем желудок грязный Испорченного мира, лишь бы он С терпением глотал мое лекарство.Здесь мы чувствуем настроение самого Шекспира. Голос этот принадлежит ему. Эти слова слишком велики для Жака, служащего здесь лишь рупором своему творцу. Или же можно сказать: в таких местах, как это, контуры его расширяются, и просвечивает Гамлет avant la lettre.
Когда герцог, в ответ на эту вспышку, отрицает за Жаком право исправлять и бичевать других, так как сам он был изрядный повеса, «чувственный, как животный инстинкт», то поэт, очевидно, себя самого защищает в реплике, которую вкладывает в уста своему молодому меланхолику:
Как, разве человек, Тщеславие бранящий, этим самым И личности отдельные бранит? Тщеславие обширно ведь, как море, И волны так вздымает высоко, Что, наконец, не может удержаться И падает. Когда я говорю, Что многие из наших горожанок Несметные сокровища несут На недостойном теле — разве этим На личность я указываю? Где Та женщина, которая мне скажет, Что именно о ней я говорил?Это положительно предвосхищает самозащиту Гольберга в лице Филемона в «Счастливом кораблекрушении»; поэт, очевидно, опровергает общий предрассудок против его профессии. И подобно тому, как он пользуется Жаком в качестве поборника свободы, которой должна требовать поэзия, точно так же он делает его защитником непризнанного актерского сословия, вкладывая ему в уста грандиозную реплику о семи человеческих возрастах, реплику, которая по ассоциации с надписью, помещенной на театре «Глобус» под Геркулесом с земным шаром в руке — Totus Mundus agit histrionem (весь мир играет комедии), открывается следующими словами:
Мир — театр, В нем женщины, мужчины, все — актеры. У каждого есть вход и выход свой, И человек один и тот же роли Различные играет в пьесе…Говорят, что Бен Джонсон в эпиграмме на надпись театра «Глобус» заметил, что если все только актеры, то каким же образом находятся зрители игры? Шекспиру приписывают эпиграмму с простым ответом, что все люди — и актеры, и зрители в одно и то же время. Перспектива жизни человека, открывающаяся взорам Жака, изложена изумительно метко и кратко:
Сначала он ребенок, Плюющий и ревущий на руках У нянюшки, затем — плаксивый школьник, С блистающим, как утро дня, лицом И с сумочкой, ползущий неохотно Улиткою в свой пансион; затем Любовник он, вздыхающий, как печка, Тоскливою балладой в честь бровей Возлюбленной своей; затем он — воин, Обросший бородой, как леопард, Исполненный ругательствами, честью Ревниво дорожащий, быстро в спор Вступающий, и за парами славы Готовый взлезть хоть в самое жерло Орудия; затем — судья с почтенным Животиком, в котором каплуна Отличного он спрятал, с строгим взором, С остриженной красиво бородой, Исполненный мудрейших изречений И аксиом новейших — роль свою Играет он. В шестом из этих действий Является он нам паяцем тощим, С очками на носу и с сумкой сбоку. Штаны его, что юношей еще Себе он сшил, отлично сохранились, Но широки безмерно для его Иссохших ног, а мужественный голос, Сменившийся ребяческим дискантом, Свист издает пронзительно-фальшивый; Последний акт, кончающий собой Столь полную и сложную исторью, Есть новое младенчество — пора Беззубая, безглазая, без вкуса, Без памяти малейшей, без всего.Тот же Жак, составивший себе такой величественный взгляд на человеческую жизнь, в обыкновенное время, как мы уже упоминали, мизантроп вследствие нервности и брюзгливо остроумен. Ему претит учтивость, он ищет уединения, собеседнику говорит на прощание:
Благодарю вас за компанию, но сказать правду, мне точно так же было бы приятно остаться одному.
Но когда он под конец уходит в покинутую пещеру, то слишком серьезного значения это не имеет. Его меланхолия — меланхолия комического пошиба, его негодование на людей есть лишь потребность юмориста дать волю своим сатирическим фантазиям.
И затем, как мы уже указывали, в этом Жаке есть все же лишь известное зерно природы Шекспира, Шекспира в будущем, Гамлета в зародыше, но не того Шекспира, который купается теперь в солнечных лучах и живет среди непрерывных успехов, окруженный возрастающей популярностью и поддерживаемый энтузиазмом и доброжелательством лучших людей. Этого Шекспира следует искать во вставленных в пьесу песнях, в остротах шута, в томлении влюбленных, в увлекательном диалоге молодых девушек. Подобно Богу он всюду и нигде.
Когда Целия говорит: «Сядем и насмешками сгоним матушку-фортуну с ее колеса для того, чтобы вперед она раздавала свои дары поровну», то этим, словно камертоном, дается тон, в котором здесь играют, открывается шлюз для потока веселого остроумия, разукрашенного всеми радугами фантазии, который с этой минуты начнет, пенясь, подниматься и падать.
Без шута дело не обходится, ибо глупость шута — точильный камень остроумия, а остроумие шута — пробный камень характеров. Отсюда его имя Оселок.
Здесь не забыто, каков свет в действительности, не забыто, что лучшие люди приобретают себе врагов в силу лишь своих преимуществ, и несколько печально звучат слова старого слуги Адама (роль, игранная, по преданию, самим Шекспиром), с которыми он обращается к своему господину, молодому Орландо (II, 3):
…Опередила здесь Вас чересчур поспешно ваша слава. Есть род людей — известно это вам Которые в своих душевных свойствах Себе врагов находят; из таких Людей и вы. Достоинства все ваши. Мой господин, по отношенью к вам Изменники чистейшие, святые. О, что за свет, в котором красота Душевная тому отравой служит, Кто ею наделен!Но вскоре глазам открывается более утешительная житейская философия, связанная с нескрываемым пренебрежением к школьной философии. Как будто насмешливый намек на одну книгу того времени, переполненную пошлыми изречениями знаменитых философов, слышится в словах Оселка к Вильяму (V, 1):
Когда языческий философ ощущал желание съесть виноградную кисть, он раскрывал губы в ту минуту, как подносил виноград ко рту; этим он хотел сказать, что виноград создан для того, чтобы его ели, а губы для того, чтобы раскрываться, –
но в них, наверно, есть и некоторый недостаток почтения к самой этой унаследованной и знаменитой мудрости. Относительность всех вещей, в то время новая идея, с самоуверенным юмором возвещается шутом в ответе на вопрос, как ему нравится эта пастушеская жизнь (III, 2):
Сказать тебе правду, пастух: рассматриваемая сама по себе, она хорошая жизнь; но, рассматриваемая как жизнь пастуха, она ровно ничего не стоит. По своей уединенности она мне очень нравится, но по своей отчужденности она мне кажется самой паскудной жизнью. Как жизнь сельская она мне очень по сердцу; но принимая во внимание, что она проходит вдали от двора, я нахожу ее очень скучной. Как жизнь воздержная, она, видите ли, вполне соответствует моим наклонностям, но как жизнь, лишенная изобилия, она совершенно противоречит моему желудку. Пастух, ты знаешь какой-нибудь толк в философии?
Ответ пастуха прямо подшучивает над философией, в одном стиле с шуткой Мольера, когда он заставляет объяснять наркотическое действие опиума тем, что в опиуме есть известная «снотворная сила».
Пастух. Знаю лишь настолько, чтобы понимать, что чем сильнее человек нездоров, тем он больнее; что тот, у кого нет денег, средств и достатка, не имеет трех хороших друзей; что дождь мочит, а огонь сжигает; что от жирных пастбищ овцы жиреют; что важнейшая причина ночи есть отсутствие солнца…
Оселок. Это совершенно натуральная философия.
Этот род философии образует как бы введение к восхитительной шаловливости и божественной роскоши фантазии у Розалинды.
Кузины Розалинда и Целия кажутся на первый взгляд вариантами двух кузин Беатриче и Геро в только что разобранной нами пьесе. В особенности Розалинда и Беатриче родственны между собой по своему победоносному остроумию. Ивсе же разница между ними весьма велика; Шекспир не повторяется. Остроумие Беатриче вызывающего и воинственного свойства, в нем как бы сверкает клинок. Остроумие Розалинды — задор без жала; то, что в нем сверкает, это «чарующий луч», ее веселый характер прикрывает собой ее способность к глубокому чувству. Беатриче можно заставить влюбиться, потому что она женщина и ни в каком отношении не стоит вне своего пола, но у нее нет эротических задатков; Розалинду охватывает страсть к Орландо, как только она увидала его. С первой минуты, как Беатриче выступает перед зрителями, она является вооруженная, совсем готовая к битве и в превосходном расположении духа. Розалинду мы застаем бедной птичкой, опустившей крылышки; ее отец изгнан, состояние у нее отнято, сама она лишь временно терпится при дворе как компаньонка дочери властителя, почти узница в дворце, где недавно была принцессой. Лишь тогда, когда она приходит в мужском костюме, выступает в образе пажа и начинает вести независимую жизнь на вольном воздухе и в зеленом лесу, лишь тогда к ней возвращается ее радужное настроение и, словно щебетанье пташки, вылетают из уст ее шутки и веселый смех.
Точно так же и тот, кого она любит, не заносчивый весельчак с острым языком и смелыми приемами. Это — юноша, хотя мужественный, как герой, и сильный, как атлет, но неопытный, как дитя, и до такой степени застенчивый перед нею, сразу показавшейся ему самым очаровательным существом, какое он когда-либо видел, что она первая должна выказать ему участие, больше того, должна снять цепь со своей шеи и надеть на него, прежде чем он решился возыметь надежду на то, что его любят. И вот он проводит время, развешивая на деревьях стихи, посвященные ей, и вырезая на коре имя «Розалинда». Она, в своем костюме пажа, забавляется тем, что делается поверенным Орландо и в шутку заставляет его ухаживать за ней, как будто она его Розалинда. Она не может принудить себя признаться в своей страсти, хотя только о нем думает и только о нем говорит со своей кузиной, и одно то обстоятельство, что он опоздал несколькими минутами на свидание, выводит ее из себя от нетерпения. Она столь же чувствительна, как и умна, и этим отличается от Порции, с которой вообще имеет некоторое сходство; ей недостает адвокатского красноречия последней, но она нежнее сердцем, у нее более девический облик. Она лишается чувств, когда Оливер приносит ей смоченный кровью платок Орландо, чтобы извинить его отсутствие, — лишается чувств и имеет настолько самообладания, что, только что очнувшись, говорит с улыбкой: «А что, сударь, ведь каждый сказал бы, что я отлично притворилась?» Она свободно держится в своем мужском костюме, как после нее Виола и Имоджена. Само собою разумеется, что этим частым переодеваниям немало способствовало то обстоятельство, что женские роли исполнялись мужчинами.
Вот образчик остроумия Розалинды (III, 2). Орландо отказался ответить на вопрос молодой девушки, который теперь час, потому что в лесу нет часов.
Розалинда. Значит, в лесу нет ни одного настоящего влюбленного; иначе ежеминутные вздохи и ежечасные стоны указывали бы медленный ход времени так же хорошо, как часы!
Орландо. Отчего же не быстрый ход времени? Это выражение было бы, кажется, не менее верно?
Розалинда. Совсем нет. Время идет различным шагом с различными лицами. Я вам могу сказать, с кем оно подвигается тихим шагом, с кем бежит рысью, с кем галопирует и с кем стоит на месте.
Орландо. Ну, скажите пожалуйста, с кем оно бежит рысью?
Розалинда. Бежит оно неспокойной рысью с молодой девушкой в промежуток между подписанием брачного контракта и днем свадьбы. Будь этот промежуток хоть семидневный, рысь времени так неспокойна, что для едущего он кажется семилетним.
Орландо. Ас кем время идет шагом?
Розалинда. Со священником, который не знает по-латыни, и с богачом, у которого нет подагры: первый спит безмятежно, потому что не может заниматься, а второй живет весело, потому что не испытывает никаких страданий…
Орландо. С кем же оно галопирует?
Розалинда. С вором, которого ведут на виселицу, потому что как бы тихо ни подвигался он, ему все кажется, что он придет слишком скоро.
Орландо. С кем оно стоит на месте?
Розалияда. С правоведами во время каникул, потому что от закрытия судов до открытия они спят и, следовательно, не замечают движения времени.
Невозможно быть живее и невозможно быть изобретательнее ее. В каждом своем ответе она сызнова выдумывает порох и умеет заряжать этим порохом свое оружие. Она рассказывает, что у нее был старик-дядя, проповедовавший о любви и о женщинах, и, пользуясь своим костюмом пажа, говорит:
Благодарю Бога, что я не женщина; иначе во мне были бы все те безумные свойства, в которых дядя обвинял весь женский пол.
Орландо. Не можешь ли припомнить какой-нибудь из тех главных пороков, которые он взваливал на женщин?
Розалинда. Главного не было ни одного; они все были похожи друг на друга, как гроши; каждый порок казался чудовищным до тех пор, пока его товарищ не становился с ним наравне.
Орландо. Пожалуйста, укажи какие-нибудь из них.
Розалинда. Нет, я буду давать мое лекарство только тем, которые больны. Здесь в лесу есть человек, который портит наши молодые деревья, вырезая на их коре слово «Розалинда», развешивает оды на кустах сирени и элегии на терновых кустах, и все эти произведения обоготворяют имя Розалинды. Если бы я встретил этого разносчика чувств, я дал бы ему несколько хороших советов, потому что, как кажется, он болен ежедневной лихорадкой любви.
Орландо признается, что это он, и между ними устанавливаются ежедневные встречи. Она заставляет его посвататься в шутку за нее, как если бы она была Розалинда, и отвечает (IV, 1):
Ну, так от ее имени я говорю вам, что вы не нужны мне.
Орландо. В таком случае мне остается умереть уже от собственного имени.
Розалинда. Нет, умрите лучше по доверенности. Наш бедный свет существует уже почти шесть тысяч лет, и во все это время ни один человек не умер сам за себя в деле любви… Леандр прожил бы много прекрасных лет, пойди Геро хоть в монастырь — если бы не уморила его одна жаркая летняя ночь: добрый юноша вошел в Геллеспонт только для того, чтобы выкупаться, но схватил судорогу и утонул, а глупые летописцы его времени приписали эту смерть Геро Сестосской. Все это ложь, потому что люди от времени до времени умирали, и черви ели их, но все это делалось не от любви.
К самой Розалинде можно применить ее слова о женщине вообще: «Она никогда не останется без ответа, разве совсем будет без языка». И всегда в ее ответах играет светлая и веселая фантазия. Эта девушка положительно блещет молодостью, воображением, радостью, оттого что она любит так страстно и, в свою очередь, так страстно любима. И удивительно, до какой степени женственно ее остроумие. В книгах, писанных мужчинами, богато одаренные женщины слишком часто имеют мужской тип ума. Остроумие же Розалинды смягчено чувством.
Не она одна остроумна в перенесенной в Арденнский лес Аркадии. Все остроумны в этой пьесе, даже так называемые дураки. Потому что это праздник остроумия. Работая над этой комедией, Шекспир как будто следовал исключительно такому принципу: как скоро кто-нибудь произносит забавные слова, тотчас же другой спешит превзойти его и говорит что-нибудь еще более забавное. В результате пьеса светится как бы пронизанным солнцем юмором. Затем в воркующие и счастливые любовные дуэты многочисленных молодых парочек, в прихотливые и остроумные словесные состязания многих юношей и молодых девушек поэт вплетает меланхолически-грустное соло своего Жака. «Моя меланхолия, — говорит он, — не меланхолия студента, у которого это настроение ничто иное, как соревнование, и не музыканта, у которого оно фантастичность, и не придворного, у которого оно — тщеславие, и не солдата, у которого оно — честолюбие, и не правоведа, у которого оно — политическая хитрость, и не женщины, у которой оно — притворство, и не любовника, у которого оно — все эти чувства, взятые вместе. Моя меланхолия — совершенно особая, собственно мне принадлежащая, составленная из многих веществ и извлеченная из многих предметов».
То была меланхолия, свойственная мыслителю и великому художнику и еще способная в то время с легкостью переходить в самую пленительную и увлекательную веселость.
Глава 26
Шекспир достигает полной душевной гармонии. — «Двенадцатая ночь». — Насмешки над пуританством. — Тоскующие лица. — Очаровательная грация Виолы. — Прощание с шутливым настроением
Если читатель захочет составить себе представление о том, каково было состояние духа Шекспира в этот короткий период времени, предшествовавший наступлению нового столетия, то пусть он вспомнит какой-нибудь день, когда он проснулся с ощущением, что он совершенно бодр и здоров, не в таком только смысле, что у него не было никакого недомогания и никакой определенной или неопределенной боли в членах, но когда он чувствовал, что все органы его тела находятся в состоянии счастливой деятельности: грудь дышала легко, голова была ясная и свежая, сердце билось спокойно, жизнь казалась таким блаженством, душа грезила о минутах, полных наслаждения в прошлом, и жила ожиданием новых радостей. Представьте себе ощущение полноты жизни, поскольку оно вам известно, в сто раз интенсивнее, представьте себе вашу память, ваше воображение, вашу наблюдательность, вашу проницательность, ваш дар воспроизведения впечатлений во сто раз увеличенными, и вы угадаете основное настроение Шекспира в эту пору, когда вполне раскрылись более светлые и радостные стороны его природы.
Бывают дни, когда солнце кажется праздничным в своем блеске, когда воздух, как поцелуй, ласкает щеку, и лунное сияние кажется мечтательным и сладким; дни, когда мужчины кажутся нам мужественнее и умнее, женщины прекраснее и изящнее, чем обыкновенно, и когда люди, нам неприятные или даже ненавистные, представляются нам не опасными, а только смешными, — так что мы чувствуем себя как бы приподнятыми над своей жизнью, счастливыми и освобожденными. Шекспир переживает теперь эти дни.
Именно как раз в то время поэт не с горечью, а с самым простодушным юмором осмеивает своих противников, пуритан. Уже в комедии «Как вам угодно» есть маленький намек на них в словах Розалинды (III, 2):
О, милосердный Юпитер! Какой скучной проповедью любви вы утомили ваших прихожан, ни разу не сказав: потерпите, добрые люди!
Здесь, в комедии «Двенадцатая ночь», в морализирующей и почтенной дон-кихотовской фигуре Мальволио, поставленного в целый ряд смехотворных положений, сыплются палочные удары на сам тип напыщенного и самодовольного пуританина. Само собой разумеется, что поэт соблюдает при этом величайшую осторожность. Сэр Тоби спрашивает, что знает Мария о Мальволио. Она отвечает (II, 3):
Право, иногда кажется, как будто он что-то вроде пуританина.
Сэр Эндрю. О, если бы я думал это, то прибил бы его, как собаку!
Сэр Тоби. Как? За то, что он пуританин? И это все твои побудительные причины, рыцарь?..
Мария. Не пуританин он, — чтобы его нелегкая взяла, — и ничего постоянного в нем нет. Он просто флюгер, что ходит за ветром, осел, который выучил наизусть высокопарные речи и сыплет их пригоршнями…
Точно так же и у Мольера настойчиво утверждается, что Тартюф не духовное лицо.
Мальволио подбрасывают подложное письмо от его знатной госпожи, в котором она молит его о любви и просит его, в знак расположения к ней, постоянно улыбаться и носить желтые чулки с накрест завязанными подвязками.
Он улыбается, «так, что на лице его является больше линий, чем на новой карте (от 1598 г.) с обеими Индиями»; он носит свои невозможные подвязки самым невозможным образом; другие притворяются, будто считают его помешанным, и соответственно с этим и обходятся с ним, присылают к нему якобы священника отчитывать его. Надевая священническую рясу (IV, 2), дурак произносит следующие слова, очевидно, сказанные не на ветер:
Прекрасно, надену рясу и прикинусь попом. Да, впрочем, не я первый прячусь под нею.
К тому же Мальволио обращает среди рукоплесканий шута свою речь веселый кутила и бонвиван сэр Тоби (II, 3):
Или ты думаешь, что в силу того, что ты добродетелен, не бывать на свете ни пирогам, ни вину?
Дурак. Будут же, вот те Пресвятая! Да ты же еще ими и подавишься!
Этим-то словам суждено было стать эпиграфом к «Дон Жуану» Байрона, ибо в них чувствуется смелая и веселая самозащита.
«Двенадцатая ночь, или Что хотите» должна была быть написана в 1601 г., потому что в дневнике ранее упомянутого юриста Джона Мэннингема под 2 февраля 1602 г. находится следующая заметка:
«В наш праздник (праздник Сретения в Миддл Темпл Холле) была представлена пьеса под заглавием „Двенадцатая ночь, или Что хотите“, весьма похожая на „Комедию ошибок“ или на „Menaechmi“ Плавта, но более всего близкая к итальянской пьесе „Inganni“. Интрига ее — вбить в голову дворецкому, будто его госпожа, вдова, влюблена в него и т. д.» Что пьеса не могла возникнуть задолго до этого времени, доказывается тем обстоятельством, что песня «Farewell, dear heart, since I must needs be gone» («Прощай, мое сердце, ибо я должен уехать»), которую поют Тоби и шут (II, 3), вышла впервые в сборнике песен, изданном Робертом Джонсом в Лондоне в 1601 г. Шекспир только изменил немного эту песню. По всей вероятности, «Двенадцатая ночь» была одной из четырех пьес, представленных в Уайтхолле для двора труппой лорда-камергера накануне 1602 г., и игралась она в первый раз в тот вечер, от которого получила свое заглавие[10]. Среди многочисленных итальянских пьес, носящих имя «GYInganni», есть пьеса поэта Курцио Гонзаго, вышедшая в Венеции в 1592 г., где сестра одевается мужчиной и принимает имя Чезаре — у Шекспира Cesario, — и другая пьеса, появившаяся в Венеции в 1537 г., где действие имеет много общего с действием «Двенадцатой ночи», и где имя Малевольти, впрочем, лишь упоминаемое, могло дать повод к имени Мальволио у Шекспира.
Подобная фабула встречается в одной новелле Банделло, переведенной у Бельфоре (в его «Histoires tragiques»); кроме того, в изданном в 1581 г. и исполненном Бернеби Ричем переводе сборника новелл Чинтио «Hecatomithi», которым Шекспир, по-видимому, воспользовался. Всю комическую часть действия, образы Мальволио, рыцаря Тоби, сэра Эндрю Эгчика и шута Шекспир изобрел сам.
Комедия «Что хотите», как и следовало ожидать, была чрезвычайно любима. Ученый Диггес, переводчик Клавдиана, в своем стихотворении от 1640 г. «Upon Master William Shakespeare», где он выдвигает популярнейшие образы поэта, называет действующих лиц только из двух комедий, а именно из «Много шума из ничего» и «Двенадцатой ночи». Он говорит: стоит только показаться Беатриче и Бенедикту, как в мгновение ока партер, галерея и ложи наполняются желающими послушать Мальволио, болвана с накрест завязанными подвязками.
«Двенадцатая ночь», пожалуй, самая прелестная и самая гармоническая из написанных Шекспиром комедий; во всяком случае, это та из них, где все тона, какие только затрагиваются, тон серьезного чувства и шутки, мечтательности, нежности и смеха, сливаются друг с другом, как нельзя лучше и полнее. Это симфония, где ни один голос не лишний, картина, покрытая золотым лаком, в котором растворяются все краски. Эта пьеса не так брызжет остроумием и веселостью, как предыдущая; чувствуется, что радость жизни у Шекспира достигла теперь наивысшей точки, откуда она готовится перейти в грусть, но она совсем в ином смысле, чем «Как вам угодно», представляет собой замкнутое целое, не говоря уже о том, что она во много раз драматичнее.
Еще А. В. Шлегель в свое время глубокомысленно обратил внимание на то, как Шекспир в монологе, которым открывается пьеса, напоминает, что на английском языке той эпохи фантазия и любовь обозначались одним и тем же словом (fancy); Шлегель не без тонкости развил ту мысль, что любовь, понимаемая более как дело воображения, нежели как вопрос сердца — основная тема, которая здесь разрабатывается. Другие после него старались доказать, что фантастически прихотливое есть основная черта в характере всех действующих лиц пьесы. Тик сравнил ее с большой разноцветной бабочкой, порхающей по чистому голубому воздуху и поднимающейся в своем золотом блеске с освещенных солнцем пестрых цветов.
Крещенским вечером заканчивались во времена Шекспира рождественские праздники для высших классов; у простого народа они по большей части продолжались до Сретения. В этот вечер играли в разные игры. Кто, по воле случая, находил запеченный в пироге боб и делался таким образом «бобовым королем», выбирал себе «бобовую королеву», становился заводчиком всяких чудачеств и отдавал шаловливые приказания, которые должны были в точности исполняться. Ульрици хотел видеть в этом указание на то, что пьеса изображает игру в лотерею, где Себастьяну, герцогу и Марии достается большой выигрыш. Однако, едва ли можно считать таким необыкновенно счастливым жребием для Марии получить в мужья пьяницу сэра Тоби, и двойное заглавие «Двенадцатая ночь, или Что хотите» показывает, что Шекспир мало придавал значения имени, под которым пьеса сделается известной.
Некоторые нити связывают эту комедию с пьесой «Как вам угодно». Страсть, которую Виола в мужском платье возбуждает в Оливии, напоминает чувство, которое одетая пажом Розалинда вызывает у Фебе. Но мотив разработан совершенно различно. Тогда как Розалинда высокомерно и задорно отвергает пламенную любовь Фебе, Виола полна нежного сострадания к женщине, которую ввел в заблуждение ее костюм. Неоднократно повторяющийся мотив смешения Виолы с ее братом-близнецом Себастьяном вновь заимствуется из «Комедии ошибок», но вследствие различия между обстоятельствами и способом разработки этот мотив тоже явился обновленным.
Заботливой, почти ласкающей рукой обрисовал Шекспир каждое отдельное из многочисленных действующих лиц пьесы.
Симпатичный и утонченный герцог, при своем сентиментальном характере и болезненной фантазии, томится безнадежной любовью. Он любит прекрасную графиню Оливию, которая знать его не хочет, и которую он, тем не менее, продолжает мучить своей эротической настойчивостью.
Музыкальный от природы, он ищет утешения в музыке, и в числе песен, которые он заставляет петь шута и других, есть небольшое прочувствованное стихотворение дивной ритмической красоты, передать которую никакой перевод не может. Оно точь-в-точь выражает мягкое, томное настроение и как бы ленивую меланхолию, в которых протекают дни герцога. Но к мелодии его вполне применимы прекрасные слова, сказанные Виолой о напеве, который играется перед тем, как поют эту песню:
Как эхо раздается он в чертогах, Где царствует любовь.В своей бесплодной страсти герцог сделался нервен и раздражителен, склонен к резким противоречиям с самим собой. В одной и той же сцене (II, 4) он говорит сначала о любви мужчины, что она более легка и мимолетна, более непостоянна и изменчива, чем любовь женщины, а двумя страницами ниже говорит о своей собственной любви:
…Женщины душа Мала, чтоб уместить в себе так много. Они непостоянны; их любовь Желаньем может только называться.Герцогу соответствует, как pendant графиня; она, одинаково с ним, подавлена тоской. С преувеличенной, выставляемой напоказ любовью сестры она решила провести семь лет подряд, завесив свое лицо покрывалом, как монахиня, и всецело посвящая свою жизнь скорби об умершем брате. Тем не менее, в ее речах отнюдь не сквозит это снедающее душу горе, она шутит со своими домочадцами и оказывается рассудительной и исполненной достоинства хозяйкой в своем доме, как вдруг с первого взгляда, брошенного на переодетую Виолу, в ней вспыхивает страсть, заставляющая ее, забыв предписываемую ей полусдержанность, делать смелые шаги, чтобы завоевать любовь мнимого юноши. Она нарисована, как существо, лишенное равновесия, внезапно переходящее от чрезмерной ненависти ко всему земному к полному забвению горя, в которое оно хотело погрузиться. Однако, она не комична, как Фебе, когда та влюбляется в переодетую принцессу, ибо Шекспир дал понять, что тип Себастьяна, подсказанный ее воображению переодетой Виолой, есть тот тип, которому она не может противостоять, и Себастьян, со своей стороны, мгновенно отвечает взаимностью на страсть, которую его сестра должна была отвергнуть. Кроме того, выражение, придаваемое Оливией своей страсти, всегда поэтически прекрасно.
Но, тщетно вздыхая по Виоле, она все же неминуемо производит такое впечатление, как будто она охвачена легким эротическим безумством, вполне соответствующим безумству герцога, и сумасшествие их обоих находит себе в высшей степени остроумную и забавную пародию в чисто комической влюбленности Мальволио в свою госпожу и его самонадеянной фантазии, будто она платит ему взаимностью. Оливия чувствует это, и сама это говорит, восклицая (III, 4):
Поди-ка, позови его скорей. И я безумная, как он, когда Веселое безумство сходно с грустным.Образ Мальволио обрисован несколькими штрихами, но с несравненной уверенностью. Он неподражаем в своем напоминающем индийского петуха величии, а жестокая шутка, предметом которой он является, разработана, как целый рудник комизма. Бесподобное любовное письмо, посланное ему Марией, подделавшей почерк графини, действует на него, «как водка на старую бабу», заставляет выйти наружу все его скрытое самообольщение, а его самодовольство, и раньше заметное в нем, принять самые смехотворные формы. Сцена, где он приближается к Оливии и торжествующим тоном напоминает ей выражения письма «желтые чулки и накрест завязанные подвязки», между тем как убеждение, что он сошел с ума, все глубже и глубже вкореняется в нее, принадлежит, вместе с коллизиями, вызываемыми неизбежными недоразумениями, к самым эффектным комическим сценам английского театра. Еще более полна веселости та сцена (IV, 2), где Мальволио в качестве помешанного заперт в темной комнате, а шут стоит за дверью и, то подражая голосу патера, старается изгнать из него дьявола, то своим собственным голосом разговаривает со священником, поет песни и обещает Мальволио исполнить его поручение. В этой сцене чувствуется первоклассный jeu de theatre комического жанра.
Шут, как бы по соответствию с основным тоном пьесы, менее остроумен и более музыкален, чем Оселок в пьесе «Как вам угодно», но зато он преисполнен сознанием значения своей профессии:
Глупость, как солнце, обращается вокруг мира и светит повсюду.
По временам он произносит что-нибудь безмерно забавное, как, например, реплику «быть хорошо повешенным лучше, чем худо жениться», или приводит следующий довод в пользу того, что с врагами живется лучше, чем с друзьями (V, 1):
Друзья хвалят меня и в то же время делают из меня осла, а враги прямо говорят, что я осел, следовательно, с врагами я научаюсь самопознанию, а друзья меня надувают. Итак, если умозаключения похожи на поцелуи, и если четыре отрицания составляют два утверждения, то чем больше друзей, тем хуже, чем больше врагов, тем лучше.
В виде исключения Шекспир и здесь, как бы опасаясь быть ложно пошлым своей публикой, заставил Виолу совершенно догматически рассуждать о том, что роль шута требует ума; дурак должен наблюдать нрав того человека, над которым подшучивает, должен уметь выбирать время и место, а не набрасываться, как дикий сокол, на каждое перышко, которое завидит. Это ремесло столь же трудное, как искусство мудреца.
Шут образует нечто вроде связующего звена между серьезными характерами пьесы и лицами, вызывающими один только смех, каковы прибавленные Шекспиром от себя пара дворянчиков: сэр Тоби Белч и сэр Эндрю Эгчик. Это — сплошной контраст. Сэр Тоби — тучный, полнокровный, краснощекий шутник, постоянно напивающийся допьяна; сэр Эндрю — бледный, как будто его трясет лихорадка, с жидкими, прямыми, бесцветными волосами, тощий мозгляк, гордящийся своим искусством в танцах и фехтовании, задорный и застенчивый в одно и то же время, смешной во всех своих движениях, хвастун и трус, эхо и тень людей, которым он удивляется, созданный для потехи своих приятелей, для того, чтобы быть марионеткой в их руках и служить мишенью для их острот, до того глупый, что считает возможным приобрести любовь прекрасной Оливии, но с тайным предчувствием своей глупости, предчувствием, действующим на зрителя освежающим образом (I, 3):
Мне сдается, что иногда во мне не больше остроумия, чем в обыкновенном человеке. Но я ем очень много говядины, — и это вредит моему остроумию.
Он не понимает самых простых фраз, какие ему приходится слышать, он такой попугай и поддакиватель, что выражение «и я тоже» является лозунгом всей его жизни. И он увековечен Шекспиром в бессмертной реплике, которую произносит, когда Тоби говорит о себе, что субретка Мария его обожает (II, 3):
И меня раз как-то обожали.
Тоби дал полную характеристику его и указал его приметы словами, что если его вскроют и найдут в его печени настолько крови, чтобы муха могла окунуть в нее ногу, то он готов съесть всю остальную часть его трупа.
Главное действующее лицо в «Двенадцатой ночи» — Виола, о которой брат ее говорит только правду без малейшего преувеличения, когда, считая ее потонувшей во время кораблекрушения, восклицает: «Сама зависть должна была бы назвать ее сердце прекрасным!»
Ее положение в пьесе заключается в том, что, потерпев кораблекрушение у берегов Иллирии, она желает сначала поступить в услужение к молодой графине, но, узнав, что та никого не хочет видеть, решается в качестве пажа предложить свои услуги молодому неженатому герцогу, о котором, как она припоминает, ее отец отзывался с теплотой. Он тотчас же производит на нее самое глубокое впечатление, но, не зная ее пола, он и не подозревает, что в ней происходит, и она попадает в жестокое положение постоянно быть посылаемой с поручениями от того, кого она любит, к другой. Таинственным и трогательным образом говорит она с ним о своей любви (П, 4):
Дочь моего родителя любила, Как, может быть, я полюбил бы вас, Когда бы слабой женщиною был. Герцог. А жизнь ее? Виола. Пустой листок, мой государь: Она ни слова о своей любви Не проронила, тайну берегла, И тайна, как червяк, сокрытый в почке. Питалась пурпуром ее ланит. Задумчива, бледна, в тоске глубокой, Как гений христианского терпенья, Иссеченный на камне гробовом, Она с улыбкою глядела на тоску.Но теплое чувство, наполняющее ее, делает ее более красноречивым вестником любви, чем она подозревает. На вопрос Оливии, что сделала бы она сама, если бы любила ее так, как ее господин, она отвечает (I, 5):
…У вашего порога Я выстроил бы хижину из ивы. Взывал бы день и ночь к моей царице, Писал бы песни о моей любви И громко пел бы их в тиши ночей: По холмам пронеслось бы ваше имя, И эхо повторяло бы в горах «Оливия!» Вам не было б покоя Меж небом и землей, пока бы жалость Не овладела вашею душой.Короче говоря, как мужчина она обнаружила бы всю ту энергию, которой герцогу недостает. Неудивительно, что она невольно вызывает ответную любовь. Как женщина, она вынуждена к пассивности; ее любовь — любовь без слов, любовь глубокая, тихая и терпеливая. Вопреки своему здравому рассудку, она человек сердца. Весьма знаменательно, что в сцене, где Антонио, принимающий ее за Себастьяна (III, 5), находясь в отчаянном положении, напоминает ей об оказанных им услугах, она восклицает в ответ, что ничего она не ненавидит так в людях, как неблагодарность, которую она считает хуже лжи, сплетен и пьянства. Она вся задушевность, при всем том, что у нее такой светлый ум. Ее инкогнито, не доставляющее ей (как Розалинде) радости, а только горе и смущение, таит в себе самую чуткую женственность. Никогда не вырывается у нее, как у Розалинды или Беатриче, грубого и нескромного слова. Взамен бурной энергии и искрящегося юмора более ранних героинь ей дана пленяющая сердце прелесть. Она свежа и прекрасна, как эти старшие ее сестры, она, которую, как скромно выражается ее брат, «многие считали красавицей», хотя она была похожа на него; у нее есть и юмористическое красноречие Розалинды и Беатриче, она доказывает это в первой своей сцене с Оливией; но все же на ее прелестном образе лежит легкий отпечаток грусти. Она как бы олицетворяет собой «прощание с веселостью», выражение которого один талантливый английский критик нашел в этой последней комедии светлого периода жизни Шекспира.
Глава 27
Перемена в настроении Шекспира. — Возрастающие меланхолия, пессимизм и мизантропия
Неумолимо приближается время, когда веселость, даже сама жизнерадостность гаснут в его душе. Тяжелые тучи нависли на его горизонте, мы можем лишь догадываться, какие, — гложущие сердце печали и разочарования скопились в глубине его существа. Мы видим, как грусть его растет и расширяется; мы наблюдаем ее изменчивые проявления, не зная ее причин. Мы чувствуем лишь одно, что арена, которую он видит очами своей души, как и внешняя, на которой он действует, обтянута черным. Траурный флер спускается на ту и на другую.
Он больше не пишет комедий, а пишет целый ряд мрачных трагедий и ставит их на сцену, еще так недавно оглашавшуюся смехом его Беатриче и Розалинд.
Все его впечатления от жизни и от людей становятся отныне все более и более мрачными. В его сонетах можно проследить, как даже и в более ранние его, счастливые годы не знающая покоя страстность постоянно боролась в его душе с радостью жизни, и можно видеть, как он уже и в это время был волнуем тревогой порывистых и противоречивых чувств. Затем можно вычитать из его драматических произведений, что не только то, что он испытал в общественной, политической жизни, но и все события его личного существования начинают с этих пор внушать ему отчасти сострадание к людям, пламенное сочувствие, отчасти ужас перед людьми, как перед дикими, хищными зверями, отчасти, наконец, отвращение к людям, как глупым, лживым и низменным созданиям. Эти чувства сгущаются постепенно в глубокое и грандиозное презрение к людям, пока, по истечении восьми длинных лет, в его основном настроении не наступает перелом. Погасшее солнце снова озарило его жизнь, черное небо вновь сделалось лазурным, и душа поэта вновь прониклась кротким участием ко всему человеческому. Под конец все успокаивается в величавой, меланхолической ясности. Возвращаются светлые настроения, легкие грезы его юности, и на устах поэта появляется если не смех, то улыбка. Неудержимая веселость исчезла навсегда, но его фантазия, чувствующая себя менее связанной, чем прежде, законами действительности, резвится легко и свободно, хотя много серьезного смысла и много житейского опыта скрывается теперь за этой легкой игрой воображения.
Но это внутреннее освобождение от тяготы жизни наступает, как сказано, лишь лет восемь спустя после момента, на котором мы здесь остановились.
Мощная, гениальная жизнерадостность его тридцатилетнего возраста царит еще короткое время в его душе. Затем она начинает меркнуть, и после сумерек, коротких, как сумерки юга, во всей его душевной жизни и во всех его произведениях водворяется ночь.
В трагедии «Юлий Цезарь» еще господствует только мужественная серьезность. Тема привлекла Шекспира вследствие аналогии между заговором против Юлия Цезаря и заговором против Елизаветы. Так как главные участники последнего, Эссекс и его товарищ Саутгемптон, вопреки безрассудности своего предприятия пользовались полной личной симпатией поэта, то некоторую долю этой симпатии он перенес на Брута и Кассия. Он создал Брута под глубоким впечатлением того непрактичного великодушия, какое обнаружили его друзья-аристократы и которое оказалось бессильным изменить ход исторических событий. Вывод, вытекающий из пьесы, — практические ошибки влекут за собой столь же жестокую кару, как и моральные.
В «Гамлете» господствуют все возрастающая меланхолия и все усиливающаяся горечь Шекспира. Свойственное юности светлое миросозерцание разбилось в прах как для Шекспира, так и для его героя. Вера Гамлета в людей и доверие его к ним подорваны. Под формой кажущегося безумия здесь так гениально, как никогда прежде в северной Европе, выражена глубоко печальная житейская мудрость, которую Шекспир выработал себе к сороковому году своей жизни.
Одна из побочных причин меланхолии Шекспира, усматриваемых нами в эту эпоху, это все более резкое враждебное отношение, в которое он как актер и театральный писатель становится к направленному в пользу свободной церкви все более и более могучему религиозному движению века — пуританизму, являвшемуся в его глазах лишь ограниченностью и лицемерием. Пуританизм был смертельным врагом его сословия; еще при жизни Шекспира он вызвал запрещение всяких сценических представлений в провинции, а после его смерти и в столице. С самой «Двенадцатой ночи» неизменное ожесточение против пуританизма, понимаемого как лицемерие, простирается через «Гамлета», через переработку комедии «Конец — делу венец» до «Меры за меру», где этот гнев поднимает бурю и создает образ, рядом с которым можно поставить лишь мольеровского Тартюфа.
Что так глубоко потрясает его в эти годы, это бедствия земной жизни, несчастье, не как удел, ниспосланный небом, а как нечто, осуществляемое глупостью в союзе со злобой.
В особенности злоба как сила теперь восстает перед ним во всем своем могуществе. Это видно уже в «Гамлете», в изумлении героя по поводу того, что можно улыбаться и быть злодеем. Еще ярче выражено это в «Мере за меру»:
…Не называй То невозможным, что на этот раз Лишь кажется тебе невероятным! Презреннейший злодей из всех на свете Казаться может скромным, честным, строгим, Как граф Анджело.Эта-то строка и приводит к художественному воссозданию характеров Яго, Гонерильи и Реганы и к диким взрывам человеконенавистничества в «Тимоне Афинском».
«Макбет» — первая попытка Шекспира объяснить трагедию жизни как результат грубости в союзе со злобой: грубости, усиленной, умноженной злобой. Леди Макбет отравляет душу своего супруга. Злоба вливает несколько капель яда в грубость, могущую быть по самой внутренней своей сути слабостью различного рода, честной шероховатостью нрава, тупоумием многообразного свойства. И эта грубость начинает затем неистовствовать, становится страшной для себя и для других.
Совершенно то же самое видим мы в отношениях между Отелло и Яго.
«Отелло» не более как монография. «Лир» — мировая картина. Шекспир переходит от «Отелло» к «Лиру» в силу потребности художника дополнять самого себя, создавать вслед за каждым произведением его контраст.
«Лир» — самая крупная задача, какую ставил себе до сих пор Шекспир: мука и ужасы вселенной, вставленные в рамку пяти недлинных актов. Впечатление, производимое «Лиром», — это кончина мира. Шекспир теперь не в том настроении, чтобы изображать что-либо иное. В ушах его раздается, душу его наполняет грохот мира, который разрушается.
Этим объясняется его следующее произведение — «Антоний и Клеопатра». В этом сюжете он нашел новый текст к своей внутренней музыке. В жизнеописании Марка Антония он прозрел глубокое падение древней мировой республики. Римское могущество, суровое и строгое, рушилось при столкновении со сладострастием Востока.
К этому моменту, когда Шекспир написал трагедию «Антоний и Клеопатра», его меланхолия успела возрасти до пессимизма. Презрение становится у него неизменным настроением, презрение к людям, обращающееся вместе с кровью в его жилах, но презрение плодотворное, могучее, выбрасывающее молнию за молнией.
Такие произведения, как «Троил и Крессида» и «Кориолан», обрушиваются то на отношения между обоими полами, то на политические условия, и, наконец, все, что Шекспир пережил и вынес в эти годы, все, что он передумал и что выстрадал, концентрируется в одном великом, полном отчаяния образе, образе Тимона Афинского, человеконенавистника, дикая риторика которого подобна темной эссенции из запекшейся крови и желчи, выделяющейся из раны для облегчения душевной муки.
Глава 28
Англия в эпоху Елизаветы
В эпоху молодости Шекспира вся Англия стояла в цвету Он сознавал, что принадлежит к народу, богатому великими воспоминаниями и блестящими делами, к народу, который шел неудержимо и решительно вперед. Он сознавал, что живет в эпоху, когда вновь возродилась дивная культура древности и когда выдающиеся люди, работавшие во всех областях практической и духовной жизни, положили начало могуществу Англии, когда сердца всех граждан были исполнены самоуверенностью. Все эти чувства сливались в его груди с весенними настроениями молодости. Шекспир видел, как вместе со звездой Англии восходит и его собственная. Ему казалось, что современные ему мужчины и женщины были богаче одарены, сильнее, энергичнее и счастливее своих предков. В их жилах текла как будто более горячая кровь, их желания были ненасытнее, а жажда приключений — неутолимее, чем в людях прошлых поколений. Они управляли мужественно и умно страной, как сама королева или лорд Борлей; они были исполнены честолюбия, сражались храбро, любили страстно, слагали мечтательные стихи, подобно Филиппу Сиднею, идолу современной молодежи, герою, умершему славной смертью Ахиллеса. Они наслаждались при помощи всех чувств, цеплялись за жизнь всеми органами, любили блистать роскошью и богатством, красотою и умом, они объезжали земной шар, любуясь его чудесами и добывая его сокровища; они давали имена вновь открытым странам и водружали английский флаг на неведомых морях.
Эти люди, которые сокрушили Испанию, подняли благосостояние Голландии и обуздали Шотландию, были превосходными дипломатами и стратегами. Это были крепкие, здоровые натуры. Все они, как истые представители Ренессанса, любили литературу, но они были прежде всего практическими деятелями, прекрасными наблюдателями современной действительности, осторожными и твердыми в несчастье, умеренными и благоразумными в счастье.
Шекспир видел Вальтера Рэлея, после Бэкона и него самого интересного и гениального англичанина того времени, верного друга Спенсера, известного своей солдатской храбростью, прославившегося в качестве викинга и путешественника, снискавшего расположение Елизаветы в качестве царедворца, любовь народа как герой и поэт. Шекспир, вероятно, знал стихи из элегии Рэлея, посвященной Сиднею.
Да, Рэлей был не только оратором и историком, но также поэтом. Маколей прекрасно заметил: «Мы воображаем себе его то устраивающим смотр королевской гвардии, то преследующим испанскую галеру, то возражающим в нижней палате противной партии, то нашептывающим на ушко одной из придворных дам свои любовные стихи, то размышляющим над Талмудом и сравнивающим место из Полибия с отрывком из Ливия!»
Шекспир был также свидетелем, как юный Роберт Девере, граф Эссекс, обративший еще десятилетним мальчиком на себя внимание придворных тем, что не снял своей шляпы перед королевой и воспротивился ее поцелую, отличился в Нидерландах под начальством Лейстера, командуя кавалерией, и как он два года спустя вытеснил Рэлея из сердца королевы. Она играла с ним в карты и другие игры, «пока не раздавалась утренняя песнь пташек». Она запиралась с ним в комнате, тогда как в приемной прогуливались венецианский и французский послы (прождавшие таким образом уже раз в эпоху фаворитства Лейстера) и острили насчет того, как вернее назвать подобное положение «tener la mula» или «tenir la chandelle»[11]. Эссекс потребовал, чтобы королева пожертвовала Рэлеем для его юной любви. И вот начальник гвардии Рэлей должен был стоять на часах перед кабинетом королевы с саблей в руках, в мундире коричневого и оранжевого цвета, в то самое время, как красавец-юноша нашептывал королеве слова, заставлявшие сильнее биться ее сердце. Эссекс старался очернить Рэлея, где только мог и как только умел. Королева заметила ему, что он не имеет никакого права смотреть свысока на такого человека. Тогда Эссекс обратился к ней, как он сам рассказывал, с вопросом: «Разве он может достойно служить королеве, находящейся в вечном страхе перед Рэлеем?» и прибавлял при этом: «Я убежден, что он, стоявший за дверью, мог прекрасно слышать все, что говорилось о нем в кабинете!»
Так неосторожно поступал Эссекс и впоследствии. Но он вскоре развернул свои блестящие способности, которых никто не подозревал. Когда Шекспир познакомился с ним, вероятно в 1570 г., он был в высшей степени любезным и услужливым лордом. Не лишенный некоторого поэтического таланта, он сумел оценить комедию «Сон в летнюю ночь» и ее творца. Шекспир нашел, вероятно уже тогда, в 23-летнем лорде доброго покровителя. Несколько лет спустя он познакомился именно через него с его родственником Саутгемптоном, бывшим на шесть лет моложе Эссекса. В то время последний уже успел отличиться в качестве блестящего воина. В мае 1589 г. он высадился впереди всех англичан на португальский берег, а под стенами Лиссабона он вызвал на поединок в честь своей повелительницы любого смельчака из испанского войска. В июле 1591 г. он привел Генриху Наваррскому вспомогательный отряд в 4000 человек. Он разделял все трудности похода, вызвал при осаде Руана главнокомандующего врагов на поединок и загубил потом все предприятие своей неспособностью: войско его таяло с каждым днем.
Следующие годы Эссекс провел на родине. В это время Шекспир сошелся с ним, вероятно, ближе. Его рыцарская доблесть и храбрость, талантливость, его любовь к поэзии и науке, наконец, его покровительственное отношение к таким людям, как Бэкон и др., произвели на него сильное впечатление. Вероятно, Шекспир следил также не только с интересом патриота за нападением английского флота на Кадикс (1596).
Тогда старым соперникам Рэлею и Эссексу пришлось сражаться бок о бок. Рэлей выиграл блестящее морское сражение и сжег все гигантские корабли испанцев, исключая двух, взятых на абордаж. Однако на другой день Рэлей, тяжело раненный в ногу, не мог принять участие в военных действиях. Тогда Эссекс штурмовал, взял и разграбил город. В своем докладе королеве Рэлей прославлял Эссекса за этот подвиг, и имя молодого полководца сделалось самым популярным в Англии, было на устах у всех; ему читались панегирики даже в храме св. Павла.
Да, это была блестящая эпоха. На развалинах испанского могущества выросло всемирное политическое значение Англии. Промышленность и торговля процветали. До восшествия на престол Елизаветы Амстердам был главным торговым центром. В ее царствование первое место занял Лондон. В 1571. г. открылась лондонская биржа. Двадцать лет спустя английские купцы торговали повсюду, как в былые годы ганзейские города. Лондонские уличные мальчишки лежали на берегу Темзы, внимая рассказам моряков, обогнувших мыс Доброй Надежды и побывавших в Индостане. А в тавернах можно было встретить загорелых, бородатых авантюристов, с лицами, испещренными шрамами; они объехали весь океан и побывали на Бермудских островах; они привозили с собой на родину негров, краснокожих и больших обезьян и рассказывали о золотоносной стране Эльдорадо, о действительных и вымышленных опасностях, которым они подвергались на далекой чужбине.
Рука об руку с мирным развитием торговли и промышленности шли военные успехи и рост национального самосознания. Вместе с тем расцветали науки и искусства. В то время, как путешественники привозили с берегов неведомых стран всевозможные новинки, ученые отыскивали греческих и римских классиков, которые не были раньше известны, переводили и прославляли их. А любители словесности изучали испанских и итальянских поэтов в качестве образцов изящества и вкуса.
Мир, доселе ограниченный, сделался вдруг необъятным. Горизонт, прежде узкий, вдруг расширился. Надежда на великую будущность наполняла все сердца. Да, это была весенняя пора, и во всех стихотворениях поэтов того времени чувствуется весеннее настроение.
В наше время, когда сотни миллионов людей говорят по-английски, современных английских поэтов можно пересчитать по пальцам. А тогда в Англии существовало около 300 лириков и драматургов, писавших для публики, равной по количеству нынешней датской, так как из пяти миллионов населения четыре были безграмотны. Но тогда умение писать стихи было так же распространено среди мужчин, как в наше время умение играть на рояле среди дам. Поэтическая деятельность уживалась мирно рядом с энергической практической деятельностью.
Но как все эпохи расцвета, и эта эпоха была кратковременна.
Глава 29
Елизавета на склоне лет
Уже в 1600 г. общественное настроение было совершенно иное.
Елизавета также изменилась. В ее характере было всегда много теневых сторон, но они исчезали в том блеске, которым ее окружили успехи ее политики, великие люди, служившие ей, громкие дела и счастливые события.
Теперь все изменилось.
Она всегда была тщеславна. Но когда ей исполнилось 60 лет, ее кокетство достигло крайних пределов. Мы видели, что Рэлей, желавший вновь снискать ее благорасположение, написал из темницы письмо на имя сэра Роберта Сесиля, где сравнивал ее с Венерой и Дианой (ей тогда было уже 60 лет). Когда ей минуло 67 лет, то сестра Эссекса, пытавшаяся спасти брата, подала королеве прошение, исполненное благоговения перед ее «чарующей красотой», ослепившей несчастного, и ее «совершенствами и добродетелями, от которых можно было бы ожидать больше сострадания». В том же самом году королева в маске принимала участие в танцах по случаю свадьбы лорда Герберта. Она любила, если все поражались ее цветущим видом. Когда ей было 68 лет, лорд Монжой просил позволения «утолить жажду своих взоров созерцанием единственного дорогого для них предмета», т. е. ее «хорошеньких глазок». В этом тоне разговаривали с ней все, желавшие снискать или сохранить ее милость. В 1601 г. лорд Пемброк, которому был только 21 год, мечтал получить разрешение предстать перед королевой и написал поэтому Сесилю (т. е. 68-летней Елизавете), что «ее несравненная красота является единственным солнцем, освещающим его маленький мир».
Когда сэр Роджер Астон привозил в эти годы Елизавете письма от короля Иакова, то его не приводили к ней немедленно, а оставляли в зале, откуда сквозь откинутую портьеру можно было видеть, как королева танцевала одна под звуки небольшой скрипки. Эта картина должна была ему доказать наглядно, как еще молода королева и как мало, следовательно, надежды у Иакова унаследовать в скором времени ее престол. Совершенно понятно, если Елизавета пришла в бешенство, когда в 1596 г. епископ Редди привел в одной из своих проповедей стихи Кохелета о безобразии старческого возраста, намекавшие довольно прозрачно на нее. Она требовала постоянной лести и немедленного послушания.
Наивысшим счастьем для ее деспотической натуры было видеть, как один из ее фаворитов, защищавших несимпатичный ей план, переходил мало-помалу на ее сторону. Лейстер сумел этим путем сохранить ее милость и передал это средство по наследству своим преемникам. Чтобы чувствовать ежедневно свое могущество, королева сеяла раздор между своими фаворитами, покровительствовала то одной, то другой партии и подмечала с глубоким наслаждением, как придворные разбиваются на группы. К концу ее жизни ее двор был одним из самых распущенных во всей Европе. Роджер Эшем был совершенно прав, говоря в одном стихотворении, что там можно было добиться значения только «ложью, лестью, обманом и лицемерием».
Приверженцы Сесиля и Эссекса образовали две враждебные партии. Если кто-нибудь пользовался покровительством одного из этих могущественных лордов, противная партия боролась с ним всеми средствами, как бы ни были велики его личные заслуги.
Впрочем, Елизавета изменилась в некоторых отношениях в последние годы к лучшему. Ода прежде доверяла так мало своей стране и ее боевым силам, что не нашла даже нужным при своей скупости подготовить как следует войну с Испанией: она вооружила очень плохо своих храбрых моряков. Однако после победы над испанской армадой она щедро тратила деньги на войну, которую ей не суждено было пережить и конец которой увидело только следующее столетие. Эта война вынудила Елизавету вмешаться в религиозную междоусобицу. Она была убеждена, что церковные дела подлежат ее личному рассмотрению, и никогда не допускала в нижней палате религиозных споров. Подобно Генриху IV, ее современнику, она относилась в глубине души индифферентно к религиозным вопросам. Она верила в какого-то очень неопределенного и отвлеченного Бога; считала все догматы пустыми вымыслами, каждое вероисповедание одинаково хорошим и одинаково плохим. Она смотрела на религиозные вопросы исключительно с политической точки зрения. Генрих IV принял в конце концов католицизм, но дал своим единоверцам свободу исповедания. Елизавета перешла по необходимости в протестантизм. Но веротерпимость была неизвестна в Англии. Закон требовал, чтобы каждый подданный исповедовал государственную религию. Обладая самостоятельным характером, Елизавета чувствовала некоторую симпатию к католицизму. Политика навязала ей враждебное отношение к папе. Но, принимая иностранных послов, она любила выставлять себя ревностной католичкой, не признающей только авторитета папы. Елизавета не скрывала своего презрения к протестантизму, хотя она была его главой и никогда не могла обходиться без его поддержки. Если ее причисляли к французским, нидерландским и шотландским еретикам, она видела в этом унижение и смотрела свысока на англиканских епископов, которых сама назначала и которые вполне заслужили ее презрение своим светским образом жизни. Но она ненавидела глубже всего всякое сектантство и всяких сектантов, особенно пуритан. Если в начале своего царствования она не преследовала их, то, вероятно, потому, что не могла обходиться без их поддержки. Но твердо укрепившись на престоле, она защищала во всех вопросах церковной политики авторитет епископов вопреки оппозиции парламента и присуждала неоднократно пуританских писателей за слишком откровенные, но совершенно невинные суждения об отношении светской власти к религии, к смерти или пожизненному заключению.
Величие Елизаветы покоилось главным образом на том здравом смысле, с которым она умела выбирать советников и назначать начальников. Однако в последнее десятилетие XVI в. умерли один за другим лучшие люди, окружавшие ее престол ореолом блеска. Первым умер Уэлсингем, дипломат, оказавший королеве так много услуг, спасший ей жизнь во время последнего заговора, имевшего своим последствием казнь Марии Стюарт, один из самых бескорыстных слуг, которому она отплатила черной неблагодарностью. Потом она лишилась таких выдающихся людей, как лорд Гонсдон, сэр Фрэнсис Ноулз, лорд Борлей, бывший настоящим регентом Англии во время ее царствования, и, наконец, Френсис Дрейк, этот славный герой испанской войны. Елизавета чувствовала себя покинутой и одинокой. Не радовало ее больше могущество, которого Англия достигла под ее скипетром. Старость давала себя чувствовать, несмотря на все старания скрыть ее от посторонних взоров. Она поняла, как мало, в сущности, любят ее те мужчины, которые по-прежнему преклонялись перед ней. Елизавета была последняя в своем роду. Мысль о наследнике так угнетала ее, что она назначила его только на смертном одре. Ей было известно, что ее министры и придворные поддерживают постоянно тайные сношения с королем Иаковом. Они падали перед ней ниц, когда она проходила мимо, выражали свой восторг перед ее свежей, неувядающей красотой, а потом спокойно вставали, стряхивали пыль со своей одежды и писали Иакову, что, вероятно, королева недолго проживет, потому что выглядит уж очень плохо. Они скрывали эти тайные сношения от королевы; но, хотя она и не знала в точности, кто именно из ее министров списывается с шотландским королем, она все-таки подозревала, что творится за ее спиной. Она, например, нисколько не обманывалась насчет двойной игры, которую вел Роберт Сесиль в то время, как он старался вывести Эссекса из себя и уничтожить его за непокорность, которая в глазах королевы была нисколько не предосудительнее его собственной подпольной интриги.
Елизавета чувствовала себя одинокой среди людей, которые ожидали с нетерпением ее смерти и рассвета нового времени. Она ясно поняла, что мужчины, осыпавшие ее льстивыми комплиментами, никогда не любили в ней женщину, и она возмущалась той мыслью, что они, по-видимому, перестали уважать в ней королеву.
В этом мрачном настроении она стала все чаще подчиняться своим тираническим капризам и относиться все суровее к прежним фаворитам, провинившимся перед нею.
Елизавета всегда негодовала на своих любимцев, если им приходила мысль жениться. Правда, они венчались тайно, но этим не спасались от ее гнева. Но теперь ее деспотические инстинкты приняли такие чудовищные размеры, что она стала вмешиваться в семейную жизнь даже тех из своих придворных, которые никогда не были ее любимцами.
Вероятно, ни одно из событий, случившихся накануне XVII в., так не опечалило Шекспира, как печальная судьба его знатного и славного покровителя лорда Саутгемптона. Он был влюблен в Елизавету Верной, кузину Эссекса. Королева запретила ему на ней жениться. Однако Саутгемптон не хотел отказаться от своей невесты. Он был упрям и вспыльчив. Он участвовал в экспедиции Эссекса и взял один испанский корабль на абордаж. Он был тогда еще очень молод. Однажды он играл во дворце с Рэлеем и другими придворными в primero. Он громко шумел и смеялся. Начальник дворцовой стражи Уиллоуби попросил его вести себя потише, так как королева рано ложится спать. В ответ Саутгемптон дал ему пощечину и вступил с ним в драку. Несмотря на запрещение королевы, он женился в августе 1598 г.
Елизавета наказала его тем, что заставила сидеть медовый месяц в Тауэре. Она с тех пор всегда косилась на него.
Гнев королевы вспыхнул с новой силой, когда она узнала о дружбе Саутгемптона с Эссексом. Когда этот последний дал в 1599 г. своему другу место начальника кавалерии, королева потребовала в наказание за своевольную женитьбу Саутгемптона его немедленного увольнения и заставила Эссекса уступить.
Никогда не следует упускать из вида суровое отношение королевы к первому покровителю Шекспира, чтобы понять его холодное равнодушие к ней. Ведь Шекспир не присоединил своего голоса к траурным песням английских поэтов, оплакивавших кончину королевы. Вопреки просьбе Четтля он не написал ни одного слова в ее похвалу. Он оценивал Елизавету приблизительно так, как в наше время известный историк Фруд.
Фруд признает мужество королевы, которую не устрашили никакие покушения и которая никогда не отказывалась из боязни за свою жизнь от каких бы то ни было предприятий. Он говорит с похвалой о ее расчетливости и трудолюбии. «Но, — продолжает он, — ее тщеславие было настолько же безгранично, насколько и мелочно. Она была искренна только в те минуты, когда говорила неправду. Письма ее и речи были так же фантастичны, как ее туалеты. Все ее мысли были так же обманчивы, как ее политика. Даже когда она молилась, она была неестественна и ее аффектация доходила до того, что она представала с ней перед лицом Всевышнего. Она не только игнорировала обязательства чести в отдельных случаях, но, по-видимому, не имела никакого представления о чести».
Мы дошли в биографии Шекспира до того момента, когда случилось одно событие, которое потрясло его больше всех остальных фактов, совершившихся в это время, т. е. злополучный мятеж Эссекса и Саутгемптона, за которым последовала казнь первого и пожизненное заключение второго.
Глава 30
Елизавета. — Эссекс. — Бэкон
Чтобы лучше понять эти события, необходимо бросить взгляд назад. Мы видели, что Эссекс вытеснил в 1587 г. Рэлея из сердца королевы. Он с самого начала соединял льстивые речи любовника с высокомерным тоном счастливого соперника, тоном совершенно новым для королевы, приводившим ее не столько в негодование, сколько в удивление. Вот один факт из ранней истории их отношений.
Сестра Эссекса, Пенелопа, вышла против своей воли за лорда Рича. Филипп Сидней любил ее и воспел под псевдонимом Стеллы. Ни для кого не было тайной, что он пользовался ее взаимностью. Девственная королева, так строго следившая за нравственностью своих придворных, посетила в 1587 г. в сопровождении Эссекса замок графа Уоррика. Присутствие леди Рич ее возмутило. Королева потребовала, чтобы она покинула дворец. Эссекс стал уверять, что Елизавета оскорбила его вместе с сестрой только в угоду Рэлею и в полночь уехал с леди Рич. Он хотел отправиться в Нидерланды, принять участие в войне, но королева, которая уже не могла без него обходиться, велела его вернуть.
Когда Англии грозила Армада, его также хотели удержать дома. Он не участвовал бы также в войне 1589 г., если бы не покинул тайком Англии, оставив королеве письмо, в котором говорил, «that he would return alive at no ones bidding» (что он вернется жив и здоров без всякого приказания).
Однако после блестящих подвигов под стенами Лиссабона Эссекс должен был вернуться, так как Елизавета потребовала в гневном письме его немедленного возвращения. Потом они помирились. Но вслед за этим примирением практическая королева стала притеснять своего любимца из-за 3000 фунтов, данных ему взаймы, и Эссекс для уплаты долга должен был продать свое имение Кейстон. Правда, он получил взамен этого очень выгодную монополию сладких вин. Когда королева лишила его впоследствии этой монополии, его неудовольствие достигло крайних пределов.
Мы видели также, что королева, узнав в 1590 г. о тайном браке Эссекса, пришла в бешенство, и что она распространила свой гнев также на невесту. Но затем он вновь вошел в милость, и Елизавета попросила его в самый разгар французской кампании в 1591 г вернуться на неделю в Англию, причем все это время было посвящено пышным празднествам. Королева плакала, когда с ним расставалась, и приказала ему не подвергать свою жизнь ненужным опасности. Эссекс, впрочем, не обратил никакого внимания на это монаршее приказание.
Следующие четыре года Эссекс прожил в Англии, поглощенный честолюбивыми планами. Он понял, что сын Борлея, сэр Роберт Сесиль, является главной помехой на пути к возвышению. К нему в скором времени примкнули все ненавидевшие Сесиля и его фамилию. Таким образом, случилось, что Френсис Бэкон, двоюродный брат Сесиля, тщетно выпрашивавший выгодные должности сначала у отца, потом у сына, стал приверженцем Эссекса. Кто хотел выбраться в люди, должен был непременно примкнуть к одной из двух партий. В 1593 и 1594 гг. Эссекс то и дело хлопотал у королевы о какой-нибудь должности для Бэкона. Но она не была, по-видимому, убеждена в его надежности. К тому же она не могла забыть, что он выразился однажды в парламенте неосторожно о каком-то правительственном проекте. Поэтому она отвечала на все просьбы Эссекса отказом. Эссекс обижался и дулся. Он подарил своему protege участок земли ценой в 1800 ф. По крайней мере, Бэкон продал этот участок за такую сумму. Сам Эссекс ценил его дороже. По всему видно, этот подарок был вдвое больше того, который получил по плохо засвидетельствованной традиции Шекспир от Саутгемптона.
С этих пор Бэкон является бдительным сторонником и клиентом Эссекса, который доставляет ему, со своей стороны, всевозможные льготы и повышения. За это Бэкон отдает свое перо в распоряжение Эссекса. Сохранились три письма этого последнего, адресованные на имя его юного кузена Рутленда, полные разумных советов, как вести себя во время заграничного путешествия, чтобы вынести из него наивозможно большую пользу (1596). Во многих местах этих писем встречаются мысли Бэкона и сквозит его стиль. В его сочинениях можно подобрать не одну параллель. Бэкон подсказал здесь, как и в других местах, Эссексу основную мысль и общий план его литературных опытов. Он прекрасно понимал, что королева недовольна Эссексом за его военное честолюбие, за его желание таким путем добиться народной популярности. Он заметил также, что враги Эссекса выдвигают его тщеславие как постоянную помеху при заключении мира с Испанией, мира, которого нельзя было миновать. Вот поэтому он старался внушить своему покровителю мысль, что для него будет в высшей степени выгодно показать свою любовь к мирным занятиям, свое стремление к приобретению полезных сведений и христианских добродетелей. А лучшим средством к достижению этой цели являлись, по его мнению, письма, адресованные, правда, на имя какого-нибудь друга, но предназначенные, собственно, для представления ее величеству.
Около того же времени подружился с Эссексом близко и гораздо искреннее Энтони Бэкон, брат Френсиса. Он помог лорду войти в сношения со всеми иностранными дворами, и Эссекс соперничал одно время своим знанием политических тайн Европы даже с английским министерством иностранных дел.
Выказав много рвения при разоблачении мнимого заговора врача Родриго Лопеса, Эссекс снова повысился в глазах королевы. Благосклонное отношение королевы к нему возросло бы еще заметнее после его геройских подвигов под стенами Кадикса, если бы не могущественное влияние его врага Роберта Сесиля. Жадная Елизавета стала жаловаться на ничтожность добычи (около 13 000 фунтов), хотя только один Эссекс настаивал на необходимости воспользоваться выгодным положением и захватить индийский флот, но последний спасся, потому что в военном совете все голоса были против Эссекса.
Желая смягчить гнев королевы, Бэкон, связавший свою судьбу с судьбою Эссекса, написал ему 4 октября 1596 г. письмо, полное мудрых советов, каким образом опровергнуть мнение Елизаветы о его необузданном темпераменте. Этим советам мог бы следовать царедворец Бэкон, но не откровенный Эссекс, который чувствовал после каждого смиренного поступка неодолимое влечение сказать гордое, высокомерное слово.
В конце 1596 г. леди Бэкон обвинила покровителя собственного сына в дерзком обращении с одной из придворных дам. Эссекс отрицал основательность этого обвинения в частности, но признавался, что вообще грешен в «подобных поступках» (similar errors).
В 1597 г. Эссекс, постоянно мечтавший о новых подвигах, предпринял с 20 кораблями и шестью тысячами человек экспедицию — на Азорские острова, которая кончилась полнейшей неудачей благодаря его неопытности и неумелому ведению дел. Королева встретила его холодно, тем более, что он за последнее время обошелся очень плохо со своим товарищем Рэлеем. И вот Эссекс пишет королеве нежные письма, чтобы умилостивить ее, но назначение старого заслуженного Говарда лордом-адмиралом взбесило его. Говард получил, таким образом, перевес над ним в государственном совете, тогда как Эссекс был крепко убежден, что только он, победитель при Кадиксе, имеет право на это почетное место. Впрочем, Елизавета назначила Эссекса «обермаршалом» Ирландии и таким образом возвысила его снова над Говардом. Кроме того, он получил ценный подарок в размере 7000 фунтов и добился (в первый и последний раз) у королевы аудиенции для своей матери, леди Летиции, все еще находившейся в опале за свой брак с Лейстером и вышедшей на 49-м году в третий раз замуж за сэра Кристофера Блоунта.
Но перемирие между Эссексом, с одной стороны, и королевой и ее двором, с другой, продолжалось недолго. В 1598 г. его обвинили в том, что он находится в интимных отношениях одновременно с четырьмя придворными дамами (Елизаветой Соутвелл, Елизаветой Бридж, миссис Рассел и леди Мэри Говард). Кажется, это обвинение не было безосновательно. Затем поднялся жаркий спор из-за вопроса, продолжать ли или окончить войну с Испанией. Согласно желанию Эссекса было решено не прекращать военных действий. Но Эссекс желал доказать во что бы то ни стало, что он вовсе не безусловный сторонник войны, и издал в 1602 г. небольшой трактат «Самозащита графа Эссекса против обвинения, вызванного ревностью и злонаме-рением, будто он является главной помехой при восстановлении мира и спокойствия в его стране».
В сочинениях Бэкона сохранился очень любопытный анекдот, относящийся к тому же году, ко дню рождения королевы. Он доказывает страсть Эссекса посмеяться над Рэлеем. В этот день придворные устраивали, по старому обычаю, турнир в честь королевы, причем облекались в рыцарские костюмы. Все знали, что Вальтер Рэлей появится в своем обыкновенном мундире коричневого и оранжевого цвета, опушенным черным барашком. Желая позлить Рэлея, Эссекс принял участие в турнире, сопровождаемый 2000 всадников, одетых в тот же самый костюм, так что Ралей и его свита казались только небольшим отрядом, принадлежавшим к свите Эссекса.
В июне или июле месяце 1598 г. между королевой и Эссексом произошла такая грубая и своеобразная сцена, каких раньше между ними никогда не бывало. Повод был самый ничтожный: назначение какого-то чиновника в Ирландию. Эссекс привык позволять себе все по отношению к королеве, решительно все. Он заявил ей (по свидетельству Рэлея, впрочем, быть может, он сказал эти слова при другом случае), что «ее действия так же кривы, как и ее стан». При этом он повернулся к ней спиной и бросил на нее презрительный взгляд. Она ответила пощечиной и воскликнула: «Убирайся и повесься!» Эссекс схватился за рукоятку меча и объявил, что не снес бы такого оскорбления даже от Генриха VIII. Он не показывался несколько месяцев при дворе. В октябре королева простила ему, но едва ли искренно и от души. Так как приходилось подавлять ирландское восстание, то необходимо было забыть хоть на время все мелкие ссоры. О’Нейл, граф Таиров, собрал снова войско и взбунтовал весь остров. Общественное мнение называло — не совсем справедливо — Эссекса единственным человеком, способным прекратить ирландский мятеж. Однако он медлил принять предложение. Каждый придворный, особенно же вождь дворцовой партии, знал, как опасно отлучаться на долгое время. Он должен был опасаться, что враги воспользуются его отсутствием и очернят его в глазах всемогущей государыни так, что испортят ему всю карьеру. Елизавета воплощала в это время, подобно Людовику XIV, и монарха, и конституцию в одном лице. Гнев ее предвещал гибель; единственным источником благополучия была ее милость.
Вот почему Эссекс добивался так энергично позволения покидать свой пост, когда ему вздумается, и лично отдавать отчет королеве. И вот почему он годом позже, когда ему было запрещено вернуться в Англию, разорвал все цепи и преступил закон. Он знал, что погиб безвозвратно, если не добьется личного свидания с королевой…
В марте 1599 г. Эссекс был назначен главнокомандующим английских войск в Ирландии. Он получил приказ потушить ирландский мятеж и пощадить Таирова только в том случае, если он покорится искренно и добровольно. Но вместо того, чтобы обратить главное внимание на крепость Ольстер, как главный очаг восстания, Эссекс долго оставался в бездействии и отправился затем в Минстер. Один из его подчиненных, сэр Генри Харрингтон, потерпел поражение как благодаря собственной бездарности, так и вследствие трусости офицеров и солдат. Его судили военным судом в Дублине. Каждый десятый солдат и он сам были расстреляны. Так прошло лето. Болезни и дезертирство сократили 16-тысячное войско, с которым Эссекс пришел в Ирландию, до четырех тысяч. Вследствие этого Эссексу снова пришлось отложить поход на Ольстер. Тогда разгневанная королева категорически запретила ему покидать без ее разрешения Ирландию.
В начале сентября 1600 г. Эссекс настиг со своим малочисленным войском бодрые и свежие отряды Тайрона, занявшие выгодную позицию и ожидавшие приближения англичан. Эссекс отказался от нападения и вошел с Тайроном в переговоры. Шестого сентября они беседовали около получаса друг с другом. Было заключено 14-недельное перемирие; каждые шесть недель, вплоть до первого мая, оно возобновлялось. Но Эссекс отказался изложить этот договор письменно, ввиду данного Тайрону обещания, который опасался, что документ попадет в руки испанцев и послужит уликой против него.
Конечно, такой результат ирландского похода не отвечал ожиданиям королевы. Нет ничего удивительного, что она пришла в страшный гнев. Лишь только она узнала обо всем случившемся, как поспешила запретить какие бы то ни были переговоры.
Эссекс решил, что враги его оклеветали. Он вздумал спасти свое положение новым противозаконным актом. В сопровождении только шести человек — это число возросло в воображении обвинительной власти в толпу из двухсот избранных людей — граф отправился в Англию, чтобы оправдать себя, прискакал в замок Нонсеч, где тогда находилась королева, приказал отпереть все двери и бросился в своем запыленном и загрязненном дорожном костюме к ногам королевы, которую застал в 10 часов утра (28 сент.) в ее спальне, с распушенными волосами. Обаяние, производимое его личностью на Елизавету, было еще так могущественно, что она в первую минуту обрадовалась его появлению. После того, как он переоделся, королева дала ему полуторачасовую аудиенцию.
Пока все обстояло благополучно. Эссекс обедал вместе с королевой, рассказывал про Ирландию, про страну и народ. Однако вечером ему объявили комнатный арест вплоть до объяснения с лордами государственного совета. На следующий день ему запретили покидать свой дом и поставили под надзор его друга, лорда-хранителя печати. Однако королева питала к Эссексу прежние нежные чувства. Она доказала это во время его болезни. В середине декабря она послала к нему восемь врачей, которые нашли его положение безнадежным. Однако он поправился.
В это время, когда дела Эссекса находились в таком плачевном состоянии, все его друзья впали также в немилость.
В одном письме Роуленда Уайта к сэру Роберту Сиднею, относящемся к 1599 г., встречается следующая характерная фраза: «Лорд Саутгемптон и лорд Рутленд не показываются при дворе. Они проводят свое время в Лондоне и посещают ежедневно театры!»
Подобно тому как Саутгемптон женился на кузине Эссекса, так точно Рутленд — на дочери леди Эссекс от ее первого брака с Филиппом Сиднеем. Оба они не покидали в несчастье своего более высокопоставленного родственника и последовали за ним в темницу.
Пятого июня 1600 г. Эссекса судили, но по особенному снисхождению не в «Звездной Палате», а перед экстренным собранием из четырех графов, двух баронов и четырех судей. Они заседали на квартире лорда-канцлера в Йорк-хаусе. Публика не была допущена на эти заседания. Главный смысл процесса заключался в том, что королева желала оправдать арест Эссекса в глазах общества, боготворившего его и считавшего его невинным.
Глава 31
Процесс Эссекса и Саутгемптона
Обвинительный акт, составленный против Эссекса, не отличался особенной строгостью. В нем халатное ведение ирландских дел не объяснялось государственной изменой и подчеркивалось только, что он ослушался приказания королевы и вступил в бесславные, опасные переговоры с Тайроном. Френсис Бэкон сначала не принимал участия в заседаниях суда. Но так как он предложил королеве свои услуги в этом процессе, то ему поручили привлечь Эссекса к ответственности за то, что он не отказался от сочинения некоего Хейворда, посвященного ему в неподобающих выражениях. Однако Бэкон пошел дальше. Он обратил почему-то очень настойчиво внимание суда на несколько страстных фраз в одном письме Эссекса к лорду-канцлеру, где говорилось о «зачерствелом сердце» королевы и о ее гневе, «подобном грозе».
Человек, стоявший так же близко к Эссексу, как Бэкон, и менее дороживший благосклонностью королевы, не принял бы подобного поручения. А Бэкон не только навязался, но пошел даже дальше, чем от него требовалось.
Едва ли он имел поэтому впоследствии право сказать в своей «Самозащите», что им руководило прежде всего желание быть адвокатом Эссекса перед лицом королевы. Впрочем, он считал, кажется, новое примирение между королевой и Эссексом — самым вероятным исходом этого дела. Весьма возможно, что он настраивал так же, как и впоследствии, королеву в частных беседах на более миролюбивый тон.
Приговор, произнесенный лордом-канцлером, был не очень строг. Эссекс обязывался отказаться на время от всякой общественной деятельности и не выходить из своего дома, «пока королева не удостоит вернуть ему вместе с прощением свободу».
Бэкон не считал, по-видимому, дело Эссекса бесповоротно проигранным. В осторожно написанном письме он старался объяснить ему свое поведение и тотчас же получил от благородного графа прощение, которое едва ли заслуживал. Бэкон заявлял, что после интересов королевы и интересов родины, — судьба Эссекса ему ближе всего. Он составил для него письмо, которое тот должен был представить королеве, затем письмо, адресованное будто бы на имя Эссекса его столь преданным братом Энтони, и, наконец, ответное послание самого Эссекса, — настоящий шедевр дипломатического искусства. Все эти письма, доказавшие удивительную способность Бэкона подделаться под слог двух столь разнообразных людей, должны были при случае попасть в руки королевы. Бэкон позаботился в тех письмах с макиавеллистической тонкостью о том, чтобы выставить себя перед королевой в самом благоприятном свете. Эссекс был как будто убежден, что Бэкон перешел на сторону королевы, а Энтони полон надежды, что Елизавета окажет ему (т. е. Бэкону) ту милость, которую он заслужил «своими поступками и тем, что он выстрадал». Однако Бэкону не удалось повлиять на Елизавету так, чтобы она вернула Эссексу прежнее место в ее сердце. Правда, в августе, следовательно, через несколько месяцев после приговора Эссекс был отпущен на свободу, но доступ к королеве ему был запрещен, и ему намекнули, что он все еще находится в немилости. Кроме родственников его почти никто не навещал. Ко всем этим невзгодам присоединилось еще то обстоятельство, что он запутался в долгах. Упомянутая винная монополия, которая была главным источником его доходов и от которой зависело его экономическое спасение, прекратилась в следующем месяце.
Эссекс переходил от надежды к страху, от грусти и раскаяния к мятежнической ярости так быстро, что вскоре потерял всякое внутреннее равновесие. То он писал королеве смиренные письма, исполненные льстивых слов, то говорил о ней, — по свидетельству его друга сэра Джона Харрингтона — так, как не выражается о женщине мужчина, обладающий здравым умом в здоровом теле.
Катастрофа надвигалась. Иссякли источники доходов. Исчезла надежда на королеву. Кроме того, Эссекса мучил ложный страх, будто враги, лишившие его богатства, хотят лишить его также жизни. Он вообразил, что Роберт Сесиль ударился в интриги и мечтает передать престол испанской инфанте. Полный отчаяния, он решил, что необходимо как для собственной безопасности, так и для блага родины принудить хотя бы силой королеву принять его и отстранить от себя теперешних советников. Так как он опасался, что его могут опять схватить и на этот раз заключить в Тауэр, то он в 1601 г. решил привести в исполнение давно лелеянный план — захватить врасплох весь двор.
Саутгемптон отдал свой замок Друри-хаус в распоряжение партии недовольных. Они наметили в общих чертах план, как взять замок Уайтхолл, причем Эссекс должен был заставить королеву принять его. Время исполнения заговора должно было совпасть с прибытием шотландских послов. Пятого февраля несколько друзей лорда отправились в театр «Глобус» и обещали каждому актеру одиннадцать лишних шиллингов, если они поставят седьмого числа драму о низложении и убийстве короля Ричарда II. В феврале Эссекс созвал своих приверженцев в свой дворец Эссекс-хаус. Правительство, встревоженное этими известиями, вызвало его в Лондон 7 февраля 1601 г. Эссекс извинился нездоровьем и пригласил немедленно своих друзей к себе. Вечером того же дня у него собралось 300 человек. Однако окончательный план предприятия не был составлен. Эссекс сообщил, что его жизнь находится в опасности и что в этом он подозревает Рэлея и Кобгема. Утром 8 февраля явился лорд-канцлер с тремя другими лордами, чтобы узнать, по приказанию королевы, обо всем совершающемся в замке. Он потребовал, чтобы Эссекс вступил с ним в переговоры, и заявил, что королева выслушает все его жалобы, если он только распустит своих приверженцев. Эссекс говорил очень неопределенно, будто покушаются его убить в постели, будто с ним поступили вероломно и т. п. Тем временем в толпе заговорщиков раздавались крики: «Милорд, они обманывают вас! Они хотят вас погубить! Вы теряете время!» Эссекс повел лордов в свой дом. Его вооруженные друзья продолжали кричать: «Убейте их!», «В окно лорда-канцлера!» или «Задержите их в качестве заложников!» Эссекс запер лордов как пленных или заложников в своей библиотеке, затем он вернулся, и с криком «во дворец!» все хлынули из ворот.
В самый последний момент Эссекс узнал, что двор уже принял все меры, стража удвоена, вход в замок заперт. Ввиду этого было решено взбунтовать предварительно город. Для этого понадобились лошади. Хотя за ними послали, но их все еще не было.
Все горели таким нетерпением, что не дождались прибытия лошадей. Толпа, состоявшая из нескольких сот человек с Эссексом, Саутгемптоном, Рутлендом, Блоунтом и другими знатными кавалерами во главе, отправилась пешком по улицам Сити, не имея ни настоящего предводителя, ни ясно выработанного плана. Эссекс не обратился с речью к народу, а кричал только, как полоумный, что его хотят убить. Стеклось множество народа, примкнувшего к шествию. Но никто не был вооружен: все являлись только в качестве зрителей. Тем временем по городу разъезжали, по распоряжению правительства, высшие сановники, извещая народ о том, что Эссекс бунтовщик. После этого некоторые из его соучастников отделились от него. Против него были высланы войска. Эссекс добрался с большими затруднениями вместе с остатком своих приверженцев по реке в Эссекс-хаус. Замок был осажден. К вечеру Эссекс и Саутгемптон открыли переговоры. В десять часов они сдались со своими людьми под условием рыцарского обхождения и законного процесса. Пленные были отведены в Тауэр.
Здесь Бэкон вмешивается вновь и на этот раз роковым образом в жизнь Эссекса. Он, собственно, не был обязан принять участие в процессе. А если бы даже его должность принуждала его к этому, то такт требовал воздержаться от такой роли. Бэкон не был прокурором, а только членом «ученого совета»! Так как он был другом Эссекса, то правительству его участие в процессе было очень желательно. Он был одновременно и свидетелем, и адвокатом. Бэкона пригласили не в качестве «члена ученого совета», а только «как друга обвиняемого».
29 февраля собрание из 25 пэров и 8 судей судило Эссекса и Саутгемптона. Уже 17 числа в Тауэре был обезглавлен Томас Лей, один из капитанов ирландской армии Эссекса, который 8 февраля пытался насильно проникнуть во дворец.
Теперь, когда дело Эссекса было заведомо проиграно, Бэкон стремился только к тому, чтобы оказать услуга торжествующей партии и прослыть верным подданным королевы. В своей первой обвинительной речи против Эссекса он доказывал, что попытка Эссекса взбунтовать город, которая была в действительности импровизированной, подготовлялась в продолжение трех месяцев, и что Эссекс лгал, утверждая, что только страх перед могущественным врагом побудил его к такому шагу. Он сравнивал Эссекса с Каином, с первым убийцей, который ведь тоже оправдывал свое преступление, и с Пизистратом, который, ранив себя, бегал по улицам Афин с криком, что его хотели убить. На самом деле у лорда Эссекса не было врагов. Эссекс возражал, что мог бы привести свидетельство самого мистера Бэкона, который обещал ему заступиться за него перед королевой. Ведь он написал ей с большим искусством письмо, которое он, Эссекс, подписал своим именем. Он написал также письмо будто бы от имени брата Энтони, с ответом Эссекса, и все это должно было быть представлено королеве. — «Оба письма принес мне Госнолд и в том, которое было написано от моего имени, Бэкон защищал меня в высшей степени тепло от моих врагов, на которых указывал достаточно прозрачно».
Этот ответ задел Бэкона за живое.
На другой день он обрушился на своего благодетеля с еще более злобными и опасными доводами. Он сравнивал Эссекса со знаменитым герцогом Гизом, тоже дворянином и мятежником. «Не на свою свиту рассчитывали вы, — восклицал Бэкон, — а на поддержку города! Когда герцог Гиз поднял восстание, он явился в одном только белье, в сопровождении только восьми человек, на улицы Парижа и нашел среди горожан ту помощь, которую вам здесь — слава Богу! — не оказали. И король должен был спасаться в костюме пилигрима от ярости мятежников».
Так как Эссекс упорно отрицал, что стремился к престолу и хотел покушаться на жизнь королевы, то такое сопоставление было для него крайне опасным. Эссекс и Саутгемптон были осуждены на смертную казнь.
Особенный интерес представляет для нас расспрос, которому подвергся покровитель Шекспира, и данные им на суде показания. В одном частном письме от 24 февраля Джон Чемберлен пишет: «Граф Саутгемптон говорил очень хорошо, хотя, на мой взгляд, слишком пространно. Он защищался очень энергично, как человек, не желающий умирать. Но все тщетно. Это было немыслимо. Потом он стал молить о пощаде и растрогал многих. Большинство было к нему хорошо расположено. Однако мне лично показалось, что он вел себя слишком малодушно перед гордым врагом, слишком разыгрывал подданного и слишком боялся смерти».
Из собственных показаний Саутгемптона следует, что он при своем прибытии в Ирландию узнал о сношениях Эссекса с шотландским королем. Эссекс пытался объяснить Иакову, что для него самого будет в высшей степени опасно, если правительство Англии будет находиться в руках их общих врагов. Пусть он пришлет войско. Тогда он, Эссекс, окажет ему поддержку своими ирландскими отрядами, насколько это будет совместимо с его службой королеве. Вследствие уклончивого ответа короля предприятие не состоялось, и Саутгемптон вскоре раскаялся, что пожелал ему благополучного исхода. Лишившись своего ирландского поста, он отправился в Нидерланды: одна только мысль вдохновляла его — расположить к себе снова королеву. В это время его друг и родственник Эссекс пригласил его к себе и упросил помочь ему добиться доступа к королеве. Скрепя сердце последовал он этой просьбе, не ради того, чтобы восстать на королеву, а только из любви к Эссексу. Теперь он раскаивается в своем поступке, гнушается своим поведением и клянется на коленях посвятить королеве свою жизнь, если ее у него не отнимут.
Саутгемптон производил впечатление вспыльчивого, но мягкого человека, находившегося под влиянием более сильной натуры. Он не позволил себе ни одного неблагородного замечания относительно своего друга и родственника, дело которого было заведомо проиграно. Саутгемптона помиловали и присудили к пожизненному заключению.
Эссекс вышел из предстоявшего ему тяжкого испытания еще с меньшей стойкостью. Когда он узнал, что присужден к смерти и что некоторые из его приближенных разгласили тайные беседы и собрания в Друри-хаусе, происходившие по его инициативе, он за несколько дней до своей смерти настолько потерял внутреннее равновесие и чувство личного достоинства, что осыпал родственников, сестру, друзей, секретаря и, наконец, самого себя целым потоком обвинений.
А его недруги не дремали.
Даже Рэлей, раздраженный не только старой враждой, а также последним обвинением Эссекса, будто он покушался на его жизнь, боясь, что прежний любимец королевы снова может быть помилован, написал Сесилю письмо, убеждая его «не смягчаться», а поскорее привести в исполнение смертный приговор. Правда, такое неблагородное поведение как-то трудно вяжется с его гордым характером.
Елизавета подписала сначала приговор, но потом разорвала бумагу; 24 февраля она подписала вторично, и 25 февраля 1601 г. голова Эссекса пала под тремя ударами топора.
Однако население Лондона не хотело признать своего любимца изменником. Оно исполнилось ненавистью к его палачу и к тем людям, которые, подобно Бэкону и Рэлею, ускорили своей враждой исполнение смертного приговора.
Правительство, желая оправдать свое поведение, издало брошюру «Об измене покойного графа Эссекса и его соучастников», в которой доказывалось преступление знатного лорда; Бэкон принимал деятельное участие в ее составлении. Хотя, правда, один из самых выдающихся биографов Бэкона, Джеймс Спеддинг пытался доказать, что содержание брошюры вполне согласуется с фактами, но ему не удалось объяснить то характерное и веское обстоятельство, что в ней совсем не упоминается о выяснившемся на допросе полном нежелании Эссекса прибегать к насилию, и что сама попытка взбунтовать Лондон была сама по себе крайне наивна и нелепа. Везде, где встречались в тексте подобные заявления, отмечено на полях иногда почерком Бэкона, иногда почерком прокурора Кока сокращенное слово «от», т. е. «to be omitted» (пропустить). Так как протоколы дошли до нас, то их еще и теперь можно сравнить с правительственной брошюрой.
Бэкон, так богато одаренный природой, проникнутый сознанием своего интеллектуального значения, не был безусловно плохим человеком. Но сердце его было холодно; он никогда не отличался благородством. Он стремился самым недостойным образом к земным благам. Он был весь в долгах. А он так любил красивые дома и сады, массивные серебряные сервизы, крупные доходы и все, что облегчает приобретение подобных благ: высокие чины и почетные должности. Правда, ему следовало бы предоставить все эти удобства людям, которые были одарены меньшими способностями.
Он провел половину своей жизни попрошайкой, получал один обидный отказ за другим и, тем не менее, всегда смиренно благодарил. Только один раз в молодые годы он высказал в парламенте чувство справедливости и независимость взглядов. Однако, когда он заметил, что он этим вызвал негодование свыше, он так сердечно раскаялся в неосторожности, словно совершил настоящее преступление против политической нравственности, и так искренно умолял королеву о прощении, будто его уличили в краже со взломом. В своем поведении относительно Эссекса он доказал всю низость своего характера. Он любил повторять изречение, которое уже Цицерон подвергнул уничтожающей критике (в трактате «О дружбе»): «Любить следует лишь в той степени, чтобы потом быть в состоянии возненавидеть, а ненавидеть так, чтобы нетрудно было впоследствии полюбить». Именно так любил он Эссекса. Если его честолюбие достойно вообще оправдания, то оно заключается в том смягчающем обстоятельстве, что он имел самое высокое представление о своем значении для науки и был крепко убежден, что если он, представитель науки, займет высшие государственные должности, то от этого выиграет наука.
Если вы посмотрите на портрет Эссекса, на эти правильные красивые черты лица, на это аристократическое и вместе с тем кроткое выражение глаз, на этот высокий лоб, окаймленный курчавыми волосами, на эту роскошную русую бороду, — то вы поймете, что народ должен был его избрать своим любимцем. Полная приключений жизнь соткала вокруг него из лучей славы ослепительный ореол. Хотя он дважды доказал свою полную несостоятельность как военачальник, но это не уменьшило восторженного отношения к нему толпы. Он не был ни дипломатом, ни стратегом, он был просто откровенным, вспыльчивым человеком, лишенным дипломатического такта; он был храбрым солдатом, совершенно незнакомым с наукой тактики. Он переоценивал, конечно, свое влияние на королеву. Он никак не хотел понять, что королева, находившаяся под обаянием его личности, ни во что не ставила его политические советы. Он был слегка поэтом, писал премилые сонеты, протежировал людям, отличавшимся умом и храбростью, был неимоверно щедр к друзьям и клиентам и пользовался искренними и теплыми симпатиями современных писателей и поэтов. Ему посвящено бесконечное количество книг.
Трагическая смерть Эссекса отразилась, без сомнения, на жизнерадостном, веселом расположении королевы. Но рассказы о том, как ее потрясла смерть любимца, и о том, что ей слишком поздно вручили перстень Эссекса, являются, вероятно, простой легендой. Несомненно, во всяком случае, что Елизавета, разговаривая 12 сентября 1601 г. с герцогом Бироном, послом Генриха IV (а ему не было никакой причины лгать), посетившим ее со свитой в 300 человек, о казненном любимце, вынула из шкафчика его череп и показала его Бирону с насмешливой улыбкой. Десять месяцев спустя этот фаворит французского короля потерпел за подобное же преступление ту же самую позорную смерть. Его именем Шекспир назвал героя одной из своих первых комедий.
Смерть Эссекса огорчила еще меньше Бэкона. После кончины королевы, когда друзья Эссекса пользовались большим значением при дворе Иакова, Бэкон был настолько бесстыден, что отправил Саутгемптону (хотя он еще находился в Тауэре, но считался уже силою) письмо, где выражал свое опасение, что лорд отнесется к нему с недоверием. Он говорил в заключение: «Клянусь Богом, великая перемена, происшедшая в государстве, не произвела во мне по отношению к вам никакой перемены кроме того, что теперь я могу быть спокойно тем, чем я, как вы хорошо знаете, искренно был всегда».
Разумеется, тогда все подробности процесса Эссекса были в Лондоне не так хорошо известны, как мы теперь их знаем. Но мы видим, что общественное мнение было возмущено поведением Бэкона, презирая в нем изменника, который ревностнее других ускорил печальный конец своего покровителя. Мы видим далее, что и Рэлей, за которым числилось такое множество заслуг, становится с этого момента одним из самых непопулярных людей в Англии. Все попытки очернить Эссекса в глазах толпы не приводили ни к чему. Она по-прежнему его боготворила.
Если теперь поставить вопрос — как отнесся ко всем этим событиям, взволновавшим английский народ, Шекспир, бывший еще так недавно в хороших отношениях с Саутгемптоном и косвенно с Эссексом, то придется ответить: он горячо сочувствовал обвиняемым, принимал их судьбу близко к сердцу и негодовал на их врагов.
Если, с другой стороны, остается бесспорным тот факт, что радостное настроение Шекспира начинает исчезать как раз к тому времени, что все впечатления, получаемые им от жизни и от людей, становятся именно теперь все сумрачнее и сумрачнее, то позволительно предположить, что одной из первых причин возникающей в нем меланхолии является злосчастная судьба, постигшая Эссекса, Саутгемптона и их друзей.
Глава 32
1601 год в жизни Шекспира. — Сонеты и Пемброк
Переворот в душевной жизни Шекспира относится приблизительно к 1601 г.
Было бы совершенно естественно усмотреть одну из причин его усиливающейся с этого момента меланхолии во внешних, политических событиях, которые теперь приближались к своему концу Однако с гораздо большим основанием следует искать объяснения этого внутреннего перелома в фактах его личной биографии. Мы должны поэтому посмотреть, как освещают произведения, относящиеся к этому году, частную жизнь и душевное состояние поэта.
И вот среди произведений Шекспира есть одно такое, которое лучше остальных позволяет нам заглянуть в его сердце, и которое, как доказано новейшими и остроумнейшими знатоками и исследователями его сочинений, возникло именно в 1601 г. Это собрание его сонетов[12]. Мы должны поэтому прежде всего призвать к ответу эти замечательные стихотворения. Внешние факты могут, конечно, окрасить чувства и мысли человека в более светлый или более темный цвет, но не они являются основной причиной его жизнерадостного или печального настроения. Если в его личной жизни достаточно мотивов для тоски, то даже всеобщее политическое благоденствие не смягчит его горя. Если он, с другой стороны, чувствует себя совершенно счастливым, то тяжелое общественное настроение не нарушит гармонии его внутреннего мира. Но когда события общественной жизни и факты личной биографии приведут его одинаково к мрачному мировоззрению, тогда он будет вдвойне несчастен.
Сонеты Шекспира упоминаются впервые в «Palladis Taraia» Миреса в 1598 г., в известном отрывке, посвященном нашему поэту: здесь сказано, что его «сладостные сонеты» ходят по рукам его «интимных друзей». В следующем году печатаются в сборнике «Страстный пилигрим», предпринятом воровским образом от имени Шекспира книгопродавцем Джаггардом, те два замечательные сонета, которые помещены теперь под номерами 138 и 144, хотя в более старой редакции, чем современная. В течение следующих десяти лет сонеты Шекспира нигде не упоминаются. Но в 1609 г. книгопродавец Томас Торп издает in-quarto «никогда еще не напечатанные» сонеты Шекспира (Shakspeare’s Sonnets). Шекспир едва ли держал корректуру этого издания, но положил, быть может, в его основание собственную рукопись.
Это издание снабжено посвящением, составленным книгопродавцем каким-то натянутым слогом и вызвавшим бесконечное количество гипотез и догадок. Оно гласит:
То the onlie begetter of
These insuing sonnets
Mr. W. H. All Happinesse
And that eternitie
Promised By
Our ever-living poet
Wisheth
The well wishing Adventurer in
Setting
Forth. Т. T.
Значение самой подписи совершенно ясно, так как 20 мая 1609 г. в книгопродавческие каталога была записана под именем Томаса Торпа «книга, озаглавленная Сонеты Шекспира». Но уже в прошлом столетии поднялся спор, продолжавшийся в течение всего XIX века, кого следует подразумевать под словом «begetter» (в переводе — творец, или производитель, или вдохновитель?); т. е. кому посвящены эти сонеты, и часто ставился вопрос кто этот таинственный Mr. W. Н. Искусственное выражение «begetter» было подвергнуто самым ухищренным толкованиям, буквы W. Н. вызывали самые невероятные гипотезы, а личность, которой посвящены сонеты, дала повод к самым нелепым догадкам.
Кажется удивительным, — однако это сущая правда — что в первые 80 лет XVIII века все были убеждены, что сонеты Шекспира обращены к женщине, написаны в честь его возлюбленной. Только в 1780 г. Мэлоун и его друзья доказали, что более ста сонетов прославляют мужчину. Однако этот взгляд не скоро сделался общим достоянием. Еще в 1797 г. Чалмерс старался доказать, что сонеты воспевают Елизавету, так же как и знаменитые «Amoretti» Спенсера, которые на самом деле были посвящены его будущей жене.
Только в начале нашего столетия поняли то, в чем, вероятно, никогда не сомневались современники Шекспира, именно, что первые 126 сонетов относятся к какому-то юноше.
Было естественно предположить, что юноша и есть тот Mr. W. Н., который величался родителем или виновником происхождения этих сонетов, даже в том случае, если остальная группа стихотворений была посвящена женщине. Ведь сонеты, обращенные непосредственно к нему, преобладали численно и следовали тотчас после посвящения.
Некоторые исследователи, подразумевавшие под словом «begetter» ту личность, которая доставила книгопродавцу рукопись сонетов, заключали, что упомянутые буквы обозначают Вильяма Гесве, шурина Шекспира (Нейль, Эльце). В прошлом столетии доктор Фармер указывал еще на племянника поэта, Вильяма Харта, однако впоследствии оказалось, что он родился только в 1600 г. На основании одного такого малозначащего факта, что в первом издании в 20-м сонете слово «hues» написано (вероятно, по капризу или недоразумению, часто повторяющемуся в этой книге) по старому обычаю прописной буквой и курсивом (Hews), комментатор Тирвит считал героем сонетов нам совершенно неизвестного мистера Вильяма Хогса (Hoghes). Даже больше. Была высказана догадка, что сам Шекспир является этим мистером W. Н., что «Н» опечатка вместо «S», или что буквы W и Н — Mr. William Himself (мистер Вильям — сам, лично)!
Серьезные и разумные исследователи придерживались долгое время того мнения, что буквы W. Н. подлежат перестановке, так как сонеты могли быть посвящены только Генри Райтли, графу Саутгемптону, который находился в таких близких отношениях с поэтом, и которому были посвящены также обе эпические поэмы. Эта была гипотеза Дрека, поддержанная Гервинусом. Но уже в 1832 г. Воден сделал несколько веских возражений против этого предположения, так что теперь немыслимо поддерживать эту теорию. Не может быть никакого сомнения в том, что имя друга поэта, которого воспевают сонеты, было «Вильям» (см. 135, 136, 143), имя же Саутгемптона было «Генри». Саутгемптон не обладал также той красотой, о которой постоянно говорится в этих стихотворениях. Наконец, эти сонеты не подходят ни к его возрасту, ни к его характеру, ни к его деятельной жизни, исполненной случайностей и приключений. Обо всем этом не упоминается в сонетах.
Они не подходят к его возрасту, ибо в 1601 г., когда были написаны, как мы сейчас увидим — сонеты 100–126, Саутгемптону было 28 лет: неудобно было называть его «lovely boy — прелестный мальчик» (126) и сравнивать его с «херувимом» (114).
Но одна личность подходит именем, возрастом, обстоятельствами жизни, внешностью, добродетелями и пороками как нельзя лучше к этому мистеру W. Н., которому посвящены сонеты: это молодой Вильям Герберт, с 1601 г. граф Пемброк, родившийся 8 апреля 1580 г., прибывший осенью 1597 г. или весною 1598 г. в Лондон, познакомившийся, вероятно, тотчас с Шекспиром и находившийся с ним, кажется, вплоть до его смерти в дружеских отношениях. Ведь первое издание его драм, in-folio 1623 г., было посвящено издателями именно лорду Пемброку и его брату в благодарность за то, что они оказывали «такую благосклонность этим произведениям и их творцу в продолжение всей его жизни».
Мы видим, что этот взгляд, высказанный в 1819 г. Брайтом ив 1832 г. Боденом независимо друг от друга, т. е. взгляд, что Пемброк является героем сонетов, восторжествовал в наше время окончательно и разделяется такими выдающимися учеными, как например, Дауден. Остроумные и подчас верные замечания Томаса Тайлера в его книге о сонетах (1890) дали этой гипотезе как бы свою санкцию. Вот каким путем мы доходим до имени Вильяма Герберта. Сонеты Шекспира не суть изолированные стихотворения. Нетрудно понять, что они находятся во внутренней связи. Каждый новый сонет разрабатывает обыкновенно мотивы и мысли предшествующего или более раннего стихотворения. Группировка также не произвольная; она настолько хороша, что все попытки видоизменить порядок только затемняли и без того темный смысл этих стихотворений. Первые 17 сонетов представляют проникнутую одним настроением компактную группу: здесь автор обращается к другу с советом — не умирать холостым, а оставить миру наследника, чтобы редкая красота, отмечающая его бренное существо, не увяла и не умерла бы вместе с ним.
Сонеты 100–126, связанные также теснейшим образом, трактуют о примирении обоих друзей после периода охлаждения и временной разлуки. Наконец, сонеты 127–152 обращаются уже не к другу, а к возлюбленной, к той смуглой даме, отношения которой к обоим товарищам затронуты также в более ранних сонетах.
144 сонет — один из самых интересных, так как он рисует нам положение поэта между другом и возлюбленной. Он был, как упомянуто выше, напечатан в 1599 году в сборнике «Страстный пилигрим». Здесь Шекспир называет друга своим добрым ангелом-хранителем, а возлюбленную — злым демоном и высказывает скорбное предположение или убеждение, что друг запутался в сетях смуглой дамы:
Я догадываюсь, что ангел очутился в аду.Поэт лишился сразу обоих: он потерял его благодаря ей, а ее благодаря ему.
Та же самая тема затронута также в 40 сонете, где говорится, что друг похитил у Шекспира то существо, которое он любил больше всего на свете. А из 33 сонета, трактующего о том же факте, следует, что дружба продолжалась лишь короткое время и пошатнулась вследствие связи друга с возлюбленной.
Здесь сказано:
Увы! Все кончено; он был моим лишь час!Когда же возникла эта дружба? Кто бы ни был загадочный друг, мы можем с точностью определить эту дату. Хотя Шекспир писал, без сомнения, сонеты до 1598 г., так как именно к этому году относятся слова Миреса о «его сладких сонетах», но нам совершенно неизвестно, что это были за стихотворения; те, «которые ходили по рукам его интимных друзей», быть может, исчезли; быть может, часть из них сохранилась; в последнем случае сюда принадлежат те сонеты, в которых встречаются такие обороты и выражения, к которым можно подыскать параллели в поэме «Венера и Адонис» и в первых комедиях, хотя вопреки убеждению немецкого ученого Германа Конрада, подобные параллели сами по себе еще не решают вопроса о хронологии стихотворений. С другой стороны, Тайлеру удалось доказать убедительнейшим образом влияние книга Миреса на один из шекспировских сонетов. Едва ли можно сомневаться в том, что Шекспир был знаком с «Palladis Tamia». Быть может сам автор переслал ему один экземпляр. Во всяком случае, он должен был заинтересоваться теплым и искренним отзывом о нем, встречающимся в этой книге. Здесь Мирес, приведя стих Овидия, гордящегося своим произведением, которого не уничтожат ни гнев Юпитера, ни железо или огонь, и стихи Горация «Я памятник себе воздвиг», применяет эти слова к современным ему поэтам Сиднею, Спенсеру, Дэниэлю, Дрейтону, Шекспиру и Ваннеру и прибавляет частью прозой, частью стихами на латинском языке несколько похвальных слов о произведениях этих писателей. Если прочесть внимательно 55-й сонет, который поразит каждого читателя своим сходством со стихами Горация, то нетрудно найти, что в нем встречаются все выражения и дословные обороты соответствующего отрывка у Миреса. Этот сонет не мог быть поэтому написан раньше 1598 г., — книга занесена в книгопродавческие каталоги только в сентябре, — быть может, в начале 1599 г. — и так как следующий 56-й сонет характеризует дружбу обоих как недавнюю:
Пусть этот грустный промежуток времени будет подобен океану, волны которого отхлынули от прибрежья, куда ежедневно приходят двое заключивших недавно дружбу или двое недавно помолвленных… –
то придется, без сомнения, отнести начало дружбы между поэтом и героем сонетов к 1598 г.
Правда, исторические намеки, встречающиеся в группе сонетов 100–126, которая представляет целую связную поэму, очень трудно поддаются объяснению. Но 104 сонет позволяет определить точно время возникновения всей группы, так как здесь говорится очень прозрачно, что с тех пор, как поэт увидал впервые своего друга, прошло уже три года:
Зимние стужи трижды сорвали с деревьев красу трех лет; три прекрасные весны сменились тремя пожелтелыми осенями; три благоуханные апреля перегорели в три знойные июня с тех пор, как я увидел тебя во всей твоей свежести, остающейся в расцвете до сих пор.
Таким образом, вся эта многозначительная группа сонетов возникла в 1601 г. Если эта дата верна, то стих 107-го сонета
Смертная луна пережила свое затмение —намекает, по всей вероятности, на то, что Елизавета (изображаемая по старой поэтической манере в образе луны) вышла невредимой из заговора Эссекса, тем более, что прелестные стихи:
Моя возлюбленная выглядит теперь такой свежей, Освежаемая весенней росой… —доказывают, что стихотворение написано весной. Однако было бы нелепо заключить на основании этого намека, что поэт горел негодованием на Эссекса и его друзей. Еще бессмысленнее попытка Тайлера построить вокруг 124 и 125 сонетов целые леса из предположений, по которым он восходит к совершенно не английской, висящей в воздухе гипотезе, что Шекспир говорит здесь в оскорбительных выражениях о своем заключенном в Тауэре покровителе Саутгемптоне, и что слова «те, которые жили только ради преступлений» (who have lived for crime) направлены именно против него. Столь же неосновательно мнение, стоящее в связи с этим взглядом, будто 126-й сонет является самозащитой Шекспира против обвинения в том, что он изменил тому человеку, которому семь лет тому назад поклялся в вечной любви (The love I dedicate Your Lordship is without end — Любовь, которую я питаю к вашему лордству, бесконечна. См. Посвящение к поэме «Лукреция»). Мы, кроме того, вовсе не нуждаемся в этой гипотезе, притянутой, так сказать, за волосы, и в этом толковании, усматривающем в довольно загадочной фразе канву фантастического и отвратительного романа, чтобы убедиться в той бесспорной истине, которую Тайлер пытается доказать убедительнее при помощи этой гипотезы, т. е. что упомянутые сонеты возникли в 1601 г.
Если мы обратимся от анализа отдельных стихотворений к той личности, которая является их предполагаемым героем, то мы получим следующие данные.
Вильям Герберт, сын Генри Герберта и его третьей знаменитой супруги Мэри, воспитывался под руководством поэта Самуэля Дэниеля, отправился потом в Оксфорд, где пробыл два года, получил потом, достигнув семнадцатилетнего возраста, позволение жить в Лондоне, но переехал в этот город — насколько мы можем судить по современным письмам — не позже весны 1598 г.
В августе 1597 г. его родители переписывались с лордом Борлеем по поводу женитьбы сына на внучке Борлея, дочери графа Оксфордского, Бриджит Вир (Vere). Правда, ей было тогда только 13 лет, но Вильям Герберт вступил бы с удовольствием в этот брак. Впрочем, его хотели предварительно отправить за границу. Хотя его мать, графиня Пемброк, догадавшаяся, по-видимому, о ранней зрелости сына и желавшая его как можно скорее женить, очень симпатизировала этой идее, и хотя юноша очень понравился графу Оксфордскому, который хвалит в одном письме «его многочисленные хорошие качества», однако этот брак наткнулся на неизвестные препятствия и в конце концов расстроился.
В Лондоне юный Герберт обитал в Байнерд-Кэстл, недалеко от Блэк-фрайрского театра и познакомился, быть может, уже вследствие одной этой близости, с представителями театра. Но еще вероятнее, что такая богато одаренная дама, как его мать, сестра Филиппа Сиднея, пробудила в нем интерес к Шекспиру, а если это так, то поэт мог познакомиться уже в 1598 г с этой выдающейся и умной покровительницей искусства и художников. Отец, умерший через несколько лет, был тогда болен.
Может быть, в августе 1599 г. Герберт прибыл в лагерь, где устраивался ежегодно смотр войскам, «состоял в сопровождении 200 всадников при особе ее величества» и принимал участие в забавах и развлечениях военных.
Сначала его характеризуют как плохого придворного. Роуленд Уайт рассказывает, что в это время его все порицали за то, что он выказывал много равнодушия в добывании милости королевы. Эти слова доказывают, как страстно должен был каждый красивый, знатный юноша ухаживать за престарелой королевой, раз он желал оправдать ее надежды. Однако одно письмо отца, написанное вскоре после этого королеве, показывает, что она выразила свое одобрение, и что молодой человек «пользовался всеобщей любовью». Красавец собой, он производил то обаятельное впечатление, которое часто вызывают симпатичные «mauvais sujets». В первой книге своей «Истории мятежа» Кларендон утверждает, что Пемброк был очень предан женщинам и позволял себе не только всевозможные удовольствия, но даже и эксцессы. Однако касательно первого пункта Кларендон замечает, — для нас это в высшей степени важно, что молодой Пемброк умел до известной степени обуздывать свои желания. Красота и внешняя прелесть производили на него меньшее впечатление в сравнении с остроумием, умом и знаниями. Оживленная беседа была для него настоящим удовольствием. «Он жертвовал для подобных развлечений собою, своим драгоценным временем и большою долей своего богатства».
В ноябре 1599 г. Елизавета дала Герберту аудиенцию, длившуюся целый час. Уайт, сохранивший нам это известие, прибавляет, что он находился у королевы в большом фаворе и что он весьма нуждался в разумном руководителе. Конец зимы он проводил в деревне, страдая, по-видимому, перемежающейся лихорадкой и сильной головной болью. В декабре ему предлагают новый брак с дочерью лорда Герфорда, Анной, но и этот план не привел ни к чему. Понятно, что мать имела полное основание желать, чтобы более благоразумный друг, притом одаренный такой гениальностью, как Шекспир, доказал ему священную обязанность брачной жизни (сонеты 1–17).
Тайлер пытается, не без основания, приурочить сонеты 90–96 к тому же периоду. Жалоба Шекспира на то, что друг его покинул и забыл, намекают, быть может, на его придворную жизнь. Выражения 91-го сонета о лошадях, соколах и собаках указывают, по-видимому, на развлечение знатного друга охотой. Следующие сонеты трактуют очень ясно об оскорбительных сплетнях касательно характера и поведения друга. Здесь встречается упомянутый нами выше стих:
Лилии, которые отцвели, воняют хуже сорной травы.Здесь красота сравнивается с «яблоком Евы»:
Подобна яблоку Евы твоя красота, если твоя добродетель не соответствует твоей наружности —и, несмотря на снисходительную нежность к другу, Шекспир позволяет угадать, что некрасивые сплетни не были лишены основания (сонет 95):
Как ты умеешь прикрашивать проступки, которые подобно червю в ароматной розе пятнают красоту твоего расцветающего имени! О, какими благоуханиями окружаешь ты свои грехи! Те языки, которые рассказывают о твоем житье, делая соблазнительные замечания о твоих прихотях, примешивают к своим осуждениям и похвалу, ибо одно твое имя уже освящает всякий дурной отзыв.
В 1600 г. здоровье старого отца поправилось. Однако лорд и леди Пемброк провели все лето вдали от Лондона в своем поместье Вильтон. В мае Герберт отправился в сопровождении Чарльза Денвере в Гревсенд навстречу леди Рич и леди Саутгемптон. Этот визит доказывает, что Герберт не чуждался вовсе в это время семейства Эссекса и Саутгемптона, как принято думать на основании вышеупомянутого толкования Тайлера. В высшей степени характерно также то обстоятельство, что его спутник был так тесно связан с вождями партии недовольных, что расплатился в следующем году жизнью за участие в восстании.
В день свадьбы другого лорда Герберта с одной из придворных дам королевы, роскошно отпразднованной в июне 1600 г. в Блэкфрайрсе, имя Вильяма Герберта упоминается впервые вместе с именем той молодой женщины, которая является, по-видимому, героиней шекспировских сонетов. Вильям Герберт и лорд Кобгем сопровождали невесту, Анну Рассел, в церковь. После ужина была разыграна «маска», причем 8 роскошно разодетых дам танцевали какой-то новый необыкновенный танец. Среди них упоминаются миссис Фиттон и две дамы, которые несколькими годами раньше были замешаны в одну любовную историю Эссекса (миссис Саутвелл и миссис Бесс Рассел). Наряды этих дам были сшиты из серебряной парчи, мантилья из тафты телесного цвета обвивала верхнюю часть стана, а волосы, «заплетенные чудным образом», ниспадали свободно на плечи. Дама, открывавшая двойную кадриль, была миссис Фиттон. Она приблизилась к королеве и пригласила ее танцевать. Ее величество спросила ее, кто она такая? «Я — любовь», — ответила та. — «Любовь — коварна!» возразила королева. Тем не менее, она встала и приняла участие в танцах.
В более поздних письмах Уайта, относящихся к тому же году, говорится, что Герберт не выражает ни малейшего желания вступать в брак, и мы видим, что он в сентябре и октябре 1600 г. усердно занят приготовлениями к придворному турниру в Гринвиче.
19 января 1601 г. умирает его отец, и Вильям Герберт получает титул графа Пемброка. Вскоре после этого он скомпрометировал свое имя в одной любовной истории, вероятно той же самой, о которой говорится в сонетах Шекспира. 5 февраля Роберт Сесиль упоминает об этом в одном письме. Лорд Пемброк находился, оказывается, довольно долгое время в тайной связи с любимицей королевы, придворной дамой миссис Фиттон. По словам Сесиля, она скоро очутилась в интересном положении. «Правда, граф Пемброк взял вину на себя, но от брака отказывался очень настойчиво». Сесиль заключает свое письмо словами: «Боюсь, что обоим придется просидеть некоторое время в Тауэре, ибо королева поклялась послать обоих туда».
В другом письме рассказывается, что миссис Фиттон, пользовавшаяся большими симпатиями королевы, часто снимала свой головной убор, подкалывала платье, накидывала длинный белый плащ и покидала в мужском костюме дворец, чтобы идти на свидание с графом.
Мэри Фиттон разрешилась от бремени мертворожденным мальчиком. Пемброк отсидел месяц в тюрьме Флит и был удален от двора. Вскоре после этого он просил через Сесиля позволения отправиться за границу: немилость, в которую он впал у королевы, говорит он, заставляет его испытывать муки «ада», он убежден, что как бы ни гневалась на него королева, она не будет так жестока, чтобы удерживать его в той стране, «которая ему теперь ненавистнее всех остальных». Королева дала, кажется, сначала свое согласие, но взяла потом свое слово назад. В середине июня он снова пишет трогательное письмо, именно то, где встречается упомянутая фраза: «красота королевы была единственным солнцем, освещавшим его маленький мирок». Пемброк думал этими словами растрогать суровое сердце Елизаветы, так как он, по-видимому, понял за это время, что его сгубила не столько его связь с Мэри Фиттон, сколько его равнодушное отношение к более чарующим прелестям ее величества. К сожалению, Пемброк опоздал со своими комплиментами, а королева умела наказывать самым чувствительным образом, прикасаясь к самому животрепещущему нерву, как мы видели это из судьбы Эссекса. Вместе со смертью старого лорда Пемброка прекратилось его право эксплуатировать Динский лес. Сын надеялся получить по наследству эту привилегию. Однако она была дарована его конкуренту, сэру Эдуарду Винтеру, и возвращена ему только семь лет спустя при Иакове.
Пемброк так и остался под опалой. Все его просьбы о позволении путешествовать встречали один и тот же отрицательный ответ: ему намекнули, что он удален от двора и должен «хозяйничать в деревне». Этот переворот в жизни Пемброка, относящийся к 1601 г., объясняет нам достаточно убедительно временное прекращение его лондонской дружбы с Шекспиром, нашедшее поэтический отголосок в 126-м сонете, замыкающем собой всю группу.
При Иакове добрые и близкие отношения обоих друзей, по-видимому, вновь восстановились. Посвящение издания in-folio служит наглядным тому доказательством.
Бросим в заключение беглый взгляд на дальнейшую судьбу Пемброка.
Смерть отца доставила ему большие богатства. Однако беспорядочная жизнь, которую он вел, часто запутывала его экономическое положение. В 1604 г. он женился на леди Мэри, седьмой дочери лорда Тальбота: свадьба была отпразднована турниром. Жена принесла ему много денег и всякого добра, но, по мнению современников, он слишком дорого заплатил за ее состояние, женившись на ней. Он не был счастлив в своей супружеской жизни.
Пемброк отличался такой же теплой любовью к литературе, как его мать и дядя Филипп Сидней. По словам Обри, это был «из всех вельмож всех столетий наивеличайший меценат»! К его ученым друзьям принадлежали среди поэтов Донн, Дэниель и Мэссинджер (последний был сыном управляющего его отца). Бен Джонсон посвятил ему похвальную эпиграмму, что в высшей степени понятно, так как Пемброк посылал ему к новому году всегда 20 фунтов на покупку книг. Говорят, что Иниго Джонс посетил на его счет Италию. Кроме «Поэтических рапсодий» Девисона ему посвящено большое количество книг. Чапман, находившийся с ним в близких отношениях, посвятил ему в конце своего перевода «Илиады» сонет. Этот факт интересен в том отношении, что Чапман является, по-видимому (это доказал впервые Минто), тем поэтом-соперником, который воспевал Пемброка и добился его благосклонности и покровительства, возбудив в Шекспире ту ревность и грусть, тот скорбный самоанализ и пессимизм, которыми отмечены сонеты 78–86.
Особенно 86-й сонет навел Минто на мысль усмотреть в поэте-конкуренте Чапмана.
Уже вступительный стих, говорящий о гордо надутых парусах его стиха, подходит как нельзя лучше к 14-стопному размеру, которым Чапман переводил «Илиаду». Чапман чувствовал вдохновенную любовь к поэзии, которую он выражал при всяком удобным случае и утверждал, что подвержен сверхъестественным внушениям. В посвящении к своей поэме «Ночная тень» он говорит с большим презрением об обыкновенных искателях истины и смеется над дерзостью тех, которые мнят, подобно им, получить без труда господство над искусством, которое так священно в глазах других, что они приступают к нему лишь после «молитв, поста и бдения», по внушению «небесного ангела-хранителя». Вот почему Шекспир говорит:
Его ли дух, наученный духами писать выше смертного умения, сразил меня насмерть?
Или:
Ни он, ни дух, увлекающий его по ночам своими внушениями, не могут похвастаться, что принудили меня к молчанию своею победою надо мною.
Как только на престол вступил Иаков, Пемброк получил немедленно высокую должность при дворе. В 1603 г. он был сделан кавалером ордена Подвязки, и в том же самом году он угощал короля в своем поместье Вильтон. Он поднимался все выше и был в 1615 г. назначен лордом-камергером. Но вплоть до своей последней минуты он вел тот же легкомысленный образ жизни, как в молодости. Он участвовал своими большими капиталами в колонизации Америки и в предпринятых там путешествиях с целью открытия новых земель. На Бермудских островах и в Виргинии некоторые местности названы его именем. С 1614 г. он был также членом индийской компании.
Он протестовал против союза с Испанией и не был сторонником внешней политики короля. Он был до известной степени причастен к нападению Рэлея на испанские корабли, за которое последний подвергся такой жестокой каре. Он был против назначения Бэкона лорд-канцлером и потребовал в 1621 г., чтобы его нечестное поведение было рассмотрено официально, отличался потом, подобно Саутгемптону, большой умеренностью и говорил против тех, которые хотели лишить Бэкона пэрства.
В марте 1625 г. он находился при умиравшем короле, заболел в 1626 г. каменной болезнью и умер в 1630 г. от удара после весело проведенного вечера. Среди изданных в 1640 году Донном стихотворений находились также несколько принадлежавших его перу.
Тайлер заметил очень верно, что в них встречаются некоторые мысли и обороты, имеющие сходство с выражениями, употребленными Шекспиром в разных сонетах (22, 62, 43, 27).
Нет ничего удивительного, что Пемброк был в области поэзии учеником Шекспира.
Глава 33
«Смуглая дама» сонетов
При разборе драмы «Бесплодные усилия любви» было замечено, что нетрудно отличить первоначальную редакцию от переделки, относящейся к 1598 г., и мы привели несколько примеров. Мы подчеркнули настойчиво тот факт, что вдохновенная реплика Бирона в честь любви, встречающаяся в IV действии (мы видели, что здесь устами Бирона говорит сам Шекспир), была включена во время переработки.
В другом месте мы обратили внимание читателей на то обстоятельство, что обе женские фигуры, т. е. Розалинда в «Бесплодных усилиях любви» (конец третьего действия) и Розалина в «Ромео и Джульетте» (II, 4) списаны, по всей вероятности, с одного и того же оригинала, так как в обеих пьесах говорится о красивой, бледной девушке с черными глазами. В первоначальном тексте комедии «Бесплодные усилия любви» (III, 4) говорится:
…Созданье С лицом, как снег, с бровями, как агат, С двумя шарами смоляными в виде Двух глаз…Тем более удивительно, что поэт подставил во время переработки на место прежнего оригинала новую модель, которую он неоднократно называет «смуглой девушкой». Он говорит в этой комедии настойчиво о темном цвете ее лица, столь необычайном и неанглийском, что многие сочтут его некрасивым, как в тех сонетах, которые упоминают и описывают смуглую даму (the dark lady). Как раз перед тем, как Бирон произносит свой восторженный гимн в честь Эроса, причем Шекспир говорит его устами, король шутит с ним по поводу темного цвета лица его возлюбленной:
Король. Клянусь Творцом, твоя подруга сердца Черна, как смоль. Бирон. Ужели на нее Похожа смоль? О смоль, как ты прекрасна, Божественна! Жену себе добыть Из смоли — о высокое блаженство! Скажите мне, кто может изобресть Здесь клятву мне? Скажите, где святое Евангелье, чтоб я поклясться мог, Что красота не красота, коль только Заимствует свое лицо она Не из очей прекрасной Розалинды. Что ни одно лицо не хорошо, Когда оно не так черно, как это, Король. О парадокс! Ведь черный цвет есть цвет Темниц и тьмы, ведь он — ливрея ада; А красота блестит, как небеса.В высшей степени знаменательна ответная реплика Бирона. В ней встречаются те же самые мысли, которые Шекспир приводит от своего имени в защиту своей смуглой красотки в 127-м сонете:
Опаснейшие демоны похожи На ангелов. О, ежели чело Возлюбленной моей покрыто черным, Так потому, что в траур облекло Оно себя при виде лиц, покрытых Румянами чужих волос — всего, Что лживой маскою чарует Влюбленного. Она явилась в свет, Чтоб черный цвет прелестным цветом сделать. Изменит он всю моду наших дней; Начнут считать естественный румянец Накрашенным, и розовые щеки, Чтоб избежать хуления, начнут Раскрашиваться черной краской, лишь бы С ее лицом быть схожим…В сонете говорится:
В древние времена смуглые не считались красивыми или же, если и признавались такими, то не носили названия красоты; теперь же смуглые наследуют красоту, и красота уничтожается ложными прикрасами. С тех пор, как каждая рука присвоила себе права природы и стала украшать безобразных искусственной личиной, нежная красота утратила имя, ей нет священного убежища, она опошлена, если не изгнана совершенно. Поэтому глаза моей возлюбленной черны, как вороново крыло, и как идут к ней эти глаза, как бы носящие траур по тем, которые не рождены белокурыми, но не лишены красоты и обличают природу в ее ложной оценке. Они в таком трауре, но эта печаль так красит их, что, по приговору всех уст, красота должна быть именно такой.
Словом, красивая брюнетка в пьесе «Бесплодные усилия любви» списана также с живой модели. Если теперь вспомнить, что переработка относится, по словам заглавия, к рождеству 1597 г., когда комедию хотели поставить для ее величества; если далее вспомнить, что Розалинда является придворной дамой принцессы, которая встречается как бы с невольным комплиментом в сторону королевы, — «обворожительной луной» — то почти необходимо заключить, что красивая брюнетка была придворной дамой королевы, и что конец четвертого действия предназначался не столько для зрителей, сколько именно для нее. Мы знаем ее почти с такой достоверностью, как будто современные свидетельства сохранили нам ее имя. Ведь нам доподлинно известно, с которой из придворных дам королевы Пемброк находился в связи, едва не погубившей ее в 1601 г., и мы знаем так же прекрасно, что дама, покорившая сердце Пемброка, была в то же время той черноокой брюнеткой, которую Шекспир, по собственному признанию, «любил до безумия»…
В церкви в Госворте еще теперь находится ярко выкрашенный бюст Мэри Фиттон на памятнике ее матери. В книге Тайлера «Сонеты Шекспира» есть снимок, и прекрасно сохранившиеся краски позволяют угадать, что она была на самом деле необычайно смугла. Конечно, этот бюст, сделанный в 1626 г., когда Мэри Фиттон было уже 48 лет, не даст нам точного представления о ее наружности в 1600 году. Но, тем не менее, видно, что у нее был темный цвет лица, черные, вверх причесанные волосы, большие черные глаза, и черты лица, не особенно красивые, но способные пленять своей оригинальностью и действовать одинаково на чувство и на рассудок. Ведь Шекспир подчеркнул с упорной настойчивостью в своих сонетах, что его возлюбленная не отличается красотой. В 130-м сонете говорится:
Глаза моей возлюбленной не походят на солнце; коралл алее румянца ее губ, если снег бел, то грудь ее смугла; если волосы должны быть шелковисты, то на голове ее растет черное волокно. Ни алых, ни белых роз я не вижу на ее щеках, и аромат лучше ее дыхания. Я люблю слушать ее речь, хотя хорошо знаю, что музыка звучит гораздо приятнее. Не видал я, как ходят богини, но моя любимая, если идет, то ступает по земле. Однако же, клянусь небом, я знаю, что моя милая столь же хороша, как все те, которых осыпают лживыми сравнениями.
Еще интереснее ее портрет в 141-м сонете:
Право, я люблю тебя не глазами, потому что они видят в тебе тысячи недостатков, но сердце мое любит в тебе то, что глаза презирают; оно, вопреки зрению, охотно бредит тобою; слух мой тоже не восхищен звуком твоего голоса, ни нежное осязание мое, ни вкус, ни обоняние не желают быть приглашенными на чувственный пир с тобою. Но ни мои пять способностей, ни мои пять чувств не могут отговорить мое глупое сердце от подчинения тебе, оставляющей независимым лишь подобие человека, обращая его в раба и несчастного данника твоего надменного сердца. Я считаю свое злополучие за выгоду лишь в том отношении, что та, которая заставляет меня прегрешать, присуждает меня и к пене.
В. А. Харрисону удалось отыскать родословную, из которой явствует, что Мэри Фиттон, родившаяся 24 июня 1578 г., получила в 1595 г., следовательно в 17 лет, должность «почетной фрейлины» королевы Елизаветы. Ей было, стало быть, 19 лет, когда шекспировская труппа давала при дворе на рождество 1597 г. пьесу «Бесплодные усилия любви», заключавшую в себе апофеоз смуглой красавицы Розалинды. Вероятно, Мэри Фиттон познакомилась уже раньше на одном из придворных праздников с триддатитрехлетним поэтом и актером. Никто не будет сомневаться, что высокопоставленная и смелая девушка пошла сама ему навстречу.
Из 144-го сонета видно, что смуглая красавица не жила под одной кровлей с Шекспиром. 151-й сонет доказывает, в свою очередь, что она стояла высоко над Шекспиром и по своему происхождению, и по своему общественному положению; Шекспир гордился одно время своей победой (см. выражения вроде triumphant prize, proud of this pride и т. д.). Тайлер нашел даже в 151-м сонете, не без некоторого основания, намек на ее имя, который вообще переполнен такими смелыми и грубо чувственными выражениями, которые немыслимы в нашей современной поэзии.
Тогдашние английские поэты любили употреблять собственные имена для всевозможных каламбуров. Так и Шекспир играет постоянно в 135, 136-м и 143-м сонетах словами «Will» — сокращенное имя «Вильям» и «Will» — «воля». Современники установили в имени «Фиттон» сходство с «the fit one», которое казалось им столь интересным и к которому они относились так серьезно, что подобная игра слов встречается даже в надписи на фамильном памятнике.
Она заканчивается стихами:
Whose soule’s and body’s beauties sentence them Fittons, to weare and heavenly Diadem. —т. e. ее физическая и душевная красота делает ее достойной небесного венца. Если Шекспир говорит в 151-м сонете:
Flesh stays no farther reason But vising at thy name dath point out thee As his triumphant poide… —т. e. для плоти не нужно других причин; при одном твоем имени она воспрядывает и глядит на тебя, как на свою победную добычу, то он намекает, по-видимому, в менее благочестивом настроении на ту же самую игру слов…
Точно так же выразил Филипп Сидней в одном сонете, посвященном Стелле (т. е. Пенелопе Рич), свое презрительное отношение к ее мужу, играя словом «rich» (богатый).
В высшей степени странным должно было казаться то обстоятельство, что Шекспир, называя себя в 152 сонете вероломным, так как любит свою даму, несмотря на то, что сам женат, заявляет очень ясно, что смуглая красотка также замужем: он называет ее вдвойне вероломной, сначала по отношению к мужу, а потом по отношению к нему, которому она изменила ради его молодого друга. Это обстоятельство казалось загадочным потому, что Мэри Фиттон носила в это время постоянно фамилию отца. Но из одного письма ее отца к Роберту Сесилю от 29 января 1599 г. выяснилось, что Мэри вышла замуж, когда ей было только 16 лет, обвенчавшись с помощью услужливого священника. Вероятно, это был не вполне законный брак, заключенный помимо воли родителей, поспешивших объявить его недействительным. Когда Мэри Фиттон познакомилась с Шекспиром, она не была неопытной девушкой, хотя занимала должность почетной фрейлины и носила свою девичью фамилию.
Родословная, хранимая в семействе Фиттон, доказывает, что первым мужем Мэри был капитан Лаугер, а родословная и завещание ее деда, сэра Френсиса Фиттона, свидетельствуют, что она вышла в 1607 г. вторично замуж за капитана Потвилла. Далее сказано: «У ней был незаконный сын от Вильяма, графа Пемброка, и двое незаконных детей от сэра Ричарда Левисона». Эти сухие заметки рисуют нам картину, не противоречащую той, которую развертывают перед нами шекспировские сонеты.
Смуглая дама была в полном смысле настоящей дочерью Евы: прелестной, обворожительной, кокетливой, тщеславной, неискренней и вероломной, созданной расточать щедрыми руками счастье и муки, способной заставлять дрожать и звучать все струны в груди поэта. Разумеется, никто не будет сомневаться в том, что связь Шекспира с девятнадцатилетней фрейлиной королевы наполнила в это время его сердце гордостью и счастьем, любовным восторгом и сознанием, что эта честь вознесла его высоко над его сословием. Мэри Фиттон была для Шекспира, по-видимому, тем же самым, чем для Боккаччо — молодая незаконнорожденная принцесса Мария-Фьяметта. Она приносила с собой в жизнь поэта аромат великосветской жизни, чудесное благоухание аристократической женственности.
Он восторгался ее остроумием, присутствием духа, смелостью, находчивостью, ее шутками и ответами; в ее образе он изучал и уважал аристократическое превосходство, веселую кокетливость, спокойное изящество и неиссякаемую задорную шаловливость молодой эмансипированной женщины того времени. Кто знает, сколькими чертами ее характера и сколькими подробностями ее поведения наделил он своих Беатриче и Розалинд!
Она прежде всего наполнила его сердце сознанием, что его жизнь стала богаче, шире и глубже, тем блаженным чувством, которое нашло свое поэтическое выражение в только что рассмотренном небольшом количестве гениально остроумных эротических комедий.
Пусть не возражают, что сонеты совсем не рисуют нам этого счастья. Они возникли в период кризиса, когда поэт убедился окончательно в том, что раньше, по-видимому, только подозревал, т. е. в том, что возлюбленная соблазнила его друга.
Впоследствии поэт мог приурочивать к более раннему времени тот мрачный душевный разлад, который поднялся в нем при виде того, как друг похитил у него возлюбленную, и как возлюбленная была им обесчещена. Тогда его охватило такое чувство, как будто оба изменили ему, как будто он сразу потерял обоих. Он увековечил в сонетах тот образ возлюбленной, который носил в груди в последние дни своего романа.
Но и в сонетах воспеваются такие минуты, когда все его существо дышало нежностью и гармонией. Какое блаженно-любовное настроение веет, например, в мелодическом 128-м сонете, в той сцене, где прелестная аристократка прикасается своими изящными пальцами к клавишам, очаровывая внимающего поэта музыкой, а он, называя ее ласкательным словом «ту music», жаждет прикоснуться губами к ее пальцам и устам. Он завидует клавишам, которые целуют ее мягкие ручки, и восклицает: протяни им свои пальцы, а мне — свои губы!
Конечно, большинство сонетов проникнуты болезненно страстным настроением, исполнено жалоб или обвинений. Поэт постоянно возвращается к мысли, что его возлюбленная легкомысленна и вероломна. В 137-м сонете он называет ее «заливом, где причаливает ладья каждого мужчины». 138-й сонет начинается словами:
Когда моя возлюбленная клянется мне, что она сама верность, я верю ей, хотя знаю, что она лжет, –
а в 152-м сонете он упрекает самого себя, что произносил бесчисленное множество ложных клятв, ручаясь за ее достоинство. Ни один перевод не в силах воспроизвести точно мелодическую красоту и захватывающую энергию этого отрывка в подлиннике:
Но как я могу осуждать тебя за нарушение двух клятв, когда я нарушаю их двадцать? Я больший клятвопреступник, потому что все мои обеты — лишь клятвы обличить тебя. Но ты заставляешь меня изменять честному слову, и я клянусь опять еще сильнее в твоей глубокой доброте, в твоей любви, твоей верности, твоем постоянстве и, чтобы озарить тебя, даю глаза слепоте или заставляю их заверять противное видимому ими.
В 139-м сонете он рисует ее, как настоящую куртизанку, которая даже в его присутствии кокетничает со всеми без различия:
Скажи, что ты любишь другого, но не перемигивайся с другими в моем присутствии. Для чего тебе хитрить со мной, когда твое могущество превосходит мои средства защиты.
Она жестоко злоупотребляет своей магической властью над ним. В 131-м сонете говорится, что она так же деспотична, как те из женщин, которых гордость своей красотой делает жестокими: она прекрасно знает, что для его больного сердца она самый драгоценный и самый сверкающий алмаз. Ее могущество над ним подобно волшебству. Он сам никак не может этого постигнуть, сказано в 150-м сонете:
О, какая сила даровала тебе могучую власть порабощать меня, и откуда у тебя обольстительность всего дурного, придающая худшим из твоих дел силу и обаяние?
Кто научил тебя возбуждать в моем сердце все более сильную любовь, тогда как я с каждым днем все больше убеждаюсь в том, что ты достойна ненависти?
Ни один французский поэт 30-х годов нашего столетия, или даже Мюссе, не говорил более страстными стихами об эротической лихорадке, о муках и безумии любви, чем Шекспир в 147-й сонете:
Увы! Моя любовь подобна горячке, все требующей того, что еще более поддерживает болезнь. Она питается тем, что сохраняет ее недуг ради удовлетворения своего извращенного позыва к пище.
Поэт рисует самого себя в виде подавленного страстью любовника. Зрение его ослабело от тяжкого бдения и ночных слез. Он перестал понимать ее, весь мир и самого себя. Если тот предмет, в который впиваются его влюбленные глаза, в самом деле прекрасен, то почему люди утверждают, что он безобразен? А если он некрасив, то любовь доказывает, что глаза влюбленного не заслуживают никакого доверия (148-й сонет).
Тем не менее, он понимает, чем вызваны ее чары, которыми она покорила его сердце: это — блеск и выражение ее лучистых черных, как воронье крыло, глаз (127, 139).
Он любит эти глаза, в которых светится душа; они как будто грустят о том пренебрежении, которым они замучили его сердце (132). Хотя она еще молода, но все ее существо соткано из страсти и воли; капризная и упрямая, она создана повелевать и всецело отдаваться.
Подобно тому, как мы можем догадаться, что она сама сделала первый шаг навстречу Шекспиру, так точно поступила она по отношению к его другу.
В некоторых сонетах (144, 41) сказано очень ясно, что она домогалась его любви. В 143-м сонете Шекспир употребляет в высшей степени наивное и вместе с тем живописное сравнение, чтобы охарактеризовать задушевность их взаимных отношений и ревностное желание молодой женщины покорить сердце его друга.
Он сравнивает ее с матерью, которая кладет своего ребенка на землю, чтобы догнать убегающую курицу:
Взгляни, как заботливая хозяйка бежит, чтобы изловить одного из своих пернатых: она усаживает своего ребенка и бежит, между тем как покинутое дитя пытается ее догнать и кричит, чтобы ее остановить. Так и ты стремишься за тем, что летит перед тобою, между тем как я, твой младенец, бегу далеко позади. Но если ты поймаешь то, на что надеешься, воротись опять ко мне с материнской лаской и поцелуй меня.
Нежное и мягкое чувство, пронизывающее этот сонет, в высшей степени характерно для настроения поэта в период этих запутанных отношений. Даже в те минуты, когда он не чувствует возможным снять всю вину с друга, даже тогда, когда он укоряет его с глубокой скорбью за то, что он отнял у бедняка его единственного ягненка, он заботится прежде всего о том, чтобы прежние дружеские отношения не привели к вражде. Вспомните трогательно прекрасный сороковой сонет:
Бери все мои привязанности, любовь моя, бери их все! Разве у тебя прибудет что-либо против того, что было? Нет любви, которую ты мог бы назвать верной мне любовью; все мое было твоим раньше, что было взято тобою… я прощаю тебе твое грабительство, милый вор, хотя ты крадешь у меня последнее.
Иногда Шекспир, по-видимому, признавался сам себе, что ведь он сам сблизил обоих. 134-й сонет намекает на то, что Пемброк познакомился с опасной молодой дамой, исполняя какое-то поручение. Нет никакого сомнения, что Шекспир примирился с необходимостью делиться со своим другом в ее любви.
Он боялся больше всего потерять его дружбу. Вот почему он здесь говорит:
Итак, я сознался в том, что он твой и сам я в закладе у твоего произвола, но я готов отдать себя вовсе, если ты освободишь другого меня для моего постоянного утешения.
В высшей степени любопытен в этом отношении 135 сонет, где встречается игра именами Шекспира и Пемброка:
Пусть обращаются ее желания ко всякому, у тебя твой Вильям (или твоя воля), и Вильям в придачу, и Вильям сверх того.
Здесь попадается следующая краткая и нежная просьба:
Море и все воды принимают же в себя дожди и тем увеличивают свое изобилие. Так и ты, обладая Вильямом, прибавь к нему одно мое желание, чтобы увеличить твоего Вильяма.
Он старается утешить себя софизмом или, вернее, просто чем-то вроде словесного фокуса, что она может иметь в виду обоих, произнося его имя:
Не давай осаждать себя ни дурным, ни хорошим просителям. Соедини все твои желания в одно: в меня, в одного твоего Вильяма.
То же самое мы видим в трогательном 42-м сонете, начинающемся словами:
Все мое не в том, что она принадлежит тебе, хотя могу сказать, я любил ее горячо; но она принадлежит ей — вот в чем моя главная скорбь, которая затрагивает меня глубже.
Однако этот сонет заканчивается вымученной и плоской остротой, что она любит, в сущности, только его одного, так как он и его друг представляют одно неразрывное целое:
Но вот в чем радость: я и друг мой составляем нечто единое, Сладкое обольщение! Оказывается, что она любит меня одного!
Все эти и тому подобные выражения указывают не только на преобладающее значение, которое имела для Шекспира дружба с Пемброком, но и на ту чувственно-духовную привлекательность, которую имела по-прежнему в его глазах его непостоянная возлюбленная.
Очень возможно, что в пьесе Бена Джонсона «Варфоломеевская ярмарка» встречается насмешливый намек на эти запутанные отношения, обрисованные в изданных в 1609 г. сонетах. Здесь, в третьей сцене пятого действия, изображается кукольный театр, где представляют пьесу, озаглавленную «Старая история о Геро и Леандре, приноровленная к современным нравам; история, именуемая также „Пробным камнем любви“ с прибавлением испытания, которому подверглась дружба Дамона и Пифиаса, двух друзей on the Bankside».
Геро является здесь девушкой из Лондона. Один из ее возлюбленных переплывает Темзу, чтобы повидаться с ней. Дамон и Пифиас встречаются в ее доме. Когда они узнают, что «обладают вдвоем этой проституткой», они сначала ругают друг друга самым беспощадным образом, а потом заключают интимнейшую дружбу.
Мы доказали, таким образом, насколько это возможно при полном отсутствии современных свидетельств, тождество смуглой дамы и миссис Мэри Фиттон. Если же кто усомнится в возможности любовной связи между актером Шекспиром и высокопоставленной почетной фрейлиной королевы, тот пусть вспомнит, что она находилась, по новейшим изысканиям, в близких сношениях с шекспировской труппой. В. А. Харрисон доказал, что небольшая давно известная книга «Девятидневное чудо», написанная клоуном труппы Вильямом Кемпом и изданная в 1600 г., была посвящена именно ей. В посвящении сказано: «Миссис Анне Фиттон, гоффрейлине священной девственной королевы Елизаветы». Нам, однако, достоверно известно, что ни в 1600 г., ни годом раньше среди придворных дам королевы не было Анны Фиттон. Или Кемп не знал настоящего имени своей покровительницы, или наборщик смешал имена «Мэри» и «Анна», что весьма возможно при тогдашнем типографском шрифте. Если вы прочтете эту небольшую книгу, в вашем воображении обрисуется целый уголок старой Англии.
Главная задача клоуна заключалась не столько в том, чтобы выступать в самой пьесе, сколько в том, чтобы спеть и протанцевать по ее окончании свой «джиг» — даже после трагедий, чтобы стушевать угнетающее впечатление. Простой зритель никогда не покидал театра, не посмотрев эпилога, который имел некоторое сходство с комическими номерами наших varietes.
Так, например, известный «джиг» Кемпа о кухарке представлял презабавную смесь плохих стихов, которые частью пелись, частью произносились, а также смесь карикатурной мимики и пляски, хороших и плоских острот. Когда Гамлет говорит о Полонии: «Если ему не спеть „джиг“ или не рассказать непристойную историю, он непременно заснет», — он имел, быть может, в виду подобное произведение.
В качестве лучшего комического танцора Кемп пользовался всеобщим уважением и всеобщей любовью. Он гастролировал при разных немецких и итальянских дворах. В Аугсбурге он должен был повторить перед императором Рудольфом свой знаменитый «маврский» танец (Morris-dance). Это был тот девятидневный танец, который он предпринял в молодые годы из Лондона в Норвич, и который он затем описал в своей книге.
Он отправился в 7 часов утра от дома городского головы; пол-Лондона было на ногах, чтобы полюбоваться прологом к этому грандиозному фокусу. Кроме барабанщика и слуги Кемпа сопровождал контролер, следивший за тем, чтобы все происходило по программе. Для барабанщика этот путь представлял такие же трудности, как для Кемпа; он держал в левой руке флейту, барабан висел на левом плече, а правой рукой он барабанил. Исполняя «маврский» танец на пути от Лондона в Норвич, Кемп аккомпанировал себе только музыкой бубенчиков, привязанных к его гамашам.
Уже в первый день он достиг Румфорда, но так устал, что должен был отдохнуть два дня. Дорогою жители Стрэтфорда-Лангтона устроили в честь его медвежью травлю, так как им было известно, что это его любимое развлечение. Но толпа любопытных, пришедших поглазеть на него, была так велика, что ему самому удалось только услышать рев медведя и вой собак.
На второй день он вывихнул себе бедро, но поправил его потом при помощи того же танца.
В Бурктвуде собралась такая громадная толпа зрителей, что он употребил целый час на то, чтобы пробиться сквозь нее в таверну. Здесь были пойманы два карманника, присоединившиеся к толпе, сопровождавшей его из Лондона. Они утверждали, что составили пари относительно исхода танца, но Кемп узнал в них двух театральных воров, которых видел привязанными к позорному столбу на сцене. На следующий день он добрался до Челмсфилда; здесь число сопровождающих уменьшилось до двухсот.
В Норвиче городской оркестр встретил Кемпа на большой площади в присутствии многотысячной толпы торжественным концертом. Он квартировал в гостинице за счет города, получил от городского головы богатые подарки и был включен в гильдию заморских купцов, что давало ему право на часть ее доходов в размере 40 шиллингов ежегодно. Даже больше. Панталоны, в которых он предпринял свое балетное путешествие, были прибиты к одной из стен внутри ратуши и хранились там как воспоминание. Совершенно естественно, что артист, пользовавшийся в такой степени симпатиями народа, считал себя не хуже Шекспира. Он, кроме того, находил совершенно естественным обращаться к придворной даме королевы в высшей степени фамильярно. Он посвятил миссис Фиттон свою скоморошью книгу «о девятидневном чуде», как он скромно называл свой фокус, в таком тоне, который представляет режущий контраст с подобострастными посвящениями настоящих писателей. Он добивается ее покровительства, говорит он, потому что иначе любой певец баллад сочтет его не заслуживающим уважения.
Вот как он определяет ту цель, которую имел в виду при издании книги: «Я хотел отблагодарить вашу честь за ваши милости, которые позволяют мне (подобно милости других щедрых друзей) вопреки земным невзгодам чувствовать, что сердце мое — легче пробки, и ноги мои подобны крыльям; мне кажется, я мог бы даже со ступкой на голове долететь или, как говорится в старой пословице, „допрыгать“ до Рима».
Фамильярный, свободный тон этого посвящения позволяет не только заключить, что человек, принадлежавший к сословию актеров, мог подойти к такой знатной даме, как миссис Фиттон, совершенно игнорируя лежащую между ними социальную пропасть, но доказывает так же неопровержимо, что молодая, эксцентричная дама была хорошо знакома с членами шекспировской труппы.
Глава 34
Платонизм. — Шекспир и Микеланджело
В посвящении к сонетам Шекспира их герой назван просто «мистером W. Н.», вследствие чего в нем долгое время не хотели видеть Вильяма Герберта. Было бы слишком дерзко, говорили эти люди, называть такого знатного аристократа, как молодой лорд Пемброк, без перечисления его титулов. Но мы понимаем, что издатель хотел добиться этим того, чтобы большая публика не угадала сразу Пемброка в герое того конфликта, который обрисован так ясно в сонетах. Правда, эти стихотворения написаны отчасти для большой публики. Ведь поэт дает неоднократно обещание обессмертить ими красоту друга. Но сам автор не издавал в свет своих сонетов. А книгопродавец Торп понимал, быть может, что лорду Пемброку будет не очень приятно, если его назовут так прозрачно любовником смуглой дамы и счастливым соперником поэта, тем более, что эта юношеская драма в его жизни имела такой печальный конец, о котором было бы неудобно вспоминать.
Современного читателя, приступающего к чтению сонетов без предварительного знакомства с душевной жизнью эпохи Ренессанса, с ее отношением к античному миру, с ее нравами и поэтическим стилем, поражает особенно тот любовный язык, на котором поэт объясняется своему молодому другу, это чисто эротическая страсть к мужчине, которая здесь выражается. Там, где в переводе сонетов употребляется слово «мой друг», в оригинале часто стоит «ту love» (моя любовь, мой возлюбленный).
Иногда прямо высказывается, что друг совмещает для поэта привлекательные черты женщины и мужчины. Например, в 20-м сонете говорится:
Тебе девичий лик природой дан благою — Тебе, кто с ранних пор владыкой стал моим, —(по-английски гораздо сильнее: thou master-mistress of my passion, т. e. владыка-владычица моей любви).
Этот сонет заканчивается шутливым, немного слишком прозрачным заявлением, что природа думала сначала сделать друга девушкой, но создала его затем мужчиной на радость всем женщинам; поэт должен, к сожалению, довольствоваться только сердцем друга. Тем не менее в других сонетах выражается такое страстное чувство, что в прошлом столетии могла совершенно естественно возникнуть легенда, будто эти стихотворения воспевают женщину. Так поэт умоляет в 23-м сонете, чтобы вознаградили ею за любовь. Так Шекспир называет в 26-м сонете друга — «господином его любви», которому он покорен, как вассал.
В подобных выражениях так резко выступает наружу поэтический стиль столетия, что целый ряд основательных знатоков тогдашней английской и итальянской литературы, вроде Делиуса и Эльце в Германии, Шюка в Швеции, заключили на основании этих стереотипных и традиционных черт, что сонеты воспевают совершенно фиктивную страсть и что в них нет автобиографического элемента.
Указывали на то, что любовь к красивому юноше, освященная в глазах людей эпохи Ренессанса авторитетом Платона, была очень популярной темой современных Шекспиру поэтов, ценивших обыкновенно, подобно ему, красоту друга выше красоты возлюбленной. Женщина вмешивается очень часто, как здесь в сонетах, пагубным, роковым образом в отношения между друзьями. Поэт рисует себя по старой поэтической манере увядшим и морщинистым стариком, как бы он ни был в действительности молод. Шекспир поступает так несколько раз подряд, хотя ему было в то время не более 37 лет. Если поэт обращается далее к красивому юноше с советом жениться, чтобы его красота не исчезла вместе с ним, то подобное воззвание было также общим местом в тогдашней поэзии. В поэме Шекспира «Венера и Адонис» богиня любви дает юноше именно тот же самый совет. Некоторые из более слабых сонетов, отличающиеся изысканными и запутанными образами и метафорами, настолько отмечены печатью духа времени, что не могут считаться типичными для Шекспира. Другие сонеты представляют, в свою очередь, рабские подражания чужим образцам и не могут поэтому служить выражением субъективных или индивидуальных настроений. Так, 46-й и 47-й сонеты затрагивают ту же тему, как 20-й сонет Уотсона в поэме «Слезы воображения»; 18-й и 19-й сонеты Шекспира заканчиваются той же самой мыслью, как 39-й сонет в «Delia» Дэниеля, а 55-й и 81-й сонеты схожи по содержанию с 69-м сонетом Спенсера в его «Amoretti». — Наконец, история двух друзей, из которых один похищает у другого невесту, встречается уже в романе Лилли «Эвфуэс».
Хотя все эти замечания верны, но они не дают нам еще права заключить, что сонеты воспевают не действительные, а вымышленные происшествия.
Конечно, дух времени окрашивает всегда чувство дружбы и его выражение в известный специфический цвет. В конце XVIII века дружба носила в Германии и Дании мечтательный и сентиментальный характер, а в Англии и Италии XVI в. она была проникнута эротическим платонизмом. Но вы чувствуете, как вместе с выражением чувства видоизменяются также его оттенки. В эпоху Возрождения господствовал такой страстный культ дружбы, который теперь совершенно неизвестен в тех странах, где половая жизнь не отличается противоестественностью. Дружба Монтеня и Этьена де ла Боэси или страстная нежность Лапте к юному Филиппу Сиднею могут служить пояснительными примерами. Но во всей культурной истории и во всей поэзии Ренессанса культ дружбы нигде не отличался такой страстностью, как в песнях и сонетах Микеланджело.
Отношения Микеланджело к мессиру Томмазо Кавальери являются, без сомнения, интересной параллелью к дружбе Шекспира с Вильямом Гербертом: здесь та же самая страстность в выражении любви со стороны старшего по возрасту. Но так как письма написаны так же горячо и вдохновенно, как сонеты, посвященные какому-то «Signore», то мы имеем в данном случае перед собою не одни только поэтические фразы. В упомянутых сонетах выражения продиктованы порой такою страстью, что племянник Микеланджело изменил слово «Signore» в «Signora», так что некоторое время господствовало убеждение, будто его сонеты посвящены, подобно шекспировским, женщине.
Первого января 1533 г. пятидесятисемилетний Микеланджело пишет из Флоренции знатному римскому юноше мессиру Томмазо Кавальери, который сделался впоследствии его любимым учеником:
«Если я не обладаю искусством переплыть бездонное море вашего мощного гения, то этот последний извинит меня и не будет меня презирать за мое с вами несходство и не потребует от меня того, чего я не в силах сделать. Тот, кто несравненен во всех отношениях, никогда не найдет товарища. Вот почему ваша светлость, являющаяся единственным светочем нашего столетия в этом мире, не может найти удовлетворения в чужих произведениях: вы не имеете подобного себе, и никто не похож на вас. Если, тем не менее, та или другая из моих работ, которые я надеюсь и обещаюсь исполнить, вам понравится, я назову ее скорее счастливой, чем удачной. Если бы я удостоверился в том, что чем-нибудь могу служить вашей светлости, мне, по крайней мере, намекали на это, то я принес бы все, что имею в настоящем, и все, что сулит мне будущее, вам в подарок. Мне жаль, что я не могу вернуть прошлое, чтобы служить вам дольше, и имею в своем распоряжении только будущее, которое не может быть очень продолжительным вследствие моей старости. Мне остается только сказать: читайте в моем сердце и не читайте моего письма, потому что красноречие пера никогда не сравняется с добрым намерением».
Кавальери пишет Микеланджело, что он совершенно переродился с тех пор, как познакомился с великим художником. Тот отвечает:
«Я, со своей стороны, считал бы себя совсем не рожденным, или мертворожденным, или же оставленным небом и землей, если бы я не усмотрел и не убедился из вашего письма, что ваша светлость примет охотно некоторые из моих произведений». В одном письме к Себастьяне дель Пиомбо, написанном в следующее лето, он просит передать привет мессиру Томмазо и говорит: «Я бы, вероятно, тотчас упал мертвым на землю, если бы перестал думать о нем!».
В сонетах Микеланджело пользуется фамилией своего друга, как Шекспир именем Пемброка, для разных jeux-de-mots.
В 22-м сонете говорится так же страстно о Кавальери, как в сонетах Шекспира о Пемброке:
Быть может, ты посмотришь с большим доверием, чем я думаю, на тот целомудренный огонь, который горит в моей груди, и почувствуешь сострадание, так как я умоляю тебя так искренно. И если бы я мог удостовериться, что ты намерен выслушать меня — о, что за счастливый день был бы тогда для меня! Пусть тогда время прекратит свой бег, и солнце остановится на своем пути, чтобы продлились те часы, когда я навеки заключу в свои недостойные объятия моего милого и желанного повелителя!
Конечно, в сравнении с Кавальери Микеланджело мог с некоторым основанием называть себя стариком. Однако те, которые ссылались, в подтверждение своей мысли, что описываемые в сонетах отношения носят условный и нереальный характер, на тот факт, что Шекспир не мог называть себя тогда стариком, упускали из виду относительное значение этого термина. В сравнении с 18-летним юношей Шекспир со своим богатым жизненным опытом мог, в самом деле, казаться стариком, тем более, что он был на 16 лет старше. Если 63-й и 73-й сонеты возникли в 1600 или 1603 г., то Шекспиру минуло тогда 36 лет, т. е. он находился в таком возрасте, когда его современник Дрейтон точно так же горевал в поэме «Idea» о старческих морщинах, покрывших его лоб, и когда (по меткому замечанию Тайлера) Байрон говорил в своей лебединой песне в таких выражениях о самом себе, которые кажутся списанными с 73-м сонета Шекспира. Здесь сказано:
Ты можешь видеть на мне то время года, когда пожелтелые листья совсем опали или висят лишь кое-где на сучьях, вздрагивающих от холода, на которых еще так недавно распевали милые птички.
Байрон выражается так:
Как листья дни мои поблекли и завяли, Цветы моей любви оборваны грозой; И вот — грызущий червь — упреки и печали Одни осталися со мной!У Шекспира читаем:
Ты видишь во мне мерцание того огня, который лежит на пепле своей юности, как на смертном одре, и должен здесь угаснуть, пожираемый тем, что служило к его же питанию.
У Байрона:
Как гибельный вулкан средь глади вод безбрежной, Мой внутренний огонь клокочет с давних пор. Не светоч он зажжет таинственный и нежный А погребальный мой костер!Оба поэта сравнивают себя в эти сравнительно молодые годы с осенним лесом, украшенным пожелтевшими листьями, лишенным цветов и плодов, не оглашаемым пением птиц, и оба сравнивают огонь, тлеющий в их сердце, с одиноко горящим пламенем, не получающим извне никакой пищи. — «Пепел моей юности будет ему смертным одром» — говорит Шекспир; «это — погребальный костер», — заявляет Байрон!
Не следует также делать, подобно профессору Шюку, на основании условного стиля первых 17 сонетов (например, на основании их порою дословного сходства с одним местом в романе Филиппа Сиднея «Аркадия») заключение, что они не находятся ни в какой внутренней связи с жизнью поэта. Мы видели, что молодость Пемброка, давшая повод заявлять, что поэт обращается в этих сонетах не к нему с советом или просьбой жениться, не является, на самом деле, веским возражением. Ведь нам доподлинно известно, что его хотели женить на Бриджит Вир, когда ему было только 17 лет, а в следующем году на Анне Герфорд. Когда Пемброк познакомился с Мэри Фиттон, не только мать, но и Шекспир должны были искренно желать его брака.
Если, таким образом, в сонетах многое необходимо отнести на счет влияния эпохи и поэтической традиции, то все это не лишает нас права видеть в них выражение настроений, которые сам Шекспир пережил.
Эти сонеты освещают нам такую сторону его внутреннего существа, которую не раскрывают нам его драмы. Перед нами вырастает человек чувства, жаждущий любить, обожать и преклоняться, и исполненный сравнительно более слабым желанием быть любимым.
Мы узнаем из этих сонетов, как угнетала и мучила Шекспира мысль, что общество ни во что не ставит то сословие, к которому он принадлежал. Презрение Древнего Рима к скоморохам, отвращение иудейской расы к тем людям, которые маскировали свой пол, наконец, ненависть первых христиан к театральным зрелищам и их соблазнительным удовольствиям, все это передалось по наследству тогдашнему времени и создало, в связи с возраставшим влиянием и могуществом пуритан, общественное мнение, под гнетом которого должна была глубоко страдать такая тонко организованная и чуткая натура, как Шекспир. Ведь на него смотрели не как на поэта, выступающего иногда в качестве актера, а наоборот, как на актера, пишущего театральные пьесы. Ему было больно сознавать, что он принадлежит к касте, лишенной всяких гражданских прав. Отсюда стих 29-го сонета:
Если я проклинаю свою судьбу и оплакиваю свою участь…Вот почему он обещает в 36-м сонете вести себя так, как будто он незнаком с другом, и просит его не быть с ним ласковым при всех, чтобы не запятнать своего имени!
Этим же чувством проникнута горькая жалоба 72-го сонета, где поэт просит друга не любить такое ничтожество, как он, и выраженное в 110-м сонете сожаление о том, что поэту пришлось быть актером. «Увы! — восклицает он. Это правда, я шатался туда и сюда, изображая из себя какого-то мужа и поступаясь дешево самым драгоценным!»
Вот почему, наконец, он обвиняет в 111-м сонете фортуну за то, что она не позаботилась о нем, что она заставила его жить за счет общественных развлечений.
Это вечное давление, оказываемое несправедливым отношением среднего сословия к его профессии и к его искусству, объясняет нам то восторженное чувство, которое поэт питал к знатному юноше, сблизившемуся с ним как вследствие унаследованной от аристократических предков любви к искусству, так и в силу способности к страстному увлечению. Юный, красивый и привлекательный Вильям Герберт предстал перед Шекспиром словно добрый гений, словно вестник из лучшего мира, чем тот, в котором ему приходилось жить.
Он являлся как бы живым доказательством того, что Шекспир имел права не только на аплодисменты толпы, но также на расположение знатнейших английских фамилий, на дружбу, похожую скорее на любовь, с представителем одного из древнейших аристократических родов Англии.
Красота Пемброка произвела, без сомнения, самое глубокое впечатление на душу Шекспира, склонную от природы к обожанию красоты. Очень вероятно также, что молодой аристократ поощрил по тогдашнему обычаю поэта, которому он покровительствовал, богатым подарком, вследствие чего Шекспир должен был чувствовать себя вдвойне несчастным в той драме, которая поставила его между другом и возлюбленной.
Во всяком случае, та преданная, страстная любовь, связавшая Шекспира с Пемброком, та ревность, с которой он относился к другим поэтам, курившим ему фимиам, словом, то чувство, которое поэт питал к своему другу, дышало такой полнотой и силой, носило такой эротический характер, которые немыслимы в наше столетие. Обратите, например, внимание на выражение вроде следующего (110):
Осчастливь меня своим приветом, дарующим мне блаженства неба, и прижми меня к твоей чистой и любящей груди.
Эти стихи вполне соответствуют вышеприведенному желанию Микеланджело «прижать навеки к своей груди милого и желанного повелителя»! Или обратите, например, внимание на следующий стих в 75-м сонете:
Ты мне так же необходим, как насущный хлеб!Эти слова гармонируют как нельзя лучше с одной фразой, встречающейся в одном письме Микеланджело к Кавальери (1533):
«Я мог бы легче обходиться без питья и еды, питающих наше тело самым жалким образом, чем забыть ваше имя, наполняющее душу и тело такими сладостными ощущениями, что я не боюсь ни горя, ни смерти, пока я его помню!»
В связи с этим эротическим оттенком, отличающим чувство дружбы в платоновском духе, находится как у Шекспира, так и у Микеланджело подчиненность старшего своему более молодому другу, поражающая неприятно современного читателя, привыкшего преклоняться перед этими всеобъемлющими гениями. Оба забывают свою гордость, чтобы покориться молодому, блестящему другу. Какое странное впечатление производит, например, Шекспир, называя себя рабом юного Герберта, или заявляя, что он совсем не ценит своего времени, т. е. самого драгоценного времени всего столетия. Он представляет другу полное право позвать его к себе или заставить его ждать. 58-й сонет начинается словами: «Божество, сделавшее меня своим рабом…» В 57-м сонете говорится: «Будучи твоим рабом, что я могу делать, как не выжидать часов и минут твоей прихоти? Нет у меня ни драгоценного времени на какое-либо дело; нет никаких обязанностей, пока ты меня не потребуешь. Я не смею бранить бесконечных часов, когда смотрю на стрелку ради тебя, и не считаю едкую горечь разлуки, когда ты скажешь мне „прощай“».
Подобно тому, как Микеланджело заявляет Кавальери, что его произведения недостойны предстать перед глазами друга, так точно Шекспир отзывается иногда о своих стихах. В 32-м сонете он просит своего друга сохранить эти листы, если он умрет:
Сохрани их не ради их совершенства, которое могут превзойти другие поэты, а ради моей любви к тебе.
Это смирение становится прямо недостойным Шекспира в тот момент, когда друзья готовы разойтись. Шекспир то и дело обещает так очернить самого себя в глазах света, что измена послужит другу не к позору, а к чести. В 88-м сонете он говорит:
Зная лучше свои слабости, я могу для твоей пользы порассказать о тайных прегрешениях, в которых я повинен, и тогда ты отстраняя меня, увеличишь свою славу.
Еще сильнее выражена эта мысль в 89-м сонете:
Скажи мне, что ты покинул меня из-за какого-нибудь моего недостатка, и я тотчас подтвержу твое обвинение. Ты не можешь, любовь моя, ради предлога к желаемому тебе разрыву оговорить меня наполовину так, как я оговорю самого себя. Ради тебя я выступаю обвинителем против себя, ибо я не должен любить того, кого ты возненавидел.
Вы буквально поражаетесь, если встречаете в одном месте, в 62-м сонете, симптомы резко выраженного самолюбия, но оно исчезает уже во второй половине, где оно называется грехом и где личное «я» поэта скромно прячется за особу друга. Тем приятнее отметить в некоторых сонетах (55, 81) настойчиво высказанное убеждение, что эти стихотворения — бессмертны. Правда, поэт находится здесь под влиянием древности и современной ему эпохи; правда также, что, по мнению Шекспира, его обессмертит память о друге, о его красоте и симпатичности, но все-таки поэт, лишенный самолюбия и самосознания, не написал бы следующих строчек 45-го сонета:
Ни гордому столпу, ни царственной гробнице Не пережить моих прославленных стихов, —или следующих стихов в 81-м сонете:
Твоим памятником будут эти нежные стихи, которые будут перечитываться очами еще не родившихся поколений. Ты будешь жить вечно — такова сила моего пера.
Однако конечной мыслью поэта является постоянно мысль о друге, о его красоте, достоинствах и славе. Подобно тому, как он будет жить в будущем, он существовал и в прошедшем. Шекспир не может себе представить жизни без него. В некоторых сонетах, не находящихся во внутренней связи (59, 106, 123), он постоянно возвращается к странной мысли о вечной повторяемости явлений, мысли, проходящей через всю мировую историю от пифагорейцев до Фридриха Ницше. При таком восторженном культе дружбы понятно, что измена друга или, если хотите, похищение друга возлюбленной, ее двойная интрига и трагическая развязка 1601 г. произвели глубокое впечатление на впечатлительную душу Шекспира. Эта катастрофа оставила на долгое время след в его душевной жизни.
В то же самое время случилась другая неприятная история чисто личного характера. Имя Шекспира было замешано в скандальную историю. В 112-м сонете он заявляет:
Твоя любовь и пыл изглаживают знаки, Наложенные злом на сумрачном челе, —(в подлиннике сильнее: which vulgar scandal stamp’d upon my brow, т. e. «которыми пошлая сплетня заклеймила мое чело»).
По его словам, ему безразлично, что люди называют добром или злом; он придает значение только взглядам друга. Но в 121-м сонете, где он касается подробнее этой истории, он признается, что вызвал эти сплетни предосудительным поступком, в котором, как мы видели, был виноват его горячий темперамент. Он не отрицает этого факта, но глубоко возмущен теми людьми, которые следят с жадными и лицемерными взорами за его жизнью, хотя они сами хуже его.
Нам неизвестны подробности этой скандальной истории. Мы можем только догадываться, что предметом этих сплетен была мнимая связь с какой-нибудь женщиной, какое-нибудь амурное приключение. Тайлер обратил очень остроумно, но, конечно, не совсем неубедительно, внимание на два современных свидетельства. Первое — это вышеупомянутый анекдот, записанный в дневнике Джона Мэннингема под 13 марта 1601 г., о том, как Шекспир вместо Бербеджа пошел на свидание с мещанкой под псевдонимом «Вильяма Завоевателя». Этот анекдот курсировал, по-видимому, по всему городу и был, вероятно, записан вскоре после того, как произошло это событие. Второй намек встречается в пьесе «Возвращение с Парнаса», где выступают Бербедж и Кемп. Здесь последний говорит: «О, этот Бен Джонсон опасный парень! Он вывел на подмостки Горация, который заставляет поэтов проглотить порядочную пилюлю, но наш друг Шекспир дал ему такого слабительного, что он загрязнил им свою репутацию». Это, по-видимому, намек на ссору между Беном Джонсоном с одной стороны и Марстоном и Деккером с другой, достигшей в 1601 г., когда появилась пьеса первого «Рифмоплет», где автор говорит устами Горация. Марстон и Деккер ему ответили в том же году пьесой «Бич сатиры, или Обличение поэта-юмориста» (Satiromastix or the Untrussing of the Humours Poet). Так как Шекспир не был непосредственно замешан в эту ссору, то нам остается только одно — угадать смысл вышеприведенных слов. Ричард Симпсон высказал предположение, что король Вильям Рыжий, в царствование которого происходит действие в пьесе «Satiromastix», никто другой, как Вильям Шекспир. Вильям Рыжий не обнаруживает в этой пьесе особенного целомудрия и овладевает невестой Вальтера Терилла приблизительно так, как в анекдоте Мэннингема Вильям Завоеватель овладевает подругой Ричарда III. Симпсон считает вероятным, что Вильям Завоеватель анекдота превратился по недоразумению в Вильяма Рыжего пьесы, и что это имя содержит, быть может, намек на цвет лица Шекспира. В таком случае пьеса «Satiromastix» служила бы лишним доказательством распространенности этого анекдота. Имел ли Шекспир в виду эту историю или какую-нибудь другую, один факт остается несомненным, что поэт принял близко к сердцу эти сплетни.
Нам остается только еще бросить взгляд на внешнюю форму сонетов и сказать несколько слов об их поэтических достоинствах.
Что касается формы, то прежде всего следует заметить, что эти сонеты собственно вовсе не сонеты и имеют с ними только то общее, что состоят из 14 стихов. В этом случае Шекспир следовал просто поэтической традиции родной литературы.
Сэр Томас Уайет, вождь старой школы английских лириков, посетил в 1527 г. Италию, познакомился там с формой и стилем итальянской поэзии и ввел сонеты в английскую литературу. К нему примкнул более молодой граф Генри Суррей, предпринявший также путешествие в Италию и подражавший тем же образцам. После смерти обоих поэтов их сонеты были изданы в сборнике «Totel’s Miscellany» (1557).
Ни один из них не сумел воспроизвести сонет Петрарки, состоящий из октавы и секстета. Уайет сохраняет, правда, обыкновенно восьмистишие, но расчленяет шестистишие и заканчивает куплетом (т. е. двустишием). Суррей удаляется еще дальше от строгой и сложной формы образца. Его «сонет» состоит очень часто, как впоследствии сонет Шекспира, из трех квартетов (четверостиший) и одного куплета, не связанных между собою рифмой. Сидней снова стал придерживаться октавы, но разбивал обыкновенно секстет на части. Спенсер пытался соединять довольно оригинально второй и третий квинтеты, но сохранял заключительный куплет. Дэниель, непосредственный предшественник Шекспира, вернулся опять к довольно бесформенной форме Суррея. Главный метрический недостаток шекспировских сонетов как метрического целого заключается в прибавлении двустишия, которое обыкновенно уступает началу, редко содержит образ, ласкающий глаз, и заключает обыкновенно отвлеченную мысль, придающую определенному в стихотворении чувству скорее риторическую, чем поэтическую окраску.
Художественное достоинство сонетов самое разнообразное. Ниже остальных, несомненно, первая группа, этот 17 раз повторенный и варьированный совет другу — оставить миру живую копию своей красоты. Здесь совершенно естественно личные чувства поэта высказываются лишь в незначительной степени. Хотя мы доказали, что эти стихотворения могли быть написаны уже в 1598 г. Вильяму Герберту; но так как образ мыслей и манера выражения имеет много общего с «Венерой и Адонисом», «Ромео и Джульеттой» и с другими юношескими драмами поэта, то возможно, что эти стихотворения возникли раньше. Два последних сонета (153 и 154), разрабатывающих ту же самую античную тему, также совершенно безличны. В 1879 г. немецкий ученый В. Герцберг, следуя указанию Фризена, нашел в палатинской антологии греческий источник обоих сонетов.
Стихотворение, которым воспользовался Шекспир и которое он перевел почти дословно в 154-м сонете, принадлежало византийскому схоластику Мариану, жившему, вероятно, в V веке. Оно было издано в 1529 г. в Базеле среди других эпиграмм на латинском языке, переводилось неоднократно в продолжение XVI века и попало в этом виде в руки Шекспира.
Таким образом, сонеты, написанные по условной схеме, вроде тех, где глаза и сердце ведут между собой тяжбу, или тех, где поэт играет своим именем и именем своего друга, отличаются наименьшими поэтическими достоинствами.
Однако эти стихотворения составляют только незначительную часть всего сборника. Все же остальные сонеты отличаются высоким подъемом чувства, и чем сильнее настроение, выраженное в них, чем глубже эмоция, вызвавшая их, тем энергичнее стих и тем мелодичнее речь. Среди его сонетов существуют такие, которые написаны столь благозвучным и мощным языком, что с ними не сравняется ни одна из песен, вставленных в его пьесы, ни один из прекрасных и знаменитых диалогов его драм. По-видимому, свободная и растяжимая форма оказала здесь Шекспиру существенную услугу. То, что в итальянском языке не чувствуется как затруднение, т. е. необходимость подбирать к одному слову три или четыре рифмы, оказалось бы в английском языке очень ощутительным осложнением. Так мог Шекспир отдаваться вдохновению с полной свободой, не стесняемый оковами, которые налагает рифма. Он многое сделал в смысле благозвучия и мощности языка, он нашел самые разнообразные выражения для горя и скорби, меланхолии и покорности судьбе. Трудно представить себе нечто более мелодичное, нежели упомянутое начало 40-го сонета или следующие стихи 86-го сонета:
Was is the proud full sail of his great verse, Bound for the praise of all-too-precious you, That did my ripe thoughts in my brain rehearse, Making their tomb the womb wherein they grew?[13]А 116-й сонет, посвященный верной любви, захватывает своей серьезной трогательностью:
К слиянью честных душ не стану больше вновь Я воздвигать преград! Любовь уж не любовь, Когда меняет цвет в малейшем измененьи И отлетает прочь при первом охлажденьи. Любовь есть крепкий столп, высокий как мечта, Глядящий гордо вдаль на бури и на горе, Она — звезда в пути для всех плывущих в море: Измерена же в ней одна лишь высота!Сонеты Шекспира являются теми из его произведений, которые для обыкновенного читателя недоступнее других, но от которого труднее других оторваться. «Это ключ, которым Шекспир отпер свое сердце», — сказал Вордсворт. Многие приходят в ужас от тех человеческих, по их мнению слишком общечеловеческих настроений, которые наполняли это сердце. К числу этих людей принадлежит Браунинг, который, приводя слова Вордсворта, говорит:
«Этим ключом Шекспир отпер свое сердце. Если он это сделал, то не был похож на Шекспира».
Но читатель, привыкший к той мысли, что великие гении — не идеал в смысле обыденной морали, произнесет иной приговор. С напряженным вниманием будет он следить за теми событиями, которые взволновали и потрясли душу Шекспира.
Он будет радоваться той перспективе, которую открывают эти, пренебрегаемые большой публикой, стихотворения во внутреннюю жизнь одного из величайших людей, исполненную бурь и тревог. Только здесь мы видим, как сам Шекспир, а не созданные им фигуры, жаждет, тоскует, любит, преклоняется, мечтает, обожает и страдает, подвергаясь обману и унижению. Только здесь мы слышим его исповедь.
Здесь больше, чем где бы то ни было постигает тот, кто по прошествии трехсот лет благоговеет перед Шекспиром-худож-ником, — Шекспира-человека!
Глава 35
«Юлий Цезарь». — Главные недостатки драмы. — Ее достоинства
Однажды, в послеобеденное время, незадолго до трех часов множество яликов пересекало Темзу, прокладывало себе путь между лодками и лебедями и высаживало своих пассажиров на южной стороне реки; с Блэкфрайрской пристани отчаливают между тем все новые и новые ялики с театральными посетителями, несколько запоздавшими с обедом и опасающимися не поспеть к сроку, ибо на флагштоке театра «Глобус» развевается флаг и возвещает, что сегодня представление. Публика видела театральную афишу на уличных столбах и прочитала, что будет представлена трагедия «Юлий Цезарь» Шекспира; эта пьеса привлекает зрителей. Приехавшие уплачивают свои шесть пенсов и входят в театр; ряды лож и партер наполняются. Знатные и привилегированные посетители занимают свои места на сцене, позади занавеса. Затем трубят в первый, во второй, в третий раз, и занавес, раздвигаясь на обе стороны, открывает сверху донизу обтянутую черным сцену.
Выходят трибуны Флавий и Марулл; они бранят ремесленников и разгоняют их по домам за то, что они в будни ходят не в рабочем платье и без своих инструментов, — следовательно, нарушают одно из запрещений лондонской полиции, которое кажется столь натуральным публике, что она (наравне с поэтом) может представить его себе состоящим в силе в античном Риме. Сначала эта публика немного неспокойна. В партере вполголоса разговаривают, закуривая трубки, но стоило второму гражданину произнести имя Цезаря, как все кричат «титле! тише!» и с напряженным вниманием начинают следить за ходом пьесы.
Она была встречена сочувственно и сделалась вскоре одной из любимейших пьес. Об этом свидетельствуют современники. Леонард Диггес в приведенном выше стихотворении восхваляет ее сценический успех в сравнении с римскими драмами Бена Джонсона. Там сказано: «Когда должен был показаться Цезарь, и когда Брут и Кассий в горячем споре выступали на сцену, как увлечены были тогда слушатели, и в каком восторженном настроении выходили они из театра! Зато в какой-нибудь другой день они не могли вынести ни одной строки из скучного, хотя так тщательно разработанного „Каталины“ Бена Джонсона».
Ученые радовались веянию Древнего Рима, несшегося к ним навстречу из этих сцен, простолюдин же сидел глубоко заинтересованный и наслаждался сильными происшествиями драмы и ее величественными характерами. Одна строфа в поэме Джона Уивера «Зерцало мучеников, или Жизнь и смерть сэра Джона Олдкэстля, рыцаря лорда Кобгема» говорит следующее: «Многоголовая толпа была увлечена речью Брута о том, что Цезарь был честолюбив, но когда красноречивый Марк Антоний выставил на вид его добродетели, кто же тогда был порочен, как не Брут!»
О Юлии Цезаре было, конечно, написано много драм — они упоминаются в «Schoole of Abuse» Госсона от 1579 г., в «The Third Blatt of Retraite from Plaies» от 1580 г., в дневнике Генсло за 1594 и 1602 год, в «Mirror of Policie» 1598 г. и т. д. — но ни к одной из сохранившихся не подходят слова Уивера. Поэтому вряд ли можно сомневаться в том, что они относятся к драме Шекспира, а так как стихотворение появилось в печати в 1601 г., то это в то же время дает нам решающую точку опоры для определения даты «Юлия Цезаря». По всей вероятности, пьеса был написана и поставлена на сцене в том же году. Уивер говорит, положим, в своем посвящении, что его поэма была уже окончена «около двух лет тому назад», но если даже это и правда, то вышеприведенные строки весьма легко можно было вставить задним числом. Ранее 1601 г. «Юлий Цезарь» едва ли мог возникнуть по многим причинам; с одной стороны, 1599 и 1600 годы слишком уж заполнены работой, чтобы могло еще остаться место для этой обширной трагедии, с другой — внутренние свидетельства говорят в пользу того, что пьеса должна была быть написана в непрерывной связи с «Гамлетом», представляющим такое поразительное сходство с ней по стилю.
Как сильно пьеса понравилась с первого же момента публике видно, между прочим, из того обстоятельства, что она тотчас же вызвала конкуренцию на тот же сюжет. Генсло отмечает в своем дневнике, что в мае месяце 1602 г. он за счет своей труппы уплатил 5 фунтов за драму, озаглавленную «Падение Цезаря», поэтам Моидею, Дрейтону, Уэбстеру, Мидлтону и нескольким другим. Очевидно, что они работали по заказу. Как во время Шекспира эта драма имела необычайный успех на сцене, так еще и поныне «Юлий Цезарь» считается одной из превосходнейших и глубочайших шекспировских пьес, единичной драмой, стоящей особняком от всех других драм из английской истории, — драмой, представляющей своеобразную композицию и являющейся, несмотря на кажущуюся раздельную черту — убийство Цезаря — замкнутым целым, созданным с замечательным пониманием античной жизни и римского характера.
Что привлекало Шекспира в этом сюжете? И, прежде всего, что такое этот сюжет? Пьеса называется «Юлий Цезарь». Но достаточно ясно, что не личность Цезаря имела здесь притягательную силу для Шекспира. Настоящий герой пьесы Брут, возбудивший к себе интерес поэта. Мы должны уяснить себе, каким образом и почему?
Почему? Момент, когда была написана пьеса, служит ответом на наш вопрос. Это был тот тревожный год, когда самые ранние друзья Шекспира среди вельмож, Эссекс и Саутгемптон, составили свой безрассудный заговор против Елизаветы, и когда их попытка восстания окончилась казнями или тюремным заключением. Он увидел, таким образом, что гордые и благородные характеры могли, в силу обстоятельств, совершать политические ошибки, могли во имя свободы затеять бунт. Между попыткой Эссекса произвести дворцовую революцию, которая при непредвиденных капризах королевы могла обеспечить ему власть, и попыткой римских патрициев путем убийства защитить аристократическую республику против только что основанного единодержавия было, конечно, весьма мало сходства; но точкой соприкосновения являлось само восстание против монарха, само это неразумное и неудачное стремление произвести переворот в общественном строе.
К этому присоединилась у Шекспира в раннюю эпоху известная симпатия к личностям, которым счастье не улыбалось, которые не были способны приводить свои намерения в исполнение. В прежнее время, когда он сам еще был бойцом, идеалом для него служил Генрих V, человек с практическими задатками, прирожденный победитель и триумфатор; теперь же, когда сам он пробился вперед и близился уже к вершине возможного для него почета, теперь он, по-видимому, с особым предпочтением и с грустью останавливал свой взгляд на личностях, которые, подобно Бруту и Гамлету, при самых великих свойствах не имели дара разрешить поставленную себе задачу. Они привлекали его как глубокомысленные мечтатели и великодушные идеалисты. В нем была доля и их природы.
Добрых двадцать лет раньше, именно в 1579 г., в Англии были напечатаны «Параллельные жизнеописания» Плутарха в переводе Порта, сделанном не с подлинника, а с французского перевода Амю. В этом переводе Шекспир нашел свой сюжет.
Способ, которым он пользуется этим сюжетом, значительно отличается от метода, применяемого им обыкновенно к своим источникам. У хрониста, как Холиншед, он сплошь и рядом берет лишь ход событий, основной очерк главного лица и анекдоты, которыми он может воспользоваться; у новеллиста, как Банделло или Чинтио, он берет контуры действия, не особенно много почерпая из них для характеров или диалога; из старинных пьес, которые он разрабатывает или переделывает, как например «Укрощение строптивой», «Король Иоанн», «Победы Генриха V», «Король Лир», — первоначальный «Гамлет», к сожалению, не сохранился — он переносит в свой труд всякую сцену и всякую реплику, которые годятся на то, что годится в тех случаях, где мы можем контролировать положение дела; никогда не заимствуется в больших размерах и никогда не представляет чего-либо особенно ценного. Здесь же, наоборот, мы можем поразительным и поучительным образом изучать метод работы Шекспира, когда он всего вернее придерживался своего источника. И мы видим, что он с тем большей точностью следовал за своим авторитетом, чем более последний был развит и чем более имел психологического чутья.
Здесь Шекспир оказался впервые лицом к лицу с совершенно цивилизованным умом, нередко наивным в своей античной простоте, но все же незаурядным художником, писателем, которого Жан Поль в преувеличенных, но вполне понятных выражения назвал биографическим Шекспиром всемирной истории.
Всю драму «Юлий Цезарь» можно предварительно прочесть у Плутарха. Шекспир взял у него три жизнеописания: жизнь Цезаря, Брута и Антония. Если мы прочтем их одну вслед за другой, то у нас будут налицо все частности «Юлия Цезаря».
Вот ряд примеров из первых актов драмы: пьеса начинается завистью трибунов к любви, которой пользуется Цезарь у простого народа. Все до малейших мелочей заимствовано здесь у Плутарха. Равным образом и то, что следует: неоднократные предложения Цезарю короны со стороны Антония на празднике Луперкалий и неискренний отказ, которым Цезарь отвечает на них. Подозрительность Цезаря по отношению к Кассию. Реплику, с которой Цезарь вторично выступает на сцену — «Меня должны окружать люди тучные, беззаботные, покойно просыпающие ночи; не такие, как этот Кассий: он слишком сух и тощ, слишком много думает; такие люди опасны» — у Плутарха мы находим в буквально тех же словах; более того, этот анекдот произвел на него такое впечатление, что он три раза пересказывает его в различных биографиях. Далее, у греческого историографа встречается: как Кассий постепенно втягивает Брута в заговор, записки с призывами, подбрасываемые ему, соображения о том, должен ли Антоний умереть вместе с Цезарем, и несправедливое суждение Брута о характере Антония, жалобы Порции на то, что она лишена доверия своего супруга, и доказательство мужества, которое она дает, вонзая себе нож в ногу, все предзнаменования и чудеса, предшествующие убийству: жертвенное животное без сердца, огненный дождь и огненные волны в воздухе, предостерегающее сновидение Кальпурнии, решение Цезаря не идти в сенат 15 марта, старания Деция Брута переубедить его, бесплодная попытка Артемидора удержать его от опасности и т. д. и т. д. Все можно здесь найти штрих за штрихом.
По временам материал передается с мелкими и тонкими отклонениями, в которых просвечивает то темперамент Шекспира, то его взгляд на жизнь, то идея, проводимая им в пьесе. У Плутарха нет пренебрежения к народным массам, которое питает к ним Шекспир, он не заставляет их менять фронт так бессмысленно. У него нет монолога Брута перед окончательным решением (II, 1). Вообще же Шекспир употребляет, где это только возможно, те самые слова, которые находит в данном случае в переводе Норта. И даже более того: Шекспир берет характеры такими, какими они обрисованы Плутархом, например Брута, Порцию, Кассия. Брут совершенно одинаков в том и другом изображении, характер Кассия у Шекспира углублен.
Что касается великого Цезаря, чьим именем озаглавлена драма, то Шекспир в точности придерживается частных анекдотических данных у Плутарха; но изумительно то, что он не воспринимает значительного впечатления, которое у Плутарха получается от характера Цезаря, хотя и он, впрочем, не был в состоянии вполне его понять. Кроме того, следует принять во внимание еще то обстоятельство, неизвестное, конечно, Шекспиру, что Плутарх, родившийся сотню лет спустя после смерти Цезаря, в такое время, когда самостоятельность Греции была одним лишь преданием, а столь великая некогда Эллада — частью римской провинции, писал свои сравнительные жизнеописания с целью напомнить гордому Риму, что каждой из его великих личностей Греция могла противопоставить свою.
Плутарх был проникнут мыслью, что побежденная Греция была владыкой и учителем Рима во всех умственных сферах. Он в Риме читал лекции на греческом языке, не умел говорить по-латыни, между тем как всякий римлянин говорил с ним по-гречески и понимал этот язык, как свой родной. Довольно характерно, что римская литература и поэзия для него не существуют, между тем как он беспрестанно цитирует греческих писателей и поэтов. Никогда не упоминает он имя Вергилия или Овидия. Он писал о своих великих римлянах так, как в наши дни пишет о великих русских какой-нибудь просвещенный и чуждый предрассудков поляк. Он, в глазах которого древние республики были озарены идеальным светом, не особенно был склонен ценить величие Цезаря.
Так как Шекспир задумал свою драму таким образом, что ее трагическим героем являлся Брут, то он должен был поставить его на передний план и наполнить сцену его личностью. Необходимо было устроить так, чтобы недостаток политической проницательности у Брута (относительно Антония) или практического смысла (спор с Кассием) не нанес ущерба впечатлению его превосходства. Все должно было вращаться вокруг него, и поэтому Цезаря Шекспир умалил, сузил и, к сожалению, так сильно, что этот Цезарь, этот несравненный гений в области политики и завоеваний, сделался жалкой карикатурой.
В других пьесах есть явственные следы того, что Шекспир прекрасно знал, что такое был этот человек и чего он стоил. Маленький сын Эдуарда в «Ричарде III» в восторженных словах говорит о Цезаре, как о герое победы, которого не победила сама смерть. Горацио в одновременно почти с «Юлием Цезарем» написанном «Гамлете» говорит о великом Цезаре и о его смерти, а Клеопатра в трагедии «Антоний и Клеопатра» гордится тем, что принадлежала Цезарю. Правда, в комедии «Как вам угодно» плутовка Розалинда к знаменитым словам «пришел, увидел, победил» применяет выражение «тразоническая похвальба Цезаря», но в чисто шутливом значении.
Но здесь! Здесь Цезарь действительно рисуется в немалой мере хвастуном, как и вообще сделался олицетворением малопривлекательных свойств. Он производит впечатление инвалида. Подчеркивается его страдание падучей болезнью. Он глух на одно ухо. У него уже нет его прежней силы. Он падает в обморок, когда ему подносят корону. Он завидует Кассию, потому что тот плавает лучше его. Он суеверен, как какая-нибудь старушонка. Он услаждается лестью, говорит высокопарно и высокомерно, похваляется своей твердостью и постоянно выказывает колебание. Он действует неосторожно, неблагоразумно и не понимает, что угрожает ему, тогда как все другие это видят.
Шекспир, как говорит Гервинус, не имел права возбуждать слишком большого интереса к Цезарю, он должен был выдвинуть все те черты его, которые объясняют заговор, и, кроме того, перед ним был отзыв Плутарха, что характер Цезаря значительно испортился незадолго до его смерти. Годсон представляет себе приблизительно в таком же роде, что Шекспир хотел изобразить Цезаря так, как его понимали заговорщики, для того чтобы зритель не судил несправедливо об этих последних; впрочем, он соглашается, что «Цезарь был слишком велик для того, чтобы они могли его видеть», что он «далеко не похож на себя в этих сценах, и едва ли можно считать исторически характерной хотя бы одну из реплик, вложенных ему в уста». Таким образом, Годсон приходит к изумительному результату, что во всем замысле пьесы есть тонкая ирония, «ибо, — объясняет он, — чтобы Брут, пошлый идеалист, затмил собою величайшего практического гения, какого когда-либо видел свет, может быть допущено лишь в ироническом смысле».
Это самая бессвязная чепуха, порожденная претензией на остроумие. В драме нет ни искры иронии над Брутом. И ни к чему не служит даже утверждение, что Цезарь становится после своей смерти главным действующим лицом и, как труп, как воспоминание, как дух, сокрушает своих убийц. Как может такой незначительный человек отбрасывать от себя такую великую тень! Шекспир, конечно, подразумевал, что Цезарь побеждает после своей смерти. Злого гения Брута, являющегося в лагере при Филиппах, он превратил в дух Цезаря; но этого призрака слишком недостаточно для того, чтобы воскресить искаженное представление о Цезаре.
С другой стороны, неверно и то, будто единство пьесы пострадало бы от величия Цезаря. Поэтическое достоинство пьесы страдает от его незначительности. Пьеса могла бы сделаться бесконечно богаче и глубже, если бы Шекспир написал ее, взяв исходной точкой сознание того, чего стоил Цезарь.
В других случаях у Шекспира приходится удивляться тому, что он мог сделать из скудного, бедного материала. Здесь история была так неисчерпаемо богата, что рядом с ней его поэзия сделалась бедной и скудной.
Совершенно подобно тому, как Шекспир, если только места в первой части «Генриха VI», относящиеся к Орлеанской Деве, принадлежат ему, изобразил Жанну д’Арк без понимания высокой и простой поэзии, изливавшейся от этого образа, — путь ему заграждали национальные предрассудки и стародавнее суеверие — точно так же он слишком легкомысленно и без всякой осторожности приступил к обрисовке Цезаря, и как Жанну д’Арк он сделал колдуньей, так он делает Цезаря самохвалом — Цезаря!
Если бы, как школьная молодежь позднейших времен, он должен был прочитать в детстве сочинение Цезаря о Галльской войне, то это не оказалось бы возможным. Или, быть может, из того, что ему пришлось слышать об этом сочинении, он наивно заимствовал ту черту, что Цезарь постоянно говорит о себе в третьем лице и называет себя по имени?
Сравните на минуту этого патетического самопочитателя у Шекспира с тем портретом его, который Шекспир без труда мог бы составить себе хотя бы только по своему Плутарху, и который послужил бы объяснением легкости, с какой Цезарь поднялся на высоту единодержавия, на которой он стоит при начале пьесы, возбуждая против себя постепенно накоплявшуюся ненависть. Уже на второй странице жизнеописания Цезаря он прочел бы здесь анекдот о том, как Цезарь, совсем еще молодым человеком, был на обратном пути из Вифинии захвачен в плен киликийскими пиратами. Они потребовали с него 20 талантов выкупа. Он отвечал им, что они, вероятно, не знают, кто такой их пленник, обещал им вместо двадцати пятьдесят талантов, разослал своих спутников в разные города, чтобы собрать эту сумму, и с одним другом и двумя служителями остался один у этих известных своей кровожадностью бандитов. Он выказывал им такое пренебрежение, что отдавал им приказания; они не смели говорить, когда ему хотелось спать; в течение 38 дней, которые он провел у них, он обращался с ними так, как какой-нибудь владетельный князь со своими телохранителями. Он делал свои гимнастические упражнения, писал стихи и речи, словно находясь в полной безопасности. Часто грозил он им, что когда-нибудь да повесит их, т. е. распнет на кресте.
Как только он получил из Милета выкупную сумму, он прежде всего воспользовался своей свободой для того, чтобы снарядить в гавани несколько кораблей, напасть на пиратов, всех их взять в плен и овладеть их добычей. Затем он обратился к претору Азии, Юнию, которому принадлежало право наказать их. Когда тот, руководимый корыстолюбием, ответил, что обсудит на досуге, что следует сделать с пленниками, Цезарь возвратился в Пергам, где они были заключены в темницу, и повелел всех разбойников, согласно своему обещанию, распять на кресте.
Что сделалось с этим сознанием своего превосходства и с этой непреклонной силой воли у шекспировского Цезаря!
Я желал бы, чтобы он был потучнее, но не боюсь его. И все-таки, если бы мое имя вязалось со страхом…
Я говорю это тебе с целью показать, чего должно бояться, а не из желания высказать, чего я боюсь — ведь я всегда Цезарь.
Хорошо еще, что он сам дебютирует этими словами. Иначе этому не поверили бы. Да и верят ли этому?
Шекспир представляет дело так, как будто республика, ниспровергнутая Цезарем, могла существовать, как будто, ниспровергнув ее, он оказался преступным.
Но древняя аристократическая республика уже распалась, когда Цезарь сковал из ее элементов новую монархию. В Риме царила чистая анархия. Там была чернь, о которой чернь больших городов в наши дни не может дать представления — не глупая чернь, по большей части смирная, лишь порою дикая по глупости, внимающая у Шекспира надгробным речам и рвущая на части Цинну; — но чернь, бесчисленные орды которой образовались, во-первых и прежде всего, из масс рабов в соединении с тысячами иностранцев из всех трех частей света, фригийцев из Азии, негров из Африки, иберийцев и кельтов из Италии и Франции, стекавшихся в мировую столицу. К громадной толпе домашних и полевых рабов присоединились тысячи, совершивших на родине кражу или убийство, живших во время пути разбоем и грабежом и теперь скрывавшихся в предместьях Рима. Но кроме иностранцев без ремесла и рабов без хлеба, были полчища вольноотпущенных людей, вконец испорченных рабским состоянием и видевших в полной свободе, соединилась ли она с беспомощной бедностью или с новоприобретенным богатством, лишь средство причинять вред. Затем были легионы гладиаторов, столь же равнодушных к чужой жизни, как и к своей собственной, готовых служить всякому, кто платил. Из таких-то людей составил, например, Клодий свои вооруженные шайки, делившиеся, совершенно как римские солдаты, на декурии и центурии под начальством решительных предводителей. На форуме эти полчища дрались с другими полчищами гладиаторов и пастухов из диких местностей Пиценума и Ломбардии, вызванных сенатом и организованных им для своей защиты. Уличной полиции и пожарных не было, можно сказать, вовсе. Когда случались общественные беды, как, например, пожар или наводнение, то совещались с авгурами о значении этих несчастий. Начальствующим лицам перестали повиноваться; на консулов и трибунов производили нападения, мало того, убивали их иногда. В сенате ораторы осыпали друг друга бранью, на форуме они плевали друг другу в лицо. На Марсовом поле всякий избирательный день давались настоящие сражения, и ни один значительный человек никогда вообще не ходил по улице иначе, как в сопровождении стражи из гладиаторов и рабов. «Попытайтесь вообразить себе, — говорит Моммсен, — Лондон с невольничьим населением Нового Орлеана, с константинопольской полицией, с полным отсутствием промышленности, как в современном Риме, и притом волнуемый политикой по образцу парижской политики 1848 г., и вы получите приблизительное представление о республиканском величии, гибель которого оплакивают в своих негодующих письмах Цицерон и его товарищи».
Сравните теперь в трагедии попытку честолюбивого Цезаря ввести царскую власть в подчиненное республиканским формам и благоустроенное государство.
Что очаровывало всех, даже противников, приходивших в соприкосновение с Цезарем, это его благовоспитанность, его учтивость, словом, прелесть его существа. Эти качества производили вдвойне сильное впечатление на тех, кто, подобно Цицерону, привык к высокомерию и грубости так называемого великого Помпея. Цезарь, как бы он ни был занят, всегда находил время подумать о своих друзьях и пошутить с ними. Его письма милы, веселы. У Шекспира же он то надменен, то фамильярен.
В течение 25 лет Цезарь как политик всяческими средствами боролся с аристократической партией в Риме, с ранних пор решив сделаться, без применения вооруженной силы, властелином известного в то время света, в той уверенности, что республика распадется сама собой. В одно уже свое преторство в Испании он обнаружил таланты воина и администратора и держался в стороне от ежедневной политики. Затем, когда все, казалось, готово было подчиниться ему, он вдруг все обрывает, покидает Рим и направляется в Галлию. Сорока четырех лет от роду он делается военачальником и становится, быть может, величайшим из полководцев, о которых говорит история, несравненным завоевателем и организатором, и в этом, уже немолодом возрасте высказывает целый ряд свойств в высшей степени ценных.
Шекспир не дает нам представления о гибкости и о богатстве его характера. Зато он заставляет Цезаря с неутомимой торжественностью восхвалять самого себя (II, 1):
Выйду. Опасности, грозящие мне, видели только тыл мой; увидят лицо Цезаря — исчезнут.
У Цезаря не было и тени той мертвенной важности и строгости, которые придает ему Шекспир. Он соединял в себе находчивость полководца с изяществом и высоким равнодушием к мелочам светского человека. Он любил, чтобы его солдаты носили блестящее оружие, и чтобы они были нарядны: «Что за беда в том, если они опрыскивают себя духами, — говорил он, — они не хуже дерутся от этого», и солдаты, бывшие как большинство солдат под начальством других, делались непобедимыми под его предводительством.
Он, бывший в Риме законодателем моды, был в поле так равнодушен ко всем удобствам, что часто спал под открытым небом и, не поморщившись, ел прогорклое масло; но в его палатках всегда стояли богато накрытые столы, и вся знатная молодежь, для которой Галлия была в те времена то же, чем сделалась Америка в период открытий, являлась из Рима в его лагерь, какой когда-либо видел свет, богатый тонкими и умными людьми, молодыми писателями и поэтами, остроумными и гениальными, занимавшимися литературой среди самых серьезных, висевших над их головой опасностей, и постоянно посылавших отчеты о своей совместной жизни и своих беседах Цицерону, успевшему сделаться к этому времени признанным главой римской литературы. В короткий срок, употребленный Цезарем на завоевательный поход в Британию, он пишет два раза Цицерону. Их отношения с их различными фазисами напоминают до некоторой степени отношения Фридриха Великого и Вольтера. Какой печальный портрет Цицерона как педанта дает нам Шекспир!
Кассий. Не говорил ли чего Цицерон?
Каска. Как же, говорил — только по-гречески.
Кассий. Что же?
Каска. Вот уж этого-то я не могу сказать тебе. Понимавшие его поглядывали друг на друга, улыбаясь и покачивая головами; для меня же все это было решительно греческим.
Среди всевозможных усилий, ежедневно рискуя жизнью, в неустанной борьбе с воинственными врагами, которых он побивает поочередно, Цезарь пишет свои грамматические труды и свои комментарии. Его посвящение Цицерону сочинения об аналогии есть дань поклонения как ему, так и литературе: «Ты открыл все сокровища красноречия и первый применил их к делу. Ты стяжал славу прекраснее всякой другой славы, ты достиг триумфа, который следует предпочесть триумфу величайших полководцев, ибо расширять пределы умственной жизни более достойно, нежели расширять границы царства». Это говорит человек, только что разбивший швейцарцев, завоевавший Францию и Бельгию, совершивший первый поход в Англию и настолько оттеснивший германские войска, что они на долгие времена сделались безопасными для того Рима, которому грозили гибелью.
Как все это мало походит на торжественно-самодовольного манекена у Шекспира:
…Опасность знает очень хорошо, что Цезарь опаснее ее самой. Мы два льва, рожденные в один день: я старший и страшнейший. Цезарь выйдет из дома.
Цезарь мог быть жесток. Он не упускал случая на войне устрашать своих врагов мщением; он повелел отсечь головы у всего сената венетов, повелел отрубить правую руку у всех тех, кто сражался против него при Укселлодунуме; доблестного Верпингеторикса он посадил на пять лет в темницу, чтобы заставить его идти в оковах во время своего триумфа, а после того казнил.
Тем не менее, там, где строгость не была необходима, он был сама снисходительность и кротость. Во время гражданской войны Цицерон перешел в лагерь Помпея, после поражения просил прощения и получил его. Когда он затем издал книгу в честь смертельного врага Цезаря, Катона, лишившего себя жизни для того, чтобы не быть вынужденным повиноваться ему, и сделавшегося вследствие этого героем всех республиканцев, Цезарь писал Цицерону: «Читая книгу, я чувствую, что сам, благодаря ей, делаюсь как будто красноречивее». А между тем в его глазах Катон был лишь грубая личность и энтузиаст устарелого строя. Раба, из нежной преданности к своему господину отказывавшегося подать Катону свой меч, когда он хотел заколоть себя, Катон так неистово ударил кулаком в лицо, что у него рука сделалась красной от крови. Такой поступок испортил Цезарю трагическое впечатление этого самоубийства.
Цезарь не удовольствовался тем, что простил почти всех, сражавшихся против него при Фарсале; со многими из них, как например с Брутом и Кассием, он щедро поделился своей властью. Брута он старался охранять перед битвой, после же нее осыпал его почестями. Не раз после того выступал Брут противником Цезаря, более того, из принципиальной мятежности пошел против него с Помпеем, несмотря на то, что его отец был убит по приказанию последнего. Цезарь простил ему и это, как прощал его без конца. Он перенес, по-видимому, на Брута любовь, которую в молодости питал к его матери Сервилии, сестре Катона, одной из самых страстных и самых верных возлюбленных Цезаря. В своей «Mort de Cesar» Вольтер заставляет Брута подать Цезарю только что полученное им письмо от умирающей Сервилии, где она просит Цезаря позаботиться об их сыне. Плутарх рассказывает, что когда во время заговора Каталины Цезарю принесли в сенат письмо, и когда по поводу того, что он встал и прочел его, отойдя в сторону, Катон громогласно выразил подозрение, что здесь читается письмо от заговорщиков, — Цезарь со смехом подал ему это письмо, заключавшее в себе любовные признания его сестры, после чего Катон в негодовании воскликнул: «Пьяница!» — самое худшее бранное слово в устах римлянина. (Бен Джонсон воспользовался этим анекдотом в своей пьесе «Каталина»).
Брут унаследовал от своего дяди Катона ненависть к Цезарю. В этих двух последних римских республиканцах эпохи упадка республики с благородным стоицизмом сочеталась известная жестокость. В характере Катона было много древнеримской грубости; Брут же по отношению к азиатским провинциальным городам был лишь кровожадным ростовщиком, вымогавшим свои ростовщические доходы посредством угроз убийством и пожаром от имени подставного лица (Скаптия). Жителям города Саламина он дал взаймы деньги под 48 процентов. Когда они не могли их уплатить, он так сильно осадил их сенат отрядом конницы, что пять сенаторов умерли голодной смертью. Шекспир по неведению очищает Брута от этих пороков и делает его простым и великим за счет Цезаря.
Цезарь сравнительно с Катоном — как позднее Цезарь сравнительно с Брутом — это всесторонний гений, любящий жизнь, любящий действие и власть, сравнительно с узким пуританизмом, ненавидящим умы такого рода отчасти по инстинкту, отчасти по теории.
Какое странное недоразумение, что Шекспир, который сам как поклонник красоты, как человек, склонный к жизни, исполненный деятельности, наслаждения и удовлетворенного честолюбия, постоянно находился по отношению к пуританизму на боевой позиции аналогичной с Цезарем, что он по незнанию перекинулся на сторону пуританизма и через это оказался неспособным извлечь из богатого рудника Цезаря все заключавшееся в нем золото! В шекспировском Цезаре нет и тени прямодушия и честности настоящего Цезаря. Никогда не выказывал он лицемерного почтения к прошлому, хотя бы даже в грамматических вопросах. Он протянул руку к власти и взял ее, но не делал вида, как у Шекспира, будто он ее отвергает. Шекспир удержал за ним гордость, которую он выказывал, но сделал ее некрасивой и наделил его в придачу лицемерием.
И еще следующая черта в характере Цезаря не была понята Шекспиром: когда, наконец, одержав всюду победы в Африке и Азии, в Испании и Египте, он увидал в своих руках власть, которой двадцать лет домогался, она потеряла для него свою притягательную силу. Он знал, что его не понимают и ненавидят те люди, чье уважение он особенно ценил, видел себя вынужденным пользоваться услугами людей, которых презирал, и душой его овладело презрение к людям. Вокруг себя он видел лишь алчность и измену. Власть показалась ему лишенной сладости, сама жизнь показалась ему утратившей свою цену, не стоящей больше того, чтобы ее беречь. Отсюда его ответ, когда его умоляли принять меры против тех, кто хотел его убить: «Лучше один раз умереть, чем вечно трепетать!», и он идет 15 марта в сенат, без оружия, без вооруженной свиты. В трагедии его под конец заманивает туда надежда на титул и корону и боязнь, что его назовут трусом.
Глупцы, приписывающие произведения Шекспира Френсису Бэкону, исходят, между прочим, из того соображения, что человек, не обладавший ученостью Бэкона, не мог иметь того знания римских античных условий жизни, какое обнаружено в «Юлии Цезаре». Эта драма, совсем наоборот, явно и очевидно должна была быть написана человеком, ученость которого никоим образом не стояла на уровне его гениальности, так что она не только своими замечательными достоинствами, но и своими недочетами служит, совершенно излишним впрочем, доказательством того, что сам Шекспир есть автор своих произведений. Кропатели и не подозревают, в какой степени гений может заменить книжную культуру, и как высоко он парит над ней. Но, с другой стороны, бесспорно приходится утверждать, что существуют области, где никакая гениальность не может заменить знания, изучения источников, наблюдения действительности, и где даже высочайший гений пасует, когда хочет творить на собственный страх или на скудном фундаменте.
Такой областью является историческая поэзия касательно тех личностей, где полнота истории превосходит всякую свободную концепцию, где история более необычайна, более поэтична, нежели какая-либо поэзия, более трагична, нежели какая-либо древняя трагедия, там поэт может достигнуть одного уровня с нею лишь опираясь на свои многосторонние знания. Недостаток у Шекспира исторического и разностороннего классического образования сделал то, что несравненное величие Цезаря не оставило следа в его душе. Он принизил и скомкал этот образ, чтобы дать простор развитию характера, долженствовавшего играть главную роль в его драме, а именно Марка Брута, которого, следуя идеализирующему примеру Плутарха, он почти целиком нарисовал благородным стоиком.
Глава 36
Характер Брута
Только такой наивный республиканец, как Суинберн, может думать, что Брут сделался главным действующим лицом вследствие политического энтузиазма к республике в душе Шекспира. Он, наверно, не имел никакой политической системы и в других случаях проявляет, как известно, чувства самой горячей преданности и любви к королевской власти.
Брут уже у Плутарха был главным лицом в трагедии Цезаря, и Шекспир последовал за ходом действительной истории у Плутарха под глубоким впечатлением того, что сделанная противно политическому смыслу попытка государственного переворота — вроде попытки Эссекса и его товарищей является недостаточной для вмешательства в управление колесом времени, и что практические ошибки находят себе столь же жестокое возмездие, как и моральные, и даже гораздо более жестокое. В нем проснулся теперь психолог, и ему показалось завлекательной задачей исследовать и изобразить человека, охваченного миссией, к которой он по своей природе не способен. На этой новой ступени развития его приковывает к себе уже не внешний конфликт, лежавший в «Ромео и Джульетте» между влюбленными и их близкими, или в «Ричарде III» — между Ричардом и окружающими его, а внутренние процессы и внутренние столкновения жизни душевной.
Брут жил среди книг и питал свой ум платоновской философией; поэтому он более занят отвлеченной политической идеей республики, поддерживаемой любовью к свободе, и отвлеченным нравственным убеждением, что недостойно терпеть над собою властелина, нежели действительными политическими условиями, находящимися у него перед глазами, и значением перемен, происходящих в то время, в которое он живет. Этого человека Кассий настойчиво зовет стать во главе заговора против его благодетеля и друга, бывшего для него отцом. Этот призыв приводит в брожение все его существо, расстраивает его гармонию, навсегда выводит его из нравственного равновесия.
К Гамлету, одновременно с Брутом начинающему мелькать в душе Шекспира, точно так же тень убитого отца обращается с требованием, чтобы он сделался убийцей, и это требование действует возбуждающим, подстрекающим образом на его духовные силы, но разлагающим — на его натуру Так близко соприкасается положение между двумя велениями долга, в котором очутился Брут, с внутренней борьбой, которую вскоре придется переживать другому герою Шекспира Гамлету Брут в разладе с самим собой; вследствие этого он забывает оказывать другим внимание и внешние знаки приязни. Он чувствует, что его зовут другие, но не чувствует внутреннего призвания. Как у Гамлета вырываются известные слова: «Распалась связь времен. Зачем же я связать ее рожден?», точно так же и Брут содрогается перед своей задачей. Он говорит:
Брут скорее согласится сделаться селянином, чем называться сыном Рима при тех тяжких условиях, которые это время, весьма вероятно, возложит на нас.
Его благородная натура терзается неуверенностью и сомнением.
С той минуты, как с ним переговорил Кассий, он лишился сна. Грубый Макбет лишается сна после того, как он убил короля, — «Макбет зарезал сон». Брут, со своей тонкой, пытливой натурой, Брут, не хотящий действовать иначе, как ему велит долг, спокоен после убийства, но теряет сон до него. Мысль, его поглощающая, изменила весь строй его жизни; его жена не узнает его. Она описывает, как он не принимает пищи, не говорит и не спит, а только ходит взад и вперед, скрестив на груди руки и вздыхая, не отвечает на ее вопросы и, когда она повторяет их, с суровым нетерпением отказывается дать ей ответ.
Не одни только узы благодарности к Цезарю терзают Брута; более всего его мучит неизвестность относительно его намерений. Правда, Брут видит, что народ боготворит Цезаря и облек его верховной властью; но этой властью Цезарь никогда еще не злоупотреблял. Брут готов присоединиться к взгляду Кассия, что, отказываясь от диадемы, Цезарь, в сущности, ее желал, но в таком случае приходится считаться только с его предполагаемым вожделением:
«Цезарь же, если говорить правду, никогда не подчинял еще рассудка страстям своим. Но ведь известно уже и то, что смирение — лестница юных честолюбий». Значит, если Цезарь должен быть убит, так не за то, что он сделал, а за то, что он может сделать в будущем. Позволительно ли совершить убийство на этой основе?
Вариант у Гамлета будет выражен так: верно ли, что король убил отца Гамлета? Что, если тень была обманчивый призрак или сатана?
Брут чувствует шаткость основы, чем более он склоняется к убийству как политическому долгу И Шекспир не задумался наделить его, при всех высоких свойствах его души, сомнительной в глазах многах моралью цели, по которой необходимая цель освящает нечистое средство. Два раза там, где он обращается к заговорщикам, он рекомендует политическое лицемерие, как мудрый и целесообразный способ действий. В монологе:
«Если то, что он теперь и не оправдывает еще такой враждебности, — она оправдывается тем, что всякое новое возвеличение его неминуемо приведет к той или другой крайности».
К заговорщикам:
Пусть сердца наши, подобно хитрым господам, возбудят служителей своих на кровавое дело и затем, для вида, негодуют на них.
Это значит, что следует совершить убийство насколько возможно приличнее, а затем убийцы должны сделать вид, будто сожалеют о своем поступке. Между тем, как скоро убийство решено, Брут, уверенный в чистоте своих намерений, стоит гордый и почти беспечный среди заговорщиков, слишком даже беспечный, ибо, хотя он в принципе не отступил от учения, что хотящий цели должен хотеть и средств, тем не менее, при своей любви к справедливости и своей непрактичности он содрогается перед мыслью употребить средства, кажущиеся ему чересчур низменными или не имеющими себе оправдания по своей беспощадности. Он не хочет даже, чтобы заговорщики произнесли клятву: «Пусть клянутся жрецы, трусы и плуты». Они должны верить друг другу без клятвенного уверения и хранить общую тайну без клятвенного обещания. И когда предлагают убить вместе с Цезарем и Антония, — предложение необходимое, на которое он как политик должен был согласиться, — то у Шекспира, как и у Плутарха, он отвергает это из человечности: «Наш путь сделается тогда слишком кровавым, Кассий!» Он чувствует, что его воля светла, как день; он страдает от необходимости заставить ее пустить в ход темные, как ночь, средства.
О заговор, если тебе и ночью — когда злу наибольшая свобода — стыдно показывать опасное чело свое, где же найдешь ты днем трущобу, достаточно мрачную, чтобы скрыть чудовищное лицо твое?
В деле, торжество которого обусловлено убийством из-за угла, Брут всего охотнее желал бы одержать победу без умолчания и без насилия. Гёте сказал: «Совесть имеет только созерцающий». Человек действующий не может иметь ее, пока он действует. Кто бросается в действие, тот отдает себя во власть своей натуре и посторонним силам. Он действует правильно или неправильно, но всегда инстинктивно, часто глупо, если возможно — гениально, никогда вполне сознательно, но с неудержимостью инстинкта, или эгоизма, или гениальности. Брут, даже и действуя, хочет остаться чистым.
Крейсиг и после него Дауден назвали Брута жирондистом, противопоставив его, как контраст, его шурину, Кассию, своего рода якобинцу в античном костюме. Это сравнение удачно лишь постольку, поскольку здесь подразумевается меньшая или большая склонность к применению насильственных средств; оно хромает, если мы подумаем о том, что Брут живет в разреженном воздухе абстракции, лицом к лицу с идеями и принципами; Кассий же, наоборот, в мире фактов, ибо якобинцы были, конечно, столь же упрямыми теоретиками, как любой жирондист. Брут у Шекспира — строгий моралист, крайне заботящийся о том, чтобы на его чистом характере не оказалось ни одного пятна, Кассий же, напротив, вовсе не тщится сохранить нравственную чистоту.
Он прямо завидует Цезарю и открыто признается, что ненавидит его; однако он не низок, потому что зависть и ненависть поглощаются у него политической страстью в ее великом выводе. И в противоположность Бруту он хороший наблюдатель, сквозь слова и поступки людей он как бы проникает в их души. Но так как Брут, по своему положению близкого друга Цезаря, намечен вождем заговора, то его неполитичная, неблагоразумная воля постоянно одерживает верх.
Когда позднее Гамлет, столь преисполненный сомнения, ни на минуту не колеблется в вопросе о своем праве убить короля, то это объясняется тем, что этот случай был только что исчерпан в изображении характера Брута.
Брут — тот идеал, который жил в душе Шекспира и который живет в душе всех лучших людей, — идеал человека, в своей гордости стремящегося прежде всего сохранить руки свои чистыми и дух свой высоким и свободным, если бы даже таким путем ему пришлось видеть неудачу своих предприятий и крушение своих надежд.
Он не желает принимать от других клятву, он слишком горд для этого. Пусть они обманывают его, если хотят. Может статься, что этими другими руководит их ненависть к великому человеку, и что они радуются при мысли насытить свою зависть его кровью; Брут преклоняется перед этим человеком и хочет жертвоприношения, а не резни. Другие боятся действия, которое произведет речь Антония к народу. Но Брут изложил народу причины, побудившие его к убийству, так пусть же теперь Антоний скажет все, что может, в пользу Цезаря. Разве не заслуживал Цезарь похвал? Он сам желает, чтобы Цезарь лежал в могиле, окруженный почестями, хотя и потерпевший кару, и он слишком горд, чтобы следить за Антонием, приблизившимся в качестве друга, хотя в то же время и старого друга Цезаря, и оставляет форум еще прежде, чем Антоний начал свою речь. Многим знакомы такого рода настроения. Многие совершали такого рода неразумные поступки, из гордости не заботясь о неблагоприятном, быть может, исходе, совершали их в силу антипатии к способу действий, внушаемому осторожностью, которая кажется низменной человеку высокой души. Многие, например, говорили правду, когда глупо было говорить ее, или пренебрегали случаем отомстить, потому что слишком низко ценили своего врага, чтобы искать возмездия за его поступки, и через это упускали возможность сделать его безвредным на будущее время. Можно так интенсивно ощущать необходимость доверия или, наоборот, так интенсивно чувствовать ненадежность друзей и презренность врагов, что гнушаться всякой мерой предосторожности.
На основе родственного с этим инстинктивного чувства Шекспир и создал своего Брута. С примесью юмора и гениальности он был бы Гамлетом и становится Гамлетом. С примесью отчаянной горечи и презрения к людям он был бы Тимоном и становится Тимоном. Здесь, на высоте своей, он благородный, великий человек характера и человек доктрины, слишком гордый, чтобы хотеть быть осмотрительным, и слишком плохой наблюдатель, чтобы быть практичным; этот человек поставлен в такое положение, что не только жизнь и смерть для другого и для него самого, но благополучие государства, более того, судя по виду, благополучие цивилизованного мира зависит от решения, которое он примет.
Рядом с ним Шекспир поставил образ, представляющий его женский pendant, вполне подходящий к нему и слившийся с ним воедино, его двоюродную сестру и жену, его родственницу и возлюбленную, дочь Катона в супружестве с учеником Катона. Здесь и, несомненно, только здесь — поэт дал нам рисовавшуюся в его мечтах картину идеального брака.
В сцене между Брутом и Порцией поэт дал место мотиву, которым он уж пользовался однажды: мотиву озабоченной жены, умоляющей мужа посвятить ее в свои великие планы. В первый раз он встречается в первой части «Генриха IV», где леди Перси просит своего Генриха сообщить ей, что он замышляет. Екатерина делает здесь описание настроения и поведения Горячки, совершенно соответствующее описанию произошедшей в Бруте перемены, которое делает Порция. Притом же и у того, и у другого однородные намерения. Но леди Перси ничего не удается узнать. Ее Генрих, бесспорно, любит ее, любит ее временами, между двумя стычками с врагом, смелой и веселой любовью, но он любит ее без всякой чувствительности, и о каком-нибудь духовном общении между ними нет и речи.
Здесь, когда Порция просит своего супруга поведать ей причины своей печали, Брут, правда, сначала отвечает ей уклончиво ссылкой на свое здоровье, но когда она словами, которые Плутарх вкладывает ей в уста и античную откровенность которых Шекспир только смягчил немножко, настойчиво подчеркивает, что чувствует себя униженной этим недостатком доверия, тогда Брут дает ей искренний и прекрасный ответ. Когда же она затем (опять-таки по Плутарху) рассказывает ему о том, как однажды, чтобы испытать свою твердость, она вонзила себе нож в бедро и не испустила ни стона от боли, тогда он восклицает, повторяя слова, вложенные ему в уста у Плутарха: «О боги, соделайте меня достойным такой благородной жены!» — и обещает рассказать ей все.
Однако ни Шекспир, ни Плутарх не находят благоразумным это чистосердечное признание. Ибо не Порция виновата в том, что не выдала всего. Когда наступит решительный момент, она не может ни молчать, ни владеть собой. Она обнаруживает свой страх и свою тревогу перед отроком Люцием и сама восклицает:
Дух у меня мужской, но силы женские. Как трудно женщине хранить тайну! —размышление, очевидно, принадлежащее не Порции, а составляющее собственную житейскую философию Шекспира, которую он не хотел оставить про себя. У Плутарха она даже падает замертво, так что ложная весть о ее кончине настигает Брута за минуту перед тем, как должно совершиться убийство Цезаря, и ему нужно все его самообладание, чтобы не изнемочь.
Из характера, которым Шекспир наделил, таким образом, Брута, вытекают две большие сцены, служащие фундаментом пьесы. Первая — это чудесно построенная, делающаяся поворотным пунктом трагедии сцена, где Антоний, произнося с согласия Брута речь над трупом Цезаря, подстрекает римлян против убийц великого полководца.
С самым редким искусством Шекспир разработал уже речь Брута. Плутарх рассказывает, что Брут, когда писал по-гречески, старался усвоить себе сентенциозный и лаконический стиль, и он приводит ряд примеров этого стиля. Так, Брут писал самийцам: «Ваши соображения долги, действия медлительны; каков, думаете вы, будет конец их?», или в другом письме: «Ксантийцы, пренебрегшие моею кротостью, сделали свое отечество могилой отчаявшихся людей. Патарейцы, сдавшись, сохранили свою свободу и права. Выбирайте же теперь между здравым смыслом патарейцев и судьбой ксантийцев!»
Посмотрите, что сумел сделать из этих намеков Шекспир:
Римляне, сограждане, друзья! Слушайте мое оправдание и не нарушайте молчания, чтобы могли слышать все; верьте мне ради чести моей и не откажите в должном уважении моей чести…
Если между вами есть хоть один искренний друг Цезаря, — я скажу ему, что Брут любил Цезаря не меньше его. Если затем этот друг спросит: отчего же восстал Брут против Цезаря? — я отвечу ему: не оттого, что я меньше любил Цезаря, а оттого, что любил Рим больше… –
и так далее в лаконическом стиле антитез. Шекспир сделал сознательную попытку заставить Брута говорить тем языком, который он выработал себе, и со своим гениальным даром угадывания воспроизвел греческую риторику Брута:
Цезарь любил меня — и я оплакиваю его; он был счастлив — и я уважал его; но он был властолюбив — и я убил его. Тут все — и слезы за любовь, и радость счастью, и уважение за доблести, и смерть за властолюбие.
С необычайным и вместе с тем благородным искусством достигает он кульминационного пункта в вопросе: «Есть между вами человек столь гнусный, что не любит своего отечества? Есть — пусть говорит: только он и оскорблен мной», и когда в ответ раздается: «Никто, Брут, нет между нами такого», следует спокойная реплика: «А когда так, то никто и не оскорблен мной».
Еще более достойная удивления речь Антония замечательна, во-первых и прежде всего, сознательным различием в стиле. Здесь нет антитез, нет литературного красноречия, но есть красноречие устное, самого сильного демагогического характера; речь начинается с того самого пункта, где Брут оставил слушателей. Оратор в виде вступления категорически заявляет, что здесь будет говориться над гробом Цезаря, а не во славу его и при этом подчеркивает до утомления, что Брут и другие заговорщики — все, все благородные люди. Затем это красноречие вздымается, гибкое и могучее в своем хорошо рассчитанном crescendo, в самой глубине своей вдохновляемое чувствами, которые дышат пламенным энтузиазмом к Цезарю и жгучим негодованием на совершенное над ним убийство. Под впечатлением того, что Брут завоевал в свою пользу настроение толпы, насмешка и негодование сначала надевают маску, потом маска слегка, затем немного больше, затем еще больше приподнимается и, наконец, страстным движением руки срывается и отбрасывается прочь.
Здесь Шекспир снова сумел мастерски воспользоваться указаниями, хотя и скудными, которые дал ему Плутарх:
«По обряду и обычаю Антоний произнес надгробное слово над Цезарем, и когда увидал, что народ необычайно взволнован и тронут его речью, он внезапно к похвальной речи Цезарю присоединил то, что считал подходящим для того, чтобы пробудить сострадание и воспламенить душу слушателей».
Послушайте, что сделал из этого Шекспир:
Друзья, римляне, сограждане, удостойте меня вашего внимания. Не восхвалять, а отдать последний долг хочу я Цезарю. Дурные дела людей переживают их, хорошие — погребаются часто вместе с их костями. Пусть будет то же и с Цезарем! Благородный Брут сказал вам, что Цезарь был властолюбив; если это справедливо — это важный недостаток, и Цезарь жестоко поплатился за него. Я пришел сюда с позволения Брута и прочих, потому что Брут благороден — таковы и все они: все они благородные люди, — чтобы сказать надгробное слово Цезарю. Он был мне друг, добр и справедлив в отношении ко мне; но Брут говорит, что он был властолюбив, а Брут — благородный человек.
Затем Антоний возбуждает сперва сомнение во властолюбии Цезаря, упоминает о том, как он отказался от царской короны, трижды отказался от нее. Разве же это было властолюбие? Вслед за этим он переходит к вопросу, что Цезарь ведь все-таки был когда-то любим, и ничто не запрещает оплакивать его. Потом, с внезапной вспышкой:
О, где же здравый смысл? Бежал к безумным зверям, и люди лишились рассудка! Сердце мое в этом гробе с Цезарем: я не могу продолжать, пока оно не возвратится ко мне.
И вот следует призыв сострадания к этому величайшему мужу, слово которого еще вчера могло противостать вселенной и перед которым теперь, когда он лежит здесь, самый ничтожный человек не хочет поклониться. Несправедливо было бы держать к народу подстрекающую речь, несправедливо относительно Брута и Кассия, «которые — как вы знаете — благородные люди» (вставленные слова звучат, как насмешка, покрывающая собой похвалу), нет, он скорее готов обидеть умершего и самого себя. Но вот у него пергамент, — он, конечно, не станет читать его вслух, — но если бы народ узнал его содержание, то бросился бы лобызать раны умершего и омочил бы свои платки в его священной крови. — И когда громкие требования узнать содержание завещания смешиваются с проклятиями убийцам, Антоний встречает их упорным отказом. Вместо того, чтобы приступить к чтению, он развертывает перед глазами народа продырявленный кинжалами плащ Цезаря.
Здесь у Плутарха стояло:
«Напоследок он развернул плащ Цезаря, весь окровавленный и исколотый ударами кинжалов, и назвал виновников убийства злодеями и отцеубийцами».
Из этих немногих слов Шекспир создал это чудо разжигающего красноречия:
Вы знаете эту тогу. Я помню даже время, когда Цезарь впервые надел ее; это было летним вечером, в его ставке, после победы над нервиенцами. Смотрите, вот здесь проник кинжал Кассия. Посмотрите, какую прореху сделал завистливый Каска. Сквозь эту пронзил его так любимый им Брут; видите ли, как хлынула кровь Цезаря, когда он извлек назад проклятое железо; точно как будто она бросилась в двери, чтобы удостовериться, действительно ли Брут постучал в них так неприязненно. Брут, вы знаете, был любимец Цезаря. Вы, о боги — свидетели, как сильно любил он его! Это был жесточайший из всех ударов, потому что, когда благородный Цезарь увидал, что и Брут разит его неблагодарность, сильнейшая рук изменников, превозмогла; надорвалось доблестное сердце, он закрыл лицо тогой и пал к подножью Помпеевой статуи, с которой ручьями струилась кровь его. И как же гибельно это падение, сограждане! И я, и вы — все мы пали, и торжествует над нами кровавая измена! Вы плачете? Вижу, пробудилось сострадание в сердцах ваших; прекрасны эти слезы. О, добрые души, вы видели раны только Цезаревой тоги — и плачете.
Смотрите, вот он сам, исколотый, как видите, изменниками!
Он открывает труп Цезаря. И лишь тогда следует чтение завещания, осыпающего население Рима дарами и благодеяниями, завещания, которое Шекспир прибавил от себя и приберег к концу.
Неудивительно, что даже Вольтер был так поражен красотой этой сцены, что ради нее перевел три первых действия драмы и сам написал, правда, весьма бесцветное, подражание ей в заключении своей «Mort de Cesar». По поводу ее же он в своем, посвященном Болингброку «Di scours sur la tragedie» отзывается с таким восторгом и такой завистью о свободе английской сцены.
В двух последних актах Брут несет возмездие за свое деяние. Он участвовал в убийстве из благородных, бескорыстных, патриотических побуждений, но все же его не минует проклятие его поступка, все же он поплатится за него счастьем и жизнью. Это нисходящее действие в двух последних актах — как обыкновенно у Шекспира — производит меньше впечатления и меньше приковывает к себе зрителей, чем восходящее действие, наполняющее здесь первые три акта; но оно имеет одну содержательную, глубокомысленную, блестяще построенную и проведенную сцену, — сцену спора и примирения между Брутом и Кассием в четвертом акте, заканчивающемся явлением духа Цезаря.
Содержательна эта сцена потому, что дает нам всестороннюю картину двух главных характеров — строго честного Брута, возмущающегося средствами, которыми Кассий добывает себе деньга, безусловно, однако, необходимые для их похода, и политикой довольно индифферентного в нравственных вопросах Кассия, который, однако, никогда не преследует своей личной выгоды. Глубокомысленна она, потому что представляет нам неизбежные последствия противозаконного, мятежного действия: жестокость в поступках, бесцеремонность в приемах, апатичное одобрение бесчестного образа действий у подчиненных, раз узы авторитета и дисциплины порвались. Блестяще построена она, потому что со своими сменяющимися настроениями и своей возрастающей дисгармонией, которая под конец переходит во взволнованное и задушевное примирение, она драматична в самом высоком значении этого слова.
Что Брут являлся в мыслях Шекспира истинным героем трагедии, обнаруживается с самой яркой очевидностью в том, что он заключает пьесу похвальной речью, вложенной в уста Антонию в Плутарховой биографии Брута. Я разумею знаменитые слова:
Из всех заговорщиков он был благороднейший. Все они совершили свершенное ими из ненависти к Цезарю; только он один — из благородной ревности к общественному благу. Жизнь его была так прекрасна; все начала соединялись в нем так дивно, что и сама природа могла бы выступить и сказать всему миру: да, это был человек!
Совпадение между этими словами и прославленной репликой Гамлета прямо бросается в глаза. Всюду в «Юлии Цезаре» чувствуется близость Гамлета. Когда Гамлет так долго медлит со своим покушением на жизнь короля, так сильно колеблется, сомневается в исходе и в последствиях, хочет все обдумать и сам себя винит за то, что слишком долго раздумывает, это, наверно, зависит от того обстоятельства, что Шекспир переходит к нему прямо от Брута. Его Гамлет только что видел, так сказать, какая участь выпала на долю Брута, и этот пример не ободрителен ни по отношению к убийству отчима, ни по отношению к действию вообще.
Кто знает, не находили ли порой в этот период времени на Шекспира тревожные думы, под влиянием которых он едва был в состоянии понять, как может кто-либо хотеть действовать, брать на себя ответственность, бросать камень и заставлять его катиться, — в чем состоит всякое действие. Ибо, как только мы начнем размышлять о непредвиденных последствиях того или другого действия, о всем, что могут из него сделать обстоятельства, то всякое действие в более крупном стиле становится невозможным. Поэтому лишь самые немногие старые люди понимают свою молодость; они не посмели бы и не смогли бы еще раз действовать так, как действовали тогда, не заботясь о последствиях. Брут образует переход к Гамлету, а Гамлет вырос в душе Шекспира во время разработки «Юлия Цезаря».
Быть может, переход был такого рода: занимаясь этим Брутом, которому, подстрекая его к убийству, постоянно напоминают о Бруте Старшем, притворившемся безумным и изгнавшим тирана, Шекспир был вынужден остановиться несколько на этом образе, каким он обрисован у Ливия, образе, чрезвычайно популярном вообще. Но Брут Старший — это Гамлет перед Гамлетом, одно уже имя которого, найденное поэтом в одной старинной драме у Саксона Грамматика, пробудило в нем известные настроения. То было имя, данное им своему мальчику, так рано отнятому у него смертью.
Глава 37
«Гамлет». — Новеллистические, исторические и драматургические предпосылки
В 1601 г. поток мучительных впечатлений нахлынул на душу Шекспира. К первым месяцам этого года относится судебный приговор над Эссексом и Саутгемптоном. Как раз в то же время наступает кризис в отношениях Пемброка и Шекспира к смуглой леди. Наконец, в начале осени 1601 года Шекспир несет тяжкую утрату: стрэтфордские похоронные списки за 1601 т. заключают в себе следующую строку:
Septemb. 8. M-r Johannes Shakespeare.
Он лишился своего отца, своего первого друга и покровителя, честь и репутация которого были ему так дороги. Отец, наверное, жил вместе с оставленною на родине семьею сына в красивом «New Place», купленном Шекспиром за четыре года перед тем; он воспитывал его маленьких дочерей, Сусанну и Юдифь, он принимал участие в уходе за маленьким Гамлетом во время его болезни. И вот теперь его не стало. Вся юность, проведенная возле отца, воскресла перед Шекспиром; вместе с воспоминаниями возник целый рой мыслей, и основные отношения между отцом и сыном выступили на передний план в его душевной жизни; он погрузился в думы о сыновней любви и сыновнем почтении.
В том же году в фантазии Шекспира начинает создаваться «Гамлет»[14]. «Гамлет» произведение человеческого гения, сделавшее имя Дании известным на всем пространстве земли. Из всех датчан только один может быть назван знаменитым в самом широком смысле слова, только один занимает собой и поныне умы в Европе, Америке и Австралии, даже в Азии и Африке, поскольку европейская культура проникла в эти части света, и этот один никогда не существовал или, по крайней мере, никогда не существовал в том виде, в каком он был прославлен Шекспиром. Дания произвела нескольких людей, стяжавших себе громкую славу: Тихо Браге, Торвальдсена, Андерсена, но ни один из них не достиг и сотой части славы Гамлета. Гамлетовская литература может по своему объему сравняться с менее крупными европейскими, например, со словацкой.
Насколько занимательно следить взором за тем, как глыба мрамора мало-помалу принимает человеческий образ, настолько же интересно наблюдать, как гамлетовский сюжет постепенно получает свой шекспировский характер.
Сказание о Гамлете впервые встречается у Саксона Грамматика. Фенго убивает своего храброго брата Горвендиля и женится на его вдове Геруте (Гертруде). Сын Геруты Амлет принимает решение притвориться поврежденным в рассудке, чтобы в качестве существа безобидного спастись от преследований Фенго. С целью узнать, действительно ли он помешан, к нему подсылают красивую молодую девушку, которая должна проверить, сохранит ли он свой характер безумия, когда она отдастся ему. Но молочный брат Амлета, сопровождающий его, выдает ему этот замысел, притом же девушка с давних пор его любит, и в силу этого тайна его не разоблачается. Здесь уже кроются зачатки Офелии и Горацио.
О безумных речах Амлета говорится, что лгать он не хотел; поэтому он придавал двойственный смысл своим словам, так что хотя и говорил постоянно то, что думал, но все же выражал это так, что нельзя было понять, думает ли или знает ли он, что говорит, — формула, столь же хорошо подходящая к глубокомыслию шекспировского Гамлета, как к наивным, загадочным речам ютландского Амлета.
Точно так же и Полоний намечен здесь, особенно в той сцене, где он подслушивает разговор Гамлета с матерью. Один из друзей короля, более исполненный самомнения, нежели умный, предлагает, чтобы кто-нибудь спрятался в спальне королевы. Амлет прокалывает подслушивающего мечом и бросает изрубленный труп его свиньям, подобно тому как Гамлет в драме вытаскивает труп Полония из комнаты. Затем следует обвинительная речь Амлета к матери, построенная таким образом, что многие места ее сохранились еще у Шекспира:
Неужели ты думаешь, женщина, что эти лицемерные слезы могут смыть твой позор, — ты, бросившаяся, как развратница, в объятия самого гнусного злодея, кровосмесительно сочетавшаяся с убийцей своего супруга и самым низким образом осыпающая ласками и лестью того, кто отнял отца у твоего сына? На кого походишь ты? Не на женщину, а разве на бессловесное животное.
Фенго замышляет погубить Амлета в Англии и посылает его туда с двумя спутниками, которым Шекспир, как известно, дал имена Розенкранца и Гильденстерна, имена двух датских вельмож, вместе объехавших в эти годы Европу; имена эти были найдены в старинной генеалогической таблице и скопированы в facsimile. Эти спутники везут с собой рунические дощечки, на которых Амлет изменяет руны, подобно тому, как в драме он в письме короля заменяет свое имя именами Розенкранца и Гильденстерна.
Еще одна мелкая черта как бы подготовлена у Саксона: нечаянный обмен рапирами. В сцене мести возвратившийся в Данию Амлет застает приближенных короля за своей тризной. Он начинает расхаживать среди них с обнаженным мечом и, пробуя лезвие на ногте, обрезывает себе палец. Вследствие этого его меч приколачивают гвоздями к ножнам. Когда же Амлет поджигает зал и, подходя к королю, чтобы его убить, снимает его меч со стены, то на его место вешает свой, который король перед смертью тщетно пытается вынуть.
Теперь, после того, как ни одному датчанину не довелось распространить так далеко по земле имя своей отчизны, особенно знаменательно звучат эти слова Саксона:
Неувядаемой останется память об этом стойком юноше, вооружившимся против вероломства безумием и чудесно скрывшим за ним блеск сияющей небесными лучами мудрости… Он принудил историю оставить неразрешенным вопрос, что более заслуживает удивления, его геройство или его ум?
Если Гамлет трагедии говорит по поводу поспешного брака матери: «Непрочность — женщина твое названье!», то уже у Саксона Грамматика мы находим следующие слова по поводу вдовы Горвендиля, поспешившей вступить вторично в брак: «Так бывает со всеми женскими обетами; они разлетаются, как мякина по ветру, и опускаются, как волны в море. Да кто же и захочет положиться на женское сердце, в котором чувства так же быстро меняются, как цветы теряют лепестки, как чередуются времена года, как события сглаживают следы друг друга?»
В глазах Саксона Амлет представляется воплощением не только ума, но и физической силы. Тогда как Гамлет у Шекспира категорически подчеркивает, что он далеко не Геркулес:
Но он похож на Гамлета царя, Как я на Геркулеса!Саксон буквально сравнивает его с полубогом, символизирующим телесную мощь: «И о нем будут говорить, что если бы ему было дано благополучно прожить свою жизнь до конца, его превосходные дарования проявились бы в подвигах, которыми он затмил бы Геркулеса, и украсили бы чело его венцом полубога». Слова эти, сопоставленные с заявлением Гамлета, производят такое впечатление, будто Гамлет у Шекспира заявляет протест против слов Саксона.
Около 1559 г. сага об Амлете была изложена по-француз-ски в «Histories tragiques» Бельфоре и, по-видимому, этим путем проникла в Англию, где дала материал для первоначальной драмы о Гамлете, которая теперь утрачена, но указания на которую мы часто встречаем. Была ли она написана по канве английского перевода новеллы Бельфоре, сделанного Певьером, и имел ли Шекспир в руках этот перевод, относительно этого не существует доказательств, так как старейшее из дошедших до нас изданий перевода вышло в 1608 году и, притом, заключает в себе некоторые частности (например, подслушивание Полония за ковром и восклицание Гамлета: «Мышь! Мышь!» — перед тем, как он его убивает), о которых нет и помина у Бельфоре и которые с такой же вероятностью могли быть взяты из трагедии Шекспира, как и заимствованы последним из какого-нибудь неизвестного, старейшего издания новеллы.
Самое раннее указание на старую драму о Гамлете, какое мы знаем, это приведенные выше слова Томаса Наша от 1589 г. В 1594 г. слуги лорда-камергера (труппа Шекспира) играли вместе со слугами лорда-адмирала на сцене театра Newington Butts, отчасти под режиссерством Генсло, пьесу «Гамлет», по поводу чего Генсло внес в свой дневник за 9 июня заметку: «Получено за „Гамлета“… восемь шиллингов». Это была, вероятно, старая пьеса, так как в противном случае Генсло прибавил бы буквы ne (new — новая), и выручка с нее должна была быть весьма незначительна, если его доля в ней равнялась лишь 8 шиллингам (иногда она достигала 9 фунтов).
Главный интерес в этой старой пьесе был, по-видимому, сосредоточен на прибавленном от автора появлении тени убитого и на ее восклицании: «Гамлет, мщение!» Дело в том, что это восклицание довольно часто цитируется. В первый раз в 1596 г. в «Бедствиях остроумия» Томаса Лоджа, где об авторе говорится, что он бледен, как привидение, кричавшее в театре таким жалобным голосом, как кричат торговки устрицами: «Гамлет, мщение!», затем в «Sauromastix» Деккера от 1602 г., где Тукка говорит: «Мое имя — Hamlet, Revenge», в 1605 г. в «Путешествии в Россию» Томаса Смита, наконец, в «Ночном вороне» Самюэля Роулендса, где, впрочем, эти слова, очевидно, вставлены, как неверно воспроизведенная цитата из шекспировской драмы.
Последняя внесена в книгопродавческий каталог 26 июля 1602 года под следующим заглавием: «Книга, озаглавленная Мщение Гамлета, принца Датского, как она была недавно играна труппою лорда-камергера».
Что она с первого же раза имела успех, это почти доказано тем, что конкурент труппы, Генсло, выплатил уже 7 июля 20 шиллингов Четтлю за «датскую трагедию», — очевидно, за ретушевку старой драмы.
Выпуск в свет шекспировского «Гамлета» замедлился, однако, до 1603 г. Тогда появилось первое издание in-quarto, несомненно, пиратское издание, сделанное или стенографическим путем, или частью по спискам ролей, частью же по записям, сделанным на память. Хотя это издание, наверное, заключает в себе лишь скомканный и искаженный текст, тем не менее его отступления от вышедшего в следующем году тщательно выполненного издания in-quarto, во всем существенном вполне согласующегося с трагедией в том ее виде, как она напечатана в первом in-folio, не могут быть объяснены простыми ошибками и недосмотрами переписчика или стенографа. Разница слишком велика для этого. Здесь мы, очевидно, имеем, хотя в крайне несовершенной форме, первый набросок шекспировской драмы, и, насколько можно судить, этот первый набросок значительно ближе к старинной драме о Гамлете, послужившей источником для Шекспира, нежели текст в его окончательном виде. Местами мы можем даже угадать среди шекспировских сцен сцены старинной пьесы и образчики стиля этой последней среди шекспировского стиля. Весьма характерен и тот факт, что в нервом издании in-quarto больше рифмованных мест, чем во втором.
В издании 1603 г. особенно бросается в глаза сцена между Горацио и королевой, где друг принца рассказывает его матери о том, как разрушились планы короля умертвить Гамлета во время его путешествия в Англию, — сцена, имеющая целью очистить королеву от подозрения в сообщничестве с королем; это стремление сквозит и в другом месте первого издания и является, по-видимому, наследием старинной драмы. Насколько можно усмотреть, Горацио имел в ней вообще более выдающуюся роль, безумие Гамлета было более бурно; Полоний носил, вероятно, имя Корамбио, оставленное перед его репликами и в издании 1603 г. Как мы видели, Шекспир заимствовал отсюда важную роль тени отца Гамлета, на которую не было ни малейшего намека ни в сказании, ни в новелле.
Если мы возвратимся к драматической литературе Англии, то увидим, что, в свою очередь, старинная драма о Гамлете была, по всей вероятности, внушена ее автору «Испанской трагедией»
Кида, которая, судя по намекам в «Забавах Цинтии» и «Варфоломеевской ярмарке» Бена Джонсона, должна была быть написана около 1584 г. и принадлежала к пьесам, имевшим сильнейшую притягательную силу для театральной публики того времени. Прайн еще в 1632 г. утверждает в своей «Histriomastix», что одна женщина на смертном одре вместо того, чтобы искать утешений религии, восклицала: «Иеронимо! Иеронимо! Ах, если бы мне только еще раз увидать на сцене Иеронимо!»
Трагедия открывается, по образцу Сенеки, появлением тени убитого, требующей отмщения. Таким образом, тень в трагедии Шекспира происходит по прямой линии от тени Тантала в «Тиэсте» Сенеки и от тени Тиэста в «Агамемноне» Сенеки. Иеронимо, помешавшийся от горя после утраты своего сына, в полуиронической, полубезумной форме повествует злодею пьесы о гложущей его тоске:
Лоренцо. Я хочу выслушать вас, Иеронимо.
Иеронимо. Как, вы, государь, вы? Поберегите вашу милость ко мне для более крупных вещей. Это лишь пустяк, безделица.
Лоренцо. Все равно! Скажите мне, в чем дело?
Иеронимо. Поистине, государь, это безделица… Жалкий пустяк, да и того Меньше: чистое ничто. Безделица, вроде убийства сына, чистое ничто, государь!
Эти выражения как будто подготовляют речи Гамлета к королю. Но только Иеронимо действительно помешан, хотя говорит о своем безумии подобным же образом, как Гамлет о своем, или, точнее, отрицает свое безумие.
По временам, особенно в прибавлениях, сделанных Беном Джонсоном, попадаются реплики, близко подходящие к некоторым местам в «Гамлете». Один живописец, точно так же потерявший сына, говорит Иеронимо: «Никто так не любил своего сына, как я». — «Никто, как ты? — восклицает последний. — Это ложь, столь же великая, как вселенная. У меня был сын, один волосок которого стоил тысячи твоих сыновей, и его умертвили». Подобным образом Гамлет говорит Лаэрту:
…Я любил Офелию, и сорок тысяч братьев Со всею полнотой любви не смогут Ее любить так горячо.Снова и снова Иеронимо, как и Гамлет, откладывает мщение. «Так как не всякое время приличествует мести, — говорит он, — то, несмотря на лихорадочность своего стремления, я буду бездействовать и, несмотря на свое беспокойство, притворюсь спокойным. Я не подам вида, что знаю об их злодеянии, и, таким образом, мое простодушие заставит их подумать, что в своем неведении я оставлю все безнаказанным». Под конец, как средство для мести, он составляет план поставить на сцену пьесу, собственную же пьесу Кида «Солиман и Персида», и во время представления виновных, играющих главные роли, убивают не фиктивным только образом, а на самом деле.
Как ни грубо еще все это, как ни наивно и более сходно по стилю с «Титом Андроником», нежели с каким-либо другим из произведений Шекспира, но все же ясно, что «Испанская трагедия» со старинной драмой о Гамлете в виде посредствующего звена, имела значение для него как фундамент для «Гамлета».
Прежде чем приступать к анализу более глубокого содержания этого капитального произведения, и прежде чем приводить в связь его сюжет с личностью Шекспира, мы должны еще посмотреть, какие точки соприкосновения нашел для этого поэт в современной ему эпохе.
Мы уже ранее упоминали о том впечатлении, какое должна была произвести на Шекспира в ранней его молодости, пока он жил еще в Стрэтфорде, семейная трагедия Эссексов. Вся Англия говорила о скандале, возбужденном графом Лейстером, подозревавшимся всеми в отравлении лорда Эссекса и тотчас после его смерти женившимся на его вдове, леди Летиции, с которой, в чем никто не сомневался, он находился в интимных отношениях еще при жизни ее мужа. В характере короля Клавдия есть немало черт, указывающих на то, что Шекспир воспользовался здесь Лейстером как моделью; и ему, и Лейстеру одинаково свойственны честолюбие, чувственность, обходительная, приветливая манера, осторожное коварство, полная беззастенчивость. С другой стороны, совершенно лишено основания мнение, будто Шекспир (как предполагает Герман Конрад) взял Эссекса за модель самого Гамлета.
Шекспир был почти столь же близким современником события в шотландском королевском доме, соответствовавшего катастрофе в семье Эссекса и Лейстера. Второй муж Марии Стюарт, лорд Дарнлей, носивший титул короля Шотландии, был убит в 1567 г. любовником Марии, смелым и беззастенчивым Босуэлом, с которым королева тотчас же после того сочеталась браком. Современники не сомневались в том, что Мария была соучастницей в убийстве, и сын ее, Иаков, видел в отчиме и матери убийц своего отца. Во время шотландского мятежа предводители показали взятой в плен королеве знамя, на котором был изображен труп Дарнлея, а возле него ее сын, на коленях взывавший к небу о мщении. Дарнлей, как и король в «Гамлете», был замечательно красив, Босуэл же необыкновенно безобразен.
Иаков был воспитан врагами своей матери и как при жизни ее, так и после ее смерти постоянно колебался в выборе между приверженцами матери, защищавшими ее законные права, и ее противниками, изгнавшими ее из Шотландии и возведшими его на престол. Правда, было время, когда он старался смягчить сердце Елизаветы по отношению к матери, но он не сделал ни малейшей попытки отомстить за ее смерть. Характер у него был нерешительный. Он обладал большим запасом знаний и — чего далеко нельзя сказать о Гамлете — был суеверный педант, но, как и Гамлет, любил искусства и науки и оказывал особое покровительство сценическому искусству. В 1599–1601 гг. часть труппы, к которой принадлежал Шекспир, играла в Шотландии при его дворе; посетил ли в то время и Шекспир Шотландию, — это не доказано. Верно лишь то, что когда Иаков в 1603 г., по смерти Елизаветы, совершал свой торжественный въезд в Лондон, Шекспир, в великолепном костюме из красного сукна, находился в его свите вместе с Бербеджем и некоторыми другими из самых талантливых актеров, и с этих пор труппа стала называться «слугами его величества короля».
Хотя во всем этом нет недостатка в параллелях к истории Гамлета, но само собой разумеется, что было бы так же странно считать Иакова, как и Эссекса, моделью датского принца. Нельзя было сделать в то время более глупой или более бестактной вещи, как напомнить предполагаемому наследнику престола или новому королю о печальных обстоятельствах, среди которых он вырос. Это не исключает, конечно, возможности того, что современная история снабдила Шекспира известными внешними чертами, которые в моменты зарождения драмы присоединились к образу, создавшемуся в его душе силой творческой фантазии. С той же точки зрения следует рассматривать и большую часть материала, собираемого добросовестными исследователями в слишком наивном убеждении, что они имеют в нем камни, из которых Шекспир складывал свое драматическое здание. Возможность того, что поэт, безотчетно для самого себя, получил тот или другой импульс к частностям в своем произведении, они принимают за намерение его передать в поэтической переработке определенные исторические события. Тем способом, который предполагают эти исследователи, конечно, не создается ни одно поэтическое произведение, всего же менее такое произведение, как «Гамлет»; оно растет изнутри, проистекает из присущего душе автора могущественного творческого импульса и по мере своего роста ассимилирует впечатления, приходящие к нему извне.
Вот два события, быть может, занимавшие Шекспира, пока он разрабатывал свою драму, и указанные в свое время Карлом Зильбершлагом.
В 1600 г. Александр Рутвен, лэрд Гоури, составил заговор против Иакова. Король казнил в 1582 г. отца Рутвена, как бунтовщика, и конфисковал поместья сына, который жил во Франции и Италии, где приобрел себе известность ловкостью в фехтовании и других рыцарских упражнениях. Один верный служитель, Ринд, доставлял ему в то время поддержку от вассалов его отца. В августе 1600 г., когда братьям Рутвен удалось своими просьбами склонить Иакова к посещению их замка, Александр Рутвен завел короля в уединенную комнату в башне замка, объявил ему там, что намерен отомстить за смерть отца, и схватил Иакова за горло. Король успел позвать на помощь и приказал заколоть своего врага.
Зильбершлаг придает значение тому, что Дарнлей был убит совершенно так же, как отец Гамлета, в безмятежном сне, в разгаре грехов, без исповеди и причастия; далее тому, что лэрд (Laird) похоже на английское произношение имени Laertes, что Ринд (Rhynd) похоже на Рейнальдо, который в первом издании «Гамлета» назван Монтано, и что, подобно тому, как Рутвен схватил короля, так и Гамлет схватывает за горло Лаэрта на могиле Офелии. Дело в том, что и к судьбе Офелии это событие представляет аналогию. Невеста лэрда Гоури, Анна Мэри Дуглас, во время своего пребывания при шотландском дворе пользовалась чрезвычайным благоволением короля, так что его считали даже влюбленным в нее. Смерть лэрда до такой степени потрясла ее, что тотчас по получении этого известия она помешалась и в этом состоянии умерла спустя несколько недель.
Как видят читатели, есть возможность предполагать, что это недавнее событие носилось перед глазами Шекспира в то время, как его фантазия создавала прелестный образ Офелии, но это, конечно, еще не значит, что ее образ обязан упомянутому событию хотя бы малейшей долей своей красоты.
Глава 38
«Гамлет», Джордано Бруно и Монтень. — Этнографические предпосылки
Вместе с новеллистическими, драматургическими и историческими впечатлениями созданию драмы о Гамлете способствовали впечатления философского, полунаучного характера. Гамлет — самая глубокомысленная, самая богатая рефлексией из шекспировских пьес; от нее веет философским духом, а потому естественно было заняться рассмотрением вопроса, под чьим воздействием могли возникнуть здесь размышления о жизни и смерти, о тайнах бытия.
Некоторые исследователи, как, например, Чишвиц и Кениг, пытались установить преобладающее влияние Джордано Бруно на Шекспира. Подробности вроде сатирических выходок Гамлета перед королем по поводу мертвого Полония (IV, 3), указывающие на круговорот в природе, навели их на мысль об итальянском ученом. Порою они даже считали возможным усмотреть прямое соответствие между оборотами речи у Гамлета и у Бруно, так, например, в том, как оба они выражаются о детерминизме. В одном месте, подчеркивая необходимость, с которой все совершается в мире, итальянский мыслитель говорит: «Какова бы ни была предназначенная для меня вечерняя пора, когда наступит изменение, я, пребывающий во мраке ночи, ожидаю дня; те же, которым светит день, ожидают ночи. Все то, что существует, находится или здесь, или там, близко или далеко, теперь или после, одновременно или чередуясь одно с другим». Подобным же образом выражается и Гамлет (V, 2): «И воробей не гибнет без воли Провидения. Не после, так теперь; теперь, так не после; и если не теперь, так когда-нибудь придется же. Быть готовым — вот все».
Бруно говорит: «С абсолютной точки зрения нет ничего несовершенного или злого; оно кажется таковым лишь по отношению к чему-либо другому, и то, что есть зло для одного, может быть благом для другого». Гамлет говорит (II, 2): «Само по себе ничто ни дурно, ни хорошо; мысль делает его тем или другим».
Как только внимание критиков обратилось на Джордано Бруно, они не замедлили изучить не только его философские и популярные сочинения, но даже его драматические пьесы в поисках образцов для Шекспира, и им посчастливилось найти параллели и аналогии, которые хотя и были сами по себе слабы и незначительны, но которых не хотели считать случайными, так как было известно, что во времена Шекспира Джордано Бруно жил в Англии и вращался в обществе самых выдающихся людей. Однако, как скоро было предпринято более точное и многостороннее исследование этих обстоятельств, то вероятность какого-нибудь воздействия свелась почти к нулю.
Джордано Бруно находился в Англии с 1583 до 1585 г. Он прибыл туда из Франции, где обучал Генриха III искусству Луллия[15], — механическому, мнемотехническому методу разрешения всевозможных научных проблем, и имел от него рекомендательное письмо к французскому посланнику в Лондоне, Мовисьеру, в доме которого был принят как друг семьи в течение всего своего пребывания в Лондоне. Он познакомился со многими из самых знаменитых англичан, с Уэлсингемом, Лейстером и Борлеем, с Филиппом Сиднеем и его литературным кружком, но вскоре переехал в Оксфорд с тем, чтобы преподавать там и распространять дорогие его сердцу доктрины: мировую систему Коперника, в противоположность господствовавшей в Оксфорде птолемеевской, и учение о том, что одна и та же жизнь животворно проникает все на земле, атомы и организмы, растения, животных и людей, и, наконец, вселенную. Он рассорился с оксфордскими учеными и едко осмеял их в вышедшем вскоре после того диалоге «Пир в среду на первой неделе поста», где вообще отзывается крайне неодобрительно об английской непросвещенности и английских нравах. Грязь на лондонских улицах и обычай передавать за столом стакан из рук в руки, так что все пьют из одного стакана, вызывали у него почти столь же сильное негодование и презрение, как упорство, с каким университетские педанты отвергали учение Коперника.
Шекспир мог прибыть в Лондон никак не ранее того года, когда Бруно покинул Англию, и поэтому не мог с ним встретиться. Итальянский мыслитель не оказал никакого влияния на умственную жизнь своих английских современников. Даже Филипп Сидней не признавал его учения, и имя его вовсе не упоминается в составленной Гревиллом биографии Сиднея, хотя Гревилл часто видался с Бруно. В доказательство того, как бесследно прошло в Англии посещение Бруно, Брунгофер, изучивший этот вопрос, приводит тот факт, что в бодлеевской библиотеке нет ни одного документа и ни одного сочинения того времени, где встречались бы какие-нибудь сведения о пребывании Бруно в Лондоне или Оксфорде. Полагали, что Шекспир, тем не менее, прочел его философские трактаты по-итальянски. Это, конечно, возможно; но в его «Гамлете» нет ничего, что указывало бы на это и что не могло бы быть вполне объяснено и в том случае, если бы он не имел о них ни малейшего понятия.
Единственное выражение у Шекспира, звучащее совершенно пантеистически, — впрочем, вероятно, благодаря простой случайности, — это me prophetic soul of the wide world (пророческая душа бесконечного мира) в 107-м сонете; единственные места, заключающие в себе нечто, хотя нисколько не совпадающее, но все же аналогичное с учением Бруно о превращении существующих в природе форм, это — циклические сонеты 56, 106, 223. Если в этих местах есть вообще какое-либо отношение к Джордано Бруно, то оно должно находиться в связи с тем, что Шекспир услыхал в это время об учении великого итальянца, воскресшего как раз в этот момент в памяти англичан вследствие мученической смерти мыслителя на костре в Риме (17 февраля 1600 г.). Если бы Шекспир изучал его сочинения, то, между прочим, он получил бы какое-нибудь понятие о системе Коперника, оставшейся ему неизвестной; зато нетрудно предположить, что из разговоров он получил приблизительное и неполное представление о философии Бруно, и что это представление породило вышеупомянутые философские мечтания. Между тем все то, что в «Гамлете» хотели возвести к влиянию Бруно, имеет гораздо более близкое отношение к писателям, литературное и философское воздействие которых на Шекспира не подлежит ни малейшему сомнению.
Как известно, единственная книга, о которой мы знаем с достоверностью, что она была личной собственностью Шекспира, это — «Опыты» Монтеня в переводе Флорио, издание in-folio, Лондон, 1603 г.
Какую роль сочинение Монтеня играло в английском обществе того времени, явствует из многочисленных свидетельств. Что эта книга произвела весьма сильное впечатление и на самого великого человека в этом обществе, это легко предположить, ибо в то время немного было таких книг, как книга Монтеня, и, пожалуй, не было ни одной, где так ярко сказывался бы не автор, а человек, человек непосредственный, многосторонний и столько же богатый дарованиями, как и противоречиями.
Помимо «Гамлета» влияние Монтеня несомненно сквозит еще в одном месте у Шекспира; в то время, как поэт создавал «Бурю», он должен был лежать у него на столе. Сравните «Бурю» (II, 1):
Гонзало. В противность всем известным учрежденьям Развил бы я республику мою. Промышленность. Чины б я уничтожил, И грамоте никто бы здесь не знал; Здесь не было б ни рабства, ни богатства, Ни бедности: я строго б запретил Условия наследства и границы; Возделывать поля или сады Не стали б здесь; изгнал бы я металлы, И всякий хлеб, и масло, и вино. Все в праздности здесь жили б, без заботы.Это почти буквальное заимствование из «Опытов» Монтеня (I. ch. XXX):
«Есть народ, у которого нет никакого вида торговли, нет понятия о литературе, нет науки о числах, нет даже по имени начальства или государственной власти, нет слуг, нет богатства или бедности, нет контрактов, нет наследства, нет разделов, нет занятий, кроме праздности… нет земледелия, нет металлов, нет употребления вина или хлеба…»
Так как есть, следовательно, возможность доказать, что Шекспир был знаком с «Опытами» Монтеня, то аналогии между некоторыми местами в этой книге и некоторыми местами в «Гамлете» могут с известным правдоподобием быть объяснены не одной случайностью. Если эти места в трагедии попадаются уже в издании 1603 г., то следует предположить, что Шекспир был знаком с французским подлинником или, что в высшей степени вероятно и вполне согласуется с обычаем того времени, имел случай ознакомиться с переводом Флорио до выхода его в свет. Дело в том, что в те дни книга нередко ходила в списках по рукам знакомых автора лет за пять, за шесть до того, как предлагалась публике. Шекспир же должен был принадлежать к числу знакомых автора вследствие близких отношений Флорио к дому Саутгемптона; книга была, впрочем, внесена уже в 1599 г. в каталог книгопродавцев, как приготовленная к изданию.
Флорио родился в 1545 г. от итальянских родителей, которым пришлось эмигрировать вследствие того, что они были вальденсы. Сам он совсем акклиматизировался в Англии, учился в Оксфорде и там давал уроки итальянского языка, несколько лет состоял на службе у графа Саутгемптона и был женат на сестре поэта Самюэля Дэниеля. Каждую книгу своего перевода «Опытов» Монтеня он посвящал каким-нибудь двум дамам из высшей знати. Между ними встречаются имена Елизаветы, графини Рутленд, дочери Филиппа Сиднея, леди Пенелопы Рич, сестры графа Эссекса и знаменитой своей ученостью и грацией леди Елизаветы Грей. Каждую из этих дам он воспел в посвященном ей сонете.
Всякий помнит в «Гамлете» незабвенные места, в которых великий ум, погрузившийся в вопросы о жизни и смерти, дал своим мыслям о беспощадности разрушения или, как это можно было бы назвать — цинизме мирового порядка, в одно и то же время резкое и потрясающее выражение. Таковы, например, слова Гамлета (V, 1): «Почему не преследовать воображению благородный прах Александра до пивной бочки, где он замажет ее втулку? Александр сделался прахом — землею; из земли делается замазка и т. д.; быть может, Александром замазали пивную бочку, а Цезарем законопатили стену в ограждении от изморози и сквозняка». Та же тема варьируется в жестокой шутке Гамлета о червях, поедающих Полония за ужином: «Дело возможное удить червяком, который ел короля, и скушать потом рыбу, проглотившую червяка; таким образом, король может прогуляться по пищеварительным органам нищего».
В этих местах хотели видеть воздействие Джордано Бруно; подобный взгляд возможен, как это метко развито в небольшой брошюре Роберта Бейерсдорфа, лишь в силу предположения, будто учение Бруно было атомистическим материализмом. Между тем это учение есть пантеизм, постоянно провозглашающий единство Бога и природы. Даже атомы имеют у Бруно свою долю духа и жизни; не механическое их соединение производит жизнь; нет, они — монады. Подобно тому, как основным настроением в цитированных выражениях Гамлета является цинизм, так основным настроением в словах Бруно является энтузиазм. Из сочинений Бруно («De la Causa» и «La Cena de la ceneri») приводили три места с целью доказать их соответствие словам Гамлета об изменении материи. Но в первом из этих мест Бруно говорит о превращении существующих в природе форм и о том, что во всех составных телах живет множество индивидуумов, остающихся бессмертными по разложении этих тел; в третьем он говорит о земном шаре, как об огромном организме, обновляющемся совершенно так же, как животные и люди, через изменение материи.
Все сходство между этими местами и взрывами горечи у Гамлета сводится к тому, что и эти последние имеют своей темой превращение форм и изменение материи в природе. Но дух, в котором говорит об этом Гамлет, представляет коренное различие с Бруно. Бруно хочет констатировать, что душевный элемент пронизывает и то, что по виду всецело принадлежит миру материи; Гамлет хочет, наоборот, показать, как жалко и тленно человеческое существование.
Между тем как раз в этих пунктах Гамлет очень близко подходит к Монтеню; у последнего довольно часто встречаются обороты, подобные приведенным выше; он упоминает имя Суллы, как Гамлет имена Александра и Цезаря, и если сопоставить его выражения с выражениями Шекспира, то совпадение будет поразительное. Гамлет говорит, например, что Полоний за ужином, где не он кушает, а его кушают.
Гамлет (IV, 3): «Конгресс политических червей только что за него принялся. В области съестного этот червячишка — единственный монарх. Мы откармливаем животных, чтобы откормить себя, а себя — для червей. Жирный король и тощий бедняк — только различные кушанья, два блюда для одного стола. Этим все кончается».
Монтень (livre II, ch. XII): «Не нужно кита, слона или крокодила или других подобных животных, из которых довольно одного, чтобы покончить со множеством людей. Достаточно крохотных вшей, чтобы принудить Суллу отказаться от диктатуры. Сердце и жизнь великого и победоносного императора, это — завтрак для маленького червячка».
Мы видели, что слова Гамлета об относительности всякого воззрения хотели произвести от Бруно. В действительности они ближе подходят к Монтеню. Когда Гамлет (впервые в издании in-folio), по поводу возражения Розенкранца против реплики «Дания — тюрьма», говорит (II, 2): «Само по себе ничто ни дурно, ни хорошо; мысль делает это тем или другим. Для меня Дания — тюрьма», — то у Монтеня мы встречаем это почти дословно (livre I, ch. XL):
«То, что мы называем злом или страданием, не есть само по себе зло или страдание; лишь наше представление придает ему это свойство».
Мы видели, что слова Гамлета о его смерти: «Не после, так теперь, теперь, так не после и т. д.» хотели вывести из слов Бруно в посвящении его «Candelojo»: «Все существующее находится либо там, либо здесь, либо близко, либо далеко, либо теперь, либо впоследствии, либо раньше, либо позже». Но та же мысль, которая у Гамлета находит себе конечное выражение в словах: «Быть готовым — вот все», — встречается с тем же самым заключением у Монтеня в 19 главе его первой книги: «О том, что философствовать — значит учиться умирать», — главе, послужившей вообще основой для рассуждений Гамлета на кладбище. Здесь говорится о смерти так:
«Нет места, откуда бы она ни приходила. Она угрожает всегда. Неизвестно, где ожидает нас смерть; будем ждать ее всюду… Я постоянно бываю приблизительно настолько подготовлен, насколько это возможно. Надо всегда быть в сапогах, всегда быть готовым пуститься в путь… Что нам за дело до того, когда это будет, раз это неизбежно!»
Затем встречаются яркие точки соприкосновения между знаменитым монологом «Быть или не быть» и тем местом у Монтеня (livre III, ch. XII), где он передает главное содержание защитительной речи Сократа. Сократ предполагает, как известно, различные возможности: смерть есть или улучшение нашего состояния, или уничтожение нашего существа; но и это будет улучшение, если мы вступим в долгую и мирную ночь, так как самое лучшее, что мы знаем в жизни, это — спокойный и глубокий сон без сновидений. В положительное улучшение нашего состояния посредством смерти Шекспир, по-видимому, не верил; Гамлет не предполагает его даже, как нечто возможное, но зато поэт заставляет его остановить свои мысли на вечном сне и на мучительной возможности ужасных сновидений. По временам у Гамлета мы как бы чувствуем подлинник Платона в изложении Монтеня. Во французском тексте говорится об удовлетворении, которое нам доставляет мысль, что в будущей жизни «мы не будем иметь дела с несправедливыми и подкупленными судьями». Гамлет говорит об освобождении от «притеснения тиранов и обиды гордого». Несколько строк, прибавленных к изданию 1604 г., прямо напоминают одно место в переводе Флорио.
Можно, привести много совпадений в употреблении имен и оборотов речи, совпадений, не имеющих, однако, настоящей силы доказательства. Там, где Монтень изображает анархическое состояние, среди которого протекла его жизнь, слова «Все рушится вокруг нас» переданы у Флорио замечательно поэтическим выражением «АН is out of frame» (все выходит из своих рамок). Это имеет известное сходство с оборотом речи, которым Гамлет (впрочем, еще в издании 1603 г.) изображает смутное время, наступившее вслед за смертью его отца: «The time is out of joint» (время вышло из своих суставов). Быть может, это сходство случайно, но, как один из многих других сходных пунктов, оно указывает на то, что Шекспир был знаком с переводом ранее его выхода в свет.
Сверх того, сначала Рештону (в «Shakespeare’s Euphuism», 1871 г.), а позднее и Бейрсдорфу удалось привести немало параллелей к «Гамлету» в «Эвфуэсе» Лилли и как раз в тех пунктах, где другие исследователи видели влияние гораздо далее отстоящего от Шекспира Джордано Бруно. Бейерсдорф заходит подчас чересчур далеко, стараясь приписать чтению «Эвфуэса» такие мысли у Шекспира, видеть в которых результат этого чтения значило бы прямо оскорблять поэта. Но по временам встречается действительная аналогия. Утверждали, будто король там, где он хочет представить Гамлету безрассудство его чрезмерной скорби об умершем отце (I, 2), ищет доводов к утешению в философии природы Бруно. В действительности же письмо Эвфуэса к Ферардо по поводу смерти его дочери заключает в себе как раз те же аргументы.
Полагали, что когда Гамлет (II, 2) говорит о «мерзавце-сатирике», посмеявшемся в книге, которую принц читает в эту минуту, над дряхлостью стариков, поэт должен был иметь в виду одно место из «Spaccio» Бруно, где старые люди охарактеризованы, следующим образом: «Те, у кого снег на голове, а на челе морщины». Но если, наконец, под «мерзавцем-сатириком» и подразумевается какой-нибудь определенный автор, что весьма нелепо предполагать, то Лилли подходит под это наименование, ибо всюду, где в «Эвфуэсе» старики дают молодежи благие советы, они неизменно являются с «белыми волосами и слезящимися глазами», и Эвфуэс, точь-в-точь как Гамлет, заставляет умолкнуть почтенного джентльмена, нравоучительные рассуждения которого представляются ему ничем иным, как завистью одряхлевшей старости к крепости, свойственной молодым людям, и чьи умственные способности кажутся ему столь же слабыми, как его ноги.
Наконец, жестокие слова Гамлета к Офелии и его презрительные выражения о женщинах: «Непрочность, женщина твое названье!» — хотели возвести к диалогу Бруно («De la Causa», IV), где педант Полиннио выступает женоненавистником. Но все сходство заключается в том, что здесь женщина, в силу ортодоксального богословского толкования, является причиной всяких бедствий как виновница первородного греха. Между тем во многих местах «Эвфуэса» встречаются выражения, несравненно более близкие к словам Гамлета. Если, например, Гамлет на вопрос Офелии, что он хочет сказать, отвечает (III, 1): «То, что если ты добродетельна, так добродетель твоя не должна иметь дела с твоей красотой», то в «Эвфуэсе» сказано совершенно одинаково: «Твоя покойная мать часто повторяла, что у тебя больше красоты, чем годится для женщины, которая должна быть добродетельна», и Ферардо говорит поэтому: «О, Люцилла, Люцилла, лучше бы ты была не так прекрасна!» Если Гамлет говорит о ничтожности женщин и их способности развращать мужчин («Умные люди знают хорошо, каких чудовищ вы из нас делаете»), то в «Эвфуэсе» есть совершенно соответственные обвинения женщин в лживости, ревности, непостоянстве («Я думаю, что женщины своей лживостью, ревностью и непостоянством сущее бедствие для мужчин») и в том, что они действуют на мужчин развращающим образом. Бейерсдорф, несомненно, прав и в том утверждении, что в словах Гамлета явственно слышен еще хитросплетенный стиль Эвфуэса в том месте, когда датский принц, дав Офелии совет насчет того, чтобы добродетель ее не имела дела с ее красотой, прибавляет: «Красота скорее превратит добродетель в распутство, чем добродетель сделает красоту себе подобной».
В «Гамлете», как и в других пьесах Шекспира, встречаются следы особого рода атомистически-материалистического учения. В «Юлии Цезаре» Антоний в заключительных словах о Бруте буквально употребляет выражение: «Так были смешаны в нем элементы». В «Мере за меру» сказано (III, 1):
Не самобытна ты, Но состоишь из тысячи атомов, Из праха порожденныхВспомним слова Гамлета (I, 2):
О, если б вы, души моей оковы, Ты, крепко сплоченный состав костей, Испарился в туман, ниспал росою!И к Горацио (III, 2):
И ты благословен: рассудок с кровью В тебе так смешаны.Выше было замечено, как далеко отстоит эта вера в атомы, если только можно здесь признать таковую, от идеалистического учения Бруно о монадах. По всей вероятности, в приведенных цитатах лишь отразилось общераспространенное во времена Шекспира воззрение, что все свойства темперамента зависят от смешения соков. В этом, как и во множестве других пунктов, Шекспир более близок к народным воззрениям и менее напичкан книжной наукой, более наивен и менее метафизичен, чем хотели его сделать ученые исследователи.
Монтень и Лилли принадлежали к числу писателей, усердно читавшихся Шекспиром в то время, как «Гамлет» начал создаваться в его душе. Но, разумеется, он не ради «Гамлета» совещался с ними. Ради «Гамлета» он прибегал к другим источникам, но то были не книги, а люди и народ, среди которого он ежедневно вращался. Так как Гамлет был датчанин, и судьба его завершилась в далекой Дании, имя которой пока еще не так часто произносилось в Англии, как стало произноситься благодаря браку нового короля с датской принцессой, то у Шекспира возникло естественное желание навести справки об этой малоизвестной стране и ее нравах.
В 1585 г. на сцене городской ратуши в Гельсингере выступили английские актеры, и так как мы имеем основание думать, что их труппа была та самая, которая в следующем гору играла при дворе, то среди ее членов должны были находиться три лица, принадлежавших в то время, как Шекспира начала занимать мысль о «Гамлете», к его актерскому товариществу и, вероятно, к его ближайшему кружку, именно — Вильям Кемп, Джордж Брайен и Томас Поп. Первый из них, знаменитый клоун, впоследствии состоял при труппе Шекспира от 1594 г. до марта 1602 г., когда он перешел на полугодовой срок в товарищество Генсло; не позже 1594 т. поступили в труппу и оба других актера.
Очевидно, от этих своих товарищей, быть может, одновременно и от других английских актеров, игравших в 1596 г. в Копенгагене под режиссерством Томаса Саквилла при коронации Христиана IV, Шекспир получил сведения о различных подробностях, касающихся Дании и, прежде всего, конечно, о датских именах, которые хотя и исковерканы наборщиками в различных текстах «Гамлета», но все же не до такой степени, чтобы их нельзя было узнать. В первом издании in-quarto мы встречаем имя Rossencraft, превратившееся во втором издании в Rosencraus, а в издании in-folio в Rosincrane и достаточно ясно показывающее, что оно есть старинное датское дворянское имя Rocencrans. Точно таким же образом мы видим в трех изданиях имя Gilderstone, Cuyldensterne и Guildensterne, в котором узнаем датское Gyldenstjerne, а имя норвежского посланника Voltemar, Voltemand, Valtemand, Voltumand — это все искажения датского Valdemar. Имя «Гертруда» Шекспир тоже должен был — узнать от своих товарищей, и им он заменил имя Geruth новеллы; во втором издании in-quarto оно, вследствие описки, превратилось в Gertrad.
Очевидно, под влиянием бесед с товарищами Шекспир и действие в «Гамлете» перенес из Ютландии в Гельсингер (Эльсинор), который они посетили и затем описали ему. Поэтому ему известен замок в Гельсингере, законченный постройкой лет за двадцать перед тем.
В сцене, где Полоний подслушивает за ковром, и где Гамлет, укоряя королеву в ее преступлении, указывает на портреты умершего и царствующего королей, хотели даже видеть доказательство того, что Шекспиру была до некоторой степени известна внутренность замка. Эта сцена часто играется таким образом, что Гамлет показывает матери висящий у него на шее миниатюрный портрет отца, но слова в драме не оставляют никакого сомнения в том, что Шекспир имел при этом в виду настенные изображения во весь рост.
Между тем от того времени сохранилось сделанное одним английским путешественником описание одной комнаты в Кронборге, где говорится: «Она увешана коврами из новой цветной шелковой материи без золота, на которых все датские короли изображены в старинных костюмах, смотря по обычаю различных времен, со своим оружием и с надписями, повествующими о всех их завоеваниях и победах».
Шекспир мог, следовательно, слышать об обстановке этой комнаты, хотя это мало правдоподобно. Что Полоний должен был подслушивать за ковром, подразумевалось само собой, а что в королевском замке висели портреты королей, это естественно было предположить, не зная даже наверное, что так действительно было в Дании. Зато, посылая Гамлета учиться в Виттенберг, Шекспир, вероятно, выбрал этот город на основании хорошо известного ему факта, что Виттенбергский университет, которого англичане избегали как лютеранского, был посещаем многими датчанами, и заставляя в первом и пятом акте сопровождать заздравные кубки звуками труб и пушечными выстрелами, он, без всякого сомнения, знал, что это датский обычай, и введением его в свою пьесу постарался придать ей местный колорит. В то время, как Гамлет и его друзья (I, 4) ожидают появления тени, раздаются звуки труб и пушечные выстрелы. Горацио спрашивает: «Что это значит, принц?» Гамлет отвечает:
Король всю ночь гуляет напролет, Шумит, и пьет, и мчится в быстром вальсе. Едва осушит он стакан рейнвейна, Как слышен гром и пушек, и литавр, Гремящих в честь победы над вином.В последней сцене пьесы король согласно с этим говорит:
Дать мне кубки, пусть труба литаврам, Литавры пушкам, пушки небесам И небеса земле воскликнут хором: Король за Гамлета здоровье пьет!Шекспир не устоял даже против желания показать, что ему известна невоздержанность датчан в употреблении крепких напитков и проистекающие отсюда странные обычаи, ибо, как тонко заметил Шюк, для того, чтобы дать место в пьесе своим сведениям на этот счет, он должен был заставить уроженца Дании, Горацио, расспрашивать Гамлета, обычай ли это в стране ознаменовывать каждый заздравный кубок трубами и пушками?
В ответ на его вопрос Гамлет и говорит с Горацио, как с иностранцем, об этом обычае и произносит глубокомысленные слова, в которых высказывает сожаление о том, что один какой-нибудь недостаток может погубить добрую славу как отдельной личности, так и целого народа, и покрыть его имя позором, ибо очевидно, что эти обычаи, соблюдавшиеся на пирах, позорили датский народ в глазах лучших англичан.
Некто Вильям Сегар, главный герольдмейстер того времени, пишет в своем дневнике, под датой 14 июля 1603 г.: «Сегодня вечером король (Дании) взошел на английский корабль, где его ожидал банкет на верхней палубе, защищенной от солнца пологом из затканного серебром полотна. Каждый тост вызывал шесть, восемь или десять залпов из тяжелых орудий, так что за время пребывания короля на корабле было сделано 160 выстрелов».
О празднике, данном тем же королем в честь английского посланника, он пишет так: «Было бы излишне рассказывать о всех излишествах, которые тут имели место, и тошно было бы слышать эти пьяные застольные речи. Нравы и обычаи ввели это в моду, а мода сделала это привычкой, подражать которой нашей нации не подобает».
Речь идет о короле Христиане IV, которому в то время было 26 лет. Три года спустя, когда он посетил английский двор, то этот последний, бывший ранее вполне трезвым, успел заразиться той невоздержанностью, подражания которой так опасался для Англии почтенный автор дневника. Знатные дамы стали наравне с мужчинами обнаруживать сильное пристрастие к вину. Харрингтон с большим юмором описал празднества, в которых принимал участие датский король. Он рассказывает, что после обеда было дано большое мимическое представление, называвшееся Соломоновым храмом. Предполагалось представить прибытие царицы савской. Но, увы, дама, изображавшая царицу и готовившаяся преподнести их величествам драгоценные дары, споткнулась на ступенях, ведших к их трону, опрокинула все, что у нее было в руках: вино, желе, сладкие напитки, пирожки, пряности, — на колени датскому королю, сама же повалилась прямо в его объятия. Его попробовали обсушить.
Он встал, чтобы начать танцы с царицей савской, но, в свою очередь, упал перед ней и его пришлось уложить на постель в одном из внутренних покоев. Праздник продолжался, но большинство присутствующих падало и не могло подняться с пола.
Затем явились в процессии, богато разодетые, Надежда, Вера и Любовь. Надежда заговорила первая, но не могла произнести свою речь и удалилась, извинившись перед королем; Вера ушла, шатаясь, одной только Любви удалось преклонить колени перед монархом, но когда она стала искать Надежду и Веру, то оказалось, что обе они, мучимые рвотой, лежат в малом зале. Потом появилась Победа, но она торжествовала недолго, — ее должны были увести, как жалкую пленницу, и дать ей выспаться на крыльце; под конец показался Мир, начавший весьма немирно набрасываться со своей оливковой ветвью на тех, кто ради требований приличия хотел его вывести.
Таким образом, пристрастие к вину и прославление пьянства, как чего-то благопристойного и заслуживающего удивления, Шекспир счел датским национальным пороком. Ясно, однако, что здесь, как и в других пьесах, он отнюдь не имел в виду дать точную характеристику чуждого народа.
Не специально национальные черты интересуют его, а общечеловеческие, и не за пределами Англии ищет он моделей для своего Полония, своего Горацио, своей Офелии и своего Гамлета.
Глава 39
Личный элемент в «Гамлете»
Если мы попытались, как видел читатель, собрать изрядное количество исторического и драматургического материала, новеллистических сюжетов, обрывков философии, этнографических сведений, которыми пользовался Шекспир, работая над своим «Гамлетом», или которые, безотчетно для него самого, носились в это время в его памяти, то этим, само собой разумеется, мы не хотели сказать, что стимул к этому произведению был им получен извне. Как мы уже упоминали, путем сочетания внешних впечатлений не может, конечно, создаться ни одно поэтическое произведение, достойное быть названо бессмертным.
Исходной точкой Шекспира был его внутренний порыв, побудивший его заняться этим сюжетом; затем, все, имевшее к нему отношение, кристаллизовалось вокруг него, и он мог сказать вместе с Гёте:
«Если я и долго таскал дрова и солому и тщетно пытался согреться… то под конец пламя в один миг вспыхивало над собранным топливом».
Вот это-то пламя и вспыхивает перед нами из «Гамлета» и так высоко взлетает, так ярко горит, что и поныне приковывает к себе все взоры.
Гамлет притворяется помешанным, чтобы не возбуждать подозрений в человеке, убившем его отца и противозаконно завладевшим престолом, но среди этого мнимого безумия он дает доказательства редкого ума, глубокого чувства, необычайной тонкости, сатирической остроты, иронического превосходства, прозорливого знания людей.
Здесь была точка отправления для Шекспира. Косвенная форма излияний всегда манила его и прельщала; ею пользовались его клоуны и юмористы. Шут Оселок прибегает к ней, и на ней же основано в значительной мере бессмертное остроумие сэра Джона Фальстафа. Мы видели, как завидовал Жак в комедии «Как вам угодно» тем, кто смел говорить правду под маской фиглярства; мы помним, с какой тоской он вздыхал по свободе, чтобы «как вольный ветер» дуть на все, на что захочет; все честолюбие этого человека, под грустью и желаниями которого Шекспир скрывал свои собственные, имело своим объектом пеструю куртку шута. Шекспир восклицал его устами:
Попробуйте напялить на меня Костюм шута, позвольте мне свободно Все говорить, и я ручаюсь вам, Что вычищу совсем желудок грязный Испорченного мира.В «Гамлете» Шекспир накинул этот костюм на свои плечи, он чувствовал в себе способность заставить Гамлета под покровом кажущегося безумия говорить горькие и едкие истины, и говорить их таким образом, который забудется не скоро. Задача была благодарная, ибо всякая серьезная мысль действует тем решительнее, чем более она отзывается шуткой или балагурством; всякая мудрость становится вдвое мудрее, когда ее бросают непритязательно, как бред помешанного, вместо того, чтобы педантически провозглашать ее, как плод рассуждения и опыта. Задача, для всякого трудная, для Шекспира была лишь заманчива; здесь — чего ни разу до него не удалось еще сделать поэту, — ему предстояла задача начертать образ гения; Шекспиру недалеко было искать модель, и все гениальное должно было подействовать с удвоенной силой, если бы гений надел на себя маску безумия и поочередно то говорил бы из-под нее, то сбрасывал бы ее в страстных монологах.
Шекспир не имел нужды делать поэтические усилия для того, чтобы превратиться в Гамлета. Наоборот, в эту душевную жизнь Гамлета как бы само собой перелилось все то, что в последние годы наполняло его сердце и кипело в его мозгу. Этот образ он мог напоить заветной кровью своего сердца, мог передать ему биение пульса в своих собственных жилах. Под черепом его он мог затаить собственную меланхолию, в уста его мог вложить свое собственное остроумие и озарить его глаза лучами собственного духа.
Правда, внешние судьбы Гамлета и Шекспира не были сходны. Его отец не был отнят у него рукой убийцы; его мать не поступила недостойным образом. Но ведь все это внешнее были лишь знаки, лишь символы. Все он пережил так же, как Гамлет, все! Отец Гамлета был убит и место его занято братом; это значило, что существо, которое он ставил всего выше и которому был больше всех обязан, пало жертвой злобы и измены, было забыто так же быстро, как самое ничтожное создание, и бессовестно заменено другим. Как часто сам он был свидетелем того, как жалкое ничтожество свергало величие и занимало его место! Мать Гамлета вступила в брак с убийцей — это значило, что то, что он долгое время чтил и любил, перед чем склонялся, как перед святыней, святыней, какой мать является для сына, то, на чем он не потерпел бы ни одного пятна, предстало перед ним в один злосчастный день нечистым, оскверненным, легкомысленным, быть может, даже преступным. Какие ужасные минуты он должен был перенести, когда открыл впервые, что даже то, что он чтил, как самое совершенное на свете, не удержалось на своей высоте, когда он впервые увидал и понял, что то, из чего он создал идеал своей благоговейной любовью, низверглось в прах со своего пьедестала!
И разве это впечатление, потрясшее Гамлета, не было то же самое чувство, которое всякий юноша с благородными задатками, впервые видящий свет, как он есть, выражает в этих кратких словах: «Увы, я не такой представлял себе жизнь!»
Смерть отца, непристойная поспешность, с какою мать вступила вторично в брак, и ее возможное преступление, — все это были факты, сделавшиеся для юноши симптомами дрянности человеческой природы и несправедливости жизни, лишь единичные случаи, через непроизвольное обобщение которых он пришел к представлению об ужасных возможностях, о гнусных неожиданностях, которые готовит нам жизнь, — лишь повод к тому, чтобы внезапно исчез тот розовый свет, в котором ранее все рисовалось глазам молодого принца, так что земля вдруг показалась ему пустынной, небо насыщенным ядовитыми испарениями, и он сразу утратил всю свою веселость.
Но такой именно кризис, приведший к утрате веселости, Шекспир и пережил еще так недавно. Покровителей своей молодости он потерял за год перед тем. Женщина, которую он любил и на которую взирал, как на существо идеальное и высшее, внезапно оказалась бессердечной, вероломной и развратной. Друг, перед которым он преклонялся, которого любил и боготворил, в один злосчастный день вступил в союз против него с той женщиной, насмеялся над ним в ее объятиях, обманул его доверие и холодно от него отстранился. Даже надежда стяжать венец поэта померкла для него. Да, нет сомнения, что и он видел крушение своих иллюзий, своих взглядов на жизнь!
Ошеломленный ударом, он был в первые минуты подавлен и казался беззащитным; он не язвил своими словами, он весь был кротость и печаль. Но в этом сказывалась не вся его природа, тем менее самая глубь его природы. В сокровенной глубине ее он был сила, грозная сила! Вооруженный, как никто другой, отважный и насмешливый, гневный и остроумный, он стоял высоко над ними всеми и был бесконечно могущественнее своей судьбы. Как ни глубоко вели они свои подкопы, он подводил под них другой, аршином глубже. Много унижений пришлось ему вытерпеть. Но удовлетворение, которого он не имел возможности добиться от жизни, он мог получить теперь incognito; путем обличительных и бичующих слов Гамлета.
Много знал он знатных господ, обходившихся свысока по-княжески с художниками, с актерами, которых общественное мнение еще не умело ценить. Теперь он сам захотел быть знатным господином, чтобы показать, как вельможам нужно обходиться с бедными артистами, чтобы вложить в уста Гамлета свои собственные мысли об искусстве и свое представление о его достоинстве и значении.
Он слился с Гамлетом; он чувствовал, как датский принц; он воспринял его в себя до такой степени, что порою, когда он вкладывал ему в уста самые веские мысли, как в знаменитом монологе «Быть или не быть», то заставлял его думать не как принца, а как подданного, со всею горечью и страстностью, которые развиваются у того, кто видит вокруг себя господство грубости и глупости. Таким образом, он заставил Гамлета сказать:
Кто снес бы бич и посмеянье века, Бессилье прав, тиранов притесненье, Обиды гордого, забытую любовь, Презренных душ презрение к заслугам, Когда бы мог нас подарить покоем Один удар?Всякий видит, что это прочувствовано и продумано снизу вверх, а не наоборот, и что эти слова невероятны, почти невозможны в устах принца. Но это настроение и мысли, которые Шекспир еще недавно выразил от своего собственного имени в 66-м сонете:
«Утомленный всем, я призываю покой смерти, видя достоинство в нищете, нужду рядящуюся в блеск, чистейшее доверие жестоко обманутым, почести, воздаваемые позорно, девственную добродетель, попранную жестоко, истинное совершенство в несправедливой опале, силу, затираемую кривыми путями, искусство, которому власть зажимает рот, глупость, докторально поверяющую значение, чистую правдивость, называемую простотой и порабощенную торжествующим злом… Утомленный всем этим, я хотел бы избавиться от всего, если бы, умирая, мне не пришлось покинуть одиноким того, кого я люблю».
Светлое миросозерцание его юности было разбито; он видел силу злобы, власть глупости, видел низость, вознесенную на высоту, а истинные заслуга обойденными. Существование показало ему свою обратную сторону. Какой горький опыт жизни он прошел! Как часто в минувшем году приходилось ему восклицать вместе с Гамлетом в его первом монологе: «Непрочность, женщина твое названье!» И как глубоко познал он эту истину: «Не пускай ее на солнце. Плодородие благодатно, но если такая благодать достанется в удел твоей дочери…» и т. д. До того дошел он, наконец, что «всем утомленный», он находил ужасным, что такая жизнь будет продолжаться из рода в род, что постоянно будут появляться новые и новые поколения негодных людей.
«Ступай в монастырь! Зачем рождать на свет грешников?» Придворная жизнь, которую он мельком видел, связи с двором, которые он имел, известия о придворных, обходившие весь Лондон, показали ему правду, заключающуюся в этих стихах:
Cog, lie, flatter and face Four ways in Court to win men grace.(Обманывать, лгать, льстить и лицемерить — вот четыре способа войти в милость при дворе).
При дворе созревали чистейшие типы преступников, как Лейстер и Клавдий.
Что делали при этом дворе, кроме угождения сильным мира, что преуспевало там, кроме фразистой морали, шпионства друг за другом, поддельного остроумия, действительного двоедушия, постоянной беспринципности, вечного лицемерия? Чем были эти сильные мира, как не льстецами и прислужниками, не знавшими другого дела, как только беспрестанно повертываться, подобно флюгеру, в сторону ветра? И вот в фантазии Шекспира создаются Полоний, Озрик, Розенкранц и Гильденстерн. Гнуть спину они умели, умели говорить красивые фразы, все они были членами великого синклита всегда и во всем поддакивающих людей. Но где же были люди просто честные? «Быть честным значит, как ведется на этом свете, быть избранным из десяти тысяч».
Но датский двор был лишь картиною всей Дании, — той Дании, где «нечисто что-то», и которая для Гамлета представляется тюрьмой. «Так и весь свет тюрьма», — говорит Розенкранц. И Гамлет не отступает перед логическим выводом: «Превосходная. В ней много ям, каморок и конурок».
Высший свет в «Гамлете» есть картина света вообще.
Но если таков свет, если чистая и царственная натура так поставлена, так окружена в свете, то неизбежно поднимаются великие, не находящие ответа вопросы: «как?» и «почему?» Вопрос об отношении между добрыми и злыми в этом мире с его неразрешенной загадкой приводит к вопросу о мировом равновесии, о царящей над людьми справедливости, об отношении между миром и Божеством. И мысль, — мысль Гамлета, как и Шекспира, — стучится в замкнутые врата тайны.
Глава 40
Психология образа Гамлета
Хотя в «Гамлете», в отличие от прежних драм Шекспира, высказано в прямой форме весьма многое, исходящее из тайников душевной жизни самого поэта, он все же сумел в совершенстве выделить из себя образ героя и самостоятельно поставить его. Из своих собственных свойств Шекспир дал ему неизмеримую глубину; но он сохранил ситуацию и обстоятельства в том виде, как они перешли к нему от источников. Нельзя, конечно, отрицать, что вследствие этого он натолкнулся на затруднения, которые ему отнюдь не удалось преодолеть вполне. Старинное сказание с его грубыми контурами, его средневековым кругом представлений, его языческими и присоединившимися позднее католически-догматическими элементами, его воззрением на кровавую месть, как на безусловное право, — более того, как на долг индивидуума, само по себе не особенно согласовалось с богатством идей, грез и чувств, которыми Шекспир наделил внутреннюю жизнь героя этой фабулы. Между главным лицом и обстоятельствами возник некоторый диссонанс: королевский сын, стоящий в интеллектуальном отношении на одном уровне с Шекспиром, видит призрак и вступает с ним в беседу. Принц эпохи Возрождения, прошедший курс заграничного университета и имеющий склонность к философскому мышлению, молодой человек, пишущий стихи, занимающийся музыкой и декламацией, фехтованием и драматургией, и как драматург являющийся даже мастером, — в то же время занят мыслью о личном совершении кровавой мести. Местами в драме открывается как бы пропасть между оболочкой действия и его ядром.
Но со своим гениальным взором Шекспир сумел, впрочем, воспользоваться этим диссонансом и даже извлечь из него выгоду. Его Гамлет верит в привидение и — сомневается. Он внимает призыву к мщению и медлит исполнить его. Большая доля глубокой оригинальности как этого образа, так и драмы почти сама собою вызывается этим раздвоением между средневековым характером фабулы и принадлежащей к эпохе Ренессанса натурой героя, — натурой столь глубокой и многосторонней, что она носит до некоторой степени отпечаток современности.
В том виде, в каком образ Гамлета отлился под конец в фантазии Шекспира и в каком он живет в его драме, он является одним из немногочисленных вековечных образов в искусстве и поэзии, которые, как одновременно созданный Дон Кихот Сервантеса и разработанный 200 лет позднее Фауст Гёте, ставят поколению за поколением задачи для разрешения и загадки для разгадывания. И если сравнить эти две бессмертные фигуры, Гамлета (1604 г.) и Дон-Кихота (1605 г.), то все же Гамлет, без сомнения, окажется наиболее таинственным и интересным из них. Дон-Кихот находится в союзе с прошедшим; он наивный рыцарь, переживший свой век и среди рассудочного, прозаического времени раздражающий всех и каждого своим энтузиазмом и делающийся общим посмешищем; у него твердо очерченный, легко уловимый профиль карикатуры. Гамлет находится в союзе с будущим, с новейшей эпохой; это — пытливый, гордый ум и со своими возвышенными, строгими идеалами он стоит одиноко среди обстановки испорченности или ничтожества, должен скрывать свое заветное «я» и всюду возбуждает негодование; у него непроницаемый характер и постоянно меняющаяся физиономия гениальности. Знаменитое объяснение Гамлета, данное Гёте в четвертой книге «Вильгельма Мейстера» (Глава XIII), клонится к тому, что здесь великое деяние предписано душе, не имеющей сил его совершить. «В драгоценную вазу, в которой должны бы расти лишь прелестные цветы, здесь посадили дуб; корни его расползаются, ваза разбивается. Прекрасное, чистое, благородное, в высшей степени нравственное существо, но без физической силы, делающей героя, погибает под тяжестью бремени, которое оно не способно ни нести, ни стряхнуть с себя».
Объяснение умно, глубокомысленно, но не совсем верно. Мы слышим в нем дух гуманитарного периода, видим, как он пересоздает по своему образу фигуру Возрождения. Гамлет не так уж безусловно «прекрасен, чист, благороден, в высшей степени нравственный человек», — он, говорящий Офелии поражающие своей правдой, незабвенные слова: «Я сам, пополам с грехом, человек добродетельный, однако, могу обвинять себя в таких вещах, что лучше бы мне на свет не родиться». Фраза, подобная этой, заставляет казаться приторными прилагательные Гёте. Правда, тотчас же после этих слов Гамлет приписывает себе дурные свойства, которых у него нет вовсе, но этот отзыв о себе в его общих чертах, наверное, искренен и под ним подпишутся все лучшие люди. Гамлет — не герой добродетели. Он не только чист, благороден, добродетелен и т. д., вместе с тем он может сделаться необузданным, колким, бессердечным.
То нежный, то циничный, он может быть то экзальтированным почти до безумия, то равнодушным и жестоким. Он, несомненно, слишком слаб для своей задачи, или, вернее, его задача не по характеру ему; но он отнюдь не лишен вообще физической крепости или энергии. Ведь он детище не гуманитарного периода с его чистотой и моралью, а сын эпохи Возрождения с его льющимися через край силами, кипучей полнотой жизни и умением бесстрашно смотреть в глаза смерти.
Сначала Шекспир представлял себе Гамлета юношей. В первом издании in-quarto он является совсем юным, лет девятнадцати. С этим возрастом согласуется и то обстоятельство, что он учится в Виттенберге: в то время молодые люди начинали и заканчивали даже университетский курс гораздо раньше, чем в наши дни. С этим возрастом согласуется и то, что мать Гамлета называет его здесь boy — мальчик — (How now, boy? — Ну, что же теперь, мой мальчик? III, 4), тогда как в следующем издании это вычеркнуто; затем, к его имени постоянно прибавляется слово young (молодой) и не для того только, чтобы обозначить его в противоположность отцу; далее, здесь (но не в издании 1604 г.) король постоянно называет его «сын Гамлет»; наконец, мать его настолько еще молода, что могла пробудить или, по крайней мере, что Клавдий может делать вид, будто она в нем пробудила любовную страсть, влекущую за собой ужасные последствия. В издании 1603 г. нет слов, в которых Гамлет напоминает матери, что в ее годы кровь слишком медленно и холодно течет в жилах, чтобы можно было назвать любовью то, что соединило ее с деверем. Но решительное доказательство того, что Гамлет представлялся вначале Шекспиру гораздо моложе (как раз на 11 лет моложе), чем он его сделал впоследствии, находится в сцене на кладбище (V, 1). Здесь, в первоначальном издании, первый могильщик говорит, что череп шута Йорика пролежал в земле 12 лет; в издании 1604 г. этот срок превратился в 23 года и, в то же время, ясно устанавливается, что Гамлету, знавшему Йорика в детстве, в данный момент 30 лет. Именно могильщик сначала рассказывает здесь, что поступил на место в тот самый день, когда родился принц Гамлет, а несколько далее говорит: «Вот уж тридцать лет, как я здесь могильщиком».
Очевидно, процесс создания шел в душе Шекспира таким путем: сначала ему представлялось, что по требованиям сюжета Гамлет должен быть юношей. Так было бы понятнее безмерное по своей силе впечатление, произведенное на его душу тем фактом, что мать так скоро забыла его отца и так поторопилась со свадьбой. Он жил вдали от мира, в тихом Виттенберге, убежденный, что жизнь действительно так гармонична, какой она кажется молодому принцу Он воображал, что идеалы свято чтятся на земле, что миром управляют умственное благородство и возвышенные чувства, что в государственной жизни царит справедливость, в жизни частной — вера и правда. Он восхищался своим великим отцом, уважал свою прекрасную мать, страстно любил свою прелестную Офелию, лелеял высокие мысли о людях, преимущественно же о женщине. В тот момент, как он теряет отца и должен изменить свое мнение о матери, рушится все его светлое миросозерцание. Если мать могла забыть его отца и сочетаться браком с этим человеком, то чего же стоит в таком случае женщина? И какую же цену имеет в таком случае жизнь? Отсюда, еще прежде чем он услыхал о явлении духа своего отца, а не только что видел его и внимал его речам, — чистое отчаяние в монологе:
О, если б вы, души моей оковы, Ты, крепко сплоченный состав костей, Испарился в туман, ниспал росою! Иль если б ты, Судья земли и неба, Не запретил греха самоубийства.Отсюда и наивное удивление его тому, что можно приветливо улыбаться и быть при этом злодеем. Это событие становится для него символическим событием, образчиком того, каков есть мир. Отсюда слова к Розенкранцу и Гильденстерну: «С недавних пор, не знаю отчего, утратил я всю мою веселость». Отсюда слова: «Какое образцовое создание человек! Как благороден разумом и как безграничен способностями! Как значителен и чудесен в образе и движениях! В делах как подобен ангелу! В понятии — Богу! Краса мира! Венец всего живого!» Эти слова выражают его прежнее, светлое миросозерцание. Теперь оно погибло, и мир отныне для него есть ничто иное, как «смешение ядовитых паров». А человек? Чем может быть для него «эта эссенция праха»? Противны ему мужчины, противны и женщины.
Его мысли о самоубийстве исходят из этого источника. Чем значительнее молодой человек, тем сильнее, конечно, стремится он при вступлении своем в жизнь увидеть свои идеалы осуществленными в людях и обстоятельствах. Теперь Гамлет внезапно узнает, что действительность совсем не такова, как он представлял ее себе, и так как он не может ее пересоздать, то он начинает думать о смерти.
Большого труда стоит ему заставить себя поверить, что мир так дурен на самом деле. Поэтому он постоянно ищет новых доказательств, поэтому, между прочим, он велит представить пьесу. Его ликование всякий раз, как он изобличает что-либо дурное, есть лишь чистая радость познавания на фоне глубокой грусти, внешняя радость, вызываемая убеждением, что теперь он понял, наконец, как гадок мир. Его предчувствие оправдывается; пьеса возымела действие. В этом нет бессердечного пессимизма. Огонь Гамлета ни на минуту не гаснет, рана его не закрывается. Отравленная шпага Лаэрта поражает сердце, еще не переставшее обливаться кровью.
Все это, хотя, несомненно, весьма возможное в тридцатилетием мужчине, является натуральнее, понятнее с первого взгляда у девятнадцатилетнего юноши. Но по мере того, как Шекспир работал над своей драмой, все более и более увлекаясь желанием вложить в душу Гамлета, как в сокровищницу, свою собственную житейскую мудрость, итог своего собственного опыта и выводы своего собственного острого и зрелого ума, ему стало ясно, что юношеский возраст слишком тесная рамка для такого духовного содержания, и он дал ему возраст пробуждающейся возмужалости.
Вера Гамлета в людей и доверие к ним разбились еще прежде, чем ему явился дух. С той минуты, как от тени отца он получил несравненно более ужасное объяснение обстоятельств, среди которых он находится, чем какое он имел до сих пор, все его существо приходит в смятение.
Отсюда прощание, безмолвное прощание с Офелией, которую он в письмах называл идолом своей души. Его идеал женщины уничтожен. Отныне она принадлежит к тем «будничным воспоминаниям», которые в сознании своей великой миссии он хочет стереть с таблицы своей жизни. Пассивная, послушная отцу, она не имеет места в душе его наряду с его задачей. Довериться ей он не может; она показала себя столь мало достойной быть его возлюбленной, что отвергла его письма и посещения. Более того, она последнее его письмо отдает отцу с тем, чтобы он предъявил его и прочел при дворе. Наконец, она допускает, чтобы ею воспользовались для выпытывания принца. Он не верит больше ни в одну женщину и не может верить.
Он намеревается приступить немедленно к действию, но на него нахлынул слишком сильный поток мыслей, — думы об ужасном событии, сообщенном ему духом, и о мире, в котором могут случаться подобные вещи; затем, сомнение в том, был ли призрак действительно его отец, не был ли то, быть может, коварный, злорадный дух; наконец, сомнение в себе самом, в своей способности восстановить и исправить то, что ниспровергнуто здесь, в своей пригодности взять на себя миссию мстителя и судьи. Сомнение в подлинности призрака ведет к представлению пьесы в пьесе, дающему доказательство вины короля. Чувство своей непригодности к разрешению задачи влечет за собой замедление действия.
Что сам по себе он не лишен энергии, это достаточно видно по ходу пьесы. Он закалывает, не задумываясь, подслушивающего за ковром Полония; без колебаний и без сострадания посылает он Розенкранца и Гильденстерна на верную смерть; он всходит один на корсарский корабль и, ни на минуту не теряя из вида своего намерения, он прежде чем испустить дух, совершает дело мести. Но это не исключает того, что ему приходится побороть могучее внутреннее препятствие, прежде чем приступить к решительному шагу. Преградой является ему его рефлексия, «бледный взор мысли» (the pale cast of thought), о котором он говорит в своем монологе.
В сознании громадного большинства он сделался вследствие этого великим типом медлителя и мечтателя, и чуть не до половины нашего века сотни отдельных людей и целые нации смотрелись, как в зеркало, в эту фигуру.
Но не надо забывать, что этот драматический феномен, герой, который не действует, до известной степени требовался самой техникой этой драмы. Если бы Гамлет убил короля тотчас по получении откровения духа, пьеса должна была бы ограничиться одним только актом. Поэтому положительно было необходимо дать возникнуть замедлениям.
Но Шекспира ложно поняли, думая видеть в Гамлете современную жертву болезненной рефлексии, человека, лишенного способности к действию. Это чистая ирония судьбы, что он сделался как бы символом рефлектирующего бессилия, — он, у которого огонь во всех нервах и весь взрывчатый материал гения в натуре.
Тем не менее, Шекспир несомненно хотел пояснить его характер, противопоставив ему как контраст, молодую энергию, преследующую очертя голову свою цель.
Когда Гамлета отправляют в Англию, является молодой норвежский принц Фортинбрас со своим войском, готовый положить жизнь за клочок земли, «не стоящий и пяти дукатов в аренде». И Гамлет говорит сам себе (V, 4):
Как все винит меня! Малейший случай Мне говорит: проснись, ленивый мститель! …………………………….. Зачем я жив, зачем я говорю: Свершай! Свершай!И он приходит в отчаяние, сравнивая себя с Фортинбрасом, юным и удалым королевским сыном, который во главе своего отряда все ставит на карту из-за яичной скорлупы:
…Велик Тот истинно, кто без великой цели Не восстает, но за песчинку бьется насмерть, Когда задета честь.Между тем перед Гамлетом стоит гораздо более крупный вопрос, нежели вопрос о «чести», — понятии, относящемся к сфере, лежащей несравненно ниже его круга мыслей. Совершенно натурально, что Гамлет чувствует себя пристыженным лицом к лицу с Фортинбрасом, выступающим в поход во главе своих воинов, с барабанным боем, трубами и литаврами, — он, не составивший и не приведший в исполнение ни одного плана, — он, который, получив во время представления пьесы уверенность в преступлении короля, но, в то же время, обнаружив перед королем свое настроение, страдает теперь от сознания своей неспособности к действию. Но его неспособность имеет свой источник в том, что парализующее впечатление от действительной сущности жизни и все думы, порождаемые этим впечатлением, до такой степени завладели его силами, что сама миссия мстителя отступает в его сознании на задний план. Все, чем наполнена душа его: сыновний долг по отношении к отцу и к матери, почтение к ним, ужас перед злодеянием, ненависть, жалость, боязнь действовать и не действовать, — находится во взаимной борьбе. Он чувствует, если даже не говорит этого ясно, как мало будет пользы от того, что он уничтожит одного хищного зверя. Ведь сам он так высоко вознесся над тем, чем был в начале: над ролью юноши, избранного для совершения вендетты. Он сделался великим страдальцем, который насмехается и издевается, который обличает других и терзается сам. Он сделался воплем человечества, пришедшего в отчаяние от самого себя.
В «Гамлете» над пьесой не витает «общий смысл» или идея целого. Определенность не была тем идеалом, который носился перед глазами Шекспира во время разработки этой трагедии, как например в то время, когда он писал «Ричарда III». Здесь не было загадок и противоречий, но притягательная сила пьесы в значительной степени обусловлена самой ее темнотой.
Всякому знакомы те прекрасно написанные книги, форма которых безукоризненна, идея ясна, действующие лица очерчены уверенными штрихами. Мы читаем их с удовольствием.
Но по прочтении откладываем в сторону. В них ничего не стоит между строк; между их отдельными частями не открывается взору бездна; в них нет того таинственного сумрака, в котором так привольно мечтать. И есть другие книги, где основная мысль поддается различным толкованиям, и относительно которых можно спорить, но их значение не столько в том, что они прямо говорят вам, сколько в том, что они заставляют вас предчувствовать или угадывать в том, о чем они вас самих побуждают думать. У них совершенно особенное свойство приводить в движение мысли и чувства, и в гораздо большем количестве случаев, быть может, даже совсем иные, чем те, какие они первоначально в себе заключали. К таким книгам принадлежит и «Гамлет». Как история души «Гамлет» не отличается ясностью, свойственной произведениям классического искусства; герой здесь — душа, представляющая всю непрозрачность и сложность действительных душ, но поколение за поколением участвовали работой своей фантазии в этой истории и вкладывали в нее итог своего житейского опыта.
Жизнь для Гамлета лишь наполовину действительность, наполовину она для него сновидение. По временам он является как бы лунатиком, несмотря на то, что часто он бдителен, как дозорный. Он обладает присутствием духа, благодаря которому никогда не затрудняется дать самый меткий ответ, и в то же самое время он рассеян, он упускает из вида принятое решение с тем, чтобы углубиться в какую-нибудь ассоциацию мыслей или в лабиринт мечтаний. Он пугает, занимает, приковывает, смущает, тревожит. Лишь немногие образы поэтического искусства тревожили людей, как он тревожит. Хотя он говорит беспрерывно, он, в сущности, одинок по натуре, — более того, он есть олицетворение душевного одиночества, неспособного открывать себя другим.
«Его имя, — сказал о нем Виктор Гюго, — подобно имени на одной из гравюр Альбрехта Дюрера — „Меланхолия“. Над головой Гамлета повисла летучая мышь; у ног его сидит наука с глобусом и циркулем, любовь с песочными часами, а позади него, на горизонте, стоит громадное солнце, от которого небо над ним кажется еще темнее. А с другой стороны, сущность его природы „Ураган“, иными словами, гнев и негодование, горькая насмешка, сметающая с мира грязь».
В нем столько же негодования, сколько печали, да и сама печаль его возникает как следствие негодования. Страждущие и мыслящие люди всегда находили в нем брата. Отсюда необычайная популярность этого образа, как ни мало он доступен для понимания.
Зрители и читатели чувствуют заодно с Гамлетом и понимают его, ибо все лучшие среди нас, вступая взрослыми людьми в жизнь, делают открытие, что она не такая, какой они ее себе представляли, а в тысячу раз ужаснее: «Нечисто что-то в датском королевстве». Дания — тюрьма, мир полон таких же казематов. Дух говорит нам: «Свершились ужасные деяния, и каждый день свершаются ужасные деяния. Исправь же ты зло, поставь все на настоящее место. Распалась связь времен; свяжи ее». Но наши руки опускаются. Зло слишком хитро или сильно для нас.
В «Гамлете», первой философской драме новейшего времени, впервые выступает типический современный человек с глубоким сознанием противоречия между идеалом и окружающим миром, с глубоким сознанием разлада между своими силами и своей задачей, со всей внутренней многосторонностью своего существа, с остроумием, чуждым веселости, с жестокостью и тонкостью чувства, с постоянным отсрочиванием действия и бешеным нетерпением.
Глава 41
«Гамлет» как драматическое произведение
Бросим взгляд на «Гамлета» как на драматическое произведение и, чтобы получить полное представление о величии Шекспира, сначала восстановим перед собой ее чисто театральные элементы, внешнюю, наглядную сторону, то, что остается в памяти, как простая пантомима.
Ночной караул на Кронборгской террасе и появление тени перед солдатами и офицерами. Вслед за тем, среди великолепно одетых придворных, фигура принца в траурном костюме, стоящего поодаль, как живой символ скорби, с чертами, исполненными души и ума, но с таким выражением, как будто он навсегда простился с радостью. Затем его встреча с тенью отца, за которой он следует, клятва на мече при постоянной перемене места. Затем его способ действий, когда он прикидывается помешанным, чтобы замаскировать этим свою экзальтацию. Затем пьеса в пьесе, удар шпагой сквозь ковер, прелестная Офелия с цветами и соломой в волосах. Гамлет с черепом Йорика в руке. Борьба с Лаэртом в могиле Офелии, эта причудливая, но столь символическая сцена. Как пьеса об отравлении подготовляется по обычаю того времени пантомимой, так эта борьба в могиле есть пантомима борьбы на жизнь и смерть, долженствующей вскоре наступить, ибо их обоих тотчас после того поглотит могила, в которой они стоят. Затем следует поединок, во время которого королева умирает от яда, приготовленного королем для Гамлета, а Лаэрт — от удара отравленной рапиры, приготовленной также для Гамлета, — пока, наконец, Гамлет, среди последней вспышки своих сил, не убивает короля и затем сам не падает, отравленный, на землю, — устроенное поэтом общее избиение главных героев трагедии, четверное Castrum doloris, настроение которого прерывается победным маршем юного Фортинбраса, в свою очередь сменяющимся похоронной музыкой. Все это вместе в одинаковой мере наглядно, величественно и прекрасно.
А теперь прибавьте к этому богатству видимых элементов в драме настроение пьесы, ее притягательную силу, обусловленную участием, которое Шекспир сумел внушить нам к главному лицу, впечатление от мук, терзающих сильное и горячее сердце, очутившееся в испорченной и тлетворной обстановке. По натуре он был искренен, восторжен, полон доверия и потребности любить; лживость других вынуждает и его к притворству, подлость других вынуждает его к недоверию и ненависти, а обнаружившееся преступление против убитого отца вопиет к нему из преисподней о мести.
Его гнев против людской низости надрывает душу. Его презрение к людской низости действует в высшей степени благотворно.
По природе он мыслитель. Он мыслит не ради того только, чтобы путем соображений подготовить действие, но мыслит из страсти к пониманию. Актерам, которыми он хочет воспользоваться только для изобличения убийцы, он дает меткие и глубокомысленные советы по отношению к практике их искусства. Перед Розенкранцем и Гильденстерном, расспрашивающими его о причине его меланхолии, он в выражениях, исполненных глубины, развивает невозможность для него ощущать отныне радость жизни.
Чувство, вызываемое в нем сильными впечатлениями, он никогда не облекает в ясные и связные слова. Его реплики никогда не идут по прямой линии, как ближайшему пути к выражению мысли. Они вращаются в замысловатых, издалека добытых метафорах, в остротах, с вида не имеющих ничего общего с темой разговора. Насмешливые и загадочные обороты речи скрывают то, что он чувствует. Он вынужден к ним прибегать, ибо он чувствует так интенсивно, что для того, чтобы не проявить своего душевного волнения, то есть, чтобы не поддаться сердечной боли, он должен замаскировывать ее безумно-веселыми возгласами. Поэтому он и восклицает после появления призрака: «Сюда, мой сокол!»
Поэтому он обращается к духу со словами: «А, браво, старый крот! Так быстро роешься ты под землей!» И поэтому же, когда король выдает себя во время представления, Гамлет кричит: «Музыку! Эй! Флейтщики!» Его притворное безумие есть ничто иное, как преднамеренное преувеличение этой наклонности.
Ужасная тайна, которую ему приходится хранить в себе, нарушила равновесие его природы. Мнимое безумие дает ему возможность найти себе облегчение, высказывая в косвенной форме то, о чем ему мучительно говорить, и в то же время оно отвлекает внимание от истинной причины его глубокого уныния. Когда он говорит так дико, он не вполне притворяется, ибо смятение, в которое повергло его раскрытие ужаса его жизни, создает для него потребность давать волю своим чувствам перед окружающими в странных и смелых сарказмах, и «в самом его безумии есть метод»; но граничащее с душевным расстройством возбуждение, в которое так часто приводит его образ действий других, сменяется, в свою очередь, стремлением сосредоточить свои мысли, и он удовлетворяет этому стремлению в рассуждениях, составляющих суть его монологов.
Когда страсти просыпаются в нем, ему трудно бывает их сдерживать. Он в порыве крайнего нервного возбуждения посылает Офелию в монастырь и закалывает Полония в припадке нервной исступленности. Вообще же страстность замыкается у него внутри. Вынужденный или чувствуя себя вынужденным к притворству и хитрости, он сгорает от нетерпения и снова и снова издевается над самим собой и громит себя за свою бездеятельность, как будто в самом деле это апатия или трусость.
Одно уже недоверие, этот новый элемент в его душе, заставляет его быть осторожным; он не может сразу приступить к действию, не может даже говорить. «Нет в Дании ни одного злодея…» — начинает он; «…столь ужасного, как король», — так он должен был бы окончить эту сентенцию, но его охватывает страх быть выданным товарищами, и он заканчивает ее словами: «…который не был бы негодный плут».
По природе он так чистосердечен и так искренен, каким мы видим его с Горацио; он разговаривает по-товарищески с ночным караулом на террасе; он готов раскрыть свои объятия старым знакомым, как, например, Розенкранцу и Гильденстерну; он прост, приветлив, обходителен без фамильярности со странствующей труппой актеров. Но события самого мучительного свойства и горчайший опыт жизни внезапно принудили его замкнуться в себе; едва надел он маску для того, чтобы не сразу разгадали его планы, как он уже чувствует, что его выпытывают; даже друзья его, его возлюбленная на стороне его врагов, и хотя он считает, что жизнь его в опасности, он находит нужным молчать и выжидать.
Его маска довольно часто лишь из флера, — уже ради зрителей, для которых Шекспир должен был сделать безумие прозрачным, с тем, чтобы оно не прискучило.
Прочтите необыкновенно остроумный обмен репликами между Полонием и Гамлетом (И, 2), который начинается так: «Что вы читаете, принц?» — «Слова, слова, слова». В действительности в этих насмешках нет ни тени душевного расстройства, пока Гамлет, в самом конце, для того, чтобы уничтожить их впечатление, не заключает диалог следующей фразой: «Вы сами, сударь, сделались бы так же стары, как я, если бы могли ползти, как рак, назад».
Или возьмите длинный разговор (III, 1) между Гамлетом и Розенкранцем и Гильденстерном о флейте, которую он велел подать себе и на которой просит их что-нибудь сыграть. Все это столь же простая и убедительная притча, как притчи Нового Завета. И заканчивает он свою реплику с победоносной логикой в поэтической форме:
«Видишь ли, какую ничтожную вещь ты из меня делаешь? Ты хочешь играть на мне, ты хочешь проникнуть в тайны моего сердца, ты хочешь испытать меня от низшей до высшей ноты, а в этом маленьком инструменте много гармонии, прекрасный голос, — и ты не можешь заставить говорить его. Черт возьми! Думаешь ты, что на мне легче играть, чем на флейте? Назови меня каким угодно инструментом, ты можешь меня расстроить, но не играть на мне».
Для того, чтобы обеспечить себе свободу делать такие гордые и остроумные выходки, Гамлет и употребляет следующее выражение: «Я безумен только при норд-норд-весте; если ветер с юга, я еще могу отличить юкола от цапли».
К внешним затруднениям присоединились внутренние препятствия, которых он не в силах преодолеть. Он страстно упрекает себя за них, как мы видели. Но эти самобичевания Гамлета не выражают взгляд Шекспира на него и приговор Шекспира относительно его. Они рисуют свойственное его характеру нетерпение, его тоску по возмездию, его стремление увидеть торжество справедливости; они не знаменуют собою его вину.
Вообще все это старинное учение о трагической вине и наказании, отправляющееся от того факта, что смерть в конце трагедии всегда является наказанием за вину, есть ничто иное, как обветшалая схоластика, как теология в костюме эстетики, и можно назвать научным прогрессом то, что такой взгляд на трагическую вину, еще в прошлом поколении считавшийся ересью, теперь почти повсюду одержал верх.
Некоторые критики думали порешить с вопросом о возможной вине Гамлета, отвечая на него в том смысле, что притворное безумие принца есть действительное помешательство. Так, например, Бринсли Николсон, в статье «Был ли Гамлет в самом деле безумным?», подчеркивающий болезненную меланхолию Гамлета, его бессвязные и странные речи после явления духа, недостаток у него сознания ответственности по поводу убийства Полония, которое он совершает, и казни Розенкранца и Гильденстерна, которой он является виновником, его боязнь послать на небо короля Клавдия, умертвив его среди молитвы, его грубость к Офелии, его вечную подозрительность и т. д. Но хотеть видеть во всем этом симптомы действительного сумасшествия есть не только нелепость, но и непонимание явного намерения Шекспира. Гамлет, конечно, не притворяется так планомерно и хладнокровно, как позднее Эдгар в «Лире», но экзальтацию его природы не должно вследствие этого смешивать с безумием. Он пользуется безумием, а не находится в его власти.
Это не значит, что оно оказывается целесообразным и облегчает ему его задачу мстителя; наоборот, оно ему затрудняет ее, вовлекая его в остроумные уклонения и скачки в сторону от дела. Оно должно бы заслонять его тайну, но после представления пьесы эта тайна делается известной королю, и притворное безумие становится излишним, хотя Гамлет и не сбрасывает с себя его маски. Поэтому, согласно с требованием тени, Гамлет пытается теперь пробудить в матери стыд и заставить ее отдалиться от короля. Но когда, в надежде убить Клавдия, он закалывает Полония, его отдают под стражу, отправляют в Англию, и он должен отложить свою месть на еще более долгий срок.
Тогда как в нынешнем столетии многие, преимущественно немецкие критики (например, Крейсиг) выражали свое неодобрение Гамлету, как личности дряблой при всей своей гениальности, один немецкий исследователь горячо отрицал, что в намерение Шекспира входило вообще присвоить Гамлету недуг рефлексии, и с энтузиазмом, с запальчивыми выходками против множества из своих соотечественников, но с воззрением на пьесу, ослабляющим ее идею и умаляющим ее значение, настаивал на том, что препятствия, против которых приходится бороться Гамлету, чисто внешнего свойства. Я имею в виду лекции о «Гамлете», читанные между 1859 и 1872 годами в Берлинском университете старым гегелианцем Карлом Вердером. Его аргументацию, не лишенную в основе здравой логики, можно бы передать следующим образом:
Чего требуют от Гамлета? Чтобы он, как только дух ему поведал судьбу его отца, тотчас же заколол короля? Отлично. Но после удара кинжалом как оправдает он свой поступок перед двором и народом и как взойдет на престол? Ведь он не может предъявить никакого доказательства в пользу истинности своего обвинения. Ему сказал это дух, вот и все доказательство. Ведь он вовсе не прирожденный верховный судья в стране, у которого узурпатор похитил трон. Королева — «наследница этой воинственной страны»; датский престол престол избирательный, и лишь под самый конец Гамлет говорит о том, что личность короля стала между его надеждами и избранием. Для всех действующих лиц в пьесе господствующий правовой порядок представляется совершенно нормальным. И он должен разрушить его ударом кинжала! Да разве датчане поверят его рассказу о явлении духа и об убийстве? А если бы он, вместо того, чтобы взяться за кинжал, выступил публичным обвинителем, то разве может кто-нибудь сомневаться, что этот король и его двор очень скоро отделались бы от него? Ибо куда девались при этом дворе приближенные старого Гамлета? Мы никого из них не видим. Можно подумать, что старый король-герой всех их взял с собой в могилу. Куда девались его полководцы и члены его совета? Разве они умерли раньше его? Или только он один был велик? Верно лишь то, что у Гамлета нет друзей, кроме Горацио, и что он нигде при дворе не находит опоры.
Нет, при том, как сложились обстоятельства, истина может выйти наружу лишь тогда, когда ее выдаст сам венчанный преступник. Поэтому совершенно логичный, более того, гениальный план Гамлета заключается в том, чтобы принудить к этому короля. Ведь для него важно не только покарать преступление в чисто материальном смысле, но и восстановить справедливость в Дании, быть и судьей, и мстителем в одном лице. А этим он не может быть, если без дальних рассуждений убьет короля.
Все это остроумно, отчасти верно, но только не об этом трактуется в пьесе. Если бы Шекспир это имел в виду, то он заставил бы Гамлета высказаться об этом внешнем затруднении или хотя бы намекнуть на него. Но он заставляет его винить себя в бездеятельности и косности, достаточно ясно показывая этим, что основное затруднение кроется внутри, так что трагедия происходит в собственной душе главного лица. Сам Гамлет сравнительно чужд определенных планов, но, как глубокомысленно указывает Гёте, пьеса вследствие этого не лишена плана. И где Гамлет всего неувереннее, где он старается оправдать отсутствие у себя плана, там всего явственнее и всего громче говорит план. Когда, например, Гамлет застает короля за молитвой и не решается убить его, потому что он не должен умереть, очищенный обращением к Богу, а должен погибнуть среди сладострастного опьянения грехом, то в словах, которые в устах главного действующего лица похожи на увертку, слышится то, что Шекспир хочет сказать всей пьесой. Шекспир, а не Гамлет, приберегает короля для смерти, поражающей его в тот самый момент, как он отравил шпагу Лаэрта, наполнил кубок ядом, из трусости допустил королеву выпить его и сделался причиной смертельной раны как Гамлета, так и Лаэрта. Таким образом, оставляя жизнь королю, Гамлет действительно достигает высказываемой при этом цели.
Глава 42
Гамлет и Офелия
Всего глубокомысленнее задуманы у Шекспир отношения принца к Офелии. Гамлет, это — гений, который любит, и любит с крупными запросами гения и с его уклонениями от общепринятых правил. Он любит не так, как Ромео, не такой любовью, которая охватывает и наполняет всецело душу молодого человека. Он чувствовал влечение к Офелии еще при жизни отца, посылал ей письма и подарки, он питает к ней бесконечную нежность, но быть ему другом она не создана.
«Все ее существо, — говорится у Гёте, — дышит зрелой, сладостной чувственностью». Это слишком сильно сказано; только песни, которые она поет в своем безумии, — «в невинности безумия», как метко выражается сам Гёте, указыпают на подкладку чувственного желания или чувственных воспоминаний; ее поведение с принцем скромно до строгости. Они были близки друг к другу; пьеса ничего не говорит о том, насколько близки.
Это ничего еще не доказывает, что тон Гамлета относительно Офелии крайне свободен, не только в потрясающей сцене, где он посылает ее в монастырь, но еще более среди разговора во время представления, когда он шутит с непристойною смелостью, прежде чем просит у нее позволения приклонить голову к ее коленям, и где одна из его реплик цинична. Мы уже видели, что это ничуть не свидетельствует против неопытности Офелии. Елена в пьесе «Конец — делу венец» само целомудрие, а между тем разговор с ней Пароля невероятен, для нас прямо невозможен. С такими репликами, как реплики Гамлета, молодой принц мог в 1602 г. обращаться к вполне порядочной придворной даме, не оскорбляя ее.
Тогда как английские комментаторы Шекспира выступили рыцарями Офелии, некоторые немецкие (как, например, Тик, фон Фризен, Флате) не сомневались в том, что отношения ее к Гамлету были совершенно интимного свойства; Шекспир умышленно обошел этот вопрос, и нелегко понять, почему бы не сделать того же и его читателям.
Гамлет отдаляется от Офелии с того момента, как чувствует себя «ниспосланным с бичом, как ангел мести». С глубокой скорбью прощается он с нею без слов, берет ее руку, удерживает ее, отстраняясь на длину своей руки, и так пристально смотрит ей в лицо, как будто хочет его списать, потом жмет слегка ее руку, качает головой и испускает глубокий вздох.
Если после того он держит себя сурово, почти жестоко с ней, то потому, что она была малодушна и изменила ему. Она — кроткое, покорное создание без силы сопротивления; это душа, которая любит, но любит без страсти, дающей женщине самостоятельность действия. Она походит на Дездемону своим неразумным обращением с любимым человеком, но много уступает ей в решительности и пылкости любви. Она совсем не поняла печали Гамлета по поводу образа действий матери. Она остается свидетельницей его подавленного настроения, не подозревая его причины. Когда после явления духа он приближается к ней, взволнованный и безмолвный, в ней нет предчувствия того, что с ним случилось нечто ужасное, и, несмотря на свое сострадание к его болезненному состоянию, она тотчас же соглашается сделаться орудием его выпытывания, в то время как ее отец и король подслушивают их разговор. Тогда-то он и разражается всеми этими знаменитыми упреками: «Ты честная девушка? И хороша собой?» и т. д., тайный смысл которых таков: «Ты подобна моей матери! И ты могла бы поступить так, как она!»
У Гамлета нет ни одной мысли для нее среди возбуждения, которое овладевает им после того, как он убил Полония; однако косвенным путем Шекспир дает нам понять, что впоследствии скорбь о возлюбленной внезапно охватила его. Он плачет о том, что сделал. Потом он как будто забывает о ней, и вот почему так странен кажется читателям его гнев на вопли брата Офелии, когда ее опускают в могилу, и внушенное его чрезмерной нервной возбужденностью желание превзойти Лаэрта в горе. Но мы понимаем из его слов, что она была отрадой его жизни, хотя и не могла сделаться ее утешением. Она, со своей стороны, была сердечно расположена к нему, любила его с самой заветной нежностью. Потом она с болью увидала, что он относится к своей любви, как к чему-то минувшему («Я любил тебя когда-то»), с глубокой печалью была она свидетельницей того, что она считает помрачением его светлого духа в безумии («О, что за благородный омрачился дух!»); наконец, смерть отца от руки Гамлета гасит у нее свет сознания. Она разом потеряла их обоих, отца и милого. Имя Гамлета она не произносит в своем безумии, не намекает даже на скорбь о том, что именно он убил ее отца. Забвение этого ужаснейшего факта облегчает ее несчастье; ее тяжкая судьба выбросила ее в пустыню одиночества; безумие населяет и наполняет это одиночество и этим самым смягчает его.
Создавая в своей фантазии отношения Фауста к Гретхен, Гёте многое заимствовал и присвоил себе из отношений Гамлета к Офелии. И там, и здесь изображается трагический любовный союз гения с полной искреннего чувства молодой девушкой. Фауст убивает мать Гретхен, как Гамлет отца Офелии. И в «Фаусте» происходит поединок между героем и братом возлюбленной, и там брат погибает от удара шпага. И в «Фаусте» молодая девушка сходит с ума под гнетом своего несчастья, и Гёте именно Офелию имел при этом в своих мыслях, ибо он заставляет своего Мефистофеля петь перед Гретхен песню о молодой девушке, вышедшей от своего возлюбленного уже не девственницей, — песню, представляющую собой прямое подражание, почти перевод песни Офелии о Валентиновом дне.
Безумие Офелии носит, однако, печаль более нежной поэзии, чем безумие Гретхен. У Гретхен оно усиливает могучее, трагическое впечатление гибели молодой девушки; у Офелии оно утоляет страдания душевнобольной и зрителя.
Гамлет и Фауст — это гений эпохи Возрождения и гений современной эпохи, но понимаемые таким образом, что Гамлет, в силу чудесного дара своего поэта воспарять над своим веком, охватывает весь период времени между ним и нами и имеет такую широту объема, какую мы, стоя на пороге двадцатого столетия, все еще не в состоянии определить.
Фауст есть, пожалуй, наивысшее поэтическое выражение для стремящегося вперед, пытливого, ищущего наслаждений, под конец овладевающего собой и землей человечества; в руках своего творца он превращается в великий символ; но чрезмерное обилие аллегорических штрихов заволакивает для наших взоров во второй половине его жизни его индивидуальную человеческую природу. Не в характере дарования Шекспира было изобразить существо, стремления которого направлены, как у Фауста, на опыт, знание, открытие истины вообще. Даже там, где Шекспир поднимается всего выше, он все-таки придерживается ближе земли.
Но ты, о Гамлет, вследствие этого нам, конечно, не менее дорог, и поколение, живущее ныне, не менее ценит и понимает тебя! Мы любим тебя, как брата! Твоя печаль — наша печаль, твое негодование — наше негодование, твой гордый ум отмщает за нас тем, кто наполняет землю своим пустым шумом и кто властвует над нею. Нам знакома твоя мучительная скорбь при виде торжества лицемерия и неправды, и, увы! твоя еще более страшная пытка, когда ты чувствовал, что перерезан в тебе нерв, претворяющий мысль в победоносное дело. И к нам взывал из преисподней голос великих усопших. И нам пришлось видеть, как наша мать набросила порфиру на того, кто умертвил «величие похороненной Дании». И нам изменяли друзья нашей юности, и нам грозила гибель от отравленного клинка. И нам понятно настроение, овладевшее тобою на кладбище, когда душу охватывает отвращение ко всему земному и грусть при виде всего земного. И нас веяние из отверстых могил заставляло мечтать с черепом в руке!
Глава 43
Влияние «Гамлета» на последующие века
Если ныне живущие люди могут чувствовать заодно с Гамлетом, то, конечно, нет ничего удивительного в том, что драма имела шумный успех у современников. Всякий поймет, что знатная молодежь того века смотрела ее с восторгом, но что изумляет и что дает представление о свежей мощи Ренессанса и его богатой способности усваивать наивысшую культуру, это то обстоятельство, что «Гамлет» сделался столь же популярен в низших слоях общества, как и в высших. Любопытным доказательством популярности трагедии и самого Шекспира в следовавшие непосредственно за ее появлением годы могут служить заметки в корабельном журнале капитана Килинга, сделанные в сентябре 1607 г на корабле «Дракон», встретившемся перед Сьерра-Леоне с другим английским судном, «Гектором» (капитан Хокинс), на пути в Индию. В этом журнале значится:
«Сентября 5 дня (у Сьерра-Леоне) я, в ответ на приглашение, послал на „Гектор“ своего представителя, который там завтракал; после этого он вернулся ко мне, и мы давали трагедию о Гамлете. — (Сент.) 30. Капитан Хокинс обедал у меня, после чего мои товарищи играли „Ричарда Второго“. — 31 (?). Я пригласил капитана Хокинса на обед из рыбных блюд и велел сыграть на корабле „Гамлета“, что я делаю с той целью, чтобы удержать моих людей от праздности, пагубной игры и сна».
Кто мог бы представить себе «Гамлета» спустя три года после его выхода в свет столь известным и столь дорогим для английских матросов, находившихся в дальнем плавании, что они были в состоянии играть его для собственного удовольствия, и играть чуть не экспромтом? Можно ли вообразить более крупное доказательство самой громкой популярности? Трагедия о датском принце, разыгрываемая простыми английскими моряками на западноафриканском берегу, разве это не характерная иллюстрация культуры Возрождения? К сожалению, по всей вероятности, Шекспир ничего не знал об этом.
Возрастающее значение Гамлета в последующие века соответствует его значению для современников. В поэзии девятнадцатого столетия весьма многое ведет от него свое происхождение. Гёте истолковал и пересоздал его в «Вильгельме Мейстере», и этот пересозданный Гамлет напоминает собою Фауста. Когда Фауст был пересажен на английскую почву, тогда возник Манфред Байрона, как настоящий, хотя и отдаленный потомок датского принца. В самой Германии байроновский характер получил новую гамлетовскую (собственно, йориковскую) форму в едком и фантастическом остроумии Гейне, в его ненависти, его юморе и умственном превосходстве. Берне первый изъясняет Гамлета, как немца современной ему эпохи, постоянно вращающегося в заколдованном круге и не находящего удобного момента для действия. Однако он чувствует темноту пьесы, и у него встречается следующее тонкое выражение: «Над картиной висит флер. Мы хотели бы снять его, чтобы лучше рассмотреть картину, но сам флер набросан той же кистью».
Поколение, к которому во Франции принадлежал Альфред де Мюссе, и которое он изображал в своих «Confessions d’un enfant du siecle», — нервное, воспламеняющееся, как порох, с преждевременно подрезанными крыльями, без поприща для своей жажды деятельности и без энергии в проведении своей исторической задачи, многим и многим напоминает Гамлета. И самый, быть может, превосходный из мужских образов Мюссе, Лорензаччио, делается французским Гамлетом, опытным в притворстве, медлительным, остроумным, мягким в обращении с женщинами и, тем не менее, оскорбляющим их жесткими словами, болезненно стремящимся искупить каким-нибудь действием ничтожность своей дурной жизни и действующим слишком поздно, без всякой пользы, в порыве отчаяния.
Гамлет, бывший за несколько столетий до того молодой Англией и представлявшийся некоторое время для Мюссе молодой Францией, сделался в сороковых годах тем именем, которым, по пророческому слову Берне, окрестила себя Германия. «Гамлет, — пел Фрейлиграт, — это Германия, в ворота которой строго и безмолвно каждую ночь входит погребенная свобода».
Одновременно с этим, но особенно спустя лет двадцать после того, гамлетовский образ, в силу родственных политических условий, приобрел преобладающее влияние и в русской литературе, где его можно проследить, начиная с произведений Пушкина и Гоголя и кончая Гончаровым и Толстым, между тем как в творчестве Тургенева он прямо занимает главное место. Но миссия мстителя в сознании Гамлета отсутствует здесь; центр тяжести перенесен на несоответствие между мыслью и делом вообще.
И во время расцвета польской литературы в этом столетии был момент, когда поэтам хотелось сказать: Гамлет — это мы. Глубокие черты его характера встречаются около половины текущего столетия у всех польских поэтических умов, у Мицкевича, Словацкого, Красинского.
С самой юности они находятся в его положении. В их мире связь времен распалась, и они должны вновь связать ее своими слабыми руками. Все они, как Гамлет, чувствуют силу своего внутреннего пламени и свое внешнее бессилие; благородные по рождению и по образу мыслей, смотрящие на окружающий их строй, как на один великий ужас, склонные в одно и то же время к мечтам и к действию, к рефлексии и опрометчивым поступкам.
Как Гамлет, видели они свою мать, страну, которой они обязаны жизнью, в руках чуждого властителя. Двор, доступ к которому им порой открывается, пугает их, как двор Клавдия путает датского принца, как двор в «Искушении» Красинского пугает молодого героя поэмы. Эти потомки Гамлета жестоки, как и он, к своей Офелии, они покидают ее, когда она их любит всего горячее; подобно ему и они отправляются в ссылку, в далекие, чужие земли, и когда они говорят, они притворяются, как и он, облекают в метафоры и аллегории смысл своих речей. К ним подходят слова Гамлета о самом себе: «Берегись, во мне есть что-то опасное».
Специально польская черта в них — это то, что не рефлексия, а поэзия отнимает у них силы и ставит перед ними преграды. Тогда как немцы этого типа гибнут жертвой рефлексии, французы — жертвой распутства, русские — жертвой лени, иронического отношения к самим себе или малодушного отчаяния, поляков сбивает с пути и заставляет жить в стороне от жизни их воображение.
Характер Гамлета представляет, как известно, множество различных сторон. Гамлет — скептик, он — человек, осужденный на бездеятельность своей совестливостью или осторожностью, он — человек мозга, частью действующий нервно, частью, вследствие нервности, неспособный действовать, и, наконец, он — мститель, притворяющийся безумным для того, чтобы тем лучше совершить дело мести. Каждая из этих сторон проявляется у польских поэтов. Проблески чего-то гамлетовского встречаются во многих образах, созданных Мицкевичем, в Валленроде, Густаве, Конраде, Робаке. Густав говорит языком философского безумия; Конрад предается философским грезам; Валленрод и Робак в целях мести притворяются или надевают на себя чужой костюм, последний же из них убивает, как и Гамлет, отца своей возлюбленной. Гораздо более крупную роль играет гамлетовский характер у Словацкого. Его Корджан — это Гамлет, вдохновленный миссией мстителя, но не имеющий сил ее исполнить. Радикально задуманному польскому гамлетовскому типу у Словацкого соответствует консервативно задуманный Гамлет у Красинского. Герой «Небожественной комедии» Красинского имеет немало общих черт с датским принцем. Он наделен болезненной чувствительностью и воображением Гамлета. Он охотник до монологов и занимается драматическим искусством. У него крайне чуткая совесть, но он может совершать жестокие поступки. За нелепую мнительность его природы судьба карает его сумасшествием его жены, приблизительно так же, как Гамлета за его притворное безумие постигает кара в виде действительного помешательства Офелии. Но этого Гамлета снедает более современная пытка сомнения, нежели Гамлета эпохи Возрождения. Последний сомневается в том, есть ли дух, за которого он ополчается, нечто более, чем привидение. Когда граф Генрих запирается в «замке Пресвятой Троицы», он не уверен в том, что сама Пресвятая Троица есть нечто большее, чем призрак.
Иными словами, около двух с половиной веков после того, как образ Гамлета зародился в фантазии Шекспира, мы видим его живущим в английской и французской литературе и, как тип, властвующим над умами немецкого и двух славянских народов. И теперь, через 300 лет после его появления на свет, он поверенный и друг скорбящих и мыслящих людей во всех странах. В этом есть что-то необычайное. Таким проникновенным взором заглянул здесь Шекспир в недра своего собственного существа, а с тем вместе и в недра человеческой природы, и так уверенно и смело изобразил он во внешних чертах то, что видел, что целые века после того люди различных стран и различных племен чувствовали, как его рука лепила, словно воск, их природу, и в его поэзии видели, как в зеркале, свое собственное отражение.
Глава 44
Драматургия в «Гамлете». — Шекспир, Кемп и Тарлтон
Помимо всего прочего, «Гамлет» дает нам возможность неожиданно ознакомиться со взглядами Шекспира на его собственное искусство, как поэта и актера, и с положением и условиями его театра в 1602–1603 гг.
Если мы внимательно прочтем слова принца к актерам, то получим живое представление о том, почему современники Шекспира постоянно подчеркивают сладкий, медоточивый характер его искусства. Нам он может казаться размашистым, потрясающе патетическим, переступающим все пределы сравнительно с современными ему художниками, и не только такими стремительными и напыщенными, как Марло в начале своей карьеры, но и со всеми; он сдержан, умерен, исполнен прелести, эстетичен, как сам Рафаэль. Гамлет говорит актерам:
Если ты будешь кричать, как многие из наших актеров, так это будет мне так неприятно, как если бы мои стихи распевал разносчик. Не пили слишком усердно воздух руками, вот так; будь умеренней. Среди потока, бури и, так сказать, водоворота твоей страсти должен ты сохранять умеренность: она придаст тебе приятности. О, мне всегда ужасно досадно, если какой-нибудь дюжий, длинноволосый молодец разрывает страсть в клочки, чтобы греметь в ушах райка, который не смыслит ничего, кроме неизъяснимой немой пантомимы и крика. Такого актера я в состоянии бы высечь за его крик и натяжку. Пожалуйста, избегай этого.
1-й актер. Ваше высочество можете на нас положиться.
Гамлет. Не будь, однако же, и слишком вял; твоим учителем пусть будет собственное суждение…
Логически теперь должно бы следовать предостережение против опасностей чрезмерной мягкости. Однако, его нет. Вместо того, далее говорится.
Мимика и слово должны соответствовать друг другу; особенно обращай внимание на то, чтобы не переступать за границу естественного. Все, что изысканно, противоречит намерению театра, цель которого была, есть и будет отражать в себе природу; добро, зло, время и люди должны видеть себя в нем, как в зеркале. Если представить их слишком сильно или слабо, — конечно, профана заставишь иногда смеяться, но знатоку досадно; а для вас суждение знатока должно перевешивать мнение всех остальных. Я видел актеров, которых превозносили до небес, и что же? В словах и походке они не походили ни на христиан, ни на жидов, ни вообще на людей; выступали и козлогласовали так, что я подумал, какой-нибудь поденщик природы наделал людей, да неудачно. Так ужасно подражали они человечеству.
1-й актер. У нас это редко встретится, надеюсь.
Гамлет. Уничтожьте вовсе!
Таким образом, хотя Гамлет, по-видимому хочет в равной степени предостеречь против чрезмерной пылкости и чрезмерной вялости, предостережение против вялости тотчас же, однако, переходит снова в просьбу избегать преувеличения «козлогласованием», — того, что в настоящее время мы называем высокопарной трагической декламацией. Более всего заботят Шекспира опасности, сопряженные не с мягким, а с бурным исполнением.
Как мы уже ставили на вид, Шекспир выражает здесь не только свои стремления вообще, как драматурга, но дает формальное определение сущности драмы и обозначает ее цель, и, что довольно знаменательно, это определение точь-в-точь совпадает с тем, которое одновременно Сервантес в «Дон-Кихоте» вкладывает в уста священнику: «Комедия, — говорит этот последний, — должна быть, по мнению Туллия, зеркалом для человеческой жизни, образцом для нравов, изображением истины».
Шекспир и Сервантес, покрывшие блеском славы одну и ту же эпоху и умершие в один и тот же день, не знали о существовании друг друга, но, согласно с духом времени, заимствовали свое основное определение драматического искусства у Цицерона. Сервантес прямо говорит это; Шекспир, не желавший заставлять своего Гамлета щеголять ученостью, намекает на это словами «цель которого была, есть и будет».
И подобно тому, как устами Гамлета Шекспир высказался здесь о неизменной сущности и цели своего искусства, так, в виде исключения, он излил здесь свои временные художнические огорчения, свое уныние по поводу положения, в котором как раз в этот момент находился его театр. Мы уже касались выше сетований поэта на конкуренцию, в которую именно в это время вступила с шекспировским актерским товариществом детская труппа из хоровой школы собора св. Павла, игравшая на сцене Блэкфрайрского театра. Эти сетования нашли себе выражение в разговоре Гамлета с Розенкранцем. В них слышится такая досада, как будто шекспировская труппа на некоторое время совсем пришла в упадок. Много, наверное, способствовало этому то обстоятельство, что самый популярный ее талант, знаменитый комик Кемп, как раз в 1602 г. покинул ее и, как мы уже упоминали, перешел в труппу Генсло. Кемп с самого начала играл все крупные комические роли в пьесах Шекспира — Петра и Балтазара в «Ромео и Джульетте», Шалло в «Генрихе IV», Ланселота в «Венецианском купце», Клюкву в «Много шума из ничего», Оселка в комедии «Как вам угодно». Теперь, когда он перешел на сторону врага, его отсутствие горько оплакивалось труппой.
Его описание «Чуда девяти дней» и заносчивое посвящение книги показывают нам, каким самомнением он был заражен. Гамлет дает нам понять, что Кемп весьма часто раздражал Шекспира своей дерзостью, выражавшейся в его прибавлениях и импровизациях. В прежние времена комики могли, как о том свидетельствует текст пьес, так же свободно распоряжаться своими ролями, как итальянские актеры в импровизированной народной commedia delFarte. Богатое и безукоризненное искусство Шекспира не оставляло места для подобного произвола. Теперь, когда Кемп ушел из труппы, поэт из уст Гамлета послал ему вдогонку следующую стрелу:
Да и шуты пусть не говорят, чего не написано в роли: чтобы заставить смеяться толпу глупцов, они хохочут иногда сами в то время, когда зрителям должно обдумать важный момент пьесы это стыдно и доказывает жалкое честолюбие шута
Как видит читатель, эта выходка имеет, в сущности, общий характер, поэтому она могла быть сохранена, когда Кемп вернулся. Зато в следующих изданиях (значит, и в пьесе) вычеркнута другая, гораздо более резкая и несравненно более личная выходка, находящаяся в издании 1603 г., но оказавшаяся уже неуместной после возвращения блудного сына. Она трактует о комике, выдумки которого так популярны, что записываются джентльменами, любящими посещать театр; приводится целый ряд крайне слабых образчиков его шутовских речей, чистого буффонства клоуна из цирка, и, наконец, Гамлет добивает злополучного комика словами, что ему никогда в жизни не сказать остроты, как не поймать зайца слепому.
Известно, что артиста не так легко раздражить нападками на него самого, сколько горячими похвалами по адресу его товарищей по амплуа. Поэтому едва ли можно сомневаться в том, что Шекспир, заставляя Гамлета восхвалять умершего Йорика, имел в мыслях умершего Тарлтона, симпатичного и знаменитого предшественника Кемпа. Если бы Шекспир не имел известного умысла, определяя попавший ему в руки череп шута, то было бы так же натурально заставить этот череп принадлежать какому-нибудь старому служителю Гамлета. Но если поэт в первые годы своей деятельности на театральном поприще знал лично Тарлтона, и если грубое поведение Кемпа оживило в его памяти очаровательный юмор его предшественника, то естественно было с выходкой против Кемпа соединить горячее восхваление великого комика.
Тарлтон был похоронен 3 сентября 1588 г. Это вполне совпадает с указанием в первом издании in-quarto, что Йорик пролежал в земле около двенадцати лет. И лишь благодаря этому нам становится вполне понятен сильный взрыв чувства у Гамлета:
Я знал его, Горацио; это был человек с бесконечным юмором, с дивной фантазией. Тысячу раз носил он меня на плечах, а теперь — как отталкивают мое воображение эти останки! Мне почти дурно! Тут были уста, — я целовал их так часто! Где теперь твои шутки? Твои ужимки? Где песни, молнии острот, от которых все пирующие хохотали до упаду?
«Увы, бедный Йорик!» Сердечное восклицание, вырвавшееся по поводу его у Гамлета, сохранит бессмертной его память и тогда, когда позабудутся его изданные в свет фарсы. Он был народный шут, и шут придворный, и шут на сцене, всюду одинаково любимый; о нем рассказывают, что он говорил Елизавете больше истин, чем все ее капелланы, и лучше всех ее врачей умел лечить ее меланхолию.
Таким образом, в «Гамлете» Шекспир не только высказался с полной откровенностью о театральных делах, но произнес похвальное слово замечательному актеру после его смерти и дал великий пример доброго и достойного обхождения с даровитыми актерами при их жизни. Его датский принц стоит выше вульгарного предубеждения против них. Наконец, Шекспир прославил здесь саму драматическую поэзию, служение которой было делом, наиболее близким его сердцу, и наполняло собой всю его жизнь, прославил ее, сделав здесь драму радикальным средством, с помощью которого истина выходит наружу, так что справедливость может восторжествовать. Представление пьесы об убийстве Гонзаго есть та ось, вокруг которой вращается трагедия. С той минуты, как король себя выдал, прекратив представление, Гамлет знает все, что хотел знать.
Когда Иаков вступил на престол, «Гамлет» получил еще новый и живой интерес вследствие того, что королева Анна была датская принцесса. На великолепном празднике, устроенном 15 марта 1604 г. в честь короля Иакова, королевы Анны и принца Генри-Фредерика по поводу их торжественного въезда из Тауэра в Уайтхолл через Сити, с трибуны, воздвигнутой рядом с церковью St.-Mildred, был весьма оживленно и эффектно исполнен девятью трубами и одним барабаном датский марш «для того, чтобы угостить королеву музыкой ее родной страны». Что это был за марш, теперь неизвестно, но нет никакого сомнения, что с тех пор он стал играться во 2-й сцене 5-го акта «Гамлета», где введена трубная и барабанная музыка и где в наши дни в Theatre Francais так наивно играют «Kong Christian stod ved hojen Mast». «Kong Christian stod ved hojen Mast» (король Христиан стоял у высокой мачты) — современный датский гимн, сочиненный Иоганнесом Эвальдом в 1744 г. (он вставлен поэтом в его пьесу «Рыбаки») и положенный на музыку еще позднее Гартманном. Следовательно, в «Гамлете» этот гимн является комическим анахронизмом.
Глава 45
«Конец — делу венец». — Выходки против пуританства
Когда вследствие конкуренции дела труппы находились в том плачевном состоянии, о котором Шекспир говорит в таких горьких словах в «Гамлете», тогда оказалось необходимым поставить несколько комедий, чтобы внести некоторое разнообразие в репертуар мрачных трагедий, соответствовавших как нельзя лучше тогдашнему настроению поэта. Итак, пришлось поневоле писать комедии. Но время, когда был создан «Сон в летнюю ночь», миновало давно; душевное состояние, в котором была написана пьеса «Как вам угодно», оказалось давно пережитым, хотя с тех пор прошло вовсе не так много лет. Однако не было другого выбора. И вот Шекспир принимается за переделку старых литературных работ. Он обрабатывает пьесу «Вознагражденные усилия любви», о которой мы говорили выше. Первоначальная редакция этой пьесы нам в точности неизвестна. Мы можем теперь только выделить те рифмованные, юношески непристойные отрывки, которые принадлежали, без сомнения, к первому очерку. В заключительной реплике пьесы содержится, по-видимому, намек на ее первоначальное заглавие:
This is done. Will you be mine, now you are doubly won! (Дело сделано Вы будете моею; теперь Вы вдвойне добыты).Когда Шекспир приступил в молодые годы к разработке этого сюжета, он хотел сделать из него, без всякого сомнения, комедию. Теперь из этой темы не вышло комедии. То время, когда главная сила Шекспира заключалась в его комизме, прошло. Если нетрудно вообразить, что его последующие трагедии могли быть написаны Гамлетом, если бы он остался в живых, то автором двух пьес «Конец — делу венец» и «Мера за меру» мог быть Жак.
Во многих местах пьесы «Конец — делу венец», особенно в первых двух действиях, чувствуется очень явственно, что Шекспир приступил к этой работе тотчас после Гамлета.
В первой сцене графиня упрекает Елену за то, что она слишком беззаветно горюет о покойном отце. Точно так же порицает король Гамлета за то упорство, с которым он предается тоскливым воспоминаниям об усопшем отце. Далее, наставления, которые дает графиня сыну, отправляющемуся путешествовать во Францию, напоминают поучительные советы Полония, обращенные к уезжающему Лаэрту. Графиня говорит[16]:
…Пусть будут Твои дела достойны твоего Высокого рожденья. Всех на свете Люби, мой сын, немногим только верь. И никого не обижай; будь страшен Своим врагам, лишь силою своей, А не ее употребленьем; друга, Как жизнь свою, храни! Пускай тебя В молчанье упрекают, лишь бы только В болтливости ты не был обвинен.Вспомните наставления Полония:
Не говори, что мыслишь, И мысль незрелую не исполняй. Будь ласков, но не будь приятель общий. Друзей, которых испытал, железом Прикуй к душе, но не марай руки, Со всяким встречным заключая братство. Остерегись, чтоб не попасться в ссору, Попал — так чтобы враг остерегался; Всех слушай, но не всем давай свой голос!Обратите также внимание на многочисленные выходки против царедворцев и против придворной жизни, сближающие эту драму с «Гамлетом». Трудно представить себе лучший комментарий к известной сцене, где Полоний готов по желанию Гамлета найти, что облако похоже на верблюда, или хорька, или кита, или где Озрик, «принимавшийся и за грудь матери не без комплиментов», произносит свои заученные, кудряво-витиеватые фразы, нежели то место в нашей комедии (II, 2), где шут характеризует графине придворную жизнь такими словами:
Ну, да согласитесь, ваше сиятельство, что кого Бог наделил хорошими качествами, тот при дворе их может отложить в сторону. Кто не умеет шаркнуть ножкой, снять шляпу, поцеловать свою руку и сказать хоть какой-нибудь вздор — у того нет ни ног, ни рук, ни губ, ни шляпы и, говоря точнее, такой молодец для двора не годится!
Кое-где попадаются также обороты речи, напоминающие знаменитые реплики Гамлета. Так, в словах, с которыми Елена обращается к первому дворянину:
Thanks, sir, all the rest is mute. (Благодарю вас, сэр; все остальное немо) —невольно вспоминаются незабвенные предсмертные слова Гамлета:
The rest is silence. (Остальное — молчание).К более внешним признакам, позволяющим также приурочить эту пьесу к 1602 или 1603 г., относятся осторожные, тонкие нападки на пуритан, проходящие красной нитью через всю пьесу и показывающие, что в это время в душе Шекспира бушевало негодование на модное, чисто показное благочестие. Трагедия «Гамлет» рисует нам портрет первоклассного ханжи. Обратите, например, внимание на следующий ядовитый намек (III, 2):
Гамлет. Посмотрите, как весело смотрит матушка, а ведь и двух часов нет, как скончался отец мой.
Офелия. Нет, принц, уже четыре месяца.
Гамлет. Так давно уж! Так пусть же сам сатана ходит в трауре; я надену соболью мантию. Боже! Уже два месяца как умер и еще не забыт. Так можно надеяться, что память великого человека переживет его целым полугодом. Но, клянусь, он должен строить церкви, если не хочет, чтобы его забыли, как прошлогодний снег!
И здесь, в комедии «Конец — делу венец», Шекспир также имеет постоянно в виду своих святошествующих врагов. Он смеется устами шута как над протестантскими, так и над католическими фанатиками. Они исповедуют, правда, различную веру, однако в семейной жизни оба одинаково несчастны. Шут восклицает (I, 3):
Молодой пуританин Чарбон и старый папист Пойзам, как ни разнятся их сердца в вопросе о религии, головами все-таки сходятся между собой; они могут сшибиться рогами, как олени в стаде.
Несколько дальше он говорит:
Хотя честность не пуританка, но на этот раз она не сделает ничего дурного Она согласится надеть стихарь смирения на черную рясу своего гордого сердца!
Когда Лафе рассказывает Паролю о чудесном исцелении французского короля благодаря Елене, он смеется над теми, которые готовы увидеть в этом факте благодарный сюжет для религиозного трактата:
Лафе. Нет сомнения, что для света это новость.
Пароль. Непременно новость. Если хотите представить себе это наглядно, прочтите, как бишь это называется.
Лафе. «Проявление небесной силы в земном актере!»
Шекспир находил, по-видимому, большое наслаждение осмеивать вычурные заглавия благочестивых пуританских трактатов.
В этой политической тенденции, отмечающей одинаково «Гамлета», «Конец делу венец» и «Меру за меру», и в этой резкой оппозиции против все возраставшей религиозной строгости и религиозного ханжества многие видели, не без основания, красноречивое доказательство того, что Шекспир разделял в этот период недовольство правительства пуританами и папистами.
Хотя пьеса «Конец — делу венец» не дышит истинной веселостью, однако она напоминает во многих отношениях настоящие комедии Шекспира. Некоторые подробности сюжета похожи на «Венецианского купца». Подобно тому как Порция, переодетая адвокатом, выманивает у Бассанио перстень, который тот отдает так неохотно, так точно Елена, принимаемая в ночной темноте за другую, получает кольцо, которое она уже отчаялась когда-нибудь получить. В заключительной сцене как Бертрам, так и Бассанио должны признаться, что перстень — не у них. Оба одинаково негодуют на себя за эту потерю, и в обоих случаях развязка заключается в том, что кольца оказываются в руках их же собственных жен.
Однако еще более тесная связь существует между сюжетом этой пьесы и сюжетом комедии «Укрощение строптивой», хотя отношения тут совершенно обратны. В «Укрощении строптивой» мы видим, как мужчина покоряет сердце женщины качествами и свойствами своего пола, т. е. физической силой, грубостью, хладнокровием, бранью и ворчливостью. Напротив, в пьесе «Конец делу венец» автор рисует нам картину, как женщина привлекает к себе мало-помалу свойственными ее полу добродетелями и пороками, т. е. кротостью, добротою, хитростью, мужчину, избегающего ее так же искренно и решительно, как сопротивляется Катарина Петруччио. В обоих случаях молодые люди уже обвенчаны, прежде чем собственно действие открывается. Но так как Шекспир воспользовался для «Укрощения строптивой» старой комедией, а для пьесы «Конец — делу венец» — новеллой Боккаччо о «Джилетте из Нарбонны», переведенной в 1566 г. в сборнике Пентера «Дворец удовольствий», то не следует говорить о преднамеренном контрасте. Последний сюжет заинтересовал Шекспира главным образом потому, что давал ему возможность воспроизвести следующее редкое явление: молодая женщина сама ухаживает за мужчиной и тем не менее не лишается прелести своего пола.
Шекспир обрисовал фигуру Елены с какой-то нежной любовью. Словно пером его водило чувство сострадания, смешанного с удивлением. Глубокая искренняя симпатия веет в этой характеристике женщины, страдающей оттого, что ею пренебрегают. Шекспир знал по собственному опыту, как это больно. Все существо Елены дышит рафаэлевской красотой. Она привлекает и очаровывает всех при своем первом появлении. Все от нее в восторге, старики и молодежь, женщины и мужчины, все, исключая Бертрама, который ей дороже жизни. Король и старый Лафе самого высокого мнения о ней и о ее достоинствах. Мать Бертрама любит ее, как собственную дочь, даже больше, чем своего сына. Вдова итальянка так очарована ею, что едет с ней на далекую чужбину, чтобы только вернуть ей мужа.
Елена предпринимает все, чтобы только сблизиться снова с возлюбленным. Она показывает при этом такую изобретательность, которую редко можно найти в женщине. Она чистосердечно признается, что поехала лечить короля больше ради того, чтобы повидаться с Бертрамом. Как и в новелле, она получает от короля позволение выбрать, в случае удачного лечения, мужа среди придворных. Но у Боккаччо король наводит героиню на эту мысль, в пьесе — она сама выражает это желание. Так страстно любит она того, кто не уделяет ей ни одной мысли, не дарит ее ни одним взглядом. Когда он отрекается от нее, она не желает — в противоположность Джилетте — достигнуть насилием своей цели. Просто, бескорыстно, благородно восклицает она:
Исцелены вы, государь, и этим Я счастлива. Об остальном прошу Не хлопотать.Когда Бертрам объявляет ей после свадьбы, что должен ее покинуть, она не возражает, она не желает даже разоблачать его предлога; когда он отказывает ей перед разлукой в поцелуе, она страдает, но страдает безмолвно. Когда она впоследствии узнает всю истину, она так поражена, что может произносить только отрывочные фразы и восклицания: «Мой супруг уехал навсегда!» — «Страшный приговор». — «Это горько» (III, 2). Она покидает родной очаг, чтобы не быть помехой, если ему вздумается вернуться. У нее гордый и твердый характер; но трудно вообразить себе более искреннюю и кроткую любовь. Лучшие реплики Едены написаны поэтом в более зрелые годы, что доказывается некоторыми особенностями метра и отсутствием рифм. Обратите, например, внимание на те стихи (I, 1), где Елена рассказывает о том, как образ Бертрама вытеснил из ее памяти образ покойного отца:
…Фантазия моя Рисует мне одно лицо — Бертрама. Погибла я: с Бертрамом улетит Вся жизнь моя. Ах, точно то же было б Когда бы я влюбилася в звезду, Блестящую на небе, и мечтала О браке с ней. Да, так же высоко Он надо мной стоит Сияньем ярким Его лучей могу издалека Я греть себя, но в сферу их проникнуть Мне не дано. И так моя любовь Терзается своим же честолюбьем. Когда ко льву пылает страстью лань, Исход ей — смерть. Как сладостно и вместе Мучительно мне было целый день Быть рядом с ним, сидеть и эти брови Высокие, и соколиный взгляд, И шелк кудрей чертить себе на сердце Том сердце — ах! что каждую черту Прекрасного лица воспринимало; Так хорошо. Теперь уехал он И след его боготвореньем Я освящу.Если вы сравните стиль этого монолога с некоторыми рифмованными репликами Елены, изобилующими словами и антитезами в эвфуэстическом духе, то вы сразу почувствуете различие и поймете, какой длинный путь прошел Шекспир с того времени, когда писал этим юношеским стилем. Здесь нет претензий на блеск и остроумие. Здесь говорит сердце, любящее просто и глубоко.
В целом пьеса не принадлежала, по-видимому, к любимым произведениям Шекспира. Сохранив такие подробности сюжета, которые делали хороший исход невозможным, он всю свою творческую силу устремил на характеристику Елены.
Вот как она признается матери в своей любви к Бертраму (I, 3):
…Графиня, не сердитесь Ведь этою любовью я вреда Не приношу тому, кого люблю я. Ни разу он не видел от меня Искательства и притязаний дерзких. Его женой хотела бы я стать Не ранее, как заслуживши это А как могу я это заслужить, Решительно не знаю. Знаю только, Что я люблю бесплодно, что борюсь С надеждою напрасно — и однако Все лью и лью я в это решето Дырявое обильнейшие реки Моей любви, не истощая их. Подобно старому фанатику-индийцу Боготворю я солнце, а оно На своего поклонника взирает, Но ничего не ведает о нем.Многое в ее характере напоминает прелесть, сосредоточенность и безграничную преданность созданной несколько позже Имоджены. Когда Бертрам уезжает в поход, чтобы не жить с ней и не признавать ее женой, она восклицает (III, 2:
…Ужели Я выгнала из родины тебя И нежные твои подвергла члены Случайностям безжалостной войны? Ужели я тебе велела кинуть Веселый двор, где ты сносил стрельбу Прекрасных глаз — чтоб сделаться мишенью Дымящихся мушкетов? О, молю Вас, вестники свинцовые, на крыльях Убийственных летящие в огне Не трогайте его! Пронзайте воздух, Что с песенкой встречает ваш удар, Но моего владыки не касайтесь.В этих словах дышит такая искренность и такая страстность, которых мы не найдем в более ранних его комедиях. Читая эти стихи, вы соглашаетесь невольно с Кольриджем, который назвал Елену самым милым и привлекательным из женских характеров, созданных Шекспиром.
Жаль только, что эта глубокая страсть вызвана в душе Елены таким недостойным предметом. Так как Шекспир не наделил юного, мало рыцарственного Бертрама никакими положительными качествами, то интерес к пьесе быстро охлаждается. Видно, что поэт отделывает с любовью только некоторые части пьесы.
Конечно, Бертрам имеет полное право отказаться от жены, которую король ему навязывает, чтобы сдержать свое обещание. Однако более темный мотив заслоняет собою только что упомянутое решение — сословный предрассудок. Бертрам смотрит на Елену свысока, потому что она не такого знатного происхождения, как он, хотя король, и придворные, и даже мать героя всецело признают ее достойной его. Но в характере Бертрама есть далеко не рыцарские, даже прямо низкие черты, которые гораздо больше унижают его в глазах зрителя. Он приказывает, например, через Пароля Елене придумать какой-нибудь предлог, который объяснил бы королю его внезапный отъезд. Он намерен покинуть Елену навсегда, хотя уверяет ее, что вернется через два дня. Он лжет. А его готовность жениться на дочери Лафе, когда получается известие о мнимой смерти Елены, является довольно неправдоподобным прологом к окончательному примирению парочки в конце пьесы. Это напоминает — в высшей степени невыгодным образом — аналогичную черту в комедии «Много шума из ничего». Но самый гнусный поступок с его стороны тот, что он накануне своего примирения с Еленой немилосердно лжет перед той итальянской девушкой, за которой ухаживал в Тоскане (это, кроме того, явная драматургическая ошибка). Подобно тому, как Шекспир придумал характер графини, чтобы устранить из своей пьесы все, напоминавшее роман с приключениями, и чтобы выставить нагляднее достоинства Елены — материнским отношением к ней матери Бертрама, так точно он присоединил фигуру Пароля, чтобы снять часть вины с головы Бертрама. Шекспир хотел дать понять, что герой находится под влиянием этого старого шута, отъявленного лгуна и труса (как его характеризует Елена), который играет в пьесе роль его злого демона.
Надо полагать, что в первой редакции «Вознагражденных усилий любви» Пароль исполнял роль забавной, комической персоны, был как бы робким эскизом Фальстафа. Однако рядом с последним он производит впечатление лишь слабой копии. Конечно, в этом не виноват поэт. Он был теперь слишком серьезен. Нравственное миросозерцание не позволяло ему больше увлекаться, как прежде, чисто комическими явлениями жизни. Пароль обладает всеми пороками Фальстафа и ни единой искрой его гениальности. Он не вызывает поэтому искреннего смеха. Поэт то и дело указывает на то нравоучение, которое мы должны вывести из его порочной жизни и позорною наказания. Когда Пароль дает с закрытыми глазами свои показания, обнаруживая при этом всю подлость своей натуры, один из придворных восклицает (IV, 3): «Теперь уж я никогда не буду верить человеку только ради того, что он держит в блестящей чистоте свой меч, и не буду думать, что в нем соединены все достоинства только потому, что он щегольски носит свое платье!» Так точно сам Пароль, потерявший свое обычное нахальство, восклицает:
…Если бы Я был гордец, все сердце у меня Разбилось бы. Теперь уж капитаном Не буду я; но стану пить и есть, И почивать так сладко и свободно, Как капитан. Мое простое я Мне даст чем жить. Кто ясно понимает, Что он хвастун — такого же конца Пусть ждет Одна всегда развязка с хвастунами: В конце концов они являются ослами.И другая комическая фигура пьесы, шут, не отличается при всем своем остроумии прежней, брызжущей через край веселостью ранних комедий. Иногда он выражается, правда, в юношески необузданном стиле первых комедий (мы говорили об этих местах по поводу первоначальной редакции), но как доморощенный юморист, он не выдерживает сравнения ни с живущим на свежем воздухе шутом Оселком, ни с придворным дураком в «Двенадцатой ночи», отличающимся музыкальными наклонностями.
Одно место в пьесе «Конец — делу венец» производило на меня всегда впечатление личной исповеди. Оно было, вероятно, включено во время переработки. Король говорит здесь о покойном отце Бертрама и приводит его собственные слова (I, 2):
Он говорил «Я умереть желаю!» В таких словах грусть тихая его Высказываться часто начинала, Когда мы с ним прощались, проведя Веселый час, — «я умереть желаю, Когда в огне моем не станет масла, Чтоб не служить для молодых умов Насмешкою. Ведь в гордом легкомыслии Они на все не новое глядят С презрением; все мысли их к тому Направлены, чтоб сочинять наряды, А твердость их быстрее всяких мод Меняется». — Такие он желанья Высказывал и, вслед за ним идя, Того же я желаю.Один из придворных возражает королю на эту пессимистическую тираду:
…Вы, государь, любимы, И даже тот, кто меньше всех других Привязан к вам, скорей, чем все другие, Почувствует разлуку с вами.На это король отвечает следующей скромной и вместе с тем гордой фразой:
Я вижу сам, что место занимаю, Не более.Так может говорить только человек, уже находящийся в зрелом возрасте и испытавший не раз критику этой молодежи, нетерпеливо спешащей занять его место.
Здесь, в этом настроении, пробивается робко наружу мысль о людской неблагодарности, которая вскоре поработит собой и воображение, и ум Шекспира.
Глава 46
«Мера за меру». — Анжело и Тартюф
В пьесе «Конец — делу венец» мы чувствовали затаенную полемическую тенденцию. Мы заметили здесь целый ряд выходок против все возраставшего влияния пуританства, против ханжества, нравственного ригоризма и против елейного лицемерия. То же самое тенденциозное настроение побудило Шекспира написать «Мера за меру». В пьесе «Конец — делу венец» перепетая обусловливалась тем популярным во всех литературах мотивом, что мужчина, не замечая своей ошибки, принимает во время ночного свидания одну женщину за другую. Несмотря на грубую неправдоподобность этого мотива, поэты часто пользовались им, так как на нем можно было построить целый ряд драматических положений. Неизменным вариантом к только что упомянутому сюжету служит во всех почти литературах следующая комбинация фактов: мужчина осужден на смерть. Его возлюбленная, или жена, или сестра умоляет судью о пощаде. Он соглашается с тем условием, если она проведет с ним одну ночь. Тем не менее, он казнит осужденного. Шекспир нашел этот сюжет, разработанный так часто поэтами, начиная средними веками и кончая новейшим временем, — последними вариациями на эту тему являются новелла Поля Гейзе «Грехи детей — проклятие родителей» и драма Викторьена Сарду «La Tosca», — в одной итальянской повести Джиральдо Чинтио в сборнике «Hecatomithi», изданном в 1565 г., затем в одной пьесе английского драматурга Уэтстона— «Верная, прекрасная и знаменитая история о Промосе и Кассандре», изданной в 1578 г. и построенной на упомянутой новелле, и, наконец, в прозаическом рассказе того же самого писателя, помещенном в его сборнике «Гептамерон учтивых разговоров», 1582. Но непосредственным источником Шекспира является безжизненная, лишенная характеров комедия Уэтстона, хотя кроме фабулы он ничего не заимствовал отсюда.
Шекспира привлекало к этому мрачному сюжету, по всей вероятности, негодование на показную, лицемерную нравственность, распространявшуюся все больше в области любовных отношений. Это было одним из следствий влияния пуританства на средний класс общества. В качестве актера и драматурга Шекспир имел полную возможность познакомиться с самой непривлекательной стороной пуританизма. Конечно, положительные стороны этого движения были достойны уважения даже такого человека, как Шекспир. Не было ничего странного в том факте, что независимые в своих взглядах и благочестивые люди искали душевного спасения вне англиканской, государственной церкви с ее тридцатью девятью параграфами. Не только духовные лица клялись строго придерживаться их, но и миряне должны были настолько им подчиняться, что предпочтение иного богослужения или отказ посещать церковь влекли за собой строгое наказание. Пуритане, думавшие вернуть церкви ее первоначальную чистоту и возвратившиеся после изгнания в царствование королевы Марии с идеалом народной церкви, не хотели признавать официальной, подчиненной во всем светской власти епископальной церкви. Некоторые пуритане усматривали в шотландском пресвитерианстве драгоценный образец и мечтали заменить и в Англии иерархическую аристократию епископов церковным управлением мирян или старшин общины.
Более радикальные из них шли еще дальше, отрицали вообще такие церковные учреждения, которые обязательны для всех, и мечтали о свободных общинах, где каждый мог быть священником. Здесь уже таились в зародыше те мотивы, которые привели в эпоху Кромвеля к расколу между пресвитерианцами и индепендентами.
По-видимому, эти религиозные и церковные движения совсем не интересовали Шекспира. Он столкнулся с пуританами только потому, что они в своей фанатической ограниченности нападали на искусство и преследовали любовную страсть. Пуританство показывало ему только лицо фарисейской, лицемерной морали. Негодование на эту показную добродетель и побудило Шекспира написать «Меру за меру». Он разработал этот сюжет во вкусе театральной публики, которая требовала во что бы то ни стало сочетания трагического с комическим. Но что за своеобразная комедия получилась от этого сочетания! Угрюмая, тяжелая, мрачная, как настроение самого поэта. В этой трагикомедии забавные сцены, написанные в более грубом и реалистическом стиле, чем все предыдущие пьесы, и изобилующие картинами из быта самых темных слоев общества, не могут смягчить угнетающего общего впечатления и чисто уголовного характера действия. Даже в тех местах, где брызжет юмор, чувствуется пламенное негодование Шекспира на лицемерие и ханжество: это как бы вулканическая подпочва выбрасывает один сноп огня за другим сквозь дымку водевильного настроения и сквозь неизбежные шутки.
Однако главный враг Шекспира в этой пьесе — не лицемерие.
Он теперь слишком опытный психолог, чтобы выводить с самого начала пьесы уже готовый, вполне сложившийся тип ханжи. Нет, поэт хочет показать, как слаб, в сущности, самый строгий фарисей, если подвергается соблазну, и как препятствие, на которое наталкивается его желание, превращает его сразу в совершенно другого человека, в зверя или негодяя, готового совершать поступки, гораздо более омерзительнее тех, которые он карает в других с гордо поднятой головой и чистой совестью. Собственно Шекспир хотел не заклеймить позорным клеймом типического представителя своих врагов, а вывести человека, далеко превышающего средний уровень обыкновенных людей.
Главным героем пьесы «Мера за меру» является строгий обличитель пороков, суровый и беспощадный цензор нравов, фанатик, мечтающий искоренить пороки, уничтожая их представителей, и воображающий реформировать общество, карая смертью сравнительно весьма невинные и естественные проступки против законов нравственности. Пьеса изображает нам этого человека в тот момент, когда он, охваченный чувственной страстью, совершает под личиной благочестия такой возмутительный и страшный проступок против истинной морали, что трудно подыскать для него достойной кары, трудно найти слова для выражения того омерзения, которое он вызывает в душе зрителя. Можно было бы предположить, что исход пьесы удовлетворит проснувшееся в его груди чувство справедливости. Но шекспировская труппа нуждалась в комедиях. Быть может, казалось также неблагоразумным слишком обострять вопрос о наказании, которое заслуживало бы лицемерие и ханжество. Поэт постарался поэтому развязать драматический узел на скорую руку, без всякого пафоса, вмешательством мудрого, всюду незримо присутствующего князя вроде восточного Гарунааль-Рашида. Впрочем, этот последний не очень разборчив в выборе средств. Он подменивает ловко, но несколько предосудительным образом, молодую женщину, являющуюся предметом страстных вожделений преступного судьи, прелестной девушкой, которой этот последний когда-то сделал предложение.
Герцог, желая испытать добросовестность своих подчиненных, отправляется в фиктивное путешествие из Вены. Он передает на время своего отсутствия бразды правления уважаемому и видному сановнику Анджело. Получив власть в свои руки, последний открывает настоящий поход против нравственной распущенности, царящей в городе, и первым делом уничтожает все публичные дома.
В более ранней пьесе Уэтстона, положенной Шекспиром в основание своей драмы, действовала целая компания сводень, проституток, содержателей и всевозможных прожигателей жизни. Шекспир сохранил только часть этой компании: сводню, несколько напоминающую Долли Тиршит, содержателя Помпея, фигуру в высшей степени забавную, и присоединил к ним остроумного гуляку и лгуна Луцио. Но самая оригинальная черта шекспировской драмы заключается в том, что герцог, одетый монахом, является с самого начала очевидцем того, как Анджело злоупотребляет своей судейской властью. Благодаря этому пьеса выиграла в том отношении, что зритель совсем не беспокоится насчет ее исхода. Затем присутствием герцога обусловливается также комическое положение Луцио. Он передает переодетому герцогу самые курьезные истории о нем же, но слышанные им будто бы от достоверных людей. Наконец, роль герцога в пьесе меняет радикально другую подробность сюжета. Изабелла не жертвует собой для брата, как в пьесе «Конец — делу венец», место ее заменяет другая женщина, имеющая на героя старые права. Таким образом смягчается угнетающее и возмутительное впечатление, вызываемое самим сюжетом.
Шекспир наделил одного из тех людей, которые были самыми жестокими противниками его искусства и его профессии, высшей властью, которой он пользуется, чтобы строго покарать безнравственность. Он вооружается первым делом против самого низкого беспутства и глубоко убежден, что искоренит его. В пьесе постоянно трунят над его самоуверенностью.
«Что же будет со мной?» — спрашивает Переспела. «Не беспокойтесь, — отвечают ей. — Хороший адвокат всегда найдет много клиентов». В первой сцене второго действия Эскал говорит:
Чем же ты хочешь жить, Помпей? Сводничеством? Что ты думаешь об этом занятии, Помпей? Дозволено ли оно законами?
Помпей. Дозволено, если оно не противно законам.
Эскал. Но оно им противно, Помпей, и не может быть допущено в Вене.
Помпей. Разве ваша милость думает сделать из всех молодых людей города меринов или каплунов?
Эскал. Нет, Помпей.
Помпей. Ну вот видите ли, ваша милость. Позвольте мне высказать вам мое скромное мнение: если только ваша милость будет держать в порядке молодежь, тогда сводень нечего бояться.
Так точно и Луцио шутит над строгостью Анджело, считая ее совершенно бесцельной (III, 3):
Луцио. Не мешало бы быть несколько терпимее к распутству. Он слишком брюзглив относительно этого пункта.
Герцог. Этот порок слишком распространился, и только строгость может его излечить.
Луцио. Я согласен, что у этого порока большие связи и знатное родство; но совсем искоренить его невозможно, тогда пришлось бы людям запретить пить и есть. Говорят, что Анджело произошел на свет не обыкновенным путем, — от мужа и жены. Правда ли это? Как вы думаете?
Не довольствуясь этой строгой мерой против легкомысленного распутства, Анджело пускает опять в ход старый закон, не применявшийся, по словам герцога, 14, а по свидетельству Клавдио–19 лет, закон, приговаривавший к смертной казни всех тех, кто, подобно Клавдио и Джульетте, жили в незаконном браке. Связь обоих молодых людей была самая невинная. Клавдио говорит (I, 2): Перевод Ф. Б. Миллера.
…Она Моя жена; не доставало только Формального обряда; мы его На время отложили, в ожидании Приданого, которое хранилось У близких и друзей моей Джульетты.Однако эти слова не приносят ему никакой пользы. Анджело намерен казнить его для примера. Тщетно добрый тюремщик выражает ему свое сочувствие (II, 2):
…Его проступок Не сроден ли всем возрастам равно? И умереть за это!Молодежь объясняет себе эту безрассудную строгость тем, что в жилах Анджело течет не кровь, а растаявший снег. Вскоре, однако, обнаруживается, что он вовсе не создан из льда.
Старый честный дворянин Эскал просит Анджело вспомнить, что, вероятно, его строгая добродетель никогда не подвергалась искушениям, что она, быть может, также не устояла бы перед ними. Но Анджело отвечает высокомерно: подвергаться соблазну и пасть — две вещи разные. И вот появляется Изабелла, сестра Клавдио, молодая, красивая, умная. Она молит о пощаде (II, 2):
…О, молю, Подумайте, кто до сих пор За этот грех был смертию наказан! А многие грешили.Но Анджело неумолим. Она обращает его внимание на то, что в высшей степени неблагоразумно так строго карать заблуждения любви:
О, если б все могучие могли Греметь, как Зевс, — он был бы оглушен Тогда бы самый жалкий судия Стал потрясать своим перуном небо И все бы лишь гремел. О Боже правый! Ты громовой стрелою разбиваешь На тысячи кусков могучий дуб Не мирту слабую.В следующих ее словах вы слышите явственно голос самого поэта:
…Но человек, Гордясь своим величием ничтожным, Забыв, что сам он хрупок, как стекло, Как гневная мартышка, перед небом Кривляется с таким ожесточеньем, Что плачут ангелы; но будь они Настроены, как мы — они б такому Безумию смеялись бы до слез.Она апеллирует к его собственному самосознанию:
…Спросите Вы собственное сердце — не живет ли В нем грех, подобный братнину?Вместо ответа Анджело дает ей приказание вернуться на следующий день. Как только она уходит, он высказывает в монологе свою отвратительную страсть, свое гнусное намерение заставить ее купить жизнь брата ценою собственного позора и, тем не менее, осудите его потом на смерть. Когда он делает ей свое мерзкое предложение, ей становится страшно. Как Гамлет, узнает она впервые, что такое жизнь, и видит, до чего может дойти подлость, раз она облеклась в мантию судьи.
Все это — ложь, коварное притворство! Он дерзкий плут в одежде благочестья. Подумай, Клавдио, когда б ему Свою невинность в жертву принесла я, Ты был бы жив!И Изабелла лишена даже возможности жаловаться. Анджело заявляет ей очень разумно, что никто ей не поверит. Его безупречная репутация, строгий образ жизни и высокий сан уничтожат самое смелое обвинение. Он чувствует себя в безопасности и поэтому вдвойне дерзок. Когда Изабелла обращается в конце пьесы к вернувшемуся герцогу, Анджело бесстрашно заявляет (V, 1):
О государь, она повреждена!А потом следует пламенный протест Изабеллы, вылившийся из самого сердца поэта:
Презреннейший злодей из всех на свете Казаться может скромным, честным, строгим, Как граф Анджело!Но этот протест не приводит сначала ни к какому результату. Изабеллу отводят в темницу за то, что она оклеветала благородного человека. И поэт сохраняет до конца свою ироническую точку зрения.
Герцог, переодетый монахом, испытал немало горького. Он понял, например, что на свете так мало честных людей, что существование человеческого общества может быть сохранено только с большим трудом. Когда он рассказывает в костюме монаха то, что ему пришлось видеть, то его собственные верные слуги хотят его бросить в темницу. Таким образом, никем не узнанный, герцог видел и узнал, что закон служит часто только ширмой для власти:
…Я в Вене. Я видел, как кипит здесь развращенье И хлещет через край. Закон есть Для каждого проступка, но они Терпимы так, что самые законы Соделались посмешищем для всех, Как вывески для брадобреев, Эскал. Правительство позорит он! В тюрьму!Драматургическое значение пьесы «Мера за меру» основывается исключительно на трех сценах: когда красота Изабеллы искушает Анджело, когда он ей делает свое гнусное предложение и, наконец, когда Клавдио выслушивает, сначала негодуя, готовый к самопожертвованию, известие о низости Анджело, но потом, не выдержав характера, начинает молить о пощаде. Вокруг этих главных эпизодов группируются прекрасные смело-реалистические или грубо-комические сцены, напоминающие Хогарта или Теккерея, и затем другие сцены, имеющие целью только затормозить драматическое колесо и которые отталкивают нас своей условностью.
Герцог позволяет себе, например, совершенно непозволительный эксперимент с Изабеллой, рассказывая ей в четвертом действии, что отрубленная голова ее брата уже послана Анджело. Поэт хотел таким образом усилить эффект последних сцен. Он заботился в этой неровно отделанной пьесе, по-видимому прежде всего о том, чтобы нанести удар ханжеству. Он пошел в этом стремлении так далеко, как только мог. От невинного осмеяния пуританства в лице Мальволио к его изображению в образе Анджело — гигантский шаг. Шекспир постарался, вместе с тем, получше укрепить свое собственное положение. Он придал сюжету характер комедии. Сначала угрожают Клавдио казнью, потом не без юмора грозят тем же бандиту Бернардино, голову которого хотят послать вместо головы Клавдио. Перед самой казнью разбойник даже появляется на подмостках, и зритель ожидает с волнением исполнения смертного приговора. Но потом все кончается благополучно. Решаются послать Анджело голову покойника. Далее прекрасной девушке угрожают бесчестием. Но другая девушка, заслужившая, несомненно, лучшую участь, Марианна, позволяет вместо нее обнять себя, — и эта опасность также миновала. И над головою негодяя Анджело спускаются черные тучи. Однако он также выходит невредимым: его обязывают только жениться на той, которую он раньше бросил.
Так улетучивается впечатление грозного протеста против ханжества и впечатление мрачного пессимизма, пробивающегося всюду наружу. Настроение, продиктовавшее поэту эту пьесу, было на самом деле глубоко пессимистическое. Когда герцог старается убедить Клавдио в том, что смерть не страшна (III, 1), он превосходит даже Гамлета своим презрением к жизни:
Ты — дух, подвластный переменам ветра, Который дом твой может сокрушить В одно мгновенье; ты — игрушка смерти, Ты от нее бежишь — и попадаешь Навстречу ей. И счастливой Назвать тебя нельзя, ты вечно мчишься За тем, чего тебе недостает, И презираешь то, чем обладаешь. В тебе нет постоянства: каждый месяц По прихоти меняешь ты свой вид. Богата ты, но вместе и бедна; Ты, как осел, под золотом сгибаясь, Несешь лишь день сокровище свое, А смерть его снимает У тебя Нет и друзей — и даже кровь твоя, Которая отцом тебя зовет, Клянет паршу, ломоту, паралич, Зачем тебя скорей они не кончат? Нет у тебя ни юности могучей, Ни старости — ты греза об обеих В тяжелом сне; цвет юности твоей По старчески живет и просит пищи У старости, параличом разбитой; А сделавшись и старым, и богатым, Теряешь жар желаний, силу, прелесть, Чтобы вполне богатством насладиться. Что ж у тебя останется? И это Мы жизнью называем? Эта жизнь В себе скрывает тысячи смертей, А мы боимся смерти, забывая, Что в ней конец противоречьям всем!Посмотрите, с каким искусством и как добросовестно подобраны здесь все те соображения, которые способны смутить и запутать здоровый жизненный инстинкт!
Поэт старался далее защитить свою моральную точку зрения. Кажется, ни в одной из своих пьес Шекспир не подчеркивал так преднамеренно мораль драмы, притом в словах очень мало гармонирующих с характером действующих лиц. Обратите, например, внимание на монолог герцога, заканчивающий собою третье действие:
Кому Господь вручил небесный меч, Свят должен быть и честь свою беречь; Пример другим, ведя их за собою, Идти он должен твердою стопою. Он мерить должен мерою одной Как их вину, так и проступок свой. Позор тому, кто смертию карает Порок, который сам в душе питает Стыдись, Анджело, ты казнишь порок, Который заглушить в себе не мог.Поэт указывает очень настойчиво на то, что князья подвергаются чаще других людей непониманию, презрительной оценке и клевете. В конце третьего действия герцог восклицает:
И власть и сан — ничто не сохранит От жала клеветы; оно язвит Чистейшую невинность, даже трон От ран ее опасных не спасен!Или в другом месте:
Величие и власть! Мильоны глаз На всех устремлены; вслед ваших дел Несется гул ничтожной болтовни, Исполненной противоречий ложных, И тысячи язвительных насмешек Вас делают творцами слов своих, Бессмысленных и пошлых, истязая Вас до конца в фантазии своей.В этих намеках на безрассудную критику подданных нас поражает особенно то обстоятельство, что поэт ищет постоянно защиты за спиною государя, т. е. Иакова I, только что вступившего на престол и сразу возненавидевшего при своем отрицательном отношении к шотландскому пресвитерианству английское пуританство. Вот почему поэт заявляет неоднократно, что все грехи достойны прощения, исключая клеветы на государя.
Из всех действующих лиц только один Луцио должен подвергнуться наказанию, он, который так забавно обманывал государя и наговорил ему в шутку так много злых колкостей. Зритель убежден до конца пьесы, что он будет приговорен к истязанию кнутом и повешению, даже в тот момент, когда он получает приказание жениться на женщине легкого поведения, дабы веселое настроение, вызываемое пьесой, не нарушилось, причем поэт настойчиво заявляет, что он, собственно, заслужил вышеупомянутую кару. Герцог начинает заключительную реплику словами:
Ты этого достоин за хулу на государя!Здесь Шекспир высказывает то же мировоззрение, которое 60 лет спустя высказывает Мольер в последней сцене «Тартюфа», где государь является совершенно в духе теории Иакова — воспитателем своего народа. Отсутствие короля в Лондоне во время чумы как бы извиняется в виду той полезной деятельности, которую обнаруживает здесь в пьесе герцог в продолжение своего мнимого отсутствия. Никто другой, как он, разоблачает ханжу, которому врожденная гнусность и дерзость давали такое превосходство над другими. Таким образом, апелляция к государю в пьесе «Мера за меру» вполне соответствует большой реплике в «Тартюфе», которая вводит личность государя как некоего deus-ex-machina и освобождает грудь зрителя от угнетающего кошмара:
Nous vivons sous un, prince, ennemi de la fraude. Un prince dont les yeux se font jour dans les coeurs Et que ne peut tromper tout Г art des imposteurs.Дело в том, что в XVII в. государи еще являлись защитниками искусства и его служителей против нравственного аскетизма и религиозного фанатизма.
Глава 47
Восшествие на престол короля Иакова и королевы Анны. — Судьба Рэлея. — Труппа Шекспира получает звание актеров короля. — Шотландское влияние
Читая пьесу «Мера за меру», вы чувствуете не только по общему настроению, но и в отдельных, определенных местах, что ее возникновение совпало с восшествием на престол короля Иакова в 1603 г. В первой сцене встречается намек на страх нового государя перед большими народными сборищами, возбудивший во время его английского путешествия столько недовольства и удивления. Здесь в драме этот страх истолковывается самым лестным для короля образом. Герцог восклицает:
Я еду тайно. Я люблю народ мой, Но не хочу являться перед ним. Хотя восторг и возгласы его Все от души. Но мне они противны, И не считаю умным я того, Кто любит их.И если Анджело порицает в четвертой сцене второго действия народ за то, что он обыкновенно толпами сопровождает своего государя, считая этот обычай непростительной назойливостью, то эти слова содержат опять-таки намек на ту же самую боязнь короля:
Так глупая толпа теснится вкруг Лишенного сознанья и, желая Помочь ему, спирает только воздух; Так скопище народа, покидая Занятия свои, бежит туда, Где их монарх любимый показался, И так шумит, что взрыв любви нелепый Покажется обидой.24 марта 1603 г; Елизавета, скончалась.
Лежа на смертном одре и потеряв способность говорить, она руками описала вокруг головы фигуру короны, как бы желая этим сказать, что избирает своим наследником коронованную особу Долго уже ее министры находились в тайных сношениях с шотландским королем Иаковом I. Они обещали ему английский престол вопреки завещанию Генриха VIII, лишившего шотландских потомков его старшей сестры всяких прав на наследство. Однако этот пункт завещания можно было игнорировать. Никто из представителей младшей линии не пользовался достаточной популярностью, чтобы выступить претендентом. Кроме того, все прекрасно понимали, как выгодно было слияние шотландской и английской корон. Ведь оба государства давно ухе враждовали друг с другом. Все партии соглашались с министрами, что лучшим наследником будет Иаков. Протестанты доверяли ему, так как он сам был протестантом. Католики возлагали на него надежды, так как он был сыном католической мученицы. Пуритане думали, что миролюбивый король внесет такие изменения в установившийся кодекс богослужения, которые позволят им, без вреда для их душевного спасения, принимать в нем участие Словом, на Иакова возлагались самые блестящие надежды.
Едва только Елизавета закрыла глаза, как один облагодетельствованный ею вельможа, сэр Роберт Кэри, желая заручиться расположением нового короля, бросился на коня, — на каждой станции его ожидала свежая лошадь — чтобы первым известить Иакова о его избрании. Дорогой он упал с лошади и получил ушибы головы. Однако вечером 26 марта он прибыл в эдинбургский дворец. Король только что лег спать. Кэри тотчас привели в его спальню, он опустился на колени и приветствовал Иакова — королем Англии, Шотландии, Ирландии и даже Франции «Иаков, — писал Кэри, — дал поцеловать свою руку и обещал в благодарность чин камергера», что ему не помешало забыть свое обещание, как только он вступил на английскую почву. В Англии все давно приготовились к этому событию. Еще при жизни Елизаветы Сесиль составил прокламацию и послал ее в Шотландию, где ее одобрили. Теперь, через несколько часов после кончины королевы, первый министр прочел ее от имени Иакова в собрании государственного совета и высшего дворянства, при большом стечении публики и при кликах всеобщего одобрения. Когда три герольда, сопровождаемые трубачом, повторили прокламацию в Тауэре, все заключенные возликовали, и «особенно обрадовался граф Саутгемптон» И не без основания. Одним из первых желаний Иакова было приказание послать верхового к лорду Саутгемптону с известием, что король желает его присутствия во время путешествия в Лондон, где должна была совершиться коронация.
5 апреля 1603 г новый английский король покинул Эдинбург, чтобы принять власть над государством в свои руки Шествие двигалось медленно. Каждый дворянин и джентльмен, мимо дома которого проезжал король, приглашал его к себе Иаков не отказывался ни от одного предложения, проводил все дни в удовольствиях и благодарил за гостеприимство раздачей несметного количества рыцарских титулов. Впрочем, один из его поступков возмутил всех. В Йорке король велел повесить без следствия и суда карманника, уличенного на месте преступления. Негодование народа доказало ему, что нельзя игнорировать так бесцеремонно английские законы. В Шотландии народ мечтал о сильной монархии, способной обуздать дворянство и духовенство. Но в Англии это время давно прошло, и потомкам Иакова пришлось горько расплатиться за свои попытки продолжить на английской почве традиции самодержавия. Короля приветствовали с той наивной, бескорыстной радостью, с которой многочисленное народонаселение любит встречать нового, совершенно неизвестного монарха, и с той более эгоистической и льстивой преданностью, с которой ухаживают за ним люди, приходящие с ним в соприкосновение.
Внешность короля Иакова не была особенно симпатична. Он был совершенно лишен царственного величия. Многие сомневались, не без основания, что этот невзрачный и неуклюжий человек был сыном очаровательной Марии Стюарт и красавца Генри Дарнлея. Хотя он был немного выше среднего роста, однако его фигура была неграциозна, голова — толста, глаза — выпучены. Он говорил на грубом шотландском наречии и скорее выплевывал, чем произносил слова. Он говорил так быстро, что слова спотыкались друг о друга. Он говорил, ел и одевался, как крестьянин. Он любил, несмотря на свой строгий образ жизни, даже в присутствии дам, цинические, непристойные разговоры. Он ходил так, как будто не владел своими членами. Он не мог стоять спокойно на одном месте, а ходил обыкновенно взад и вперед неверными, неуклюжими шагами. Он закалил свое тело постоянными охотами и верховой ездой, но в манерах его не было ни тени достоинства. Он страшно боялся всякого оружия. Быть может, испуг матери, которая носила его под сердцем, когда в ее присутствии убили Риччо, был причиной этой боязни. Суровое воспитание увеличило его врожденную робость. Французский посланник, видевший его юношей, выразился о нем таким образом: «Это старый молодой человек!» Теперь Иакову было 36 лет. Это был в полном смысле ученый педант, не лишенный ни ума, ни остроумия, но исполненный предрассудков. У него были две страсти. Он любил беседовать на богословские и церковные темы и охотиться иногда дней шесть подряд. Он не обладал политическими способностями Елизаветы. В ее совете заседали представители самых противоположных партий. Он, напротив, приглашал только тех, которые были с ним одного мнения. Но его тщеславие ничем не уступало тщеславию королевы. Он любил хвастаться, как все педанты. Он утверждал, что в один час он может сделать больше, чем другие в целый день. Он особенно гордился своей ученостью. Некоторые шекспирологи видели в нем, как было упомянуто, первообраз Гамлета. Нет, он никогда не был Гамлетом. Он походил в гораздо большей степени, по меткому выражению Альфреда Штерна, на Полония в королевской мантии.
До нас дошло описание одной аудиенции у Иакова I, сделанное в 1607 г. сэром Джоном Харрингтоном. Король устроил ему форменный экзамен (невольно вспомнил он поэтому студенческие экзамены в кембриджском университете); приводил изречения Аристотеля, которых сам, по-видимому, не понимал; попросил затем Харрингтона продекламировать одну из песен поэмы Ариосто; спросил далее, в чем состоит истинное остроумие и кому оно особенно идет, и поставил, наконец, ряд следующих вопросов: не следует ли королю быть первым ученым своей страны? велико ли могущество дьявола, и почему дьявол воплощается с особенной охотой в старухах? На этот последний вопрос сэр Джон ответил юмористически, ссылаясь на Новый Завет, где злым духам приписывается особенное тяготение ко всему сухому. Король рассказал затем, что после смерти его матери в Шотландии люди видели окровавленные, пляшущие в воздухе головы, и заключил свою речь словами: «Сэр, вы видели доказательства моего ума. Если я замечу в ваших суждениях недостатки, я постараюсь их искоренить!» Кроме короля Иакова только еще один европейский государь гордился в такой степени своим всеведением.
В царствование Елизаветы отношения между Иаковом и Англией не были особенно хороши. Ненавидя клерикальных пресвитерианцев, которые вмешивались во все государственные дела, Иаков призвал в 1584 г. на помощь себе и матери римского папу, что не мешало ему уже в следующем году заключить за большую ежегодную субсидию союз с Елизаветой; когда в 1586 г. этот договор был окончательно утвержден, Мария Стюарт лишила его наследства и избрала своим преемником Филиппа II. Как раз во время процесса Марии Стюарт Иаков хлопотал о своем назначении наследником английского престола.
Это недостойное и совершенно не рыцарское поведение лишило его с самого начала права протеста против приговора английского правительства. Тем не менее казнь матери потрясла его. Чтобы отомстить Елизавете, он поспешил жениться против ее желания на датской принцессе Анне, дочери Фридриха II. Благодаря этому браку Дания отказалась от своих притязаний на Оркнейские острова.
Невеста короля, родившаяся в 1574 г. в Скандерборге, была пятнадцатилетней хорошенькой девушкой с белоснежным лицом и золотистыми волосами. Дочь лютеранина и лютеранки, Софии Мекленбургской, она воспитывалась в строго протестантском духе, слушала лекции химии у знаменитого Тихо Браге и была в высшей степени избалована. Ей постарались внушить самые высокие представления о датском королевском доме; вследствие этого она разделяла впоследствии взгляды супруга на монархическую власть. Она отличалась большим юмором и веселым остроумием, но, в сущности, была очень поверхностна и даже просто легкомысленна. Через три года после свадьбы она подала своим поведением повод к скандалу. Общественное мнение обвиняло Иакова — впрочем, неосновательно — в убийстве графа Моррея. Утверждали, что король был заинтересован в этом убийстве.
Известно, какие препятствия затянули приезд Анны в Шотландию, последовавший, наконец, в 1590 г. Буря отнесла корабль невесты к городу Осло в Норвегии. Виновниц этой бури усмотрели в чарах датских и шотландских ведьм, которые в количестве около двухсот и были преданы сожжению. Нетерпеливый жених совершил при этом случае свой единственный романтический подвиг. Он сел на корабль с намерением отыскать свою невесту, застал ее в Осло, обвенчался с ней в этом местечке и провел зиму в Дании. Сделавшись шотландской королевой, Анна обнаружила такую же страсть к красивым постройкам, какую питал ее брат, Христиан IV. А сделавшись потом английской королевой, она возмущала всех своим кокетничаньем с римским католицизмом. Папа присылал ей всевозможные католические подношения; их перехватывали и отсылали обратно, а послов сажали в Тауэр. Она обнаружила много смелости и симпатичности, принимая теплое участие в судьбе Рэлея, брошенного Иаковом в темницу, но она была в общем ничтожна, любила удовольствия и роскошь, протежировала поэтам, писавшим, подобно Бену Джонсону, «маски» для придворных увеселений, и отличалась, в противоположность экономной Елизавете, такой расточительностью, что была всегда кругом в долгах. Она едва успела приехать в Англию, как уже задолжала громадную сумму ювелирам и другим купцам.
Вскоре новый король обманул надежды, возлагавшиеся пуританами и католиками на его веротерпимость. Когда он путешествовал из Эдинбурга в Лондон, диссиденты подали ему многочисленные прошения об улучшении своего положения. Он давал всем, по-видимому, самые блестящие обещания. Но уже в 1604 г., во время одного собрания в замке Гемптон-Корт, он порвал окончательно с пуританами: одно слово «пресвитер» приводило его в бешенство. Хотя не он придумал формулу «No bishop, no king» (нет епископа — нет и короля), но она прекрасно выражала его мировоззрение. Так как нижняя палата сочувствовала этим петициям, то Иаков обругал ее хвастливыми и площадными словами и распустил парламент. Он жаловался, что, в Англии все только то и делают, что критикуют его предначертания, тогда как в Шотландии он был не только королем, но и советчиком; там одобряли все, что предпринималось по его инициативе, а здесь он находится под каким-то вечным подозрением и т. д. Пуританские священники, не желавшие подчиняться английскому ритуалу, теряли свои места.
Самая характерная сторона в политике короля заключалась в его настойчивом стремлении к заключению и сохранению мира с Испанией. Он еще не успел вступить в Лондон, как издал приказ прекратить военные действия, а в 1604 г. он заключил с этой страной мир. Если он относился так враждебно к Рэлею, то одной из причин являлась, без сомнения, ненависть последнего к Испании и его протест против этого мира. Так как Рэлей все стоял за войну, то негодование Иакова возрастало. Но существовали также более личные мотивы. Рэлей был фаворитом Елизаветы. В 1607 г. он поднес ей политический трактат, озаглавленный «Опасности, грозящие нам от испанской партии в Шотландии». Узнав содержание этого сочинения из неверных источников, Иаков до того перепугался, что предложил Елизавете вспомогательный отряд в 3000 человек для войны с Испанией.
Рэлей был противником Эссекса, связавшего свою судьбу с судьбой шотландского короля. Затем Рэлей имел, сам того не замечая, опасного противника в лице Роберта Сесиля. Этот последний был, правда, еще более страстным врагом Эссекса, чем Рэлей, но он успел еще при жизни королевы уверить Иакова в своей безусловной преданности. Роберт Сесиль опасался честолюбия и способностей Рэлея. Когда королева умерла, он находился на западной окраине Англии. Он не мог поэтому отправиться к северу, навстречу королю, чтобы участвовать в коронационном шествии, привлекшем к себе в Лондон дворянство.
Когда Рэлей двинулся потом с большой свитой навстречу королю, он получил почти что приказ остаться дома. Дело в том, что Иаков вручил Сесилю бланки с просьбой отметить на них имена тех лиц, которых он, по его мнению, не должен принимать. Такой бланк освобождал от обязанности ехать королю навстречу. Иаков встретил Рэлея холодно. Он сказал ему плохим каламбуром, что слышал о нем много нелестного (On my sool, man, I have heard but rauly of thee). Несколько недель спустя он отнял у Рэлея чин и место капитана гвардии, которые передал шотландцу Томасу Эрскину. Еще несколько недель спустя Рэлею было приказано сдать свою казенную квартиру в Лондоне дургемскому епископу, а он потратил на нее большие деньги.
Наконец, однажды в июле месяце 1603 г., в тот самый момент, когда Рэлей намеревался совершить прогулку верхом вместе с королем, его арестовали как государственного изменника. То было начало целого ряда жестоких поступков по отношению к одному из замечательнейших людей, сделавшему так много для Англии. А его концом было настоящее убийство. В 1618 г. Рэлей с редким мужеством положил свою голову на плаху, после того как он произнес самую прекрасную речь, когда-либо произнесенную со ступеней эшафота.
Нам теперь совершенно непонятно, как человек с такими громадными заслугами мог быть в Англии самым ненавистным человеком. В наших глазах Рэлей является — по меткому выражению Гардинера — тем деятелем, который обладал более широкими способностями, чем все члены государственного совета вместе взятые, или той личностью, которая играла ту же роль на поприще активной деятельности, какую играл Шекспир в области фантазии, а Бэкон в сфере отвлеченной мысли. Но в момент своего ареста Рэлей действительно был предметом всеобщей ненависти. Многие ненавидели в нем врага Эссекса. Молва гласила, что Рэлей издевался над Эссексом в его предсмертный час. В 1618 г. сам Рэлей писал по этому поводу: «Говорили, что я преследовал лорда Эссекса, утверждали, будто я спокойно курил свою трубку, когда он всходил на эшафот. Но я призываю Бога в свидетели, что я плакал, когда он умирал. Я принадлежал, правда, к противной партии, но я знал, что он был благородный человек. Те, которые натравили меня на него, преследовали впоследствии меня самого» (очевидно, намек на Сесиля).
Обвинение, которое было совершенно безосновательно, встретило, однако, сочувствие. Рэлея возненавидели также за другие, еще более безрассудные мотивы. Из одного письма Рэлея, написанного в последние дни царствования Елизаветы, видно, что все содержатели гостиниц обвиняли его в введении нового налога, который был в действительности делом самой королевы, жадной до денег В этом письме он просит Сесиля побудить Елизавету отменить упомянутый налог «Иначе я не могу жить», — говорит он. — «Я не могу показаться на улице, не могу проезжать через те города, где много гостиниц!» Словом, причиной всеобщей ненависти было величие этого человека, сознавшего вполне свою цену и незнакомого с лестью и низкопоклонством. Правда, высокая, крепкая, несколько сутуловатая фигура Рэлея, здоровый цвет его лица и открытое выражение должны были невольно привлекать к себе и располагать к нему народ. Но как истинный сын Ренессанса он возмущал своей гордостью, своей страстью к роскоши. Он тратил громадные деньги на наряды и любил украшать себя с ног до головы драгоценными камнями, подобно персидскому шаху или индийскому радже. Когда его арестовали в 1603 г. на нем нашли на 4000 фун. бриллиантов; когда он был арестован окончательно в 1618 г., его карманы были переполнены алмазами и другими драгоценными камнями, которые он впопыхах сорвал со своего наряда. Но подчиненные обожали его. Они ценили его сердце, ум и энергию. С другой стороны, толпа, которую он презирал, и царедворцы, с которыми он соперничал из-за благосклонности Елизаветы, называли его бесстыдным нахалом. Они сумели добиться того, что Рэлею при всех его успехах и заслугах не доверили место главнокомандующего, даже место командира морских сил, которые он так прославил. В последние годы царствования Елизаветы он мечтал сделаться членом государственного совета, но его желание не было удовлетворено.
Теперь ему было пятьдесят с лишним лет. Он преждевременно состарился. При открытии католического заговора Уотсона был заподозрен один из ненадежных друзей Рэлея, лорд Кобгем, а потом подозрение пало на самого Рэлея: его обвинили в том, что он думал низложить короля и возвести на престол Арабеллу Стюарт, другими словами, его обвинили в государственной измене.
Каждый, заподозренный тогда в этом преступлении, погиб бы неминуемо даже в том случае, если был в действительности неповинен. «Столетие спустя, — говорит Гардинер, — приведенные улики вызвали бы на лице Рэлея только улыбку». Но в то время законы были жестоки и несправедливы. Обвиняемый считался виновным до тех пор, пока не докажет свою невинность. Никто не имел права быть его адвокатом. Без всякой подготовки, в самый короткий срок он должен был опровергать обвинительный акт, на составление которого было потрачено много времени и труда. Рэлея обвиняли также в намерении облегчить испанским войскам высадку на английский берег. Этого обвинения было вполне достаточно, чтобы сделать его антипатичным человеком. Совершенно естественно, что Рэлей сделал, через несколько дней после обнародования обвинительного акта, попытку покончить с собою. Знаменитое письмо, отправленное им накануне покушения жене, выражает как нельзя лучше отчаяние великого человека, который мог бороться с судьбой, но не победить ее.
Когда в Тауэре разыгрывалась эта драма, Лондон готовился к торжественному въезду короля и королевы. Было выстроено семь великолепных триумфальных арок. «Английский Цезарь» — так напытпенно величал Иакова Генри Петоу в своей коронационной прокламации — был встречен поэтами с таким восторженным ликованием, как будто он совершил в действительности подвиги Цезаря. Генри Четтль пишет «Весеннюю песенку пастуха по поводу въезда нашего могущественного государя, короля Иакова», Самуэль Дэниель — «Приветственный панегирик его величеству», Михаил Дрейтон — «Поздравительное стихотворение королю Иакову». Актер Томас Грин сочиняет «Видение поэта о славе государя, посвященное Иакову, высокому и могучему королю Англии, Шотландии, Франции и Ирландии». Еще полудюжина других поэтов присоединились к ним. Дэниель написал «маску», поставленную в Гемптон-Корте; Деккер описал в форме поэтического диалога въезд короля. Нечто подобное написал также Бен Джонсон. Потом Дрейтон сочинил торжественный пеан, а Бен Джонсон две «маски» — «Пенаты» и «Черные».
В этом приветственном хоре почти совершенно исчезали те немногие, слегка льстивые намеки на Иакова, которые мы нашли в драмах Шекспира из этого периода и скоро опять встретим. Если бы поэт воздержался совсем от этих намеков или выражал бы их менее почтительно, то такое поведение было бы бессмысленной демонстрацией против тех милостей, которыми Иаков сразу осыпал шекспировскую труппу. В высшей степени любопытно прочесть в наше время программу королевской процессии из Тауэра в Уайтхолл, в которой участвовали все сановники и весь двор, дворянство, духовенство и гвардия. В самой середине шествия под балдахином едет верхом король. Впереди — герцоги, маркизы, старшие сыновья герцогов, графы и т. д. Позади — королева со знатнейшими дамами, герцогинями, маркизами, графинями, виконтессами и т. д. В списке дам значится также — «по высочайшему приказу» — леди Рич. Примечание под текстом гласит, что эта дама присутствует здесь в качестве дочери Генри Боурчера, графа Эссекса. Иаков желал в ее лице почтить казненного брата. Почетное место в процессии занимал также Френсис Бэкон, «юрисконсульт его величества». Он подходил как своей ученостью, так и своими царедворческими манерами как нельзя лучше к педантичному и высокомерному королю. А впереди шествия, вслед за герольдами и слугами наследного принца и королевы, среди слуг короля (king servants) ехал в красном кафтане, сшитом, по свидетельству придворных приходо-расходных книжек, на казенный счет Вильям Шекспир.
Иаков страстно любил театр. В Шотландии не было ни театра, ни актеров. В 1599 г. он энергично протестовал против намерения пресвитерианского совета запретить представления английских актеров.
17 мая 1603 г. он принял труппу лорда-камергера под свое покровительство и выдал патент «Лоренсу Флетчеру, Вильяму Шекспиру и другим актерам». Если имя Лоренса Флетчера стоит на первом месте, то этот факт позволяет нам судить о мотивах, руководивших при этом королем.
Из регистров шотландского города Абердина явствует, что труппа актеров, гастролировавшая здесь, получила по особенной благосклонности короля денежное вознаграждение, и что один из актеров, именно Лоренс Флетчер, был включен в число граждан и в списки гильдейских членов. Чарльз Найт, без сомнения, прав, утверждая, вопреки возражениям Эльце, что этот Флетчер был родом англичанин и находился в дружеских сношениях с Шекспиром. Дело в том, что актер Августин Филиппе, завещавший в 1605 г. 30 шиллингов золотом «своему другу» Вильяму Шекспиру, назначил 20 шиллингов другому своему товарищу — Лоренсу Флетчеру.
7 мая 1603 г. Иаков прибыл в Лондон.
13 числа того же месяца он покинул столицу, где свирепствовала чума, и переехал в Гринвич, где подписал упомянутый патент. Не следует, однако, думать, что труппа лорда-камергера гастролировала перед королем в тот промежуток времени, который лежал между его прибытием в Гринвич и выдачей патента; что король, восхищенный ее игрой, назначил ее своей придворной труппой. Такое предположение было бы нелепо. Иаков знал эту труппу, вероятно, уже раньше. Быть может, она находилась у него на службе уже в то время, когда он был еще только королем Шотландии. Тогда понятно, почему эта труппа играла осенью 1601 г в городе Абердине. Очень вероятно, что Шекспир и его товарищи побывали в Шотландии. По крайней мере поэт говорит в «Макбете» не о луге, лежащем, по словам Холиншеда, близ Ивернеса, а о пустыре, находящемся в самом деле около этого места. И другие, частые намеки на шотландские бытовые подробности доказывают, что сама Шотландия навеяла поэту мысль о трагедии.
Кто знает, быть может эта пьеса носилась перед внутренним взором Шекспира уже тогда, когда он принимал участие в коронационной процессии, в красном украшенном королевским гербом кафтане.
Глава 48
«Макбет». — «Макбет» и «Гамлет». — Состояние текста затрудняет критику
Если бы Шекспир умер сорока лет, говорит где-то Дауден, то потомство сказало бы, что это, конечно, великая потеря, но оно нашло бы себе утешение в мысли, что с «Гамлетом» он достиг вершины своего творчества, так как едва ли мог бы создать что-нибудь равное ему по значению.
А между тем один за другим появляются теперь «Макбет», «Отелло», «Король Лир», «Антоний и Клеопатра» и т. д. «Гамлет» был не заключением поприща поэта; «Гамлет» был летучим мостом, по которому он перешел в совершенно новый мир мрачных тайн. Дауден метко сравнил ряд трагических образов, мелькающих перед глазами Шекспира между 1604 и 1610 г., с кровавыми и грозными видениями, проносящимися перед взорами Макбета в зеркале ведьм.
В юности Шекспир имел свойственную молодежи склонность всюду видеть добро и даже в самом зле усматривать нечто доброе. Вместе со своим героем, королем Генрихом V, он думал, что во всех злых вещах есть крупица добра. Теперь, когда все бедствия земной жизни и несчастье как проблема встали перед его внутренними очами, теперь злоба как сила выступила прежде всего другого перед ним во всей своей характерной мощи. Мы следили за размышлениями о ней в «Гамлете» и «Мере за меру». Правда, Шекспир и раньше занимался этой темой и изобразил ее тогда в крупнейшем стиле, но в «Ричарде III» центр тяжести еще покоился на внешней истории; Ричард был все тот же с первого своего выхода и до последнего. Теперь же Шекспиром овладевает желание проследить, каким образом личность, в жилы которой злоба впрыснула несколько капель своего яда, портится, извращается, доходит до саморазрушения или уничтожения, как Макбет, Отелло, Лир. Честолюбие леди Макбет, зависть Яго, неблагодарность дочерей Лира влекут за собой ряд действий, представляющих в своем итоге непреодолимо растущее несчастье.
«Макбет», по моему убеждению, это тот сюжет, за который Шекспир берется теперь прежде всех других тем. Правда, единственное, что мы достоверно знаем об этой пьесе, это что она игралась в 1610 г. в театре «Глобус». Д-р Саймон Форман в своих мемуарах «Книга о пьесах и замечания о них» пространно описал представление «Макбета», на котором он присутствовал 20 апреля означенного года. Но уже в комедии «Пуританка» от 1607 г. есть несомненное указание на тень Банко и намек, встречающийся в «Макбете» (IV, 1) в строках:
Он с зеркалом, и в нем я вижу цепь Корон и лиц со скипетром двойным, С тройной державою[17]… —намек на соединение двух королевств, Англии и Шотландии, и их слияние с Ирландией при короле Иакове мог произвести сильное впечатление лишь в том случае, если бы он прозвучал со сцены вскоре после этого события. Так как Иаков был провозглашен королем Великобритании и Ирландии 20 октября 1604 г., то «Макбет» едва ли возник позднее 1604 или 1605 г.
С восшествием на английский престол Иакова в английскую жизнь проникает веяние из Шотландии, и в «Макбете» мы дышим шотландским воздухом. Трагедия происходит в стране, откуда явился новый король, и в высшей степени правдиво описаны в этой мрачной драме степи, леса и замки Шотландии, ее страсти и ее поэзия.
Многое указывает на то, что один и тот же полет мысли перенес Шекспира от «Гамлета» к «Макбету». Макбет, как личность, есть своего рода контраст Гамлету. Датский принц — страстная, но тонкая и вдумчивая натура; до убийства, которое носится перед его внутренними очами, он полон тревоги, он осыпает себя упреками, он бичует себя, но он ни на миг не испытывает ни малейшего раскаяния в каком-либо из совершенных им убийств, а между тем, прежде чем убить короля, он убивает четырех людей. Шотландский тан — грубый, простой воин, человек дела, разящий после короткого раздумья, но тотчас же после убийства подпадающий под власть зрительных и слуховых галлюцинаций и затем — неудержимо и нерешительно, как в бреду — переходящий от злодейства к злодейству. Он заглушает в себе голос самообвинения и под конец изнемогает, защищаясь с отчаянным бешенством, как прикованный к столбу медведь. Гамлет говорит:
Так блекнет в нас румянец сильной воли, Когда начнем мы рассуждать…Макбет совсем наоборот (IV, 1):
Отныне сердца первенец да будет И первенцем моей руки. Сейчас же Венчаю мысль короной исполненья.Это два противоположных полюса: Гамлет— мыслитель, Макбет полководец, «любимец Беллоны». Гамлет— человек высокообразованный; он в избытке обладает умственной мощью; его сила — та сила, которая носит маску; он виртуоз в искусстве притворства. Макбет отличается естественностью, присущей неуклюжести, — естественностью, выдающей себя, когда она хочет обмануть. Его жена должна просить его, чтобы он не смотрел так растерянно, а принял бы наружный вид, способный ввести других в обман.
Гамлет— аристократ, весьма гордый, весьма уверенный в своем достоинстве, весьма строго относящийся к самому себе, слишком строго, чтобы быть честолюбивым в том смысле, в каком это слово понимается толпой. Для Макбета, наоборот, слава — это громкий титул, величие — венец на голове, корона на челе. Когда ведьмы в степи и другая ведьма, его жена в замке, обратили его взоры на блеск короны и могущество скипетра, тогда он нашел свою великую цель, верный выигрыш для этой жизни, ради которого он охотно ставит на карту свое благополучие в жизни будущей. Между тем как Гамлет, при своем наследственном праве на престол, не желает и подумать о самом престоле, который у него похищен, Макбет убивает своего короля, своего благодетеля, своего гостя, чтобы отнять у него и его сыновей трон под пурпурным балдахином.
И все же между Макбетом и Гамлетом есть сходство. Мы чувствуем, что эти трагедии написаны непосредственно одна за другой. В своем первом монологе (I, 7) Макбет стоит в нерешимости, преследуемый сомнениями Гамлета:
Удар… один удар… будь в нем все дело, Я не замедлил бы. Умчи с собою Он все следы, подай залог успеха, Будь он один начало и конец. Хоть только здесь, на отмели времен, За вечность мне перелететь нетрудно. Но суд свершается над нами здесь.Гамлет говорит: если бы мы были уверены в том, что нет загробной жизни, то стали бы искать смерти. Макбет думает: если бы мы не знали, что суд свершается уже здесь, то не стали бы заботиться о будущей жизни. Это противоречие при сродном характере размышления. Но Макбета это размышление не останавливает. Он вонзает, как сам говорит, шпоры честолюбия в бока своей воли, прекрасно зная, что она сделает слишком большой скачок и упадет. Он не может противиться, когда его подстрекает более сильное существо, чем он, когда его подстрекает женщина.
У него есть фантазия, как и у Гамлета, но несравненно более пугливая и ясновидящая. Гамлет, увидев тень своего отца, сначала не находит в этом ничего изумительного; другие видели ее раньше его и видят ее одновременно с ним. Макбету часто являются призраки, которых не видит никто другой, и часто чудятся голоса, которые никому другому не слышны.
Когда он принял решение умертвить короля, он видит в воздухе кинжал:
О! — Это что? — Кинжал? И рукояткою ко мне? — Возьму. Ты не даешься и не исчезаешь! Так ты неуловим? Так ты доступен Одним глазам — виденье роковое? Кинжал — мечта, дитя воображенья, Горячки, жгущей угнетенный мозг?После убийства тотчас же следует галлюцинация страха:
…Я слышал, Раздался страшный вопль: Не спите больше! Макбет зарезал сон…И весьма знаменательно, что Макбет слышит, как этот самый голос называет его различными титулами, составляющими предмет его гордости:
…По сводам замка Неумолкаемый носился вопль: Гламис зарезал сон; за то отныне Не будет спать его убийца Кавдор, Не будет спать его убийца Макбет!Еще одна параллель выдает родство между датской трагедией и шотландской. Только в этих драмах мертвецы встают из могил и появляются на сцене жизни; только в них в атмосферу живых проникает дуновение из мира теней. Ни в «Отелло», ни в «Лире» нет ни следа чего-либо подобного.
Здесь, как и в «Гамлете», поэт, вводя в пьесу сверхъестественные элементы, вовсе не подразумевает под этим, что сверхчеловеческая сила вмешивается самостоятельным действием в человеческую жизнь; эти элементы прозрачные символы. Но все же сверхъестественные существа, выступающие здесь, не могут быть сочтены за простые привидения; поэт решительно отводит им существование за пределами галлюцинации. Как в «Гамлете» тень короля видит не один только принц, так и в «Макбете» ведьмы являются взору не одного только героя пьесы, и они находятся на сцене вместе со своей царицей Гекатой, когда никто их не видит, кроме театральной публики.
Не надо забывать, что весь этот мир духов и ведьм имел для современников Шекспира иное значение, чем для нас, и даже не вполне опровергнуто предположение, что сам Шекспир представлял себе возможным в действительной жизни существование подобных образов. Великие поэты редко бывали последовательны в неверии; ведь и Гольберг еще верил в явившееся ему привидение. Но не столь важно это обстоятельство, сколько умственный уровень тех, для кого писал Шекспир.
Английский народ в начале XVII века все еще верил во множество разнообразных злых духов, нарушавших порядок природы, вызывавших грозу и бурю, предрекавших несчастия и смерть, распространявших голод и поветрия. Обыкновенно их представляли себе в виде морщинистых старух, варивших в котлах адские снадобья для совершения гнусных злодеяний, и как только воображали, что напали на этих ведьм, им мстили сожжением на костре. В 1558 г. епископ Джуэль в одной из своих проповедей призывал Елизавету к преследованию колдунов и ведьм. Спустя несколько лет некая миссис Дайер была обвинена в колдовстве на том единственном основании, что королева несколько ночей не могла спать от зубной боли. В одном только городке Оссиз в Эссексе было сожжено от 70 до 80 ведьм. Правда, в 1584 г. Реджинальд Скотт в своей книге «Разоблачение колдовства» с изумительной ясностью и свободомыслием постарался опровергнуть веру в колдовство и волшебство, но его голос затерялся в хоре суеверных. В особенности король Иаков был одним из самых ярых поборников суеверия. Он самолично присутствовал при мучительных пытках, которым были подвергнуты 200 ведьм, сожженных по случаю бури, помешавшей переезду его невесты в Шотландию. Многие из них сознались в том, что летали но воздуху на метлах или в незримых колесницах, запряженных улитками, и в том, что могут делаться невидимыми, — замечательно, однако, что перед лицом суда они не воспользовались этим искусством. В 1597 г. Иаков дал в своей «Демонологии» как бы руководство или учебник всех видов волшебства, а в 1598 г. он обрек на сожжение не менее 600 старух. В 1604 г. правительство внесло в парламент законопроект против колдовства, который был принят.
Подобно тому, как из веры в духов Шекспир извлек дивные воздействия для своего «Гамлета», — видение на террасе великолепно в своем роде, хотя дух говорит слишком уж долго, — так и здесь, с первого же шага, при встрече ведьм, он так верно, как будто при помощи камертона, взял ноту, определяющую настроение его драмы, и всюду, где ведьмы возвращаются, они приносят с собою все то же основное настроение. Но в гораздо большей еще мере достойно удивления — как психологически обоснованная галлюцинация и как сценический эффект — то место в драме, когда Макбет видит тень Банко, сидящей за столом на стуле, оставленном для нею самого.
Вспомните эти реплики (III, 4):
Росс…Угодно ль вам сделать честь, присесть к нам, государь?
Макбет. Стол полон!
Ленокс…Вот еще есть место.
Макбет. Где?
Ленокс…Здесь, государь. Что с вами?
Макбет. Кто это сделал, лорды?
Лорды. Что такое?
Макбет. Меня ты в этом уличить не можешь:
К чему кивать мне головой кровавой.
Это так велико, так глубоко и в такой необычайной степени драматично и сценично, как лишь немногие штрихи в истории всей драмы.
И такова вообще почти вся основная композиция в этой трагедии — в драматическом и сценическом отношении она выше всяких похвал. Ведьмы в степи, Макбет перед убийством короля Дункана, леди Макбет как сомнамбула — это столь сильные и эффектные сцены, что они неизгладимо запечатлеваются в памяти зрителей.
Неудивительно, что в позднейшие времена «Макбет» сделался самой популярной из трагедий Шекспира, типом его трагедий, высоко ценимых даже теми, кто в других случаях не умел ценить его по достоинству. Никакая другая из драм Шекспира не скомпонована так просто, никакая другая не лежит так, как эта, в одной плоскости. Здесь нет разбросанности и нет пауз в действии, как в «Гамлете», нет параллельного действия, как в «Лире». Все здесь совершенно просто, все построено по следующей системе: это ком снега, который, катясь, становится лавиной, И хотя (вследствие неудовлетворительности текста) здесь встречаются пробелы, и хотя некоторые черты (например, в характере леди Макбет) могут вызвать различные толкования, все же здесь нет таинственности, нет загадок, над которыми приходилось бы ломать голову. Здесь ничего не скрыто между строк, все грандиозно и просто, — мало того, все здесь само величие и сама ясность.
И при всем том я должен сознаться, что эта трагедия представляется мне одной из менее интересных шекспировских пьес, не с художественной, но с чисто человеческой точки зрения. Это богатая, чрезвычайно моральная мелодрама, но лишь в отдельных ее пунктах чувствую я биение сердца Шекспира.
В значительной мере мое сравнительно холодное отношение к «Макбету» зависит, быть может, от того, что эта трагедия дошла до нас в столь позорно искаженном виде. Кто знает, какова она была, когда вышла из собственных рук Шекспира? Имеющийся в наличности текст, впервые напечатанный спустя долгое время после смерти поэта, сокращен и урезан, искажен в сценических интересах. Мы можем ясно чувствовать, где находятся выпущенные места, но пользы нам от этого нет никакой.
Уже один неестественно маленький объем пьесы служит доказательством этого. Несмотря на обилие событий, это, бесспорно, самая короткая из драм Шекспира. Между тем как в «Гамлете» 3924 стиха, в «Ричарде III» — 3599 и т. д., в «Макбете» всего лишь 1993.
Затем, архитектура пьесы, очевидно, изуродована. Разговор между Малькольмом и Макдуфом (IV, 3), который с драматической точки зрения должен быть назван, строго говоря, лишним, так длинен, что занимает приблизительно восьмую часть всего объема трагедии. Можно предположить, что прочие сцены были сколько-нибудь соразмерны с этим диалогом, ибо Шекспир в других своих пьесах никогда не бывает так непропорционален.
В некоторых пунктах ясно чувствуются пропуски. Леди Макбет предлагает своему мужу (1,5) убить Дункана. Он не дает на это ответа. В следующей сцене приезжает король. В следующей за этой сцене Макбет уже оставил позади себя все соображения относительно того, совершить ли ему убийство, он только обдумывает, как бы ему исполнить его безнаказанно. Когда он колеблется и говорит жене, что он готов на все, что может человек, но тот, кто смеет больше — не человек, а зверь, то ее ответ обнаруживает, что в пьесе есть немало пропусков:
Какой же зверь мне умысел доверил? Задумал ты, как человек; исполни, И будешь выше ты: не зверь, а муж. Удобный час и ловкое местечко, Их не было, — ты их создать хотел.Обо всем этом мы, зрители или читатели, не знаем ничего. Супругам не было времени даже для самого незначительного разговора.
Сюжет для своей трагедии Шекспир заимствовал из книги, послужившей источником для всех его английских «историй», а именно, из хроники Холиншеда. Холиншед, передавший здесь, впрочем, лишь один из отделов Scotorum Historiae Гектора Бойса (Боэция), отнюдь не дал нам достоверной истории. Восстание Макдональда и морской поход Свена — легенда; Банко и Флинс, как родоначальники Стюартов, — это вымысел хронистов. Фамилии Дункана и Макбета разъединяла пролитая кровь. Леди Макбет, настоящее имя которой было Груоч (Gruoch), приходилась внучкой по матери королю, умерщвленному Малькольмом II, дедом Дункана. Первый муж ее был заживо сожжен с 50 приближенными в своем замке. Ее единственный брат был убит по повелению Малькольма. Отец Макбета, Финлег или Финлей, тоже пал в поединке с Малькольмом. И Макбет, и жена его имели, таким образом, право отомстить Дункану кровью. Притом своим покушением на жизнь Дункана Макбет не погрешил против закона гостеприимства. Он напал на него и убил его в открытом поле. По порядку же шотландского престолонаследия он, следует заметить, имел больше прав на престол, чем Дункан. Похитив власть и сделавшись королем, Макбет правил твердо и справедливо. В действительных фактах 1040 г., лежащих в основе хроники, пожалуй, столь же верная, хотя и гораздо менее сложная психология, как и в пересозданных по Холиншеду событиях, о которых трактует трагедия.
В целом Шекспир с большой точностью придерживается Холиншеда. В некоторых пунктах он отступает от него. По хронике Банко был соучастником в умерщвлении Дункана; Шекспир изменяет это, чтобы дать новому королю незапятнанного родоначальника. Затем, вместо изображения убийства, как оно описано в хронике, Шекспир переносит на Дункана все подробности, рассказываемые Холиншедом относительно убийства короля Дуффа, деда леди Макбет, — убийства, совершенного начальником крепости Форрес, «которого подстрекала к злодеянию своими речами жена». Едва ли нужно упоминать о том, что самые превосходные места в драме, как, например, появление тени Банко или сцена лунатизма леди Макбет, обязаны своим возникновением одному Шекспиру.
В свое время (в 1778 г.), когда была найдена рукопись «Ведьмы», произведения современного Шекспиру поэта Мидлтона, некоторую сенсацию произвело то обстоятельство, что в ней были приведены две песни, из которых в «Макбете» приводятся лишь первые строки, песни «Come away, come away» (III, 5) и «Black spirits…» (IV, 1). Поднялись весьма праздные дебаты о том, насколько Шекспир воспользовался здесь Мидлтоном, или Мидлтон Шекспиром. Последнее, конечно, наиболее правдоподобно, если только какое-нибудь заимствование имело здесь место. Впрочем, все говорит за то, что кое-где в сценах ведьм в шекспировском тексте, как он напечатан в издании in-folio, вставлены отдельные строки какого-нибудь менее выдающегося поэта.
Кроме того, здесь, как и в «Гамлете», есть возможность предположить, что современные события придали большую свежесть и больший интерес в глазах Шекспира литературным впечатлениям, сообщенным хроникой. Тот же самый эпизод из жизни короля Иакова, которого мы коснулись, говоря о «Гамлете», представлял известные параллели и с этим сюжетом. Как Макбет едет вперед в свой замок, когда должен принять у себя Дункана как гостя, так и Александр Рутвен, как скоро король обещал ему посетить его, поспешил в Перт, чтобы там быть ранее Иакова. Он был задумчив и рассеян на банкете, устроенном в честь короля, как, вероятно, был и Макбет на торжественном пиршестве, приготовленном им для Дункана. И Александр Рутвен отвел Иакова в ту комнату, где сделал попытку убить его, подобно тому, как Макбет отводит своего короля в спальню, которую Дункану не суждено покинуть живым.
Шекспир изложил этот сюжет походящим к нему стилем, порывистым до стремительности, кратким до сжатости, где картины следуют непосредственно одна за другой, но где общие философские мысли встречаются лишь в весьма скудном количестве, — стилем, служащим выражением для ужаса и вполне подходящим для возбуждения ужаса, — стилем, основной тон которого почти не изменяется, только смягчается в трогательном и потрясающем разговоре леди Макдуфф с ее маленьким сыном, и лишь на время прерывается там, где в пьесу вплетен бесподобный шуточный монолог привратника.
Вся драма с начала до конца занимается двумя главными лицами, Макбетом и его женой; в их внутреннем мире происходит существенное действие. Прочие лица лишь слегка очерчены.
Песня ведьм, открывающая трагедию, заканчивается чудесным стихом, в котором прекрасное и безобразное ставятся одно на место другого:
Fair is foul, and foul is fair[18].И глубокого смысла исполнена та черта, что Макбет, не слыхавший этого припева, напоминает его в самой первой своей реплике:
Столь безобразного и столь прекрасного я никогда не видел в один и тот же день.
Эти слова как будто раздаются у него в ушах; это знаменует, что между ним и ведьмами существует таинственная связь. Да и вообще такого рода тонких совпадений и контрастов найдется немало среди реплик этой трагедии.
После того, как леди Макбет, которую поэт выводит перед зрителями совершенно законченную в ее злобе (I, 5), произнесла сама себе:
…И ворон Охрип, закаркав на приезд Дункана. Сюда ж, сюда, о демоны убийства! —следующая сцена открывается счастливым настроением и прелестными картинами, заключающимися в производимом ниже обмене репликами:
Дункан. Прекрасный вид! Как чист и легок воздух! Как нежно он ласкает наши чувства! Банко. А вот и ласточка, весенний гость: Ее присутствие нам говорит, Что мирно здесь дыханье неба веет, Взгляните: нет ни уголка, ни фриза, Где б не висел птенцов воздушный домик. А где они, заметил я, гнездятся С такой охотою, там воздух чистТотчас после того поэт снова углубляется в изучение этой худой, хрупкой и жестокой женщины, снедаемой властолюбием и жаждой блеска, этой женщины, которая, отнюдь не будучи той невозмутимой отравительницей, какою она тщится сделаться, в силу своей несравненно более твердой воли подстрекает своего мужа совершить преступление, обещанное им, по ее словам:
…Кормила я и знаю, Как дорого для матери дитя: Но я без жалости отторгла б грудь От нежных, улыбающихся губок. И череп бы малютке раздробила, Когда б клялась, как клялся ты.Так велико ее зверство. И все же леди Макбет менее сильна, чем хочет казаться. Ибо, приготовив кинжалы для мужа, она тотчас же после того говорит:
…Не будь он Во сне так резко на отца похож, Я поразила бы его сама.За мастерской и захватывающей сценой между супругами после убийства идет, как ужасающе юмористический контраст, веселая фантазия на тему ада, привратника, воображающего, что он стоит на часах у врат преисподней (и, между прочим, отказывающего в пропуске иезуитам с их казуистикой и reservatio mentalis), и следующий затем обмен реплик с Макдуффом о влиянии водки на эротические влечения и способности. Как известно, в свое время Шиллер из классических предрассудков вычеркнул в своем переводе этот монолог и заменил его благочестивым утренним гимном; более удивительно то, что один из английских поэтов, Кольридж, нашел, что он нарушает ход действия, и счел его поддельным. Не принадлежа, собственно, к лучшим образчикам низкого комизма у Шекспира, он представляет в действительности как усиливающий воздействие контраст к предыдущему и последующему неоценимую и необходимую приправу к трагедии. В этом месте действие неизбежно должно было прерваться на четверть часа, чтобы дать Макбету и его жене время переодеться в ночное платье, и какой же перерыв мог быть эффектнее этого стука в ворота замка, заставляющего их обоих содрогнуться от страха и дающего повод к сцене привратника.
К жемчужинам пьесы принадлежит затем сцена между леди Макдуфф и ее маленьким, умненьким сыном непосредственно перед тем, как являются убийцы и умерщвляют их. Все реплики умного ребенка полны интереса, а горько-пессимистическая реплика матери замечательно характерна не только для нее самой, но и для настроения, в котором находится в этот момент поэт:
…Что сделала я злого? Однако, да! Я здесь, на этом свете, Где часто злой бывает прославляем, А тот, кто добр, слывет за дурака, Безумца вредного. Так что же пользы в том, Что женщины щитом я укрываюсь И говорю: я зла не сотворила?Такое же отчаяние слышно и в восклицании Макдуффа, когда он получает известие об убийствах, совершенных в его доме «Небо видело это — и не вступилось за них!» Начало этой большой сцены (IV, 3), — длинный разговор между Малькольмом и Макдуффом, дословно выписанный Шекспиром из Холиншеда, слабо и бесцветно. Оно едва ли представляет какое-нибудь интересное место, кроме разве насильно притянутого рассказа о даре короля Эдуарда Исповедника исцелять золотуху, — рассказа, вставленного для того, чтобы иметь случай сказать королю Иакову любезность, которую ему приятно было бы слышать. Там значится
В народе говорят, Что царственным потомкам передаст он Свой дивный дар.Но конец сцены, где Росс приносит Макдуффу весть о нападении на его замок и произведенной в нем резне, достоин восторженного удивления.
Макдуфф. Так и детей? Росс. Жену, детей, вассалов, Все, что могли найти. Макдуфф. А я был здесь! Так и жену? Росс. Да, и жену! Малькольм. Мужайся! Пойдем, и эту рану сердца Пусть беспощадная излечит месть. Макдуфф. Макбет бездетен! Всех моих малюток? Всех, говоришь ты?.. Адский коршун!.. Всех? Птенцов и мать одним налетом? Дьявол! Малькольм. Снеси несчастие, как муж. Макдуфф. Снесу. Но я и чувствую его как муж Я не могу не вспоминать о том, Что было для меня дороже жизни. И небо не вступилось?!В этих словах звучит как бы голос возмущения, тот самый голос, который позднее раздается в «Лире», в исполненной отчаяния философии короля «Что мухи для шалунов-мальчиков, то и мы для богов. Они убивают нас для своей забавы». Но тотчас после того Макдуфф возвращается к традиционному воззрению
Грешный Макдуфф! Они погибли за тебя! Презренный! Не за свои грехи они убиты, А за твои!В этих негодующих репликах есть в особенности один возглас, над которым приходится призадуматься. Это слова Макдуффа о тиране, что он бездетен. В конце третьей части «Генриха VI» есть сходное с этим восклицание, имеющее совершенно иной смысл. Там король Эдуард, Глостер и Кларенс закалывают каждый своим мечом на глазах у Маргариты Анжуйской ее сына. Тогда она восклицает:
Нет, мясники, детей у вас, не то бы И мысль о них была для вас укором!Не было недостатка в комментаторах, хотевших навязать то же самое значение скорбному воплю Макдуффа, но совершенно ошибочно, так как связь действия доказывает неоспоримо, что бездетный отныне отец думает здесь единственно о возможности мести, которая удовлетворила бы его вполне.
Между тем в этой реплике «он бездетен» есть другая особенность, на основании которой читатели должны предполагать, что у Макбета были дети. Леди Макбет ведь говорила: «Кормила я и знаю, как дорого для матери дитя», а мы так и остались в неизвестности относительно того, умерли ли эти дети, или же она их имела от первого мужа (Шекспир обошел молчанием брак, в котором она состояла по историческим данным). И что еще важнее, не только она говорит о своих детях, но и Макбет как будто намекает на то, что у него есть сыновья. Он говорит (III, 1): «Моя голова увенчана бесплодною короной; мне в руки дали увядший скипетр, который чужая рука вскоре у меня вырвет, а не мои сыновья унаследуют. Для детей Банко запятнал я свою душу».
Правда, по-английски это выражение менее определенно (no son of mine succeeding). Но если бы у него самого не было детей, то последняя из приведенных строк была бы лишена смысла. Или Шекспир забыл эти прежние реплики, когда рука его записывала восклицание Макдуффа? Это невероятно; во всяком случае репетиции и представления пьесы должны ведь были постоянно возобновлять эти слова в его памяти. Итак, мы стоим здесь лицом к лицу с одним из тех запутанных вопросов, которые мы могли бы себе уяснить, если бы имели полный и достоверный текст.
Корона, которую вещие сестры сулят Макбету, вскоре становится его навязчивой идеей. Он зарезывает короля — и вместе с ним зарезывает сон. Он убивает, и постоянно видит перед собой убитого. Все, что становится между ним и его жаждой власти, все это уничтожается и вслед затем встает с кровавой головой, как призрак, на его пути. Шотландию он превращает в громадное кладбище. Душа его «полна скорпионов», ему дурно от запаха всей пролитой им крови. Под конец жизнь и смерть делаются для него безразличны. Когда в день битвы ему сообщают весть о смерти его жены, он произносит (V, 5) глубокие слова, в которые Шекспир вложил целое меланхолическое миросозерцание:
Она могла бы умереть и позже. Всегда бы вовремя поспела эта весть… Да! Завтра, завтра и все то же завтра Скользит невидимо со дня на день, И по складам отсчитывает время; А все вчера глупцам лишь озаряли Дорогу в гроб. Так догорай, огарок! Что жизнь? Тень мимолетная, фигляр, Неистово шумящий на помосте И через час забытый всеми, сказка В устах глупца, богатая словами И звоном фраз, но нищая значеньем!Вот конечный взгляд, к которому приходит Макбет, он, все ставивший на карту, чтобы приобрести могущество и блеск. Такая реплика, без всякого подчеркивания со стороны поэта, полна глубокого нравственного смысла. Мы тем сильнее чувствуем его цену, что в других пунктах этой пьесы Шекспир не был, по-видимому совершенно свободен в своем изучении человеческой природы, а руководствовался предназначавшимся для зрителей морализирующим воздействием. Драму немного портит частое указание на fabuia docet и «так бывает с тем, кто добивается власти преступлением». Честный сначала Макбет мог бы и в драме, как в действительности, попытаться примирить народ со своим, во всяком случае, неохотно совершенным злодеянием, воспользовавшись своею властью как мудрый правитель. Моральная тенденция пьесы исключает эту возможность. Холодная, как лед, безжалостная, как камень, леди Макбет могла бы отнестись к последствиям своих советов и поступков так же спокойно, как отравительницы при княжеских дворах в эпоху Возрождения, — Лукреция Борджиа, Екатерина Медичи и леди Эссекс при дворе Иакова. Но в таком случае мы лишались бы морального урока, который преподает нам ее гибель, и, что было бы гораздо хуже, лишились бы несравненной сцены лунатизма, которая, — если оставить в стороне ее более или менее совершенную мотивировку, — самым дивным образом показывает нам, как жало нечистой совести, хотя бы оно и притуплялось днем, обостряется в ночную пору и отнимает у виновного и сон, и здоровье.
Мы уже видели в непосредственно предшествовавших пьесах, что в этот период времени Шекспир весьма часто подчеркивал нравственные уроки, которые можно было извлечь из его произведений. Быть может, это стремление находилось в связи с неуклонно возраставшей неприязнью общественного мнения к театру. В 1606 г. было обнародовано запрещение упоминать имя Божие на нечестивых подмостках сцены. Даже самая невинная клятва воспрещалась в театральной пьесе. Лицом к лицу с движением в умах, вызвавших подобный парламентский акт, у трагического поэта должно было возникнуть желание насколько возможно решительнее доказать строго нравственный характер своих произведений.
Глава 49
«Отелло». — Значение и характер Яго
Если мы обратим внимание на то, что «Макбет» объясняет трагедию жизни как результат нравственной грубости в союзе со злобой, или точнее, грубости, отравленной злобой, то окажется, что отсюда всего один шаг до «Отелло». Но в изучении трагедии жизни как целого, злобы как мирового фактора, в «Макбете» нет еще уверенности, нет крупного стиля.
Несравненно более крупный, более уверенный стиль представляет нам в этой области «Отелло».
«Отелло», с точки зрения профанов, есть просто-напро-сто трагедия на тему ревности, как «Макбет» — трагедия на тему честолюбия. Весьма наивные читатели и критики в своей невинности воображают, что в известный момент своей жизни Шекспир решил изучить несколько интересных и опасных страстей и предостеречь против них зрителей. С этой целью написал он произведение на тему честолюбия и вытекающих опасностей, затем сходное с этим произведение на тему ревности и всех злоключений, которые она причиняет. Но ведь не так совершается это дело во внутренней жизни творческого духа. Поэт пишет не сочинения на данную тему. Он начинает творить не в силу какого-нибудь предвзятого решения или выбора. В нем затрагивается какой-нибудь нерв, и этот нерв приходит в колебание и реагирует.
Что Шекспир пытается выяснить себе здесь, это не ревность и не легковерие, а единственно только трагедию жизни: как возникает она, каковы ее причины, в чем заключаются ее законы?
Он был поражен властью злобы и ее значением в жизни. Отелло в гораздо меньшей степени представляет собою этюд ревности, нежели новый и более веский этюд злобы во всей ее мощи. Питательная нить, идущая от мастера к произведению, приводит к личности Яго, а не Отелло.
Некоторые наивные исследователи полагали, что Шекспир создал Яго по образцу исторического Ричарда III, — следовательно, нашел его в какой-нибудь литературе, в хронике.
Нет, Шекспир несомненно встречал Яго в своей жизни; он прожил свои зрелые годы бок о бок с различными чертами его характера, изо дня в день сталкивался на своем жизненном пути то с той, то с другой стороной этой личности и, наконец, в один прекрасный день, когда он вполне почувствовал и понял, что могут сделать умные, злые, низкие люди, он сплавил все эти фрагменты и отлил их в один мощный образ.
Яго — в этом образе более крупный стиль, чем во всем «Макбете». Яго — в одном этом характере более глубокомыслия, более знания человеческой природы, чем во всем «Макбете». Яго — это само воплощение великого стиля.
Он не злое начало, не старозаветный дьявол, который, как известно, глуп, и не мильтоновский дьявол, который любит независимость и изобретает огнестрельное оружие, и не гетевский Мефистофель, говорящий цинизмы, умеющий делаться необходимым и по большей части оказывающийся правым, — и в то же время он не величие в неустрашимой злобе, не Цезарь Борджиа, наполнивший свою жизнь ужасными деяниями.
У Яго нет иной цели перед глазами, кроме собственной выгоды. Что не он, а Кассио получил пост лейтенанта Отелло — вот обстоятельство, с самого начала побуждающее его коварство строить козни. Он хотел иметь эту должность и пытается завоевать ее. Но со всем тем он подбирает по пути к ней всякую выгоду, которая только может достаться ему в руки, не задумывается вытянуть у Родриго все его состояние и драгоценности. Он постоянно прикрывается ложью и лицемерием, но он выбрал себе иную непроницаемую маску: смелую суровость, прямую, честную угрюмость солдата, не считающегося с тем, что думают или говорят о нем другие. Никогда не старается он подслужиться к Отелло, никогда к Дездемоне, никогда даже к Родриго. Он откровенный, честный друг. Он ищет своей выгоды, в то же время косясь на других. Яго — это злорадство в человеческом образе. Он делает зло, чтобы иметь наслаждение вредить; он торжествует при виде чужих мук и невзгод. И при этом он — вечная зависть, разжигаемая преимуществами и удачами других. Он не мелкая зависть, довольствующаяся тем, что желает для себя чужих достоинств или чужого имущества, или считает себя более заслуживающей чужого счастья. Нет, в великом олицетворении Яго — это завистливое недоброжелательство, выступающее в человеческой жизни державной силой, самим двигателем ее, это отвращение к чужим совершенствам, проявляющееся в упорном отрицании этих преимуществ, в недоверии или пренебрежительном к ним отношении; это инстинктивная непроизвольная ненависть ко всему открытому, прекрасному, светлому, доброму и великому.
Шекспир не только знал, что подобная зависть существует, он выхватил ее из жизни и заклеймил навеки. В этом его бессмертная слава как психолога.
Всякий слыхал возражение, делаемое против «Отелло», будто трагедия превосходна потому, что герой и Дездемона правдивые и редкие образы, но Яго — кто его знает? И чем обоснован его способ действий? Чем объясняется такая злоба? Добро бы еще, если бы он был прямо влюблен в Дездемону и ненавидел Отелло по этой причине или из другого сходного с этим мотива!
Да, если бы он был просто-напросто влюбленным плутом и клеветником, то все вышло бы, бесспорно, проще. Но тогда действительно вся драма не была бы выше пошлости, и Шекспир не стоял бы здесь на высоте своего гения.
Нет! Нет! В мнимой недостаточности мотивировки в ней-то и лежит здесь величие и глубина. И Шекспир это понял. В своих монологах Яго беспрестанно указывает самому себе причины своей ненависти. Читая монолога в других пьесах Шекспира, мы можем видеть из них, каково на самом деле действующее лицо; оно прямо исповедывается в них перед нами; даже такой злодей, как Ричард III, совершенно искренен в своих монологах. Иное дело Яго. Этот полудьявол постоянно старается объяснить самому себе свою ненависть, постоянно чуть не дурачит самого себя, представляя себе половинчатые побуждения, в которые он немножко верит и в сильной степени не верит. Кольридж метко определил это движение в его душе словами the motive hunting of a motiveless malignity (искание причины беспричинной злобы). Снова и снова объявляет он себе, что верит, будто Отелло был чересчур близок с его женой, и что он хочет отомстить за оскорбление. По временам, чтобы найти основание для своей ненависти к Кассио, он прибавляет, что подозревает и его в интимных отношениях к Эмилии. Как побочным мотивом, который во всяком случае стоит взять в придачу, он не брезгует даже мотивом влюбленности в Дездемону. Он говорит (II, 1):
Да, наконец, я сам ее люблю Не страстною любовника любовью, Хоть, может быть, такой огромный грех Нимало я не искупаю этим, Но потому отчасти, что хочу Я отомстить ему, из подозренья, Что этот мавр распутный на постель Ко мне не раз взбирался.Все это — наполовину бесчестные попытки самоуразумения и самооправдания. Желчная, ядовитая зависть всегда имеет за себя мотив, узаконивающий скрытую в ней ненависть и превращающий в справедливую месть желание повредить более достойному человеку. Но Яго, несколькими строками выше сказавший об Отелло, что у него «верная, нежная и благородная душа», тысячу раз слишком умен, чтобы думать, будто он обманут мавром; ведь он же видит сквозь него, как сквозь стекло.
Общечеловеческая способность к любви или к ненависти по какой-нибудь вполне определенной причине умалила и унизила бы превосходство, которое Яго достигает в злобе. Под конец ему угрожают пыткой, так как он не хочет сказать ни слова в объяснение или оправдание. Непреклонный и гордый, он, наверное, и в пытке не разомкнет своих уст, но он и не мог бы дать настоящего объяснения. Он медленно и настойчиво отравлял душу Отелло. Мы можем проследить действие яда на простодушного мавра и видим, как сам тот факт, что процесс отравления удается, все более и более ожесточает и опьяняет Яго. Но откуда яд проник в душу Яго, об этом было бы нелогично спрашивать, да и сам он не может на это ответить. Змея ядовита по природе и производит яд, как шелковичный червь свою пряжу, как фиалка свое благоухание.
Незадолго до окончания драмы (III, 2) встречается обмен репликами, принадлежащим к самым глубоким репликам в пьесе и дающим ключ к недоумению, овладевающему Шекспиром в эти годы при виде злобы и при его исследовании силы зла.
Эмилия, бывшая свидетельницей того, как Отелло разразился бешенством против Дездемоны, говорит ей:
…Я дам себя повесить, Коль клеветы такой не распустил С желанием добыть себе местечко, Какой-нибудь презренный негодяй, Какой-нибудь бездельник, подлипала, Какой-нибудь подлейший, льстивый раб! Да, это так, иль пусть меня повесят! Яго. Фи, да таких людей на свете нет! Не может быть! Дездемона. А если есть такие Прости им Бог! Эмилия. Нет! Виселица пусть Простит! Пусть ад его все кости сгложет!Все три характера как бы высечены резцом в этих кратких репликах. Но реплика Яго самая знаменательная из них. «Таких людей на свете нет! Не может быть!» — вот та мысль, под сенью которой он жил и живет, мысль: другие не верят, что подобные вещи существуют.
Здесь мы снова встречаем у Шекспира гамлетовское изумление перед злом как парадоксом, и встречаем то же косвенное обращение к читателю, выступившее в «Гамлете» и «Мере за меру», повторяющееся теперь уже в третий раз: не говори, не верь, что это невозможно! Вера в невозможность того, что на свете существуют злодеи, есть жизненное условие для такого короля, как Клавдий, такого правителя, как Анджело, такого офицера, как Яго. Отсюда слова Шекспира: истинно говорю я вам, что эта наивысшая степень злобы возможна.
Она является одним из факторов в трагедии жизни. Глупость — другой фактор. На этих двух столпах зиждется главный итог всех бедствий земной жизни.
Глава 50
«Отелло». — Тема и ее обработка. — Монография в крупном стиле
Нет никакой причины сомневаться, что «Отелло» написан в 1605 г. Пьеса была играна 1 ноября 1605 г После того мы лишь спустя 4 года или 5 лет имеем дальнейшее свидетелъсгво о представлении пьесы, а именно, в дневнике принца Людовика Фридриха Виртембергского, веденного его секретарем, Гансом Вурмсером. Здесь под 30 апреля 1610 г. записано по-французски:
«Понедельник, 30-го. Его Высочество посетил „Глобус“, обычное место, где играют комедии; там был представлен „Венецианский мавр“».
Лицом к лицу с этими фактами ровно ничего не значит, что в «Отелло», в том виде, как он до нас дошел, есть строка, которая должна была быть написана позднее 1611 г., ибо трагедия напечатана в первый раз в издании in-quarto 1622 г., во второй, с прибавкой 160 строк (следовательно, по другой рукописи) и с выпуском всех клятв и всяких упоминаний имени Божия — в издании in-folio 1623 г. Эта строка не только могла, но должна была быть вставлена впоследствии, и ее положение в пьесе обнаруживает это достаточно ясно, так как она совершенно расходится с общим ее тоном, почему для меня представляется сомнительной даже сама ее принадлежность Шекспиру.
Когда Отелло (III, 4) берет руку Дездемоны и погружается в размышления по поводу этой руки, он произносит такую тираду:
Да, щедрая! В былое время сердце Нам руку отдавало, а теперь, По нынешней геральдике, дается Одна рука — не сердце, —заключающую в себе понятный лишь для современников намек на учрежденный Иаковом баронский титул, который он пускал в продажу, и обладатели которого имели право носить в своем гербе красную руку в серебряном поле. В высшей степени естественно, что на такую многосказательную речь Дездемона отвечает:
…Не умею Поддерживать я этот разговор.В итальянском сборнике новелл Чинтио, откуда Шекспир почерпнул сюжет для «Меры за меру», он нашел одновременно (3 Декада, 7 новелла) и сюжет «Отелло». В этой новелле рассказывается следующее: Молодая венецианская девица Disdemona влюбляется «не по женской страсти», а вследствие великих достоинств самого человека, в военачальника, по происхождению — мавра, и, несмотря на сопротивление своих родственников, выходит за него замуж. Они живут в Венеции в безмятежном счастье; «никогда не было произнесено между ними ни одного слова, которое не звучало бы любовью». Когда мавр должен отправиться на остров Кипр, чтобы принять главное командование над войском, его единственная забота — его жена; ему столь же неприятно подвергнуть ее опасностям морского путешествия, как и оставить ее одну. Она решает этот вопрос, объявляя мужу, что скорее готова последовать за ним куда бы то ни было и делить с ним всякие опасности, чем жить в спокойствии, но разлучившись с ним. В ответ на это он с восторгом целует ее, и у него вырывается восклицание: «Да сохранит тебя Бог на долгие годы такой прелестной, моя дорогая жена!» Шекспир нашел в новелле картину первоначальной полной гармонии между супругами.
Прапорщик подкапывается под счастье этой четы. Его описывают необыкновенно красивым, но «злейшим по природе из всех людей, живших когда-либо на свете». Мавр очень любил его, «так как не имел ни малейшего представления о его низости». Дело в том, что хотя он был завзятым трусом, но так умел скрывать свою трусость под высокопарными и гордыми речами и под своей красивой наружностью, что выступал настоящим Гектором или Ахиллом. Его жена, вместе с ним приехавшая на Кипр, была красивая и честная молодая женщина, пользовавшаяся большою благосклонностью Диздемоны, которая проводила в ее обществе большую часть дня. Капитан (il capo di scuadra) был частым гостем в доме мавра и нередко обедал с ним и его супругой.
Злобный прапорщик страстно влюблен в Диздемону, но во всем, что он делает с целью снискать ее взаимность, он терпит полнейшую неудачу, так как все ее чувства и помышления отданы мавру. Прапорщик однако воображает, что она равнодушна к нему лишь потому, что влюблена в капитана, от которого он решает отделаться, как от соперника, и любовь его к Диздемоне превращается в самую жестокую ненависть. С этого момента он не только задумывает умертвить капитана, но хочет отнять у мавра возможность, в которой отказано ему самому, — наслаждаться красотой Диздемоны. Он приступает к делу так же, как и в драме, которая в частностях представляет, конечно, отступления от хода новеллы. Так, в этой последней прапорщик похищает платок Диздемоны в то время, как она, сидя в гостях у его жены, играет с их маленькой девочкой.
Смерть Диздемоны в новелле носит более отталкивающий характер, чем в трагедии. Прапорщик, по приказанию мавра, прячется в комнату, смежную со спальней супругов; когда он поднимает шум, и Диздемона встает, чтобы посмотреть, что случилось, прапорщик наносит ей сильный удар в голову чулком, в котором насыпан песок. Она зовет на помощь мужа, но тот, в ответ на это, обвиняет ее в прелюбодеянии; тщетно ссылается она на свою невинность и умирает после третьего удара чулком. Убийство удается скрыть, но мавр с этой минуты проникается ненавистью к своему прапорщику и увольняет его в отставку. Тот до такой степени озлобляется вследствие этого, что выдает капитану, кто был виновником покушения на его жизнь, произведенного ночью. Капитан привлекает мавра к суду; Совет Десяти подвергает его пытке, а так как он не сознается в преступлении, то его приговаривают к изгнанию. Злобный прапорщик, сделавший ложный донос в убийстве на одного из своих товарищей, сам привлекается к суду невинно обвиненным и подвергается пытке, во время которой и умирает.
Как видит читатель, из характеров драмы здесь недостает Брабанцио и Родриго. Из имен здесь встречается только одно, Диздемона, придуманное, по-видимому для обозначения преследуемой злым демоном женщины и измененное Шекспиром в более гармоническое имя — Дездемона. Прочие имена принадлежат самому Шекспиру; большинство их итальянского происхождения (имя самого Отелло — венецианское патрицианское имя XVI века), другие, как Яго и Родриго, испанского.
Со своей обычной верностью источникам Шекспир, как и Чинтио, называет главное действующее лицо мавром, the moor. Но совершенно нелепо выводить отсюда, что он представлял его себе негром. Само по себе немыслимо, чтобы негр мог достигнуть такого поста, как полководец и адмирал на службе венецианской республики, и выражение Мавритания, отнесенное к стране, куда, по словам Яго, хочет удалиться Отелло, достаточно ясно указывает на то, что его должно изображать на сцене мавром, то есть арабом. Это нисколько не опровергается тем, что люди, ненавидящие его и завидующие ему, клеймят его в своем ожесточении эпитетами, которые могут быть приложены к негру. Так, в первой сцене пьесы Родриго называет его «губаном», Яго в сцене с Брабанцио «старым черным бараном». Между тем немного позднее Яго сравнивает его с «варварийским конем», считая его, следовательно, уроженцем северной Африки. Нет нужды, что недоброжелательство и ненависть постоянно стремятся преувеличить темный цвет его кожи, так например, когда Брабанцио говорит о его «закоптелой груди». Если Отелло называет себя black (черный), это значит лишь то, что он смугл. В самой пьесе Яго говорит о смуглых женщинах:
If she be black and there to have a wit, She’ll find a white that shall her blackness fit[19],а в сонетах, как и в «Бесплодных усилиях любви», мы видели, что «черная» постоянно употребляется вместо слова «смуглая». Как мавр Отелло имеет достаточно темный цвет кожи, чтобы составить поразительный цветовой контраст белой блондинке Дездемоне, а как семит он образует достаточно яркий расовый контраст молодой арийской девушке. Относительно мавра легко можно было себе представить, что он, после принятия крещения, мог достигнуть высокого поста в войске и во флоте республики.
Надо еще заметить, что вся легенда о венецианском мавре возникла, быть может, вследствие недоразумения. Раудон Броун высказал в свое время (в 1875 г.) догадку, что Джиральди Чинтио составил свою новеллу на основании простой ошибки в имени. В истории Венеции встречается выдающийся патриций Christoforo Moro, который был в 1498 г. подестой в Равенне, позднее правил Фаэнцой, Феррарой, Романьей, затем сделался наместником на острове Кипре, в 1508 г. командовал четырнадцатью кораблями, а впоследствии был главнокомандующим армии. Когда он возвращался в 1508 г. с Кипра в Венецию, то во время пути умерла его жена (третья), принадлежавшая по преданию к фамилии Барбариго (сходство с Брабанцио), и ее кончина носила, по-видимому, таинственный характер. В 1515 г. Моро женился в четвертый раз на молодой девушке, прозванной по преданию Demonio bianco — белый демон — откуда, быть может, и образовалось имя Дездемона, подобно тому, как из Moro составился «мавр».
Добавления, сделанные Шекспиром к сюжету, найденному им у Чинтио: похищение Дездемоны, поспешный и тайный брак, странное для нас, но столь естественное и обычное для тех времен обвинение Отелло в том, будто он покорил сердце девушки с помощью волшебных чар, — все это факты, встречающиеся в истории венецианских фамилий того века.
Как бы то ни было, приступая к обработке сюжета, Шекспир так располагает обстоятельства и отношения, что они представляют самое благоприятное поле для операционных планов Яго, и так создает характер Отелло, что он становится восприимчивым, как никто другой, для яда, который Яго (подобно королю в пантомиме Гамлета) вливает ему в ухо. Затем Шекспир заставляет нас следить за пробудившейся страстью с ее первого зачатка и в течение всего ее роста до того момента, как она взрывается и разрывает личность.
Отелло — не сложная душа, простая, прямолинейная солдатская натура. У него нет житейской мудрости, потому что он всю свою жизнь провел в лагере (I, 3):
Изо всего, что в мире происходит, Я говорить умею лишь о войнах, Сражениях…Храбрый сам, он верит в храбрость других, особенно же тех, кто выставляет напоказ смелость, резкость и бесстрашную склонность к порицанию того, что достойно порицания, как, например, Яго, обращающийся к Дездемоне с характерными словами о самом себе:
For I am nothing, if not critical[20].И Отелло не только верит в храбрость Яго, но готов избрать его себе в руководители, как человека, гораздо лучше его знающего людей и более богатого житейским опытом.
Отелло принадлежит к благородным натурам, никогда не занимающимся представлением о своих достоинствах. У него нет тщеславия. Ему никогда не приходило в голову, что такие подвиги, такие геройские поступки, как те, которыми он стяжал себе славу, могут произвести на фантазию молодой женщины, если у нее такой склад души, как у Дездемоны, гораздо более глубокое впечатление, нежели красивое лицо и изящные манеры Кассио. Он так далек от сознания своего величия, что ему почти сразу кажется натуральным, что им пренебрегли.
Отелло — представитель презираемой расы и отличается бурным африканским темпераментом. Сравнительно с Дездемоной он стар, более близок по возрасту к отцу ее, чем к ней. Он говорит себе, что нет у него ни молодости, ни красоты, которыми он мог бы сохранить ее любовь, нет даже племенного родства, на котором он мог бы строить, как на фундаменте, здание своего счастья. Яго дразнит Брабанцио криком:
Да в этот час, в минуту эту черный Старик-баран в объятьях душит вашу Овечку белую…Раса Отелло считается низменно чувственной. Поэтому Родриго и может распалять гнев отца Дездемоны такими выражениями, как «грубые объятия сластолюбивого мавра».
Что она может чувствовать влечение к нему, это для непосвященных казалось безумием или колдовством. Ибо далеко не легкодоступная, не влюбчивая и не кокетливая натура, Дездемона изображена поэтом даже более сдержанной и скромной, чем обыкновенно бывают девушки. Ее отец говорит о ней (I, 3):
…Такая Смиренная и робкая девица, Красневшая от собственных движений…Она воспитана, как избалованное дитя патрициев в богатой, счастливой Венеции. Изо дня в день видела она вокруг себя золотую молодежь родного города и ни к кому не питала любви. Поэтому отец ее и говорит (I, 2):
Возможно ли, чтоб, не связав себя Оковами каких-то чар проклятых Возможно ли, чтоб девушка такая Прекрасная, невинная, на брак Смотревшая с такою неприязнью, Что юношам знатнейшим и красавцам Венеции отказывала всем Чтоб девушка такая, говорю я, Решилась дать себя на посмеянье!В тексте, собственно, сказано: «богатым, завитым любимцам (darlings) нашего народа» — Шекспир, знающий все, что касается Италии, знал и то, что венецианская молодежь того времени завивала себе волосы и спускала один локон на лоб.
Отелло, со своей стороны, сразу почувствовал сильное влечение к Дездемоне. И не белая изящная девушка прельщает его в ней. Если бы он не любил пламенной страстью ее, ее одну, он никогда бы не женился на ней. Ибо в нем живет свойственный дикой, независимой натуре ужас перед браком, и он нисколько не считает, что женитьба на патрицианке возвысила его и выдвинула вперед. Он сам происходит от владетельных князей своей страны (I, 2):
…Когда увижу я, что чванство Дает почет, то объявлю везде, Что родом я из царственного дома… —и он содрогался перед мыслью связать себя навеки:
Да, Яго, знай, когда бы Дездемоны Я не любил, за все богатства моря Не заключил бы в тесные границы Жизнь вольную, безбрачную свою.Но их соединили волшебные чары, — не то грубое, внешнее волшебство, в которое верят и присутствие которого предполагают здесь другие и на которое намекает отец, говоря о «снадобьях и зельях колдунов», но те сладкие, те обольстительные чары, что неизъяснимым образом приковывают мужчину и женщину друг к другу.
Защитительная речь Отелло в зале совета, когда он объясняет дожу, как случилось, что он снискал сочувствие и нежность Дездемоны, всегда возбуждала восторг. Ему удалось приобрести расположение ее отца. Старик пожелал услышать от него повесть его жизни, просил его рассказать ему об опасностях, которым он подвергался, о пережитых им приключениях. И мавр стал рассказывать ему о нужде и о муках, о том, как он был на волосок от смерти, как томился в плену у жестоких врагов, стал рассказывать о далеких чудесных странах, в которых ему приходилось скитаться (фантастическое их описание, очевидно, заимствовано из путевых очерков тою времени с их вымыслами). Дездемона рада была бы послушать обо всем этом, но ее часто отзывали домашние дела. Покончив с ними, она всегда возвращалась и жадным ухом внимала его рассказу. Тогда он сумел заставить ее обратиться к нему с просьбой пересказать ей свою жизнь не отрывочно, а с начала до конца. Он повиновался, и не раз наполнялись глаза ее слезами, когда он говорил ей о бедствиях своей юности. С невинной доверчивостью сказала она ему под конец, что если когда-нибудь у него будет друг, который ее полюбит, то пусть только он посоветует ему рассказать ей историю Отелло, и тогда этот друг приобретет ее взаимность.
Иными словами, — хотя мы должны представлять себе Отелло человеком с величественной осанкой, — не через орган зрения, а через орган слуха он покоряет сердце Дездемоны («я лицо Отелло увидела в его душе»); она делается его женой в силу своего участия ко всему, что он выстрадал и что совершил.
Она меня за муки полюбила, А я ее — за состраданье к ним. Вот чары все, к которым прибегал я. Дож. Ну, и мою бы дочь увлек, конечно, Такой рассказ.Вот как, следовательно, построены эти отношения рукою поэта: это не любовь между молодыми людьми одинакового возраста и одной расы, которых разделяет лишь фамильная вражда (как в «Ромео и Джульетте»), еще менее союз сердец, подобный союзу Брута и Порции, где полная гармония устанавливается благодаря нежнейшей дружбе в соединении с самым близким родством, и благодаря тому, что отец жены является идеалом для мужа, — а нечто совершенно противоположное; это союз, основанный на притягательной силе контрастов и имеющий все против себя и различие в племени, и разницу в возрасте, и странную внешность мужа, вместе с недоверием к самому себе, которое она поселяет в его сердце.
Яго развивает перед Родриго невозможность прочности этого союза, Дездемона влюбилась в мавра, потому что он хвастал и рассказывал ей небылицы. Неужели кто-нибудь воображает, что любовь можно поддерживать болтовней? Чтобы сызнова воспламенить кровь, требуется соответствие в возрасте, сходство в нравах и обычаях, наконец, красота — все то, чего недостает мавру.
Сам же мавр сначала вовсе и не думает строить такие соображения. Почему же нет? Потому что Отелло не ревнив.
Это звучит дико, а между тем это сущая правда. Отелло не ревнив! Это все равно, что сказать о воде, что она не влажна, и об огне, что он не горит. Но у Отелло не ревнивый нрав; ревнивые люди мыслят совсем иначе, чем он, и ведут себя совсем иначе. Он чужд подозрительности, он доверчив и в этом смысле глуп — вот его несчастье, но собственно ревнивым назвать его нельзя. Когда Яго собирается привить ему свои клеветы на Дездемону и начинает лицемерными словами (III, 3):
О генерал, пусть Бог Вас сохранит от ревности: она — Чудовище с зелеными глазами…Отелло отвечает ему:
Пусть говорят, что у меня жена И хороша, и любит наряжаться, И выезжать, и бойко говорит, И хорошо поет, играет, пляшет — Ревнивым я от этого не стану Когда в душе есть добродетель, все Наклонности такие не порочны, И даже то, что у меня так мало Заманчивых достоинств, не способно В меня вселить малейшую боязнь, Малейшее сомненье; ведь имела Она глаза и выбрала меня.Таким образом, даже его исключительное положение сначала не внушает ему тревоги. Но ничто не может устоять перед коварным замыслом, жертвой которого становится ничего не подозревающий Отелло.
Насколько он доверчив относительно Яго — «Милый Яго!», «Славный Яго!» настолько же недоверчив делается он по отношению к Дездемоне. И вот в его мыслях проносится проклятие Брабашшо: «Она отца родного обманула, так и тебя, пожалуй, проведет». И вслед за этим проклятием встают перед ним все аргументы Яго:
Как знать? Всему причиной то, быть может, Что черен я, что сладко говорить, Как щеголи-вельможи, не умею, А может быть и то, что начал я В долину лет преклонных опускаться.И начинается мука по поводу того, что душа одного человека — потемки для другого, по поводу невозможности победить желание и страсть у женщины, если даже она отдана нам законом, пока Отелло не чувствует, наконец, что его как бы предали пытке, и Яго может с торжеством воскликнуть, что все зелья, какие только есть на свете, не возвратят ему теперь мирного сна. Затем следует меланхолическое прощание со всей его прежней жизнью, а за тихою грустью снова наступает сомнение и отчаяние, отчаяние, что он подпал под власть этого сомнения:
Мне кажется — жена моя невинна, И кажется, что нечестна она; Мне кажется, что прав ты совершенно, И кажется, что ты несправедлив, —и все это сосредоточивается, наконец, в помыслах о мщении и крови.
Не будучи сам по себе ревнив, он сделался ревнивым под влиянием низкого, но с дьявольской хитростью рассчитанного нашептыванья, которого по своей наивности он не может ни опровергнуть, ни презреть.
В этих мастерских сценах (III, 3 и 4) встречается более отзвуков из других поэтов, нежели в других местах на столь тесном пространстве у Шекспира, и эти отзвуки интересны в том отношении, что мы можем усмотреть из них, с чем он был знаком и что занимало его в те дни.
В «Orlando Inamorato» Берни (Песнь 51, строфа 1) встречается рассуждение Яго:
…Кто у меня похитит Мой кошелек — похитит пустяки: Он нынче мой, потом его, и был он Уже рабом у тысячи людей. Но имя доброе мое кто украдет, Тот вещь крадет, которая не может Обогатить его, но разоряет Меня вконец.И в чудесном прощании Отелло с солдатской жизнью тоже кроется воспоминание. Вот это место:
Прости покой, прости мое довольство! Простите вы, пернатые войска И гордые сражения, в которых Считается за доблесть честолюбье — Все, все прости! Прости, мой ржущий конь, И трубный звук, и царственное знамя, Все почести, вся слава, все величье И бурные тревоги славных войн!В памяти Шекспира, очевидно, сохранились восклицания, встречающиеся в старинной пьесе «А Pleasant Comedie called Common Conditions», которую он наверно видел подростком в Стрэтфорде. В ней герой говорит:
Простите, мои славные, покрытые латами кони! Простите, все удовольствия охоты с собаками и соколами! Простите вы, благородные и храбрые рыцари! Простите, знаменитые женщины, внушавшие мне любовь!
Еще заметнее следы, оставленные в «Отелло» чтением Ариосто. Это то место, где мавр говорит о платке и рассказывает, что его в пророческом исступлении вышила двухсотлетняя сивилла нитями, взятыми со священных червей.
В «Orlando furioso» (Песнь 46, строфа 80) есть следующие слова:
Девушка родом из страны Илии в припадке пророческого исступления потратила много бессонных ночей, чтобы вышить эту вещь своими руками.
Это совпадение никак не может быть случайным, а что Шекспир имел перед собою итальянский текст, еще с большей несомненностью вытекает из того факта, что слова «пророческое исступление», встречающиеся и у него, и в итальянском подлиннике, пропущены в английском переводе Харрингтона, единственном имевшемся налицо. В то время, как писался «Отелло», Шекспир, вероятно, читал «Orlando», и поэмы Берни и Ариосто лежали перед ним на столе.
Если в этих сценах Отелло является наивным, наделенным колоссальной и положительно трагической наивностью, то Дездемона в своей невинности совершенно в такой же степени наивна, как и он. Прежде всего, она убеждена, что мавр, которого она видит раздраженным до невменяемости, никоим образом не может иметь против нее подозрения, никогда не может быть охвачен ревностью.
Эмилия. Так не ревнив на самом деле он? Дездемона. Кто? Он? Я думаю, что солнце Его страны страсть эту выжгло в нем.Поэтому она и действует с безрассудной неосторожностью и продолжает докучать Отелло просьбами о возвращении Кассио его должности, хотя должна была бы почувствовать, что именно речь об этом и выводит его из себя.
Затем следуют еще боле ужасные измышления Яго: признание, будто бы вырвавшееся у Кассио во время сна, лживый рассказ о том, будто Дездемона подарила Кассио свой драгоценный платок, наконец, мошенническая проделка, посредством которой он заставляет Отелло поверить, что подслушанные им слова Кассио о его отношениях к куртизанке Бьянке относятся к Дездемоне, так что он вскакивает вне себя от бешенства при мысли, что его жена, его возлюбленная предана такому посмеянию.
Этот обман проведен с таким искусством, что в истории ему найдется разве только один соответствующий пример в эпизоде об ожерелье, где кардинал де Роган был совершенно так же обманут и вовлечен в несчастье, как здесь Отелло.
И вот Отелло достиг такого пункта, когда он уже не может мыслить иначе, как вспышками, и не может выражать свою мысль иначе, как отрывочными восклицаниями (IV, 1):
Обнимал ее… Обнимал ее!.. О, это отвратительно!.. Платок!.. Признался!.. Платок!.. Заставить его признаться и потом, в награду, повесить!.. Нет, прежде повесить, а потом заставить признаться!.. Я дрожу при одной мысли об этом… О… носы, уши, губы! Возможно ли? Признайся же! Платок! О, дьявол!
По-английски эти выражения значительно сильнее. Он видит перед своими внутренними очами Кассио и Дездемону в любовных объятиях. Потом с ним делается приступ эпилепсии, и он падает на землю.
Итак, в данном случае мы имеем изображение не непосредственной, а искусственным образом вызванной ревности, иными словами, — это изображение отравленного злобою чистосердечия. Отсюда мораль, которой Шекспир заставляет Яго напутствовать зрителей:
…Вот как ловят Доверчивых безумцев! Вот как честных, Невиннейших и непорочных женщин Позору подвергаютИтак, не ревность Отелло, а его доверчивость есть первая причина несчастья, подобно тому, как благородное простодушие Дездемоны отчасти виновно в том, что все происходит так, а не иначе, то есть, что все удается такому человеку, как Яго.
Когда Отелло заливается слезами на глазах у Дездемоны, не понимающей, почему же он плачет (IV, 2), он произносит потрясающие слова, что все готов был бы он претерпеть, и горе, и позор, и нищету, и неволю, готов был бы даже стать мишенью для насмешек и издевательств, — но видеть, как та, которую он боготворил, сделалась предметом его собственного презрения, — этого он не в силах снести. Не ревность заставляет его всего больше страдать, а мысль, что «источник, откуда струится поток его жизни», превратился в высохшее болото, «где плодятся мерзкие гады». Это чистая, глубокая скорбь человека, видящего запятнанным свой кумир, а не низменное бешенство при мысли о том, что кумир предпочитает другого поклонника.
И с прелестью, присущей идеальному дарованию, Шекспир ради контраста поместил — непосредственно перед ужасающей катастрофой — очаровательную народную песенку Дездемоны об иве, о молодой девушке, которая тоскует о том, что ее милый сжимает в своих объятиях другую, но которая, тем не менее, все так же горячо его любит. Трогательна Дездемона, когда она пытается вымолить у своего сурового владыки хоть несколько лишних мгновений, но велика она в момент смерти, когда, стремясь оградить своего палача от кары за ее убийство, она испускает дух с дивною ложью на устах, единственной ложью ее жизни.
Офелия, Дездемона, Корделия — какое трио! У каждой из них своя физиономия, но они, как сестры, походят друг на друга, все они представляют собою тот тип, который Шекспир любит и перед которым он преклоняется в эти годы. Не было ли для них прототипов в жизни? Не созданы ли они, может быть, все три по одной модели? Не случилось ли Шекспиру встретить в эту эпоху прелестную молодую женщину которая жила в печали, терпела гнет несправедливости и непонимания и вся была сердце и нежность, не обладая при этом ни искоркой гениальности или остроумия? Мы можем предполагать это, но ничего достоверного об этом не знаем.
Образ Дездемоны — один из прелестнейших образов, нарисованных Шекспиром. Она более женщина, чем другие его женщины, подобно тому, как благородный Отелло более мужчина, чем другие мужские, характеры Шекспира. Поэтому в притягательной силе, влекущей их друг к другу, таится все-таки весьма глубокий смысл; самая женственная из женщин чувствует влечение к самому мужественному из мужчин.
Второстепенные фигуры едва ли уступают здесь по искусству выполнения главным героям трагедии. В особенности же бесподобно нарисована Эмилия — добрая, честная, и не то чтобы легкомысленная, но все же в достаточной степени дщерь Евы, чтобы оставаться совершенно чуждой наивному и невинному ригоризму Дездемоны.
В конце четвертого акта (в сцене раздевания) Дездемона спрашивает Эмилию, действительно ли могут найтись, по ее мнению, женщины, делающие то, в чем ее обвиняет Отелло. Эмилия отвечает утвердительно. Тогда госпожа ее спрашивает опять: «Сделала бы ты это, если бы дали тебе весь мир?» и получает забавный ответ, что ведь мир велик, и что такая цена была бы слишком высока для столь незначительного преступления:
Конечно, я бы не сделала этого из-за пустого перстенька, из-за нескольких аршин материи, из-за платьев, юбок, чепчиков или подобных пустяков; но за целый мир… Ведь низость считается низостью только в мире; а если вы этот мир получите за труд свой, так эта низость очутится в вашем собственном мире, и тогда вам сейчас же можно будет уничтожить ее.
В таких местах, как это, посреди всех ужасов явственно слышится шутливая нотка. Кроме того, следуя своей привычке и сообразуясь с нравами и вкусами своего времени, Шекспир с помощью шута внес и в эту трагедию элемент легкого комизма, но веселость у шута звучит под сурдиной, как и вообще веселость у Шекспира в этот период.
Композиция «Отелло» находится в близком родстве с композицией «Макбета». Только в этих двух трагедиях нет эпизодов; действие идет вперед без остановки и без разбросанности. Но «Отелло» имеет то преимущество перед «Макбетом», по крайней мере в том изувеченном виде, в котором он для нас сохранился, что здесь между всеми звеньями и всеми частями драмы господствует безукоризненная соразмерность. Здесь crescendo трагедии выполнено с высочайшей виртуозностью, страсть растет положительно музыкально, дьявольский план Яго осуществляется шаг за шагом с полнейшей уверенностью, все частности затянуты в один крепкий, почти неразрывный узел, и равнодушие, с которым Шекспир сглаживает промежутки времени между различными моментами действия здесь, благодаря тому, что события целых годов и месяцев вмещаются в рамку нескольких дней, усиливает впечатление строгого и твердого единства всего произведения.
В тексте, дошедшем до нас, встречаются неточности. Так, в последней реплике Отелло вместо слов «обрезанца-собаку», наверное, должно стоять «подлого индийца». В конце пьесы есть тоже одно место, вставленное, по-видимому, из текста, искаженного для какого-нибудь специального представления. Когда катастрофа достигла кульминационного пункта и недостает только последних реплик Отелло, Лодовико дает совсем ненужные для зрителя и совершенно расходящиеся с тоном и стилем пьесы объяснения относительно того, что случилось:
Теперь, синьор, я объясню вам то, Что вам еще, конечно, неизвестно. Вот здесь письмо, которое нашли В кармане у убитого Родриго. А вот еще письмо. В одном из них О Кассио убийстве говорится, Которое Родриго должен был Взять на себя. Отелло. О, негодяй! Кассио. Язычник Один лишь мог так гнусно поступить. Лодовико. В другом письме — его нашли мы так же, Как первое, в кармане у Родриго…И еще третья реплика — все это для того, чтобы Отелло узнал, как позорно он был обманут, но все это слабо, бесцветно и портит эффект пьесы.
А потому эти реплики следовало бы вычеркнуть; они принадлежат не Шекспиру и образуют маленькое пятнышко на его безукоризненном творении.
Да, оно безукоризненно. В этом произведении не только встречается, на мой взгляд, соединение некоторых из крупнейших преимуществ Шекспира, но едва ли в нем найдется хотя какой-либо недостаток.
Это единственная из трагедий Шекспира, трактующая не о государственных событиях, а представляющая собой семейную трагедию, то, что позднее стали называть мещанской трагедией; но обработана она совсем не в мещанском духе, а в самом грандиозном стиле.
Всего лучше почувствуется разница между ней и мещанскими трагедиями позднейших времен, если мы с ней сравним «Коварство и любовь» Шиллера, пьесу, являющуюся во многих отношениях подражанием «Отелло».
Мы видим здесь великого мужа и в то же время большого ребенка, благородного человека с бурным темпераментом, но столь же чистосердечного, как неопытного; мы видим молодую женщину которая живет лишь для того, кого избрала, и умирает с сокрушением в сердце о своем убийце, — и видим, как оба эти редкие существа погибают вследствие наивности, делающей их жертвой злобы.
Итак, «Отелло», несомненно, великое произведение, но оно не более, как монография. Это — произведение, не имеющее той широты, которая свойственна вообще пьесам Шекспира, это — специальный этюд крайне своеобразной страсти, роста подозрения у любовника с африканской кровью и африканской натурой, и как таковой, он служит великим примером власти злобы над чуждым подозрительности душевным благородством, — в конечном выводе узкая тема, делающаяся великой лишь благодаря величию обработки.
Ни одна из других драм Шекспира не была более монографической, чем «Отелло». Он, наверно, сам это чувствовал, и со стремлением великого художника дополнить предыдущее произведение последующим и сделать его резким контрастом предыдущему, Шекспир стал искать и нашел сюжет той из своих трагедий, которая всего менее может быть названа монографией и которая, говоря без преувеличения, сделалась универсальной трагедией, совместившей в одном могучем символе всю великую скорбь человеческой жизни.
От «Отелло» он обратился к «Лиру».
Глава 51
«Король Лир». — Основное настроение. — Хроника, «Аркадия» Сиднея и старинная драма
В «Лире» Шекспир до самого дна измерил взором пучину ужасов, и при этом зрелище душа его не знала ни трепета, ни головокружения, ни слабости.
Что-то вроде благоговения охватывает вас на пороге этой трагедии — чувство, подобное тому, какое вы испытываете на пороге Сикстинской капеллы с плафонною живописью Микеланджело. Разница лишь в том, что здесь чувство гораздо мучительнее, вопль скорби слышнее, и гармония красоты гораздо резче нарушается диссонансами отчаяния.
«Отелло» можно сравнить с произведением камерной музыки, простой и ясной, как ни глубоко потрясает она человеческое сердце. «Лир» — это симфония для громадного оркестра; все инструменты земной жизни звучат в ней, и каждый инструмент имеет свой особый голос.
«Лир» — самая крупная задача, поставленная себе Шекспиром, самая обширная и самая величественная; вся мука и весь ужас, какие могут вместить в себе отношения между отцом и его детьми, — все это замкнуто в пяти недлинных актах.
Ни у одного из современных писателей не хватило бы духа представить себе подобный сюжет, и ни один и не сумел бы справиться с ним. Шекспир овладел им так, что у него не чувствуется ни следа хотя бы малейшего напряжения, потому что на вершине своего творчества он достиг подавляющего владычества над человеческою жизнью в ее совокупности. Он трактует свой сюжет с превосходством, которое дается душевной гармонией, а между тем каждая сцена так сильно трогает нас, что нам чудится, будто мы слышим, словно аккомпанемент драме, рыдания несчастного человечества, подобно тому, как у берега моря постоянно слышим плеск его и ропот его волн.
Какие же соображения заставили Шекспира остановиться на этом сюжете? Драма достаточно громко говорит об этом. Он стоял на вершине человеческой жизни: он прожил около 42 лет, он имел перед собою еще десять лет жизни, но из них, наверно, не более шести производительных в духовном смысле. И вот он взвесил в своей руке то, что делает жизнь хуже смерти, и то, что дает цену жизни, что составляет животворный воздух для наших легких, и что укрепляет наше сердце и, подобно Корделии, утешает нас в нашей земной скорби, и все это направил к катастрофе, производящей такое же величественное впечатление, как кончина мира.
В каком настроении приступил Шекспир к этому труду? Что кипело и клокотало в его душе, какие звуки и жалобы раздавались в недрах его существа, когда он натолкнулся на эту тему? Драма достаточно ясно отвечает на этот вопрос. Из всех пыток, грубых оскорблении и подлостей, испытанных им до сей поры, из всех пороков и гнусности, отравляющих жизнь лучших людей, один порок казался ему в этот момент самым худшим, самым отвратительным и возмутительным из всех, — порок, жертвою которого он был, наверное, несчетное число раз, — неблагодарность. Он видел, что ни одна низость не считается более извинительной и не находит себе такого широкого распространения.
Кто может сомневаться, что он со своей беспредельно богатой натурой, сущность которой заключалась в том, чтобы, подобно облаку Шелли, постоянно давать, вечно благодетельствовать, без конца изливать свежие потоки на жаждущие растения, — кто может сомневаться, что такой благодетель в самом широком смысле этого слова постоянно получал в награду самую черную неблагодарность? Мы видели, например, как «Гамлет», до тех пор его величайшее произведение, был тотчас же встречен нападками, тем, что Суинберн метко назвал «насмешками, воем, визгом и шиканьем, боязливым тявканьем исподтишка» со стороны мелких поэтов. Жизнь его протекала в театре. Если мы и не знаем этого, то можем легко догадаться, что товарищи, которым он помогал и для которых он служил примером, театральные писатели, которые восхищались ею талантом и завидовали ему, актеры, воспитанные на его произведениях, для которых он был как бы отцом по духу, старшие из них, которых он поддерживал, младшие, которых он брал под свое покровительство, то отступались от него, то нападали на него с тыла. И каждая новая неблагодарность потрясала его душу. Долгие годы он сдерживал свое возмущение и негодование, замыкал его в сердце, старался подавить его. Но он ненавидел и презирал неблагодарность более всех других пороков, потому что она делала его духовно беднее и мельче.
Шекспир, наверное, не был из числа тех поэтических натур, которые раздают деньги без разбора и легкомысленно благодетельствуют направо и налево. Он был искусный, энергический практик, который, неуклонно преследуя свою цель завоевать себе независимость и поднять так глубоко павшее значение своей семьи, умел наживать деньгу и беречь ее. Тем не менее, достаточно очевидно, что он был таким же отличным товарищем в практической жизни, как и благодетелем в жизни духовной. И он чувствовал, что неблагодарность делает его как бы беднее и принижает ею, ибо ему становилось трудно снова оказывать помощь, черпая обеими руками из царственных сокровищ своего духа, так как он слишком часто видел обман и вероломство, даже со стороны тех, для которых больше всего делал и в кого больше всего верил. Он чувствовал, что если существует какая-либо низость, могущая довести до отчаяния, мало того, до безумия человека, на которого она обрушивается, то это — черная неблагодарность.
В таком настроении перелистывает он однажды, по обыкновению, свою любимую холишнедовскую хронику и встречает в ней историю короля Лира, великого расточителя. В том же настроении прочитывает он старую пьесу о короле Лире, написанную в 1593–1594 гг. и носившую заглавие «Chronicle History of King Lear».
Здесь нашел Шекспир то, что ему было нужно, наполовину сформованную глину, из которой он мог создать статуи и группы. Здесь, в этой кое-как драматизированной хронике об ужасающей неблагодарности, была тема, которую ему хотелось разработать.
И он полюбил этот сюжет и долго носил в своей душе, пока не придал ему новой жизни.
Мы имеем полную возможность определить то время, когда Шекспир работал над «Королем Лиром». Если бы из других доводов не было ясно, что пьеса не могла быть написана ранее 1603 г., то мы узнали бы это из того факта, что в этом году вышла книга Гарснета «Изложение папистских козней», откуда Шекспир заимствовал имена некоторых дьяволов, упоминаемые Эдгаром (III, 4). С другой стороны, она не могла возникнуть позже 1606 г., так как в этом году, 26 декабря, она была уже представлена перед королем Иаковом. Мы видим это из того, что 26 ноября 1607 г. она была внесена в каталог книгопродавцев с прибавлением следующих слов: «играна перед его королевским величеством в Уайтхолле, в прошлое рождество, в день св. Стефана». Впрочем, мы можем еще точнее определить тот момент, когда она была создана поэтом. Когда Глостер (I, 2) говорит об «этих последних затмениях», то он, без сомнения, подразумевает солнечное затмение, бывшее в октябре 1605 г.; дальнейшие же его слова о «коварстве, несогласии, измене и разрушительных беспорядках» намекают, по всей вероятности, на открытие «большого порохового заговора» в ноябре 1605 г.
Следовательно, работать над «Лиром» Шекспир начал в конце 1605 года.
Сама фабула была старинная и хорошо известная. Впервые изложил ее на латинском языке Джеффри Монмоут в своей «Historia Britonum», впервые на английском языке Леймон в своем «Brut», приблизительно в 1205 г.; она явилась первоначально из Уэльса и носит решительно кельтский отпечаток, который Шекспир, со своим тонким пониманием всех национальных особенностей, сумел сохранить и углубить.
У Холиншеда Шекспир нашел все главные черты рассказа. Здесь Лейр (Leir), сын Бальдуда, правит Британией в то время, когда в Иудее царствовал Иоав. Трех дочерей его зовут Гонерилья, Регана и Корделия (Cordeilla). Он спрашивает их, насколько сильна их любовь к нему, и они отвечают так, как в трагедии. Корделия, изгнанная отцом, вступает в брак с одним из королей Галлии. После того как две старшие дочери начали дурно обращаться с Лейром, он ищет приюта у нее. Она и ее супруг снаряжают войско, отплывают в Англию, разбивают войска старших сестер и вновь водворяют Лейра на его престоле. Он царствует еще два года, затем Корделия наследует корону. Это происходит «за 54 года до основания Рима, когда Урия царствовал в Иудее, а Иероваам в Израиле». Она правит королевством в течение пяти лет, но затем, по смерти ее супруга, ее племянники восстают против нее, опустошают большую часть страны, берут в плен королеву и держат ее под строгой стражей. Она же, имевшая мужественную душу, до такой степени томится по свободе, что сама лишает себя жизни.
Шекспир не удовольствовался основными чертами, найденными им в этом сказании. Представления и мысли, которые оно вызвало в нем, побудили его поискать дополнительного для действия элемента в истории о Глостере и его сыновьях, взятой им из появившейся не более как лет за двадцать перед тем книги Филиппа Сиднея «Аркадия». В историю о великом расточителе, которому дочери платят неблагодарностью после того, как он удалил от себя добрую дочь, он вплел историю о прямодушном герцоге, поверившем клевете и изгнавшем доброго сына, между тем как дурной сын повергает его в то ужасное положение, когда у него вырывают глаза из орбит.
У Сиднея несколько принцев, внезапно застигнутых бурей в королевстве Галации, укрываются от нее в пещере, где встречают слепого старика и молодого человека, которого старик тщетно упрашивает отвести его на горную кручу, откуда он мог бы броситься вниз и покончить с жизнью. Старик был прежде королем Пафлагонии, но вследствие «жестокосердной неблагодарности» своего побочного сына лишился не только царства, но и зрения. Этот бастард имел когда-то на него роковое влияние. По его требованию отец отдал своим слугам приказ завести в лес его законного сына и умертвить его там. Тот спасся, поступил на военную службу в чужой стране, отличился своими подвигами, но, услыхав о том, что пришлось выстрадать его отцу, он поспешил назад, чтобы быть старику опорой, и теперь, против своей воли, собирает над его головой горящие уголья. Старик просит иностранных государей предать гласности его судьбу для того, чтобы события его жизни могли послужить к славе его почтительного сына, славе, являющейся единственной наградой, которой тот может ожидать для себя.
Старинная драма о Лейре, которую Шекспир счел нужным прочитать, придерживалась одной только хроники Холиншеда. Эта драма поучительна для того, кто пытается измерить объем гения Шекспира. Это — наивное произведение, в котором грубые контуры основного действия, знакомые нам по трагедии Шекспира, растянуты в драму, лишенную глубины. Эта пьеса относится к трагедии Шекспира, как мелодия к шиллеровской оде «Гимн к Радости», если играть ее одним пальцем, относится к Девятой симфонии Бетховена. Да и это сравнение делает, пожалуй, чересчур много чести старой драме, так как в ней есть лишь намек на мелодию.
Глава 52
Трагедия кончины мира в «Лире»
Мне думается, что Шекспир обыкновенно работал ранним утром. Распределение дня в его время должно было повлечь это за собой.
Но едва ли в светлые часы дня, едва ли в дневную пору зачал он своего «Короля Лира». Нет, достаточно очевидно, что это было ночью, среди бури и страшной непогоды, — в одну из тех ночей, когда, сидя в своей комнате за письменным столом, мы думаем о бедняках, блуждающих в бесприютной нищете, среди мрака, под ужасным ураганом и насквозь пронизывающим дождем, когда в свисте ветра над кровлями, в его завывании сквозь печные трубы мы слышим дикие вопли и стенания всей земной скорби.
Ибо в «Лире» — и в одном только «Лире» — чувствуем мы, что то, что в наши дни обозначается скучным термином «социальный вопрос», иными словами, что страдание наиболее обездоленных как проблема, — уже существовало для Шекспира. В такую ночь он говорил вместе со своим Лиром (III, 4)[21]:
Вы, бедные, нагие несчастливцы, Где б эту бурю ни встречали вы, Как вы перенесете ночь такую, С пустым желудком, в рубище дырявом, Без крова над бездомной головой.И он заставляет своего короля прибавить:
…Как мало Об этом думал я! Учись, богач, Учись на деле нуждам меньших братьев.В такую-то ночь был зачат «Лир». Сидя за своим письменным столом, Шекспир слышал, как голоса короля, шута, Эдгара и Кента звучали вперемежку в степи, контрапунктически, точно в фуге, перебивая друг друга. И только ради величавого впечатления цельности написал он некоторые большие сцены пьесы, которые сами по себе не могли представлять для него интереса; так, например, все вступление с его недостаточно мотивированным образом действий короля, которое он со своим обычным гордым равнодушием и бесцеремонностью заимствовал из старинной пьесы.
У Шекспира каждое позднейшее произведение всегда связано с предшествующим, подобно тому, как звенья цепи сомкнуты между собою. В истории Глостера повторяется и варьируется тема «Отелло». Глостер, столь доверчивый сердцем, пьет душевную отраву, подносимую ему Эдмундом, точь-в-точь, как душа Отелло отравляется ложью Яго. Эдмунд клевещет на своего брата Эдгара, предъявляет подложные письма, писанные будто бы им, сам себя ранит, чтобы заставить отца вообразить, что сын его Эдгар злоумышляет на его жизнь, — короче говоря, он поступает с Глостером так, как действует Яго, раздражая Отелло, и пользуется совершенно теми же средствами, какие двести лет спустя применяет злой брат Франц Моор в «Разбойниках» Шиллера с целью очернить своего брата Карла в глазах старика отца. «Разбойники» представляют в некотором роде подражание этой части «Короля Лира»; даже слепота отца не забыта в конце.
Шекспир все это переносит в седую старину, в мрачную эпоху сурового язычества, с бесподобной художественной сноровкой соединяет он между собой две первоначально независимые одна от другой фабулы, так что они придают удвоенную силу основному настроению и основной идее пьесы. Остроумно заставляет он Эдмунда найти в сострадании Глостера к Лиру средство для того, чтобы окончательно погубить отца, и остроумно придумывает двойную страсть к Эдмунду Реганы и Гонерильи, побуждающую их искать гибели друг друга. Он наполняет безобидную старинную пьесу ужасами, которых он не выводил с «Тита Андроника», написанного в дни его первой молодости, и не отступает даже перед выкалыванием глаз на сцене. Он хочет без всякой пощады показать нам, что такое на самом деле жизнь. «Так все идет на свете», — говорится в пьесе.
Нигде Шекспир не представлял добро и зло, добрых и злых людей в таком взаимном контрасте, как здесь, и в такой взаимной борьбе, и нигде так не избегал он, как здесь, ходячего и условного в театральном искусстве исхода этой борьбы: победы добрых. Под конец слепой и жестокий рок стирает без разбора с лица земли и злых, и добрых.
Шекспир все сосредоточивает вокруг главного образа — бедного, старого, безрассудного, великого Лира, короля от головы до ног и человека от головы до ног. Лир — страстная натура с чувствительными нервами, следующая чересчур легко первому побуждению. В самой глубине своей природы он настолько достоин симпатии, что вызывает непоколебимую преданность у лучших из своих окружающих, и в то же время так создан повелевать и так привык властвовать, что, отказавшись по капризу от власти, ежечасно вздыхает по ней. Одну минуту, в начале пьесы, старец стоит, выпрямившись во весь рост. Потом он начинает гнуться. И чем слабее он становится, тем больше тяжестей взваливает на него жизнь. И он изнемогает под этой непосильной ношей. Он уходит прочь, ощупью пробираясь вперед, со своею тяжкою судьбой за плечами. Затем светоч духа его гаснет, — безумие овладевает им.
И Шекспир берет тему безумия и разлагает ее на три голоса, распределяя ее между Эдгаром, сумасшедшим из предосторожности, но говорящим языком настоящего помешательства, между шутом, сумасшедшим по профессии и скрывающим под формами помешательства самую истинную житейскую мудрость, и королем, рассудок которого помрачается и заражается от безумных речей Эдгара, — королем, который сделался безумным под влиянием обрушившихся на него бедствий.
Что Шекспир заботился единственно о существенном, о высоком пафосе и глубокой серьезности основного настроения, это, как мы уже упоминали, видно из равнодушия, с каким он заимствует старинный сюжет для того, чтобы дать начало и завязку пьесе. Вступительные сцены в «Лире», само собою разумеется, совершенно противоречат здравому смыслу. Только в сказочном мире может король поделить свои владения между своими дочерьми, руководясь тем правилом, что та из них должна получить самую крупную часть, которая уверит его, что всех больше его любит; только наивным слушателям может показаться убедительным, что старик Глостер, зная чистоту характера своего сына, сразу принимает на веру самую неправдоподобную клевету на него. Личность Шекспира не выступает перед нами в этих местах. Зато мы ясно ее видим в воззрении на жизнь, открывающемся Лиру с той минуты, как он помешался, и находящем себе выражение то здесь, то там, на пространстве всей пьесы. И столько мощи теперь в гении Шекспира, с такою неотразимою силою переданы все страсти, что пьеса, несмотря на свой фантастический, чуждый действительности замысел, производит впечатление совершенно правдивого произведения.
Разве нельзя и без глаз различать дела людские? Гляди своими ушами! Слышишь, как судья мошенник издевается над убогим вором? Слушай, слушай, что я теперь тебе скажу на ухо. Перемени места: который теперь из двух вор, который судья вора? Видал ли ты, как собака лает на нищего?
Глостер. Да, государь!
Лир. И бедняк бежит со всех ног от собаки! Собаки он должен слушаться: она — власть.
И затем следуют взрывы негодования на то, что человек, который карает, сплошь и рядом хуже того, кто подвергается каре: палач сечет развратницу, но сам так же похотлив, как она. Здесь чувствуется настроение, соответствующее настроению в «Мере за меру»: палач должен бы сечь самого себя, а не женщину И за этим следуют еще другие взрывы негодования по поводу того, что богач всегда остается безнаказанным.
Закуй злодея в золото, — стальное Копье закона сломится безвредно.Наконец, всю свою грусть он изливает в следующем восклицании:
Родясь на свет, мы плачем: горько нам К комедии дурацкой подступаться!Во всем этом звучит основная нота из «Гамлета». Но критика Гамлета на ход жизни Лира разделена здесь между многими лицами, голос ее сильнее, и она вызывает эхо за эхом.
Шут Лира, лучший из всех шекспировских шутов, своим язвительным сарказмом, своим метким остроумием представляет подобное эхо. Он — протест здравого человеческого смысла против безрассудного поступка, совершенного Лиром, но протест, в котором нет ничего, кроме юмора; он никогда не жалуется, всего менее на свою собственную участь. Между тем все его шутовство производит трагическое впечатление. И слова, произносимые в пьесе одним рыцарем: «Шут совсем зачах с тех пор, как принцесса (Корделия) уехала во Францию», искупают все его резкие замечания по адресу Лира. Среди мастерских штрихов, выполненных здесь Шекспиром, нужно отметить и тот, что традиционный образ шута, паяца он вознес в такую высокую сферу, что он сделался перворазрядной трагической силой.
Ни в одной шекспировской пьесе в уста шута не вложено столько достойных сделаться пословицами изречений житейской мудрости. Да и вся вообще трагедия переполнена ими. Таковы слова Лира: «Да и нет — плохая теология», Эдгара: «Быть зрелым — в этом все», Кента: «Быть оцененным — лишняя награда».
Тогда как старшие дочери унаследовали от отца и развили до крайних пределов его дурные свойства, Корделии досталась в наследство его сердечная доброта, но с примесью известного упрямства и гордости, которые тоже перешли к ней от Лира, и без которых происшедший конфликт не имел бы места. Как его первый вопрос к ней бестактен, так бестактен и ее ответ. Среди дальнейшего хода действия оказывается, что ее упрямство рассеялось, как дым. Все ее существо — доброта и очарование.
Трогательно изобразил поэт, как Корделия находит своего безумного отца, как она ухаживает за ним и как, благодаря врачебному искусству, он постепенно выздоравливает под влиянием сна и музыки. Все здесь прекрасно, от первого поцелуя и до последнего слова. Лира приносят спящего на сцену. Врач приказывает музыкантам играть, и Корделия говорит (IV, 7):
Отец! Отец мой милый! Пускай уста мои передадут Тебе здоровье с поцелуем этим; Пускай они залечат злую скорбь, Что сестры нанесли тебе под старость! Кент. О милая и кроткая царица! Корделия. Когда б ты не был их отцом, на жалость Твои седины вызвать их могли! Неужто эта голова встречала И буйный ветер, и удары грома?.. Собака моего врага, — собака, Кусавшая меня, в такую ночь Стояла бы у моего огня.Он просыпается, и Корделия говорит ему:
Здоров ли мой великий повелитель? Как чувствует себя король? Лир. Зачем меня Из гроба вынули? Ты — ангел светлый. Но я прикован к огненному кругу, И плачу я, и эти слезы жгутся Так, как свинец расплавленный.И он приходит в себя, спрашивает, где он странствовал и кто он был, и где он теперь, удивляется, что настал уже день, вспоминает о том, что он претерпел:
Корделия. Государь, взгляните Вы на меня! Соедините руки С благословеньем надо мною. Нет, — Зачем хотите вы склонить колени?Обратите внимание на эту последнюю строку. Она имеет свою историю. В старой драме о короле Лейре это коленопреклонение имело большее значение. Там король, изнемогая от голода и жажды, бродит со своим верным Периллом, так называется здесь граф Кент, — как вдруг перед ним являются король Галлии и Корделия, которые, переодевшись в крестьянский костюм, разыскивают Лейра в Англии. Дочь узнает отца, дает ему есть и пить, и он, насытившись, рассказывает ей с глубоким раскаянием повесть своей жизни.
Лейр. Ах, ни у кого нет таких злых детей, как мои.
Корделия. Не осуждай всех из-за того, что некоторые злы.
Взгляни, дорогой отец, взгляни хорошенько на меня! С тобой говорит твоя дочь, которая тебя любит. (Падает на колени.)
Лейр. Встань, встань! Мне подобает склонить колени пред тобою и молить тебя о прощении за грех, который я свершил! (Опускается на колени.)
Эта сцена прочувствована чрезвычайно красиво и наивно, но она невозможна на подмостках театра, где коленопреклоненная поза друг перед другом двух действующих лиц легко может получить комический оттенок. И действительно, эта черта принадлежит к мотивам комедий Мольера и Гольберга. Шекспир сумел сохранить ее, воспользовавшись ею, как и всеми другими ценными штрихами своего предшественника, таким образом, что остается только ее прелесть, а грубая внешняя сторона исчезает. Когда их уводят пленными, Лир говорит Корделии:
Скорей уйдем в темницу! Мы станем петь в ней, будто птицы в клетке. Когда попросишь ты, чтоб я тебя Благословил, я сам, склонив колени, Прощенья буду у тебя просить. И так мы станем жить вдвоем и петь, Молиться, сказки сказывать друг другу.Старинная пьеса о Лейре заканчивается простодушно и невинно, победой добрых. Король Галлии и Корделия вновь водворяют Лейра на его престоле, говорят в лицо злым дочерям едкие истины и затем обращают их войска в полнейшее бегство. Лейр благодарит всех приверженцев, награждает их и проводит остаток своих дней на сладком отдыхе у дочери и зятя.
Шекспир не так светло смотрит на жизнь. У него войско Корделии разбито, старого короля с дочерью отводят в тюрьму. Но никакие пережитые и никакие существующие в данный момент невзгоды не в силах теперь сломить жизненную отвагу Лира. Вопреки всему, вопреки утрате власти, самоуверенности и одно время рассудку, несмотря на поражение в решительной битве, он счастлив, как может быть счастлив старик. Он вновь обрел свою утраченную дочь. От людей его уединила уже сама старость. В спокойствии, которое ему дает темница, он останется едва ли более одинок, чем всегда бывает преклонная старость, и будет жить, замкнувшись в ней с единственным предметом своей любви. Шекспир одно мгновение как будто хочет сказать: счастлив тот, кто в последние годы земного пути, хотя бы даже в темнице, имеет близ себя заветный цветок своей жизни.
Поэтому Шекспир и не останавливается здесь. Эдмунд отдает приказ повесить в тюрьме Корделию, и убийца исполняет данное ему повеление.
Лишь тогда трагедия достигает своей высшей точки, когда Лир появляется с трупом Корделии на руках. Когда, после бурных взрывов скорби, он спрашивает зеркало, чтобы видеть, дышит она еще или нет, происходит следующий обмен реплик:
Лир. Не это ли кончина мира? Эдгар. Не образ ли то ее ужасов?Ему подают перо. Он испускает радостный крик: оно шевелится, его дочь жива. Потом он видит свою ошибку. Следуют проклятия и прелестные, характеризующие Корделию слова:
У ней был нежный, милый, тихий голос Большая прелесть в женщине.Затем переодетый Кент открывается ему, и он узнает, что обеих преступниц сразила смерть. Но способность его к восприятию новых впечатлений почти совсем угасла. Он может только восчувствовать смерть Корделии. «Повешена моя малютка! Нет, нет жизни!» Затем последние силы покидают его, и он умирает.
Кент. Не оскорбляй души его. Пускай Она отходит с миром. Только враг Его вернуть захочет к пыткам жизни.Что этот старец теряет свою младшую дочь, именно это Шекспир выполнил так величаво, что Кент справедливо восклицает «Не это ли обещанная кончина мира?» С этою дочерью он теряет все, что у него оставалось, и бездна, разверзающаяся перед ним, столь глубока и обширна, что, кажется, способна поглотить целый мир.
Потерять Корделию — это значит претерпеть крушение всей жизни. Все люди теряют свою Корделию или чувствуют, что им грозить опасность ее потерять. Потерять самое лучшее и самое дорогое, то, что одно дает жизни цену, — в этом трагедия жизни. Отсюда и вопрос не это ли кончина мира? Да, кончина мира. Каждый отдельный человек имеет лишь свой мир и находится под вечною угрозой пережить его крушение, а Шекспир в 1606 г. был в настроении, допускавшем ею писать лишь такие драмы, где изображалась кончина мира.
Это кончина мира, когда нам кажется, что нравственный мир погибает, когда тот, кто великодушен и доверчив, как Лир, встречает неблагодарность и ненависть в отплату, когда тот, кто честен и доблестен, как Кент, несет позорное наказание, когда тот, кто полон милосердия, как Глостер, и хочет дать пристанище бедному страдальцу, в награду за это теряет глаза, когда тот, кто благороден и непоколебимо верен, как Эдгар, должен скитаться в виде сумасшедшего, с лохмотьями на чреслах, когда, наконец, та, которая представляет живой символ величия женской души и дочерней нежности к старому отцу, ставшему как бы ее ребенком, может на его глазах быть повешена руками убийцы. Так что же пользы в том, что злые после того губят и прощают друг друга! Это громадная трагедия человеческой жизни, и из нее звучит хор насмешливых, полных дикого вожделения и безнадежно стонущих голосов.
Сидя в ночную пору у камина, Шекспир в свисте бури, хлеставшей в оконные стекла, прислушиваясь к завываниям ветра в трубе, слышал, как все эти грозные голоса контрапунктически, точно в фуге, перебивали друг друга, и услыхал в них вопль отчаяния, исходящий из груди страждущего человечества.
Глава 53
«Антоний и Клеопатра». — Что привлекло Шекспира к этому сюжету?
Если в «Лире» нам уже дана величественная трагедия человеческой жизни, то что же остается к ней еще прибавить? Ведь больше не о чем писать поэту, и Шекспир мог отложить в сторону свое перо.
Так это, по крайней мере, кажется. Но что же мы видим на самом деле? Что еще целые годы все новые и новые произведения безостановочно следуют одно за другим. Шекспир представляет нам то же, что все великие и плодовитые гении. Всякий раз, как мы думаем: теперь он создал свое лучшее произведение, теперь он достиг своей вершины, дал то, чего он сам не мог бы превзойти, истощил свой запас, сделал последнее усилие, исполнил свою наивысшую задачу — тотчас после того видим мы, что он, как ни в чем не бывало, без всяких следов напряжения и усталости от огромной работы, оставленной им позади себя, свежий, точно после отдыха, неутомимый, как будто ему теперь только приходится завоевывать себе имя или славу, берется за новый труд на другой же день после того, как расстался со старым.
«Лир» увлекает впечатлительную публику эпохи Шекспира; она толпами устремляется в театр и хочет его видеть; пьеса быстро распродается: два издания in-quarto появляются в 1608 г.; все поглощены ею и далеко еще не успели исчерпать заключающихся в ней сокровищ глубокомыслия, остроумия, житейской мудрости, поэзии — он один ни минуты больше не занимался ею; он совсем отрешился от нее и весь погрузился в следующую работу.
Кончина античного мира! Он не в настроении изображать теперь что-либо иное. В ушах его раздается, душу его наполняет грохот мира, который разрушается. И он ищет себе новый текст к этой музыке; ему нет надобности долго искать; он уже нашел его. С того момента, как он написал «Юлия Цезаря», он не выпускал из своих рук Плутарха.
В первой римской драме он изображает падение мировой республики, но то был мир, где еще действовали крупные, свежие силы. Над всем этим миром витал дух Цезаря; правда, зрители больше слышали о его величии, чем видели его, но его значение ощущалось в результатах его исчезновения со сцены. А республика продолжала еще жить тогда в умах гордых, как Брут, и сильных, как Кассий, и не угасла вместе с ними. Рядом с Брутом стояла дочь Катона, твердая и прекрасная, самая нежная и самая мужественная из жен, созданных гением Шекспира. Короче говоря, там было еще много нетронутых элементов. Республика пала в силу исторической необходимости, но в душах еще не было упадка, не было измельчания, не было гибели.
Между тем, перелистывая далее своего Плутарха, Шекспир должен был натолкнуться на биографию Марка Антония. Сначала он прочел ее из любознательности, затем со вниманием, затем с интересом и душевным волнением. Ибо здесь, здесь впервые действительно погибал римский мир. Здесь, здесь впервые слышался грохот, произведенный глубоким падением древней мировой республики. Римское могущество, суровое и строгое, рушилось при столкновении со сладострастием Востока. Все опускалось, все падало, царства и воли, мужчины и женщины, властители и властительницы, все было подточено червями, искусано змеями, отравлено сладострастием — и все опускалось и падало. Поражение в Азии, поражение в Европе, поражение в Африке на берегах Египта, малодушное отчаяние и самоубийство.
Снова история нравственного отравления, как и в «Макбете». Макбет жертва властолюбия. Антоний погибает от сластолюбия. Но эта история по своим последствиям была много величественней, а потому и много интересней, чем случай отравления мелкого шотландского короля-варвара. Он был душевно отравлен своей женой, женщиной честолюбивой до кровожадности, женщиной чудовищной, более, чем он, похожей на мужчину, почти заслуживающей названия virago, считающей, что разбить череп младенцу есть лишь некоторая аномалия, совершаемая в том или другом случае, чтобы не нарушить данного слова, и бестрепетно обмазывающей лицо служителей Дункана кровью убитого короля.
— Что нам за дело до леди Макбет? Что нам Гекуба? И чем была теперь эта Гекуба для Шекспира!
Гораздо более субъективно подействовала на его внутренний мир Клеопатра. Она медленно, наполовину невольно, вполне женственно отравляет способности к управлению, талант полководца, воинскую отвагу, наконец, величие у Антония, иными словами, у человека, державшего под своей властью полмира, — и ее, Клеопатру, Шекспир знал хорошо! Он знал ее, как все мы ее знаем, женщину из женщин, квинтэссенцию всех дочерей Евы, или, вернее, Еву и змея в одном лице, «нильскую змейку», как называет ее Антоний. Она совмещает в себе все то обаяние и всю беспощадную игру с благороднейшими силами человека, с человеческой жизнью и человеческим счастьем, какие находятся в красоте и желании нравиться, в разжигающей чувственности и изощренной культуре. Без сомнения, она могла опьянить мужчину, будь он даже самым великим человеком, и отнять у него всякую способность к деятельности, могла вознести его на высоту счастья, какого он раньше никогда не знал, и вновь низвергнуть его в бездну гибели, его и в придачу полмира, которым он должен был повелевать.
Кто знает? Сам он, Вильям Шекспир, встреться он с подобной женщиной, остался ли бы цел и невредим? И разве не встречал он подобных женщин в жизни? Разве не с ней ею когда-то столкнула судьба, разве не ее любил он, не ею был любим и обманут? Его особенно поразило то обстоятельство, что цвет кожи у Клеопатры был смуглый, с бронзовым отливом. Он углубился мыслями в эту подробность. И он близко знал такую же смуглую и обворожительную женщину, которую в горькие минуты он готов был назвать цыганкой, как Клеопатру в его драме будут вскоре называть цыганкой те, которые боятся ее или озлоблены против нее. Она, о которой он не мог думать иначе, как с душевным волнением, его смуглая красавица, ангел и демон его жизни, она, которую он и ненавидел и в то же время боготворил, которую он презирал и о благосклонности которой молил, как нищий, — что же была она такое, как не новое воплощение опасной, обольстительной «нильской змейки»! И весь внутренний мир его разве не грозил разбиться, как лопается мыльный пузырь, от жизни с ней и в момент разлуки с нею? Это была тоже кончина мира. Как ликовал тогда он и как терзался, как блаженствовал и как роптал! Жизнь свою растрачивал беспощадно, дни и ночи губил без счета! Теперь он стал более зрелым человеком, джентльменом, крупным землевладельцем и арендатором; но в нем жил еще цыган-художник, чувствовавший себя сродни цыганке.
Три раза у Шекспира (в «Ромео и Джульетте» (II, 4) и в «Антонии и Клеопатре» (I, 1) и (IV, 12) Клеопатру называют в уничижительном смысле gipsy (цыганкой), наверно, вследствие созвучия с egyptian (египтянка). Но в этой игре слов была известная логика; в ее природе таинственно сплетались высокий дух монархини и непостоянство цыганки. А это сочетание, как знакомо оно было ему! Как живо стояла перед его глазами модель великой египетской царицы! Той же самой палитрой, которой он пользовался тогда, когда за несколько лет перед тем набросал эскиз «смуглой леди» сонетов, он мог теперь написать этот громадный исторический портрет.
Обаятельный образ Клеопатры манил его и притягивал к себе. Он пришел к нему от Корделии. Во всей этой громадной трагедии «Лир» он воздвигнул пьедестал только для Корделии. А что такое Корделия? Идеал, который мы читаем на безоблачном челе молодой девушки и который молодая девушка едва ли сама понимает, а тем менее осуществляет. Она была светлым лучом, великим, простым символом чистоты сердца и благородства сердца, определяемых самим ее именем. Он верил в нее; он глядел в невинные глаза, выражение которых дало ему представление о ее природе; он встретил у этой молодой женщины упрямую и несколько угрюмую правдивость, словно знаменующую скрытое за ней богатство неподдельного чувства. Но он не знал Корделию и не встречался с ней изо дня в день.
Совсем другое дело Клеопатра! Перед его взором промелькнул целый ряд женщин, которых он знавал с тех пор, как прочно основался в Лондоне, — тех из них, которые наиболее или в самом опасном смысле были женщинами, и он дал ей обаятельность одной, причуды другой, кокетство третьей, непостоянство четвертой… но в глубине души он об одной только из них думал, о той, которая олицетворяла для него всех женщин, которая была виртуозкой в любви и в умении вызывать любовь, разжигающей, как никакая другая женщина, и вероломно отступающей, как никакая другая, искренней и лживой, смелой и малодушной, несравненной комедианткой и любовницей.
Об Антонии и Клеопатре существовало несколько более ранних английских драм. Однако лишь немногие из их числа заслуживают упоминания. Была «Клеопатра» Дэниеля, основанная частью на плутарховской биографии Антония и Помпея, частью на французской книжке, переведенной Отвеем: «История трех триумвиратов». Затем была пьеса, озаглавленная «Трагедия об Антонии» и переведенная в 1595 г. с французского графиней Пемброк, матерью молодого друга Шекспира. Ни эти произведения, ни многочисленные итальянские пьесы на ту же тему не могут, по-видимому, считать Шекспира своим должником. Ни одной из них он не имел перед собой, когда принялся писать свою драму, игранную в первый раз, по-видимому, незадолго до 20 мая 1608 г., того дня, когда она была занесена в каталоги книгопродавцев как «книга, называемая „Anthony and Cleopatra“», за счет Эдуарда Блоунта, одного из издателей, выпустивших впоследствии в свет первое in-folio. Таким образом, это произведение было, вероятно, создано в течение 1607 г.
Единственным, но зато и решительным источником Шекспира, несомненно, было жизнеописание Антония в сделанном Нортом переводе Плутарха. На основе того, что он извлек из этого чтения, он набросал и обработал свою трагедию, если даже иногда, как, например, в первом ее действии, он пишет, не следуя от слова до слова сообщаемым Плутархом данным. Но зато чем более драма подвигается вперед, тем точнее придерживается он рассказа Плутарха, искусно и тщательно пользуясь всяким более или менее крупным штрихом, казавшимся ему характеристичным. Более того, он заимствует оттуда ту или другую подробность, очевидно, потому только, что она истинна, или, вернее, потому что он считает ее истинной. Порой он вводит совсем ненужных персонажей, как Долабеллу, потому что не хочет вложить в уста другому весть, которая у Плутарха приписывается ему, и лишь в виде самого редкого исключения производит он какую-либо перемену; например, когда в своей драме выставляет изменником Антонию Энобарба, которому Антоний великодушно отсылает его имущество, между тем как у Плутарха беглецом, к которому Антоний относится таким великодушным образом является некий Домиций.
Характер Антония у Шекспира до некоторой степени облагорожен. Плутарх изображает его Геркулесом по наружности, стремившимся своим кокетством в одежде производить впечатление полубога, человеком с широкой, грубой солдатской натурой, любившим хвалить самого себя, любившим дразнить и осмеивать других, но вместе с тем одинаково добродушно принимавшим как похвалу, так и насмешки. Он был жаден на добычу из страсти к роскоши и расточительности, но ничего не знал о большинстве гнусностей, совершавшихся от его имени; не лукавая, а непосредственная в своей грубости натура, распущенная выше всяких границ и лишенная всякого чувства благопристойности. Это был популярный, веселый, щедрый полководец, просиживавший слишком много часов за столом со своими солдатами, равно как и со знатными патрициями, показывавшийся в пьяном виде на улице, спавший там среди белого дня, утопавший в самом низком разврате, тративший целые сокровищницы на свои путешествия, возивший с собой серебряные и золотые столовые приборы громадной ценности, ездивший в колесницах, запряженных львами, даривший за один раз целое состояние, но среди неудач и поражений поднимавшийся на высоту военачальника, умевшего воодушевлять, отказываться без сожаления и без вздохов от всяких удобств для себя и поддерживать мужество у своих воинов. Несчастье всегда возвышало его над ним самим — достаточное доказательство того, что в нем, вопреки всему, таились великие силы. У него были черты Мюрата, черты театрального короля, черты Скобелева и черты средневекового рыцаря — можно ли представить себе что-либо менее античное, чем его двукратный вызов Октавия на поединок? И под самый конец, когда наступило несчастье, когда все обрушилось на него, и те, кого он осыпал благодеяниями, отплатили ему неблагодарностью и покинули его, в нем проявились черты Тимона, погрузившегося в свою печаль и свою горечь афинянина, с которым он любил сравнивать себя тогда.
Уже у Плутарха женщины составляют несчастье Антония. Когда после молодости, в излишествах которой многие женщины играли роль, он вступил в брак с Фульвией, вдовой обесславленного трибуна Клодия, то и она умела уже управлять им и заставлять его подчиняться ее желаниям, так что из ее рук он перешел в руки Клеопатры, вполне приученный к тому, чтобы женщина управляла его судьбой.
Впрочем, по Плутарху в Антонии была немалая доля эластичности и театральности. Он любил переодеваться, забавлялся разными проделками, так например, один раз, возвратившись из похода и переодевшись рабом, он принес своей жене Фульвии письмо с уведомлением о своей смерти и обнял ее в тот момент, когда она стояла, оцепенев от ужаса. Такого рода факты были лишь одним из множества симптомов способности к метаморфозам, которую он обнаруживал, являясь то изнеженным, то закаленным, то женственным, то храбрым до безумия, то честолюбивым, то бесчестным, то мстительным, то великодушным. Эта разносторонняя природа его, эта неустойчивость, переменчивость в Антонии приковали к себе внимание Шекспира. Поэтому он вывел характер Антония не совсем таким, каким нашел его у Плутарха. Он выдвинул на первый план более светлые его стороны и взял фундаментом врожденное превосходство Антония, грандиозную расточительность его существа, аристократическую щедрость и легкомысленное стремление наслаждаться данной минутой — свойства, нередкие для великих властелинов и великих художников.
В этом античном образе была скважина, в которую легко могла проскользнуть собственная душа поэта; его фантазия без труда переносилась в душевные настроения Антония; он мог его играть, приблизительно так, как в качестве актера мог играть роль, бывшую ему по характеру. Антоний обладал способностью к приращениям составлявшей сущность его поэтической натуры. Он был одновременно и мастером в притворстве, — вспомните речь над Цезарем в предыдущей римской драме, встречу Октавии здесь — и открытым, честным человеком; он был по-своему верен, чувствовал себя искренно привязанным к своей возлюбленной и своим соратникам, и при всем том имел ужасающую способность меняться. Он был, иными словами, художественной натурой.
Среди множества противоречивых свойств его преобладающими были два: стремление к деятельности и страсть к наслаждению. Октавий говорит о нем в пьесе, что эти две склонности одинаково сильны у него. Быть может, это до некоторой степени справедливо. Если бы при его гигантской физической силе, задатки чувственности были в нем еще крупнее, то он сделался бы тем, чем впоследствии сделался в истории Август Сильный, а Клеопатра была бы его Авророй Кенигсмарк. Если бы в нем была более развита энергия, то талант полководца и склонность к вину и неге сочетались бы у него в таком приблизительно роде, как у Александра Великого, и Антоний в Александрии мог бы быть поставлен рядом с Александром в Вавилоне. Теперь же стрелка весов долгое время стояла совсем вертикально между обеими чашками, пока Антоний не встретил своей судьбы в Клеопатре.
Шекспир наделил их обоих самой редкой красотой, хотя ни он, ни она уже не молоды. Римляне видели в нем Марса, в ней Венеру; более того, суровый Энобарб объявляет (II, 2), что когда он в первый раз увидал Клеопатру, она затмевала своей красотой «даже изображение Венеры, доказавшее, что искусство превосходит иногда и природу».
Она — очаровательница, в которой, по выражению Антония, «все прекрасно — и сердце, и улыбки, и слезы», равно как и спокойное состояние духа. Она «дивное, несравненное создание природы». Антоний никогда не будет в силах ее покинуть, ибо, как говорит Энобарб (II, 2):
Не лета не старят ее, ни привычка не уменьшает ее бесконечного разнообразия; удовлетворяя желаниям, другие женщины пресыщают, а она возбуждает голод, чем более удовлетворяет. Самое дурное облекается в ней в такую прелесть, что даже и строгие жрецы, как она ни развратничает, благословляют ее[22].
Что за важность в таком случае, если Шекспир представляет ее себе смуглой, как африканку, — в действительности она была чистейшей греческой крови — или если сама она преувеличенно называет себя старухой! Она может подсмеиваться как над цветом своей кожи, так и над своим возрастом:
Он думает обо мне, обо мне, почерневшей от страстных поцелуев Феба, покрытой глубокими морщинами времени.
Она — свет, озаряющий землю, как и зовет ее Антоний, восторженно восклицая (IV, 8): «О светило вселенной!»
Антоний по своему внешнему облику и по своей осанке как бы создан для нее. Не одна только влюбленность гласит устами Клеопатры, когда она говорит об Антонии (V, 2): «Я видела во сне, что то был император Антоний — лицо его было, как лик неба». И красоте его лица соответствует красота ею голоса:
Голос его был гармонией сфер небесных, но только тогда, когда он говорил с друзьями: потому что, когда нужно было устрашить, потрясти шар земной — он рокотал, как гром.
Она восхваляет его богатую, щедрую натуру:
Для щедрости его не было зимы. Его цветами украшались и короны, и венцы; царства и острова сыпались из кармана его, как мелкая монета.
И подобно тому, как Энобарб уверял, что Клеопатра была прекрасней изображения Венеры, в создании которой фантазия художника превзошла природу, точно так же и Клеопатра после смерти Антония уверяет в порыве энтузиазма, что его человеческая природа превосходила своим величием все, что может изобрести воображение:
Клеопатра. Как ты думаешь: был или может быть человек, подобный снившемуся мне?
Долабелла. Нет, прекрасная царица.
Клеопатра. Ты лжешь, и боги слышат это. Если же есть или был когда-нибудь такой, он превосходит всякое сновидение. В образовании чудных форм природа не может, конечно, спорить с фантазией по недостатку материала; но, придумав Антония, она все-таки превзошла фантазию, совершенно помрачила все ее призрачные создания.
Так в настоящее время стали бы мы говорить в мире действия о Наполеоне, в мире искусства о Микеланджело, Бетховене или Шекспире.
Но образ Антония должен был представлять возможность такой идеализации, чтобы достойно соответствовать идеализации той, которая сама царица красоты, фея любви.
Паскаль говорит в своих «Мыслях»: «Если бы носик у Клеопатры был короче, все лицо вселенной изменилось бы». Но ее нос — как мы видим на древних монетах — был именно такой, каким ему следовало быть, и все ее существо у Шекспира не только красота, но и обаятельность, за исключением одной-единственной сцены, где весть о браке Антония приводит ее в состояние некрасивого бешенства. Ее обаятельность опьяняющего свойства, и соблазны, которыми она не обладала первоначально, она развила в себе навыком и искусством, так что сделалась неисчерпаема в изобретательности и разнообразии наслаждений. Она — женщина, переходившая из рук в руки, из рук своего мужа и брата в руки великого Цезаря, из его рук в руки Помпея, затем в руки других без числа. Она — куртизанка по темпераменту, и тем не менее она настолько велика, что может полюбить одного. Она многообразна, как и Антоний, но как женщина, многообразнее его. Homo duplex, femina triplex.
Она является с первого шага в трагедии и почти до последнего великой кокеткой. Все, что она говорит и делает, долгое время лишь выражает потребность и способность кокетки очаровывать непредвиденными капризами. Она спрашивает об Антонии, требует, чтобы его разыскали (I, 2). Он приходит. Она восклицает: «Мы не желаем видеть его теперь!» и уходит. Снова начинает она тосковать по нем и посылает к нему, чтобы напомнить ему о себе и чтобы держать его в напряженном состоянии:
Увидишь, что он печален — скажи, что я пляшу; весел — скажи, что я вдруг захворала.
У него умирает жена. Клеопатра стала бы неистовствовать, если бы он выказал печаль, но он холодно говорит о смерти Фульвии, и она нападает на него за это:
Где же священные фиалы, которые тебе следовало бы наполнить влагой печали? Теперь я вижу, вижу по смерти Фульвии, как будет принята и моя.
Эти непредвиденные вспышки, эти капризы простираются у нее на ничтожнейшие мелочи. Она приглашает Мардиана сыграть с ней партию на биллиарде (забавный анахронизм!), и когда он соглашается, она отказывается со словами: «Я уже раздумала».
Однако вся эта переменчивость не исключает у ней самой искренней, самой страстной влюбленности в Антония. Лучшее доказательство силы этого чувства можно видеть в том, как она говорит об Антонии во время его отсутствия (I, 5):
О Хармиана, как ты думаешь — где он теперь? Стоит или сидит? Идет или скачет на коне? — О, как счастлив конь, несущий Антония! Веди же себя умнее, добрый конь! Знаешь ли, кого несешь ты? Атласа, поддерживающего полвселенной, руку и шлем человечества.
Поэтому она говорит одну лишь правду, когда подчеркивает, какой непоколебимой уверенностью и каким доверием, каким спокойствием за будущее наполняла любовь как ее, так и Антония, когда они впервые увидали друг друга (I, 3):
Тогда ни слова об отъезде. Вечность была в устах и взорах наших, блаженство в дугах бровей, и все, все в нас было божественно.
Поэтому не иронией звучат слова Энобарба, когда на жалобу Антония (I, 2) «Она ужасно хитра», он дает следующий ответ:
О нет, ее страсти составлены из одних только тончайших частиц чистейшей любви.
Это буквально справедливо. Но только это — чистая любовь не в смысле просветленной или чуждой эгоизма, а в смысле дистиллированной эротики, химически чистой от всяких других элементов, обыкновенно входящих в состав любви.
И обстоятельства соответствуют силе и характеру страсти. Как он повергает к ее ногам восточные царства, так она с беспощадной расточительностью рассыпает богатства Африки на праздниках, которые дает в его честь.
Глава 54
«Смуглая леди» как модель. — Падение республики — кончина мира
Если в трагедии «Антоний и Клеопатра» Шекспир, как и в «Лире», имел в виду вызвать представление о кончине мира, то он не мог здесь (как в «Макбете» и «Отелло») сконцентрировать свою драму вокруг одних главных героев; он даже не мог слишком резко подчинить этим двум всех остальных действующих лиц; тогда оказалось бы невозможным впечатление могучей широты и впечатление действия, обнимающего всю известную в то время часть земного шара, которых он желал достигнуть ради заключительного сценического эффекта.
В группе, образовавшейся вокруг Октавия Цезаря, и в группах, составившихся вокруг Лепида, Вентидия и Секста Помпея, ему нужен был противовес группе Антония, в спокойно-красивой и римско-прямодушной Октавии ему нужен был противовес изменчивой и чарующей египтянке; в лице Энобарба ему нужна была фигура, служившая по временам некоторым подобием хора и бросавшая ироническую ноту в пафос трагедии. Короче говоря, ему была нужна целая масса действующих лиц и (для того, чтобы мы получили впечатление, что действие происходит не в замкнутом пространстве в каком-нибудь уголке Европы, а на мировой сцене) нужно было, чтобы эти лица постоянно приходили и уходили, посылали и принимали вестников, сообщения которых ожидаются с напряжением, выслушиваются с затаенным дыханием и нередко сразу изменяют коренным образом ситуацию главных персонажей.
Честолюбие, характерная черта в прошлом Антония, определяет его отношение к этому великому миру; любовь, так всецело овладевшая им теперь, определяет его положение относительно египетской царицы и этим самым утрату всех преимуществ, приобретенных для него честолюбием. Тогда как в такой трагедии, как, например, «Клавиго» Гёте, честолюбие играет роль искусителя, а любовь понимается как добрая, законная сила, здесь, наоборот, любовь является достойной осуждения, честолюбие же считается призванием и долгом великого человека.
Поэтому Антоний говорит:
Нет, необходимо расторгнуть страшные египетские узы, иначе мне погибнуть в любовном сумасбродстве.
Мы видели, что Шекспир для воспроизведения образа Антония мог воспользоваться одним из элементов своей художнической натуры. Он тоже разбил когда-то свои оковы, или, вернее, жизнь их разбила ему, но создавая эту великую драму, он пережил вновь те годы, когда сам чувствовал и от своего имени говорил, как здесь Антоний:
И доказательством правдивости моей клятвы служат тысячи вздохов, которые вылетают из моей груди, когда я думаю о твоем лице, они свидетельствуют, что черное для меня красивее всего. (Сонет 131)
Изо дня в день стояла теперь перед очами как модель та, которая была Клеопатрой его жизни, та, которой он писал о сладострастии:
Страсть безумна как в желании, так и в обладании. Это благодать в минуту наслаждений, а после него — одно лишь горе, до нее — обетованная радость, после нее — одна мечта. Все эго хорошо известно людям, а между тем никто не умеет избежать тех небес, которые ведут в ад. (Сонет 129)
Он видел в ней когда-то неотразимую и позорящую Далилу, ту Далилу, которую двумя веками позднее Альфред де Виньи проклинал в знаменитых стихах.
Он скорбел, как теперь Антоний, о том, что его возлюбленная была достоянием многих и многих.
Если глаза, подкупленные слишком пристрастным зрением, становятся на якорь в гавани, где снуют всякие люди, зачем из этого заблуждения глаз ты выковала цепи, которыми опутала суждение моего сердца? Зачем мое сердце считает заповедным местом то, что — как оно само это знает — сделалось общим достоянием? (Сонет 137)
Как Антоний теперь, он испытывал жгучие муки при виде ее кокетничанья со всяким, кого она хотела покорить. В то время он разражался жалобами, как Антоний в драме разражается бешенством.
Скажи, что уж давно не мил тебе я боле, Но на других при мне так нежно не гляди! Нет, не лукавь со мной! Твоей я отдал воле Свою судьбу, я слаб, скорее, не щади!Теперь он больше не жалуется на нее, теперь он ее заставляет с царской диадемой на челе жить и дышать в грандиозной верности природе на той сцене, которая была его миром.
Как в «Отелло» он дал любящему мужчине приблизительно свой собственный возраст, так и теперь он с особенным интересом изображает статного и блестящего любовника, от которого молодость уже отлетела; еще в сонетах он останавливался на своем возрасте. В 138-м сонете значится:
Когда моя возлюбленная клянется мне, что она соткана из верности, я верю ей, хотя знаю, что она лжет, верю ради того, чтобы она меня считала неопытным юношей, хотя ей хорошо известно, что мои лучшие годы уже прошли.
Когда Антоний и Клеопатра одновременно погибли, ей шел 39-й год, ему 54-й. Она была, следовательно, почти втрое старше Джульетты, он — более чем вдвое старше Ромео. Шекспиру нравится это совпадение с его собственным возрастом, и влюбленная чета как будто еще более стоит вне и выше общего удела земной жизни благодаря тому, что время не заставило ее поблекнуть и увянуть. Следы, наложенные на них обоих годами, только придали им еще более глубокую красоту. Все, что сами они в минуту грусти или другие из неприязненного чувства говорят против этого, ровно ничего не значит. Противоположность между их действительным возрастом и возрастом их красоты и страсти производит лишь возвышающее и пикантное впечатление. Это пустая брань, когда Помпей восклицает (II, 1):
Да украсятся увядшие уста твои, о Клеопатра, всеми прелестями любви! Усиль красу чародейством; сладострастием — и то, и другое!
Это имеет так же мало значения, как когда она сама себя называет покрытой морщинами. И преднамеренно, для того, чтобы обозначить возраст Антония, на который нет намека у Плутарха, Шекспир заставляет его самого распространяться о смешанном цвете своих волос. Он говорит (III, 9):
Сами волосы мои враждуют: седые проклинают опрометчивость черных, черные — пугливость и сумасбродство седых.
В момент отчаяния (III, 11) он восклицает:
Пошли к мальчишке Цезарю эту седеющую голову!
И снова, после последней победы, он торжествующим тоном возвращается к тому же. С восторгом говорит он Клеопатре (IV, 8):
Видишь ли, милая, хоть седины и проглядывают сквозь юнейшую чернь моих волос, в мозгу достаточно еще пищи для нервов, достаточно сил, чтобы одерживать верх и над самой юностью.
Чрезвычайно верно обрисовал Шекспир у Антония свойственную зрелому возрасту боязнь даром пропустить мгновение, страстное нетерпение наслаждаться, пока не пробил еще час, возвещающий конец всяким наслаждениям. Поэтому в одной из своих первых реплик Антоний говорит (I, 1):
Именем любви и ее сладкими часами заклинаю… Каждая минута нашей жизни должна знаменоваться каким-нибудь новым наслаждением.
Затем наступает время, когда он чувствует необходимость сбросить с себя узы любви. Он пользуется смертью Фульвии для того, чтобы легче добиться согласия Клеопатры на его отъезд, но этим он еще не приобрел свободы. С целью наглядно представить контраст между Октавием, как политиком, и Антонием, как любовником, Шекспир ставит на вид, что тогда как первый ежечасно требует уведомления о политическом положении, Антоний не получает никаких ежедневных известий, кроме аккуратно приходящих писем Клеопатры, которые поддерживают в нем тоску, влекущую его назад в Египет.
Чтобы утешить поднявшуюся против него бурю и получить возможность любить без всякой помехи свою царицу, он соглашается вступить в брак с сестрой своего противника, рассчитывая с презрением отвергнуть ее потом и отделаться от нее. Тогда его постигает месть за то, что он так постыдно утратил владычество над более чем третьей частью цивилизованного мира. Слова, которые он произнес, обвив рукой стан Клеопатры (I, 1):
Пусть Рим размоется волнами Тибра, пусть рухнет свод великой империи — мое место здесь! –
эти слова не проходят безнаказанно. Рим ускользает из его рук. Рим объявляет его врагом Римской республики, Рим идет на него войной. И вот он свое могущество, свою славу, свое благополучие губит в поражении, которое так позорно навлекает на себя при Акциуме. Клеопатра могла бежать. Она бежит в драме (по Плутарху и по преданию) из трусости; в действительности она бежала вследствие тактических и разумных причин. Но Антония честь обязывала остаться. В трагедии (как и в действительности) он следует за Клеопатрой по безрассудной, постыдной неспособности остаться, когда она ушла, бросает на произвол судьбы войско в 112 000 человек и флот в четыреста пятьдесят больших кораблей, оставляет их без начальника и вождя. Девять дней ждали войска его возвращения, отвергая все предложения неприятеля, не веря измене и бегству любимого полководца. Когда под конец они поняли, что он потопил в позоре свою честь военачальника, тогда они перешли на сторону Октавия.
С этих пор весь интерес драмы вращается вокруг взаимных отношений Антония и Клеопатры, и Шекспир дивным образом представил одушевляющий их экстаз и происходящие в их отношениях перемены. Никогда до этого не любили они друг друга так страстно и так восторженно. Теперь не только он открыто называет ее: «О светило вселенной!» И она отвечает ему возгласом: «О царь царей! О беспредельная доблесть!»
Но, с другой стороны, никогда до этих пор не было так глубоко их взаимное недоверие. Она, никогда не имевшая в себе задатков величия, кроме величия виртуоза в эротике и кокетстве, всегда относилась с подозрением к Антонию, и все-таки еще не с достаточно сильным подозрением, потому что его женитьба на Октавии совершенно сразила ее, хотя она ко многому была готова. Он, знающий ее прошлое, знающий, как часто она отдавалась другим, и хорошо изучивший ее природу, считает ее неверной даже тогда, когда этого нет, даже тогда, когда она, как Дездемона, имеет против себя лишь самую слабую тень улики. Под конец мы видим, что из Антония развивается Отелло.
Некоторые штрихи в его характере указывают на то, что Шекспир незадолго перед тем написал «Макбета». Клеопатра разжигает чувственные инстинкты Антония, его жажду наслаждений, как леди Макбет — честолюбие у своего супруга, и в последней битве он, как Макбет, приходит в исступление, сражается с мужеством безумия, лицом к лицу с несомненным перевесом сил. Но по своему внутреннему миру он после поражения при Акциуме приближается к Отелло. Он велит наказать плетьми посланца Октавия, Тирея, за то только, что Клеопатра позволила ему на прощанье поцеловать ее руку. Когда несколько кораблей ее обращаются в бегство, он тотчас же воображает, что она в союзе с неприятелем, и осыпает ее самыми грубыми ругательствами, чуть ли не хуже той брани, с которой Отелло обрушивается на Дездемону. В монологе же своем (IV, 10) он, точь-в-точь как Отелло, неистовствует без всяких причин:
О лживое волшебство Египта, коварная чародейка, одним своим взглядом ты двигала мои войска на войну, возвращала домой; грудь твоя была моим венцом, моей конечной целью, и ты, как настоящая цыганка, надула меня своей подлой игрой!
Оба они, хотя вероломные по отношению к другим, остались бы верны друг другу; но в минуту испытания у них не оказывается взаимного доверия. И все эти душевные волнения поколебали у Антония способность рассуждать. Чем храбрее он становится в несчастии, тем менее может видеть действительность, как она есть. Чрезвычайно метко заключает Энобарб третье действие словами:
Вижу, что мужество нашего полководца восстанавливается ослаблением мозга; а когда мужество живет за счет рассудка — оно пожирает и меч, которым сражается.
Чтобы успокоить ревнивое бешенство Антония, Клеопатра, для которой неправда есть всегда ближайшее вспомогательное средство, посылает ему лживую весть о своей смерти. Скорбя об ее утрате, он бросается на меч и смертельно ранит себя. Его приносят к ней, и он испускает дух. Тогда Клеопатра восклицает:
И благороднейший из людей жаждет умереть? И не подумает обо мне? Неужели я останусь в этом пошлом свете, который без тебя нисколько не лучше хлева. О, посмотрите, мои милые, венец земли тает!
Однако у Шекспира она не тотчас же составляет план тоже лишить себя жизни. Она домогается соглашения с Октавием, выдает ему список своих сокровищ, старается утаить от него более чем половину их и лишь тогда, когда ей становится ясно, что ни энтузиазм к красоте, ни сострадание, ничто не может тронуть этого холодного, умного человека, твердо решившего отдать ее несчастье на посмеяние черни, выставив напоказ египетскую царицу во время своего триумфа в Риме, лишь тогда ищет она смерти у нильской змеи.
В этом пункте поэт представил поведение Клеопатры в гораздо менее благоприятном свете, чем древний греческий историограф, которого он придерживается во всех частностях, и, очевидно, он сделал это умышленно и вполне сознательно, для того чтобы показать вполне женский тип, опасность которого он изобразил в ней. Ибо у Плутарха Клеопатра предпринимает эти шаги относительно Октавия только для вида, чтобы строгим надзором, которым он окружил ее, он не помешал ей покончить с собой, о чем она единственно только и думает, и чему он воспрепятствовал в первый раз. Она только притворяется, будто дорожит своими сокровищами, притворяется для того, чтобы заставить его вообразить, что она дорожит еще жизнью, и ей удается провести его своим гордым обманом. Шекспир, для которого она неизменно остается олицетворением всего того в женщине, что характеризует самку, намеренно принижает ее, устраняя историческое толкование ее образа действий.
Английский критик Артур Саймоне пишет: «„Антоний и Клеопатра“, по моему мнению, самая дивная из шекспировских пьес, и потому в особенности, что Клеопатра самая дивная из шекспировских женщин. И не только из шекспировских, но, быть может, вообще самая дивная из женщин».
Это уж слишком пламенный энтузиазм. Однако нельзя отрицать, что главная притягательная сила этого образцового произведения кроется в несравненном образе Клеопатры и в том художественном увлечении, с каким написал его Шекспир. Но величие этой всемирно-исторической драмы проистекает от гениальности, с какой Шекспир переплел частные отношения влюбленных с судьбами государств и ходом истории. Как Антоний погибает вследствие союза своего с Клеопатрой, так погибает и Римская республика вследствие соприкосновения трезвого и закаленного запада с негой и роскошью востока. Антоний — Рим, как Клеопатра — Восток. Когда он гибнет жертвой восточной неги, то вместе с ним как бы угасает само величие Рима и сама Римская республика.
Не честолюбие Цезаря и не убийство Цезаря, а лишь это происшедшее четырнадцать лет спустя самоуничтожение римского величия производит впечатление глубокого падения мировой республики, всеобъемлющего крушения, которое Шекспир здесь, как и в «Лире», хочет дать почувствовать читателю.
Это уже не трагедия семейного и замкнутого в известные пределы круга, как, например, заключение «Отелло»; в ней нет светлого и сулящего лучшие времена Фортинбраса, принимающего наследие Гамлета; победа Октавия лишена блеска, и с ней не соединено никаких упований. Нет! Заключительная картина здесь именно то, что с самого начала Шекспир задумал изобразить, когда его привлек к себе этот грандиозный сюжет — картина кончины античного мира.
Глава 55
Уныние и презрение к людям
Тоска — тоска!
Душа Шекспира, которая, как музыкальный инструмент, звучала такими веселыми и трогательными, забавными и страстными, печальными и гневными напевами, теперь расстроена. Расстроена эта душа, некогда исполненная возвышенных чувств и глубоких дум, сохранявшая даже в вихре страстей неизменное равновесие и сдержанную твердость.
Жизненная мудрость Шекспира проникнута теперь пессимистическим отвращением. Под влиянием своей меланхолии он подмечает только отрицательную сторону действительности. Его шутка превратилась в горький сарказм, остроумие — в жестокое издевательство. Было время, когда он наслаждался весенней зеленью и свежими, сочными красками, которыми блистала жизнь, потом наступила эпоха, когда весь мир представлялся ему в мрачном цвете, и когда ему казалось, будто на все светлое и прекрасное спускаются густые тени, и эти тени затемняют собою прежние, яркие краски. А теперь настает время, когда жизнь ему кажется более чем отвратительной, когда он сознает, что воздух отравлен подлостью, и грязь покрывает землю. Шекспир окончил теперь свое первое кругосветное путешествие вокруг мировой жизни. Он страшно отрезвился.
Надежды и разочарования, грезы и желания, жизнерадостное ликование и участливое сострадание, воинственный пыл и гордость своей победой, вдохновенный гнев и бешеное отчаяние, словом, все чувства, переполнявшие его душу, как будто испарились, и все ощущения слились в одно бесконечное презрение. Да, презрение — теперь господствующее настроение в сердце Шекспира, человеконенавистничество самых грандиозных размеров, которое переливается в его жилах вместе с его кровью; презрение к князьям и к народу; презрение к героям, которые в действительности просто фанфароны и забияки, тем более трусливые, чем они знаменитее; презрение к художникам и писателям, которые при виде заказчика или покровителя льстят, раболепствуют и разыгрывают паразитов; презрение к старикам, которые только напыщенные, выжившие из ума болтуны, или лицемерные, хитрые негодяи, и к молодежи, которая легкомысленна, бесхарактерна и излишне доверчива; презрение к дуракам энтузиастам и к глупцам идеалистам; презрение к мужчинам, которые или грубы и злы, или настолько наивны и чувствительны, что рабствуют перед женщинами, и к прекрасному полу, который отличается слабостью, чувственностью, непостоянством, лживостью и коварством. Глуп тот, кто доверяет женщине, кто свои поступки согласует с ее капризными желаниями. Медленно подготовлялось такое настроение в душе Шекспира.
Мы видели, как оно постепенно надвигалось.
Впервые оно проявилось в трагедии «Гамлет», но еще в очень скромной форме в сравнении с той горечью, которая теперь наполнила все его существо. Только как шепот или дуновение ветерка прозвучали слова Гамлета, намекавшие на его мать: «непостоянство, имя твое — женщина». Но что касается Офелии, то она отличалась скорее нежностью, чем бесхарактерностью, и ее нельзя назвать ни коварной, ни вероломной. Даже королева Гертруда не была лживой особой.
В том протесте против лицемерия и ханжества, который лег в основу драмы «Мера за меру», дышало, правда, страстное негодование, но это настроение не было настолько серьезно, чтобы совсем затушить всякую вспышку веселого комизма, и не было достаточно мрачно, чтобы сделать примиряющий исход пьесы невозможным. Так точно и в «Макбете» трагическое действие разрешилось гармонично и духи света восторжествовали. В «Отелло» существовал один только отрицательный характер, только один, правда грандиозный, негодяй. Зато Отелло, Дездемона, Эмилия были, по существу, прекрасные люди. В драме «Король Лир» над всей пьесой царило не презрение к людям, а, напротив, великое, всеобъемлющее сострадание. Здесь Шекспир как будто расчленил свое собственное существо, чтобы перевоплотиться в самые разнообразные личности и таким образом испытать все муки бытия. Но в этих произведениях еще нет уничтожающего сарказма.
Только теперь звучит в его настроении беспощадная, злобная насмешка как основная нота. Наступает время, когда все существо поэта насквозь пропитывается отвращением к людям, и рука об руку с ним идет безграничное сознание своего собственного превосходства. Теперь в жизни Шекспира наступают минуты бешеного презрения к придворному обществу и к низким сословиям, к соперникам и врагам, к друзьям и подругам, и особенно к большой толпе. Это настроение можно было заметить уже в трагедии «Антоний и Клеопатра», хотя только в зачаточном виде. Что за безумец этот Антоний, жертвующий своим добрым именем, своей властью над третьей частью мира ради кокетки с бездушным сердцем и горячей кровью, переходившей из рук в руки и обладавшей таким изменчивым характером, который отсвечивал всеми красками солнечного спектра? Но это настроение достигает своего апогея в пьесе «Троил и Крессида». Что за глупец этот Троил, привязывающийся всеми фибрами своего существа, с наивностью ребенка, к Крессиде, этой классической кокетке, олицетворяющей женское непостоянство, к этой коварной ветреной девушке, легковесной, как морская пена, непостоянство которой вошло в поговорку?
Шекспир вступает теперь в тот период духовного развития, когда мужчина чувствует инстинктивную потребность сорвать с женщины тот блестящий ореол, которым ее окружают половое чувство и романтическое воображение, и когда ему доставляет глубокое наслаждение видеть в женщине только представительницу пола. В этот период жизни исчезает вместе со всеми прочими иллюзиями также благоговение перед любовью, перед женщиной как перед существом, достойным обожания. «Все суета сует!» — восклицает теперь Шекспир устами Соломона. Как в каждом художнике, так и в нем уживались восторженная мечтательность рядом с грубым цинизмом. Теперь Шекспир забывает на время эту мечтательность, и остается один только цинизм.
Разумеется, в душе великого человека такой коренной переворот имел свои причины, или, может быть, какую-нибудь одну основную причину. Мы видим ее действие, но она сама нам неизвестна. Тем не менее следует выяснить, насколько возможно, этот темный вопрос.
В 1846 году Леверрье пришел к тому заключению, что ненормальности в движении Урана обусловлены какой-нибудь другой планетой, находящейся позади него. Но ни он, ни кто-нибудь другой не видал этой предполагаемой планеты. Тем не менее он точно определил ее место. Три недели спустя Галле открыл именно на этом месте планету Нептун. К сожалению, жизненный небосклон Шекспира окутан такой темнотой, и все попытки открыть новые материалы и бросить на него яркий свет увенчались такими малыми успехами, что едва ли возможно будет решить этот вопрос. Но мы должны, по крайней мере, внимательно взглянуть на тот горизонт, который открывался его глазам, посмотреть, в каком положении находились современные ему общественные и политические дела.
Каждая эпоха представляет, конечно, богатый материал как для радостных, так и для угнетающих размышлений. Но глаз человека не всегда готов обращать одинаковое внимание как на положительные, так и на отрицательные стороны жизни. Мы убеждены, что взор Шекспира всматривался теперь особенно охотно во все то безобразное и печальное, грязное и отвратительное, что представляла ему современная действительность. И меланхолия поэта находила в этих наблюдениях богатую пищу. Он вдыхал в себя из каждого ядовитого цветка, вырастающего на окраинах его жизненного пути, его ядовитый аромат и проникался все больше и больше ощущением горечи. Каждый новый опыт укреплял и усиливал в нем пресыщение жизнью и презрение к людям.
А в современных общественных событиях было достаточно таких черт, которые должны были вызвать в нем негодование, отвращение и презрение.
Глава 56
Двор. — Королевские любимцы и Рэлей
Общественное положение, занимаемое Шекспиром, заставляло его примкнуть как можно теснее к королю и ко двору Но отрицательные качества первого и испорченные нравы второго обнаруживались все ярче с каждым годом. Король любил, когда его сравнивали с мудрым Соломоном. В действительности же он напоминал его только своею расточительностью. С другой стороны, он походил на французского короля Генриха III тем, что был неравнодушен к мужской красоте. Его страсть к фаворитам, постоянно сменявшим друг друга, сближает его также с королем Эдуардом II в известной драме Марло. Один современник замечает, что Иаков увлекался красивым лицом и красивой фигурой мужчины, как настоящая девушка. Современники сравнивали короля в этом отношении с его предшественницей, и эти сравнения говорили, конечно, не в его пользу. Елизавета не была замужем, утверждали они, она дарила свою любовь только мужчинам, притом людям выдающимся и заслуженным, и она не находилась под их влиянием. А Иаков, человек женатый, пламенел то к одному, то к другому фавориту, людям бездарным и дерзким, раздававшим высшие государственные должности и погубившим страну, и, что хуже всего, находился у них в полном подчинении. В наше время Суинберн заклеймил (в своем этюде о Чапмане) Иакова следующей позорящей его характеристикой: «Он соединял злобу и педантизм северного жителя с самыми негодными качествами самых извращенных итальянцев эпохи глубочайшего упадка итальянской жизни».
Был ли Иаков в самом деле шотландцем по отцу и матери? По внешности он мало напоминал блестящую мать и красавца Генри Дарнлея. Современники сильно сомневались. Та легенда, которая возникла в наши дни, что ревность Дарнлея была неосновательна, им показалась бы абсурдом. Тогда никто не думал, что некрасивое лицо итальянского певца и домашнего секретаря было для Марии Стюарт достаточным основанием не питать к нему нежного чувства. А Генрих IV, любивший иногда грубо пошутить, называл шотландского Соломона не иначе, как Соломоном, сыном Давида (т. е. Давида Риччо).
Та восторженная радость, с которой английский народ приветствовал вступление Иакова на престол, сменилась в скором времени резкой антипатией. Поступки короля оскорбляли национальное самосознание англичан, возмущали их чувство законности и чувство приличия. Как Иаков, так и жизнерадостная Елизавета, любившая придворные праздники, балы и маскарады, окружавшая себя фаворитами, покровительствовали одно время одной и той же фамилии. Королева остановила свое благосклонное внимание на графе Пемброке, на друге Шекспира, а король покровительствовал младшему брату, произведенному им в графы Монгомери. Но либо король не встретил в нем того сочувствия, на которое рассчитывал, или же другие, более сильные впечатления разрушили его обаяние, — как бы там ни было, но достоверно известно, что король перенес в 1603 году любовь на 20-летнего юношу, которому предстояло сделаться самым могущественным человеком Англии.
Это был юный шотландец, Роберт Карр, обративший на себя внимание короля во время одного турнира, когда упал с лошади и сломал себе ногу. Он служил, будучи мальчиком, пажом у Иакова; затем отправился во Францию в поисках за счастьем и поступил, наконец, на службу к лорду Гею. Иаков приказал отвести раненого в свой дворец, послал ему своих врачей, часто навещал его во время болезни, произвел его в рыцари, назначил его своим камергером и ни за что не хотел с ним расставаться Он занимался с ним даже латинским языком. И этот человек поднимался все выше и выше, пока не занял, наконец, место среди старейшей знати страны. То обстоятельство, что Карр был шотландец по происхождению, особенно возмущало общественное мнение. Вокруг короля и без него толпились всевозможные шотландские авантюристы, а англичане считали шотландцев по-прежнему чужим народом. Уже новый термин «Великобритания», устранявший из обиходного языка славное имя Англии, возбуждал всеобщее неудовольствие. Шотландские деньги курсировали наравне с английскими, а флаги английских кораблей украшались теперь не только крестом св. Андрея, но также крестом св. Георгия. Словом, англичане считали себя обманутыми. Они боялись, по словам одного современного трактата, «что шотландцы пробьют себе дорогу к английскому лордству и в спальни английских леди». В парламенте энергично боролись против распространения гражданских прав на шотландцев. Тогда Френсис Бэкон являлся обыкновенно выразителем королевского мнения. Оппозиция ссылалась скромно на библейскую историю об Аврааме и Лоте. Когда их семейства поселились вместе, между ними поднялся раздор, и они сказали, наконец, друг другу «иди ты вправо, а я пойду влево». Правда, Иаков заявлял, что не желает вовсе взваливать работу на Англию, а Шотландии предоставлять плоды ее трудов.
Но каждый раз, когда пробуждалась страсть в короле к своему любимцу, он отдавал предпочтение шотландцам. Иаков хотел во что бы то ни стало сделать своего фаворита земельным собственником. И вот как он поступил.
Когда Рэлей понял, что вокруг него все рушится, он перевел свое имение Шерборн на имя жены и назначил своим наследником сына. Однако через несколько месяцев королевские юристы отыскали в документе такую ошибку, которая делала его недействительным. Тогда Рэлей немедленно написал из темницы письмо на имя Солсбери, умолял короля не лишать его и семьи всего их имущества из-за пустой ошибки. Король пробормотал несколько утешительных слов и обещал ему выхлопотать точный документ. Тогда Рэлей возымел надежду, что в скором времени, вероятно, получит свою свободу. Он вообразил почему-то, что Христиан IV, посетивший в 1606 году Англию, замолвит за него доброе слово. Однако, когда леди Рэлей бросилась на колени перед королем в Гемптонкорте, он равнодушно прошел мимо нее, не проронив ни единого слова. Наконец, в 1607 году король решил уже бесповоротно подарить поместье Рэлея своему фавориту. В 1608 г. Рэлей должен был доказать свои права на имение. Однако, кроме упомянутого недействительного документа, других у него не было никаких. Тогда леди Рэлей во время аудиенции бросилась вторично к ногам короля вместе со своими двумя малолетними сыновьями. Она умоляла выдать ей верный документ. Но Иаков холодно возразил на своем родном диалекте: «Мне нужны эти земли для Карра». Говорят, будто гордая женщина потеряла тогда терпение, вскочила с пола я стала грозить Божьей карой дерзкому обманщику. Сам Рэлей поступил несколько дипломатичнее. Второго января он послал письмо к Карру, прося его убедительно отказаться от своих притязаний на Шерборн. Конечно, он не получил никакого ответа. 10 числа того же самого месяца король подарил, наконец, Карру имение Рэлея. Приходится сожалеть, что Рэлей, не скрывавший в частных беседах своего мнения о королевском фаворите, унизился до того, что написал письмо, как он выражается, «человеку, которого он не знает, но о котором слышал много лестного». Леди Рэлей получила в вознаграждение денежную сумму, которая, конечно, не соответствовала стоимости поместья, а мужа продолжали по-прежнему содержать в заточении. Характерно то обстоятельство, что его выпустили из Тауэра в 1618 году вследствие того, что он сумел возбудить в своем коронованном тюремщике чувство жадности. Так как на него возлагали большие надежды по поводу золотоносных россыпей, открытых в Гвиане, то врата его темницы растворились и ему вернули свободу на два года. А когда в действительности не оказалось никаких россыпей, то Иаков воспользовался этим, как поводом к казни.
Глава 57
Теология короля и его нужда в деньгах. — Его несогласия с нижней палатой
Король увлекался церковными делами и богословскими вопросами так же сильно, как своими фаворитами. Порою он высказывал такие суеверные воззрения, которые смешили даже его современников, не отличавшихся свободой от предрассудков. Эдуард Гоби замечает в одном письме к Томасу Эдмондсу (19 ноября 1605 г.): «Король заявил в одной парламентской речи, что считает четверг самым счастливым днем в неделе. При этом он ссылался на свое освобождение из замка Гоури (из рук братьев Рутвен) и на недавнее событие (т. е. на „пороховой заговор“). Он заметил, что оба эти события произошли к тому же 5 числа. И он закончил свою речь требованием, чтобы парламентские заседания открывались только по четвергам». Иаков поддерживал духовенство не столько из-за религиозных мотивов, сколько из желания упрочить королевскую власть. Вместе с тем он хотел распространить свою любимую теорию, что все вопросы, без исключения, должны решаться последней инстанцией — его проницательной мудростью. Известно, что тогда светские и духовные суды постоянно между собою враждовали. Первые очень часто отрицали право последних разбирать известные процессы, пока они не докажут свою компетентность. Церковь, в свою очередь, утверждала, что оба суда друг от друга не зависят, и что духовный суд получил свои права непосредственно от самой короны. В 1605-м кентерберийский архиепископ подал королю жалобу на светских судей, а эти последние апеллировали к парламенту. В это самое время один из главных защитников пуритан, Фоллер, вел процесс двух людей, обвиненных в ереси. Эти последние порядочно пострадали от церковного суда. Он и стал отрицать право этого суда назначать денежные пени и тюремные аресты. Он называл это учреждение папским. Впоследствии он сам за неосторожное суждение был приговорен к тюремному заключению и отпущен на свободу только после того, как принес покаяние. Но вопрос о взаимных отношениях между светскими и духовными судами еще долго потом волновал умы. В этом споре король стоял, конечно, на стороне последних, чтобы избавиться от контроля парламента. Напротив, верховный судья Кок защищал светский суд. Однажды он позволил себе заметить, что король обязан уважать законы страны, а эти законы не признают духовных судов. Тогда Иаков поднял руку и, вероятно, ударил бы Кока (как некогда юный Генрих V ударил верховного судью), если бы испуганный Кок не бросился перед ним на колени, умоляя о прощении.
Так как король отличался строгой ортодоксальностью, то он вмешивался во все богословские споры. Один голландский профессор богословия, Конрад Форстиус, высказывал, по его мнению, еретические взгляды. Но даже в Голландии, где большинство теологов отличалось правоверностью, никто не находил проповедническую деятельность Форстиуса предосудительною. Голландские дипломаты и купцы-патриции склонялись вообще к веротерпимости. Однако Иаков напал на Форстиуса так страстно и так грубо, что его поневоле отставили от должности, боясь расстроить дружественные отношения с Англией. В самый разгар этой полемики были уличены в ереси некие Эдуард Уайтмен и Бартоломью Лигет. Последний чистосердечно признался, что он арианец и уже несколько лет, как не молился Христу. Тогда Иаков пришел в бешенство. Если Елизавета сожгла двух еретиков, то почему и ему не поступить так же, тем более, что общество видело в таком наказании только правосудие, а не жестокость. В марте 1612 года оба несчастных были сожжены.
Иаков страдал также манией писательства. Он любил составлять всевозможные прокламации. В одном из первых своих указов он издал предостережение против иезуитов и назначил срок, к которому они должны были очистить государство. В другой прокламации он требовал установления полного однообразия богослужебных церемоний для всех вероисповеданий. По этому поводу один смелый проповедник, Бурджес, произнес в присутствии короля целую речь о значении этих церемоний. Эти церемонии, говорил он, напоминают мне те бокалы римского сенатора, которые не стоили человеческой жизни. Этот сенатор пригласил императора Августа на пирушку. Войдя в дом, Август услышал отчаянный крик одного из рабов, разбившего драгоценный бокал, готовились бросить в бассейн с рыбами. Тогда император приказал отложить на мгновение исполнение приказания и спросил сенатора, в самом ли деле у него есть такие бокалы, которые дороже человеческой жизни? Сенатор возразил, что, действительно, некоторые из них стоят больше целой провинции. Тогда Август приказал принести все бокалы и все разбить, дабы никто не лишился больше из-за них жизни. «Пусть ваше величество, — закончил проповедник, — сам выведет нравоучение из этого рассказа». Но король не переставал издавать свои прокламации. Ему доставляло особое удовольствие налагать свое veto на такие поступки, которые вовсе не были противозаконными. Когда негодование нации достигло крайних пределов, то король решил узнать на этот счет мнение верховного судьи. В 1610 году Коку был предложен вопрос имеет ли король право запретить строить в Лондоне новые дома (Иаков в самом деле издал такой циркуляр, боясь, как он выражался, чрезмерного роста столицы) и производить крахмал (в одной из своих прокламаций король приказал употреблять пшеницу исключительно для еды). Судья ответил, что король не может своими указами создавать новых законов или подвергать суду Звездной палаты такие поступки, которые лежат вне ее компетенции. Тогда король на время прекратил издание таких указов, которые налагали денежные пени или тюремное заключение.
В скором времени натянутые отношения между королем и народом настолько обострились, что привели к полному разрыву между Иаковом и нижней палатой. Эта последняя не хотела признать за королем права назначать по собственному усмотрению подати и расточать безумно деньга.
Однажды Иаков потребовал у нижней палаты 500 тысяч фунтов для покрытия своих долгов. Когда в парламенте говорили довольно откровенно о его расточительности, о мотовстве его фаворитов, то он, видимо, страдал от подобных речей. Королю передали также оскорбительный для него слух, будто нижняя палата требует удаления всех шотландцев обратно на их родину. Он лишился чувств и велел распустить парламент в 1611 году. То было началом борьбы между королевской властью и народом, которая продолжалась всю его жизнь, привела в царствование его сына к великой революции и закончилась только 78 лет спустя, когда обе палаты предложили единодушно английский престол Вильгельму Оранскому.
Хотя доходы Иакова с каждым годом росли, обыкновенно незаконными путями, однако он, тем не менее, вечно нуждался. В феврале 1611 года он раздал 34 тысячи фунтов стерлингов шести своим фаворитам, среди которых было четверо шотландцев.
В марте месяце он назначил Карра рочестерским виконтом, т. е. произвел его в английские пэры. Это был первый в английской истории случай вступления шотландца в палату лордов, и этот шотландец старался изо всех сил возбудить вражду между королем и нижней палатой. Позднее финансовый кризис навел Иакова на мысль продавать баронский титул.
Каждый рыцарь, или эсквайр, пользовавшийся хорошей репутацией и обладавший земельной собственностью, с доходом в размере 1000 ф., мог приобрести титул барона за 1080. ф. с уплатой этой суммы в три срока в течение одного года. На такую сумму можно было содержать в Ирландии 30 человек пехоты в продолжение трех лет. Однако эта мера не дала никаких положительных результатов: расточительность короля была слишком велика, а спрос на титул баронета слишком ничтожен.
В 1614 году дело дошло до того, что двор не знал, куда деваться от долгов, несмотря на частую продажу коронных земель. Король задолжал 680 тысяч ф. Ежегодные расходы превышали к тому же на 200 тысяч ф. сумму дохода. Гарнизоны, стоявшие в Голландии, уже давно не получали жалованья и готовились к мятежу. Крепости находились в самом жалком положении и давно нуждались в ремонте. Иностранные послы тщетно просили о высылке жалованья. Наконец, король решил снова созвать парламент. Несмотря на бессовестное давление, оказанное на избирателей, оппозиция в нижней палате получила опять большинство голосов. Накопилось достаточное количество причин для неудовольствия. Король занял для свадьбы своей дочери 30 т. ф. у лорда Харрингтона, которому предоставил взамен привилегию чеканить медную монету. Затем правительство монополизировало производство стекла и дало одному акционерному обществу исключительное право торговли с Францией. Когда верхняя палата отказалась от совместного обсуждения с нижней палатой какого-то вопроса, то епископ Нейл, один из самых низких лакеев короля, позволил себе оскорбительные выражения по адресу нижней палаты. Тогда там поднялась страшная буря. Один молодой дворянин обозвал придворных испанскими собаками (spania — значит испанская собака, а в переносном смысле — льстец) короля и настоящими волками для народа, а другой заметил шотландским фаворитам, что в Англии может повториться сицилийская вечерня.
Иаков пытался в пространных речах перед открытием парламента склонить на свою сторону нижнюю палату, но он скоро понял, что едва ли чего-нибудь добьется, и распустил в июне месяце парламент вторично.
Чтобы покрыть долги и получить новые средства, при дворе решили оказать давление на граждан и заставить их посылать, как бы добровольно, королю денежные подарки. Епископы показали всем пример, предлагая королю свои лучшие серебряные сосуды и драгоценнейшие сокровища. За ними последовали все те, которые рассчитывали получить какие-нибудь привилегии от короля. Масса людей посылала в полное распоряжение правительства большие суммы денег в Уайтхолл, где хранились королевские драгоценности. Некоторые даже побуждали Иакова обнародовать воззвание ко всей нации, чтобы хороший пример мог всюду найти подражателей. Вначале все были убеждены, что этот способ обложения себя повинностями даст казне громадный доход. Когда же король просил город ссудить ему сумму в 100 000 ф., то он получил в ответ (какая разница между этим ответом и полученным прежде Елизаветой), что ему охотнее подарят 10 000 ф., чем дадут взаймы 100 000.
В продолжение одного месяца с небольшим король собрал таким путем 23 000 ф. Вскоре, однако, золотоносный поток иссяк. Тщетно правительство предписало во все графства и ко всем чиновникам всюду рассылать подобные прокламации. Шерифы повсеместно получали один ответ: если король созовет парламент, то ему, по всей вероятности, не откажут в необходимой сумме. В продолжение двух следующих месяцев собрали только 500 ф. Было издано новое воззвание, оказано новое давление — и не добились никаких результатов. Любопытно, что несчастный Рэлей, знавший обо всем только понаслышке, написал по этому поводу трактат «О прерогативах парламента». Считая Иакова невинным в злоупотреблениях, совершенных от его имени министрами, он хотел ему дать добрый и полезный совет. Он лелеял наивную мечту получить в награду за свое сочинение свободу, но его книга была тут же уничтожена.
Другая вспышка национального негодования — это известное дело Пичем. Возмущенный поведением чиновников и духовенства, этот человек позволил себе несколько слишком смелых выражений. Хотя при обыске, устроенном в его квартире, нашли только одну рукописную проповедь, никогда не произнесенную, нигде не напечатанную, тем не менее его подвергли пытке. Сам Бэкон бессовестно одобрял палачей. В политических процессах пытка еще считалась совершенно естественной процедурой.
Иаков был вообще бессердечен. Его жестокость обнаруживались особенно ярко в тех случаях, когда он объявлял милость осужденным на смерть. Таких людей, как Кобгем, Грей и Маркем, он заставлял ждать два часа под топором палача, пока не объявлял им причину их помилования.
Современники были не менее жестоки, чем король. В частной переписке того времени постоянно говорится о том, что одного повесили, другого пытали, третьего колесовали, четвертого обезглавили. И все эти ужасы рассказываются без малейшего душевного волнения. Каждая смерть объяснялась как следствие отравления. Когда умер сын короля, то разнесся слух, что отец, взбешенный его популярностью, собственноручно устранил его со своей дороги. И если каждая смерть наводила на мысль о яде, то каждая страсть и каждая болезнь объяснялась не иначе, как волшебством. Колдуны и колдуньи были предметом всеобщей ненависти; их казнили, но в них верили. Даже такой человек, как друг Филиппа Сиднея, Фолкгревил, лорд Брук, хотя и смеется в своей книге, озаглавленной «Пять лет царствования Иакова», над колдовством, но говорит о нем в тоне глубокого убеждения.
Глава 58
Нравы при дворе
При дворе царил довольно пошлый тон. Половые отношения отличались таким легкомыслием, которое с трудом можно было предполагать ввиду равнодушного отношения короля к женщинам. Нравы были испорчены, манера объясняться самая грубая. В одном письме дипломат сэр Дадли Чарлтон описывает приключения одной брачной ночи. В конце концов король подошел рано утром в дезабилье к постели новобрачной, разбудил ее и остался с ней некоторое время наедине.
В официальных указах Иаков называл свою супругу не иначе, как «our dearest bed-fellow» (наша дражайшая сопостельница). В нелепой и циничной переписке Иакова с Бекингемом (преемником Карра) последний подписывался обыкновенно «Your dog», а король величал его постоянно «Dog Steenie». Иаков обращался даже к серьезному Сесилю со словами «litlle beagle» (маленькая гончая). Королева, умоляя Бекингема спасти жизнь Рэлея, называет его также «Му kind dog». Вместе с чувством личного достоинства исчезло и чувство приличия. Даже Дизраэли, этот принципиальный защитник и поклонник короля Иакова, должен признаться, что придворные нравы были ужасны, что двор, проводивший свое время в безделье, живший безумно роскошно, был заражен самыми гнусными пороками. Он приводит один стих из поэмы «Урод» Дрейтона, где говорится о великосветском джентльмене и придворной леди:
He’s too much woman and she’s too much man[23].Дизраэли находит, далее, характеристику современных нравов, сделанную Артуром Вильсоном, совершенно верной. Вильсон рассказывает, что многие знатные девушки, обедневшие вследствие расточительности родителей, видели в своей красоте неистощимый капитал. Они торговали собою в Лондоне, получали потом от своих благодетелей громадные пожизненные пенсии и выходили, наконец, замуж за людей выдающихся и богатых. Все считали их разумными и галантными дамами, порою даже героическими натурами. Мужчины выражались так цинично, что часто можно было услышать фразу вроде следующей, облеченную, однако, в более непристойную форму: «Я предпочел бы только считаться любовником такой-то дамы, не будучи им в действительности, чем находиться с ней на самом деле в связи, но тайно, без ведома общества». Дон Диего Сармиенто д’Акунья, граф Гондомар, считался одним из лучших дипломатов Испании. Положим, он был настолько недальновиден, что воображал вернуть Англию в лоно католической церкви, но он умел мастерски обходиться с людьми, поражал непоколебимой твердостью, привлекал к себе образцовой гибкостью в обращении, умел вовремя молчать и вовремя говорить и вместе с тем служил с пользою своему повелителю. Он имел, подобно английским придворным, право свободного доступа к Иакову и расположил к себе короля забавными выходками. Он с умыслом говорил варварским латинским языком, чтобы давать Иакову возможность поправлять его речи. Каждый раз, когда граф ехал домой верхом или в коляске, то на балконах появлялись знатные леди, чтобы ответить на его поклоны. Дизраэли замечает, что каждая из этих дам была бы готова продать ему свою любовь за большую сумму. Некоторые из них слыли за остроумных женщин (wits) и имели красивых дочерей или племянниц, которые привлекали множество гостей в их салоны. Вот, например, один анекдот, рассказанный многими современниками, так как произвел на них, вероятно, большое впечатление.
Гондомар проезжал однажды в Друрилейн мимо дома красавицы-вдовы, некоей леди Джакоб. Он поклонился ей. К его неописанному удивлению, она в ответ только широко раскрыла рот. Невежливость леди смутила испанца. Вероятно, ей хотелось зевнуть, решил граф. Однако та же самая история повторилась на следующий день. Тогда Гондомар послал ко вдове одного кавалера из своей свиты с поручением доложить ей, что обыкновенно английские дамы относятся к нему благосклоннее и не отвечают дерзостью на его вежливость. Дама велела ответить, что ей хорошо известно, какой дорогой ценой покупал он любовь многих знатных, а у нее такой же рот, как у всех, и этот рот так же нуждается в пище. Гондомар послал ей немедленно подарок.
Женщины следовали в этом отношении только примеру мужчин. Английский посланник в Мадриде лорд Дигби понял очень скоро, что тайны испанского двора можно узнать за довольно дешевую цену и постарался извлечь из этого обстоятельства возможно больше выгоды. Так он узнал в мае 1613 г., что Испания платила ежегодное жалованье целому ряду высших английских сановников. Когда он увидел в списке имя адмирала сэра Вильяма Монсона, он пришел в недоумение. Когда же он узнал, что недавно умерший лорд-канцлер, граф Солсбери, также принадлежал до последней минуты своей жизни к числу этих лиц, он прямо ужаснулся.
В декабре месяце ему удалось получить весь список, и он был поражен, как громом, встретив в нем имена тех лиц, которые занимали высшие государственные должности, и честность которых считалась выше подозрений.
Он не хотел доверить этих тайн бумаге, так как неприкосновенность писем была тогда не в обычае. Он взял поэтому отпуск, чтобы лично доложить королю эту печальную новость.
Глава 59
Арабелла Стюарт и Вильям Сеймур
Один факт из жизни королевской семьи, вызвавший бы в наше время, по словам Гардинера, негодование всего британского народонаселения, доказывает наглядно бессердечие короля, отсутствие при дворе и в большой массе чувства справедливости. Арабелла Стюарт была кузиной Иакова. Она получала еще при Елизавете казенное содержание и вращалась в среде придворных дам. В ее письмах обнаруживается прелестное, возвышенное сердце, чуждое всякого политического тщеславия. В одном письме своему дяде Шрусбери она заявляет желание доказать всему миру, «что молодая дама в состоянии сохранить свою невинность и чистоту — как это ни парадоксально — даже среди тех безумств, которыми полна окружающая ее придворная жизнь». Она намекает здесь на вечные маскарады, в которых участвовала «королева со своими фрейлинами в костюмах морских нимф или нереид, к большому удовольствию зрителей». Арабелла стояла в стороне от этого водоворота развлечений. Несколько иностранных князей сватались за нее, но она не хотела выходить замуж за человека, которого не знает. Однако распространился ложный слух, будто она обещала отдать свою руку одному из претендентов, который и заявит от ее имени свои права на английский престол. Вследствие этого Иаков заключил ее на рождество 1609 г. в темницу и вызвал к допросу в государственный совет. Затем недоразумение выяснилось, король позволил ей выйти замуж за кого угодно из его подданных и отпустил ее на свободу.
Несколько недель спустя она познакомилась с человеком, который покорил ее сердце. Она полюбила его так страстно и так преданно, как шекспировская Имоджена Постума. Это был молодой Вильям Сеймур, сын лорда Бьючемпа, одного из родовитейших аристократов страны. В феврале месяце он получил доступ в ее комнаты и ее согласие на брак. Обещание, данное королем Арабелле, позволяло любящим спокойно смотреть в будущее. Но выбор юной принцессы оказался роковым. Лорд Бьючемп, сын графа Гертфорда и Екатерины Грей, являлся в самом деле претендентом на английскую корону со стороны ветви Суффолк. Хотя старший сын лорда был тогда еще в живых, и Вильям Сеймур не мог считаться в данную минуту претендентом, но ведь старший сын мог умереть бездетным, что и случилось в действительности.
Что же касается прав ветви Суффолк на английский престол, то они были признаны законными в одном парламентском акте, а парламент, избравший Иакова, не был компетентен изменить порядок престолонаследия. Ввиду такого сочетания обстоятельств Иаков совершенно не принял в расчет, что ни Сеймур, ни Арабелла, да вообще никто в Англии не думал лишать его престола в пользу его кузины и ее жениха. Молодых людей пригласили в государственный совет и допросили. Сеймур должен был отказаться от мысли жениться на Арабелле.
Три месяца он ее не видал. В мае 1610 г. молодые люди тайно обвенчались. Когда Иаков в июне узнал об этом, он пришел в дикий гнев. Арабеллу отвезли в Ламбет, Сеймур был брошен в Тауэр.
Тщетно Арабелла пыталась тронуть сердце короля. Но молодая парочка пользовалась в Лондоне большими симпатиями, и тюремное начальство разрешило им тайные свидания. Когда король узнал об этом из их вскрытой переписки, Арабеллу перевезли для большей безопасности в Дургем и отдали под надзор тамошнего епископа. Когда же Арабелла отказалась покинуть свою комнату — ее вынесли насильно.
Дорогою она заболела так серьезно, что ей позволили отдохнуть в каком-то местечке. Здесь ей удалось бежать в таком костюме, в котором обыкновенно путешествуют у Шекспира молодые женщины. Она надела панталоны французского покроя, мужскую куртку, сапоги красно-коричневого цвета, мужской парик с длинными локонами, накинула на плечи черный плащ и опоясалась саблей. В таком костюме она убежала в Блэквелл, где ее ожидал французский корабль.
В то же время лорд Сеймур бежал из Тауэра. Простой случай помешал им встретиться. Спутники Арабеллы потребовали, чтобы она отплыла как можно скорее, хотя молодая женщина горячо протестовала.
На следующий день в Блэквелл прибыл Сеймур. Когда он узнал, что корабль уже ушел, он упросил одного рыбака перевести его в Остенде. Не доезжая несколько миль до Кале, Арабелла уговорила капитана корабля переждать несколько часов, чтобы дать Сеймуру возможность догнать ее или чтобы получить от него какие-нибудь сведения. Здесь ее настиг английский крейсер, отправленный вслед за беглецами из Дувра. Арабеллу привезли в Тауэр. Она умоляла о пощаде, но Иаков грубо ответил: «Она вкусила от запретного плода, пусть же теперь пострадает за свое непослушание». Арабелла лишилась с отчаяния рассудка и умерла после четырехмесячного заключения в нищете и горе. Лишь после ее смерти ее муж получил позволение вернуться в Англию.
Глава 60
Рочестер и леди Эссекс
В то время, как разыгрывалась эта трагедия, настоящим правителем Англии был Карр. Он считался официальным фаворитом. Все прошения писались на его имя. Он раздавал все награды.
После смерти графа Дунбарского он был назначен председателем тайного совета и лордом-казначеем Шотландии. Имя его сияло на родине особенным блеском. Затем он получил титул барона Брэндспег, виконта Рочестера и, наконец, был сделан кавалером ордена Подвязки.
При дворе он встретил противодействие только со стороны принца Генриха, любимца всей нации, который не выносил его высокомерного поведения. Принц был также его соперником одно время у одной опасной красавицы. После смерти принца могущество Рочестера достигло своего апогея. В качестве главного секретаря он распечатывал письма, адресованные на имя короля, и часто отвечал на них без предварительного совещания с королем. Иаков так доверял фавориту, что всегда во всем с ним соглашался. В 1613 г. Карр получил новый титул. Виконт Рочестер был произведен в графы Сомерсет и, наконец, в 1614 г. был сделан лорд ом-камергером, «так как король любил его больше всех на свете». Временно он исполнял также должность лорда-канцлера и начальника «над пятью гаванями, лежащими против Франции». Вдруг он пал совершенно неожиданно. Обстоятельства, вызвавшие его падение, являются одним из самых интересных эпизодов царствования Иакова. Ни одно событие не произвело такого неизгладимого впечатления на умы современников, не заняло так много места в их письмах, в которых имя Шекспира никогда не упоминается, и в тех исторических и политических сочинениях, которые совершенно игнорируют его существование.
Лишь только Иаков прибыл в Англию, он постарался всеми силами примирить разрозненные, враждовавшие между собою аристократические семейства. Так, желал он, между прочим, обвенчать сына и наследника графа Эссекса с одной из представительниц той фамилии, которая погубила его отца. В январе 1606 г. 14-летний граф Эссекс сочетался браком с 13-летней Френсис Говард и сделался таким образом родственником могущественных фамилий Говардов и Сесилей. В январе 1605 года мистер Пори пишет сэру Роберту Коттону: «…жених держал себя так серьезно и мило, словно находился в возрасте своего отца». Церковная практика этого столетия допускала подобные детские браки, но из чувства приличия молодых людей разъединяли. Юный Эссекс отправился в путешествие. Восемнадцати лет он вернулся и потребовал свою невесту. В нем было много силы воли и он отличался ровным, спокойным темпераментом. Напротив, 17-летняя Френсис Говард была порывистой, страстной девушкой, неизменной в своих симпатиях и антипатиях. Грубая, жадная мать дала ей плохое воспитание, окончательно же ее развратила испорченность двора. Она сразу возненавидела своего жениха и упорно отказывалась жить с ним под одной кровлей. Однако ее родственники принудили ее последовать за ним в его поместье близ Чартлея. Принц Генрих и фаворит Рочестер обратили на нее оба свое внимание. Мы узнаем из одного современного документа, что леди Френсис возлагала больше надежд на фаворита, чем на ненадежную и невыгодную любовь принца. Таким образом, ненависть между сыном и другом короля еще больше обострилась. Когда леди Френсис остановила со свойственною ей страстностью свой выбор на Рочестере, она решила прекратить супружеские отношения с мужем, чтобы доказать Рочестеру свою верность и успокоить ревнивого любовника. Она обратилась сначала к некоей госпоже Торнер, вдове врача, которая занималась после смерти мужа всевозможными выгодными аферами. Она просила ее дать ей какое-нибудь средство, способное вызвать у лорда Эссекса половое бессилие. Когда присланное средство оказалось недействительным, она написала госпоже Торнер следующее письмо, фигурировавшее потом на суде и изданное Фолкгревилем:
«Моя милая Торнер! Я возлагаю на тебя по-прежнему все свои надежды добиться счастья в этой жизни. Мой лорд свежее и здоровее обыкновенного. Он жаловался на меня брату Говарду… Меня это приводит в бешенство. Я чувствую к мужу такое отвращение, как ни к одному мужчине. Он мешает мне наслаждаться любовью того, кого я люблю».
Когда граф вторично пожаловался, то обе женщины обратились вместе к доктору Форману, известному в свое время магу и шарлатану. Они попросили его дать им такое средство, которое могло бы вызвать в душе графа отвращение к своей супруге. Доктор дал свое согласие, произнес разные заклинания над восковыми куклами и т. п. Так как все эти средства, однако, не действовали, то леди Френсис написала к кудеснику следующее письмо:
«Мой милый отец! Хотя я знаю Вашу всегдашнюю готовность помочь мне, тем не менее я опять должна просить Вашего содействия. Я имею полное основание доверять Вам, хотя весь мир идет против меня. Впрочем, небо благоволит ко мне. Много приходится мне страдать от ворчливости супруга, от упрямства врагов, от гнета судьбы. Из этого дремучего леса только Вы способны вывести меня своею мудростью. Именем Бога заклинаю Вас, помогите мне. Чартлей.
Ваша искренно любящая Вас дочь Френсис Эссекс».В начале 1613 г. некая Мэри Вуд обвинила леди Эссекс в том, что она пыталась подкупить ее отравить графа. Впрочем, это дело оставлено было без последствий. Вскоре после этого для леди Эссекс вновь блеснул луч надежды. Уже три года прошло с того времени, как ее муж вернулся из-за границы. Если бы ей удалось доказать суду, что она в действительности не была женою Эссекса, то она могла бы добиться развода. Для этого она заручилась содействием отца и бессовестного дяди, могущественного лорда Нортумберленда. Она упросила последнего, игравшего в этой истории приблизительно такую же роль, как Пандар в «Троиле и Крессиде», объяснить королю, что ее муж страдает бессилием, и что она совершенно лишена радостей супружеской жизни. Так как король все еще был привязан к Рочестеру, и так как он любил устраивать счастье фаворитов, то он выслушал ходатаев леди Френсис очень внимательно. Эти последние сообразили очень быстро ту выгоду, которая вытекала для них из родства с Рочестером, бывшим доселе их противником, и они стали принимать все более горячее участие в этой истории. Дело было, наконец, улажено на одном из собраний, устроенных друзьями супругов — графом Нортгемптоном и графом Суффолком, со стороны леди Френсис, и графом Саутгемптоном и лордом Ноллисом, со стороны Эссекса. Эссекс отказался признать в себе тот недостаток, который мог ему помешать вступить в новый брак, но заявил прямо, что он не может быть мужем именно этой дамы.
Тогда созвали комиссию, состоявшую из духовных лиц и юристов, для обсуждения этого дела и организовали комитет, образованный из шести акушерок и десяти благочестивых знатных матрон. Они должны были разрешить вопрос, находится ли организм леди Френсис в нормальном состоянии и в самом ли деле она, как утверждает, девушка. Стыдливость леди оказалась столь великой, что она явилась к осмотру под вуалью. При таких условиях мог совершенно естественно распространиться слух, что осмотру подверглось подставное лицо. Осмотр дал именно те результаты, которые были желанными для леди Френсис, убедил только тех, кто его устроил и представил богатый материал для бесчисленных грубых шуток.
Адвокаты леди Эссекс доказывали комиссии, что ее муж заболел мнимым недугом под влиянием чародейства. Но она была настолько осторожна, что не назвала, конечно, ни себя, ни доктора Формана виновниками колдовства. Некоторые члены комиссии были уже заранее склонны объявить брак недействительным. Они желали исполнить волю короля и фаворита. Однако архиепископ Эббот, человек независимых взглядов, заявил, во-первых, что болезнь графа нельзя никоим образом приписать чародейству, и указал, во-вторых, на то обстоятельство, что дело леди Эссекс может послужить прецедентом для каждой бездетной супруги. Так как при баллотировке обнаружилось равенство голосов, то Эббот просил короля о своем выходе из комиссии. Иаков назначил двух других епископов, и большинством семи против пяти голосов брак был объявлен недействительным. Вследствие этого Эббот сделался одно время самым популярным человеком Англии. Епископ Нейл, которого и без того презирали, и епископ винчестерский Вильсон, которого считали честнее, были преданы осмеянию. Когда король поблагодарил последнего тем, что произвел его сына в рыцари, тот получил во всей Великобритании позорную кличку «сэр Бильсон-ничтожество».
Рочестер имел в продолжение всей своей карьеры, а также теперь, во время своей связи с леди Эссекс, прекрасного поверенного в лице молодого человека по имени Овербери. Он писал для своего патрона любовные письма к Френсис и был посвящен во все тайны их свиданий в Патерностер-Роу, Гаммерсмите и других местах. Когда он заметил, что Рочестер носится с мыслью о браке, он с жаром отсоветовал ему такой шаг. Находясь в натянутых отношениях с семейством Говард, он, вероятно, боялся за свою карьеру и за свое существование. Рочестер обыкновенно следовал его советам. Но Овербери так успел ему надоесть, что он решил отделаться от него, хотя бы насильственно. Королю рассказали о появлении новой поговорки — «Иаковом повелевает Рочестер, а Рочестером — Овербери». Тогда Иаков, желая устранить его с честью, предложил ему место иностранного посланника. Но Овербери понял, что это назначение является, в сущности, удобной формой изгнания. Так как честолюбивые планы связывали его тесно с Англией, то он отказался наотрез от предложения короля. Иаков усмотрел в этом отказе мятежный дух. По совету фаворита он велел схватить Овербери и бросить в Тауэр. Рочестер вел все время двусмысленную игру Он передавал заключенному, будто изо всех сил хлопочет о его освобождении; давал ему советы, как себя вести и в то же время пускал в ход свое влияние, чтобы продлить срок его заключения. Он считал нужным доказывать Овербери, что тот ему всем обязан, чтобы в нем не поднялось желание в один прекрасный день разоблачить такие тайны, огласка которых для Рочестера была нежелательна. Немедленно был отдан приказ, лишавший Овербери права входить в сношения с кем бы то ни было вне стен темницы. Когда комендант Тауэра, сэр Вильям Уад, человек безусловно честный, понял приказ так буквально, что не допустил даже послов Рочестера, то ему дали отставку и назначили на его место более ловкого Джервиса Гельвиса. Теперь Рочестер мог успокоиться: его письма и посылки попадали в руки заключенного.
Как настоящая женщина леди Френсис Эссекс не желала, однако, довольствоваться полумерами. Она решила раз навсегда покончить с Овербери и поклялась, что он не покинет Тауэр живым. Она снова обратилась к своей помощнице, г-же Торнер, которая охотно рекомендовала те средства, которые помогут ей достигнуть своей цели. Предварительно оказалось необходимым заручиться содействием того человека, под непосредственным надзором которого находился заключенный. Леди Френсис обратилась поэтому к Томасу Монсону, начальнику гауптвахты в Тауэре, и добилась при помощи его протекции у коменданта увольнения тюремного надзирателя Овербери. На его место был назначен некто Ричард Вестон, служивший некогда в доме г-жи Торнер и исполнявший потом роль почтальона в романе леди Эссекс с королевским фаворитом. Однажды Вестон получил от г-жи Торнер приказание явиться в Уайтхолл к леди Френсис. Та вручила ему склянку, содержимое которой следовало примешивать к кушанью заключенного; самого же Вестона она предупредила не прикасаться к этой жидкости. Когда он отправился в Тауэр, он встретил случайно Гельвиса и, воображая, что последний посвящен в тайну, стал ему подробно излагать, как он намерен влить эту жидкость в суп. Испуганный Гельвис уговорил Вестона бросить пузырек в водосточную трубу, но, боясь мести могущественных Говардов, не решился на донос. По совету Гельвиса Вестон рассказал леди Эссекс, что заключенный выпил яд, и что его здоровье заметно пошатнулось. Овербери в самом деле постоянно болел в темнице. Он не терял надежды на освобождение и постоянно обманывался. Эти разочарования отражались крайне вредно на его здоровье. Вообразив далее, что король, узнав о его болезни, почувствует к нему сострадание, он просил довольно наивно Рочестера присылать ему рвотные средства. Нам неизвестно, какими медикаментами снабжал заключенного Рочестер и знал ли он вообще о мероприятиях леди Френсис. Вероятно, она действовала совершенно самостоятельно. Овербери, однако, не умирал. Леди Эссекс продолжала свое темное дело. Рочестер посылал своему поверенному торты, заливные и вина вместе с письмами. Во все это леди Эссекс примешивала яд. Она не догадывалась, что Гельвис, следивший зорко за всем происходившим, перехватывал все эти посылки. Видя, что отравленные кушанья не действуют, она потеряла терпение и стала искать более надежные средства. Она узнала, что больного лечит вместо прежнего врача один французский аптекарь и подкупила его помощника отравить Овербери при помощи клистира. На следующий день заключенный умер в Тауэре. Нортгемптон распространил слух, будто Овербери вел в темнице невоздержанный образ жизни и заразился неизлечимой болезнью. Большинство поверило этому слуху. Впрочем, некоторые сомневались. Следы этих сомнений заключаются в письмах современников. Джон Чемберлен пишет 14 октября 1613 года сэру Дадли Чарлтону: «Молва гласит, что причиной смерти Овербери была половая болезнь или нечто худшее».
Так пала последняя преграда, стоявшая на пути блестящей четы к венцу. Леди Френсис была счастлива. Она не испытывала тех угрызений совести, которые испытывала леди Макбет. Король относился к ней в высшей степени внимательно. Так как она не хотела расстаться с титулом графини, он в угоду ей дал Рочестеру титул графа Сомерсета. Свадьба была отпразднована 26 декабря 1613 г. с великолепной роскошью. Невеста была настолько нахальна, что явилась, как девушка, с распущенными по плечам волосами. По этому поводу Джон Чемберлен пишет 30 декабря 1613 года миссис Элис Чарлтон: «Леди Френсис венчалась с распущенной косой. Невесту провожали в церковь прибывшие в Лондон саксонский герцог и ее дед, граф Нортумберленд». Она венчалась в королевской часовне на том же самом месте и с тем же самым епископом, как в день своей первой свадьбы. При бракосочетании присутствовали король, королева, архиепископ и высшая аристократия, желавшая сохранить хорошие отношения с королем и фаворитом. Никто не хотел быть исключением. Все подносили богатейшие подарки. Граф Гондомар отнесся также очень внимательно к покровительствуемой королем чете и послал великолепное ожерелье. Все подносили подарки громадной стоимости: лондонский Сити, торговая компания «удальцов», индийская компания, таможенные чиновники и т. п. Еще в середине января 1614 года прибылали подарки из золота, серебра и драгоценных камней. Бэкон, который не был поклонником Сомерсета, также не хотел отставать от других. Джон Чемберлен пишет 23 декабря 1613 года сэру Дадли Чарлтону: «Сэр Френсис Бэкон готовит к этой свадьбе драматическую „маску“, постановка которой будет ему стоить 2000 фунтов. Хотя нижняя палата обещала ему со своей стороны поддержку, хотя генеральный прокурор Иельвертон изъявил желание пожертвовать на это дело 500 фунгов, тем не менее он решил взять все расходы на себя». Несколько лет спустя тот же Бэкон поведет процесс против Сомерсета, обвиненного в убийстве.
На другой день после свадьбы король пригласил лорд-мэра Лондона устроить праздник в честь графа и графини Сомерсет. Тщетно лорд-мэр ссылался на отсутствие большого помещения. Король предложил одно из принадлежащих ему самому зданий. Гости должны были отправиться процессией из Вестминстера по направлению к Сити, кавалеры верхом, дамы в колясках. Новобрачная осталась довольна коляской, приготовленной для нее к этому празднику. Но лошади ей не понравились. Она попросила лорда Винвуда дать ей на этот день своих. Лорд ответил, что такой знатной даме неудобно брать вещи в долг, и попросил принять коней от него в подарок. Подарок был, разумеется, принят.
Маколей очень удачно сравнил двор Иакова с двором Нерона. Суинберн, оставаясь на почве того же сравнения, заметил, что здесь повторилась свадьба Спора и Локусты. Бэкон прославил этот брак. Чапман воспел его. Он присоединил еще раньше к переводу последних песен «Илиады» два посвятительных сонета с преувеличенными похвалами героическим добродетелям виконта Рочестера. Теперь он воспел его свободу в своей «Освобожденной Андромеде», и когда на него резко напали, он прибавил к этому произведению наивную самозащиту: «Апология Персея и Андромеды».
Совместная жизнь с леди Френсис не могла оказать на графа Сомерсета благотворного влияния. Он сделался невообразимо расточительным. Он вводит новые моды, желая понравиться Иакову, угодить своей жене и выставить королевскую милость напоказ перед всем народом. Современный ему историк, наивный моралист Вильсон, жалуется горько на то, что граф появлялся в завитых и надушенных кудрях, брил бороду, ходил с открытой шеей и украшал свои наряды желтыми лентами. Сомерсет не просил больше поместий и денег у короля. Подданные сами содержали его на свой счет. Каждый проситель давал взятку Сомерсету. Трудно сказать, сколько денег он нажил таким путем, но известно, что он тратил ежегодно около 90 000 фунтов. Впрочем, необходимо заметить, что он не нарушал, подобно своим преемникам, законов и обнаруживал изредка даже некоторое благородство. Но требования его родственников, семьи Говардов, погубили его. Самые выдающиеся члены государственного совета, среди них Пемброк, покровитель Шекспира, смотрели с негодованием, как этот выскочка склонял короля на сторону их противников.
В 1614 году выступает на сцену новый фаворит. Это был очень красивый, очень здоровый и очень живой молодой человек по имени Джордж Виллъерс. Король возвышал его медленно, чтобы не обидеть Сомерсета. Но этому последнему присутствие Вилльерса было очень неприятно. Он унижал его при каждом удобном случае, третировал его дерзко и жестоко и дошел, наконец, до того, что стал при своей вспыльчивости и при своем властолюбии обращаться свысока с самим королем. Иаков сделал ему сначала только выговор, и они потом опять помирились. Но Сомерсет не чувствовал себя в безопасности. Он знал, что враги старательно хлопочут о повышении Вилльерса. По-видимому, его мучили также угрызения совести. Вот почему он выпросил у короля полный «Pardon» (вроде того, который получил в эпоху Генриха VIII кардинал Вольсей), т. е. бумагу, заключавшую в себе разрешение всяких преступлений, например, убийства. Он мотивировал свою просьбу тем, что после смерти Иакова враги станут его преследовать ложными и несправедливыми обвинениями. Король изъявил свое согласие, но лорд Элсмер отказывался наотрез приложить к этому документу государственную печать. Тогда Иаков гневно накинулся на него, но тщетно. Лорд Элсмер опустился на колени, но не приложил печати. Вскоре Сомерсету в самом деле понадобилась эта бумага с отпущением всяких грехов.
Помощник аптекаря, отравивший, как мы видели, Овербери, заболел во Флиссингене тяжкой болезнью и облегчил измученную душу тем, что признался письменно во всем лорду Винвуду. Гельвис и Вестон подверглись допросу и вскоре имена лорда и леди Сомерсет были замешаны в эту историю.
Лишь только Сомерсет узнал, что подозрение пало на него, он оставил короля в Ройстоне и отправился в Лондон, чтобы представить свои оправдания. К этому времени Иаков окончательно пресытился прежним любимцем. Страсть к новому фавориту поглощала его всецело. Чтобы дать читателям некоторое представление о лицемерии короля, Артур Велдон рисует сцену прощания короля с Сомерсетом:
Когда граф поцеловал его руку, король обнял его, заплакал и сказал: «О боже, когда я тебя вновь увижу? Пока ты не вернешься, я не буду ни есть, ни спать!» — Потом он обвил его шею руками и воскликнул: «Передай от меня поцелуй своей жене». Ту же самую процедуру он повторил наверху, посередине и внизу лестницы. Но едва граф успел войти в коляску, как король заметил: «Я больше никогда не увижу его лица».
Со второстепенными героями обвинения обошлись очень просто: Вестон, г-жа Торнер, Гельвис и аптекарь Франклин были повешены. Когда графиню арестовали, она сказала только, что муж ее неповинен. Граф отправился в Тауэр в орденах св. Георгия и Подвязки. Когда он был подвергнут допросу, он грозил разоблачить такие тайны, которые будут равносильны обвинению самого короля. Судя по современным письмам, он намекал на приказание короля отравить принца Генриха. Потом он отказался от своих слов и защищался не без достоинства. Он отрицал свое участие в убийстве. Графиня обнаружила на суде меньше стойкости. Зал был переполнен зрителями. Там был также граф Эссекс, который уселся прямо против своей прежней супруги. Когда читали обвинительный акт, она побледнела и задрожала. Когда произнесли имя Вестона, она скрыла лицо свое за веером. Когда к ней обратились с вопросом, признает ли она себя виновной, она сказала «да». Это признание осуждало ее на смерть. Ей предложили последнее слово. Она заявила, что не желает умалить своей вины, но только просит короля о помиловании. Сомерсет был единодушно признан виновным. Король помиловал обоих. Он не мог послать на эшафот человека, бывшего долгое время его интимнейшим другом, и казнить дочь лорда-канцлера. Несмотря на то, что Сомерсет настойчиво отрицал свою виновность, он был приговорен вместе с супругой к пожизненному заключению.
В современных письмах, относящихся ко времени этого процесса, говорится так же часто о сэре Джордже Вилльерсе, как о Сомерсете. Однажды новый фаворит опасно заболел. Боялись оспы. В таком случае его песенка была бы спета. «Но опасность миновала. Теперь он сделается великим человеком, рыцарем ордена Подвязки и т. д.» Вскоре он получил в самом деле должность виночерпия, потом камергера, затем оберштал-мейстера, наконец, маркиза Бекингема и оказывал еще долго потом, в эпоху Карла I, свое губительное влияние.
Для характеристики Иакова в высшей степени важен тот факт, что он теперь был весь поглощен мыслью доставить своему новому любимцу Вилльерсу старое поместье Рэлея Шерборн, которым раньше осчастливил Сомерсета. В его воображении Шернборн превратился в своего рода приданое. Оно принадлежало каждому новому фавориту, звезда которого поднималась на горизонте. Сомерсету намекнули, что если он уступит свои имения, он получит полное прощение, и что, если он передаст Шерборн Вилльерсу, то заручится его покровительством.
Но Сомерсет упорно отказывался. Вместе со своей супругой он просидел целых шесть лет в Тауэре.
Глава 61
Презрение к женщинам. — «Троил и Крессида»
Чтобы нарисовать полную историческую картину, необходимо было бросить взгляд на события английской жизни до того момента, когда внешние факты перестали влиять на воображение Шекспира или, по крайней мере, волновать его душу.
Он умер в тот самый год, когда скончалась в Тауэре леди Арабелла и когда скандальный процесс Сомерсета начал приходить в забвение. Мы не в состоянии указать на одно какое-нибудь отдельное событие, оставившее особенно глубокий след в душевной жизни поэта. Мы можем только предполагать, что описанное нами общественное настроение и состояние нравственности не осталось без всякого влияния на его душевный мир, отличавшийся всегда восприимчивостью, а в этот период, кроме того, еще особенной раздражительностью.
Мы сказали, что он страдал в это время меланхолией, подмечал всюду только отрицательную сторону и насытил свою житейскую мудрость бесконечным презрением. Если он в эти годы чувствовал почти патологическую потребность вдыхать в себя яд из каждого цветка и проникаться отвращением к людям, то современное состояние общества должно было особенно сильно питать эту его наклонность к человеконенавистничеству. Во внешней жизни Шекспира не было такого трагического случая, который за этот период мог его так потрясти.
Когда он в 1607 году, 43 лет от роду, садился по окончании спектакля около пяти или шести часов пополудни в одну из лодок, лежавших на берегу Темзы, чтобы переехать на другую сторону, он отправлялся уже не так часто, как прежде, в таверну. Он шел спокойно домой, где его ожидали книги и работа. Он много читал, просматривал произведения современных поэтов, углублялся снова в чтение Плутарха, изучал старинные сочинения Гоуэра и Чосера и размышлял над «Утопией» Томаса Мора. Он работал по обыкновению много. Ни репетиции утром, ни спектакли в полдень не могли его утомить. Он перечитывал рукописи старых пьес, чтобы переработать их в новом духе или воспользоваться ими для новых пьес и переделывал собственные заброшенные театральные работы.
В то же время он занимался своими коммерческими делами, получал доходы со своих стратфордских домов, собирал десятинную пошлину, которую взял в 1605 году на откуп после того, как скопил себе в продолжение семи лет нужную сумму, и вел процессы, которые были неизбежным следствием этой привилегии.
Теперь Шекспир достиг той своей цели, которую усматривал в богатстве. Но никогда еще не был он так печален, никогда не чувствовал он в такой мере тщету земного бытия.
Пока Шекспир был молод, он совершенно естественно сравнительно мало интересовался состоянием общественных нравов и оценкой других людей. Если бы он не был презренным актером, и если бы ему не пришлось бороться с надвигавшейся силой пуританства, он жил бы в ладу с окружавшей действительностью. Но теперь перед ним ярче выступили истинные контуры жизни, настоящая физиономия времени. Он глубже понял вечные слабости человеческой природы, которые всегда пышно распускаются, когда находят для себя благоприятный климат.
Последняя драма, лежавшая оконченной на его столе, была «Антоний и Клеопатра». Здесь, в этом произведении он облек снова в драматическую форму мысль о грядущем «светопреставлении».
Не происходила ли некогда аналогичная война из-за обладания востоком, подобная той, которая велась из-за обладания Клеопатрой, не существовала ли такая же война из-за ветреной кокетки, охватившая так же все страны вокруг Средиземного моря? Да, конечно! Это была самая знаменитая из всех войн, старая троянская война, которую возбудила Елена и вел «рогоносец», война из-за «падшей женщины» — подобные выражения Шекспир вложит в скором времени в уста ворчливого шута. Здесь можно было найти богатый материал для трагикомедии, исполненной горечи и злости. Как всем детям, и Шекспиру толковали некогда так много об этих славных и дивных событиях. Здесь все действующие лица были идеальными воплощениями героизма, великодушия, мудрости, степенности, дружбы и верности — словно такие образцовые люди существуют в действительности. В первый раз в жизни Шекспир почувствовал неодолимое влечение написать карикатуру, разразиться сатирическим хохотом, показать оборотную, истинную сторону жизни.
Менелай и Елена — что за комическая парочка! Этот дурак готов повернуть снизу вверх небо и землю и жертвует тысячами людей, чтобы вернуть свою блудную красавицу. Но разве Менелай достойный предмет для сатиры? Шекспир ведь никогда не испытывал тех же самых чувств! Какой интерес могла ему доставить характеристика такой женщины, как Елена, покидающей одного мужчину для другого, изменяющей мужу ради любовника. В этом не просвечивала ли психологическая двойственность, которая так присуща женской природе? Для Елены измена одному мужчине для другого, т. е. то душевное настроение, которое исключительно занимало Шекспира, лежало уже в прошлом. Судьба Елены была решена уже до начала войны. В этом типе не было внутреннего разнообразия и внутренней игры. Отношения между красавицей Еленой, находившейся в Трое, и Менелаем, стоявшим под ее стенами, не были по своему существу драматичными.
Однако в старой истории о Троянской войне, сохранившейся в виде предания, рассказанного средневековыми народными книгами, существовал один эпизод, являвшийся как бы второй редакцией основного мотива. Там говорилось о Крессиде, этой второй Елене, и о Троиле — глупце, который полюбил ее и которому она изменила. А вокруг них группировались все эти идеальные воплощения изящества, мудрости, силы вроде почтенного старого болтуна Нестора и лукавого, хитроумного Уллиса. Вот эти рассказы возбуждали совсем иначе творческую фантазию. Здесь, в этих рассказах, встречались такие отношения и коллизии, которые должны были наэлектризовать вдохновение Шекспира.
Шекспир не чувствовал также никакой симпатии к фигуре блестящего «bellatre» Париса. Чувства Париса были так же ему чужды, как и настроения Менелая. Гораздо понятнее было для него положение Троила, этого доброго, честного простака, который наивно верил в женскую любовь. Шекспир знал эту леди Крессиду, исполненную чарующей прелести и легкого остроумия, эту девушку, обладавшую таким горячим темпераментом: она говорила языком истинной страсти и (для неразвитого слуха) языком истинной стыдливости, она предпочитала скорее возбуждать в других желания, чем обнаруживать их сама; она лучше хотела быть любимой, чем любить: в ее «нет», замиравшем на устах, слышалось «да», и она сердилась при малейшем подозрении в ее честности, в ее порядочности. Она не коварна, не вероломна, о нет! Мы верим ей так же охотно, как ей верят ее любовники, и так же крепко, как она сама в себя верит до того времени, когда она покидает Троила и уходит к грекам. Не успела она повернуться к нему спиной, как несчастная случайность заставляет ее подарить свое сердце первому встречному; она падает при первом испытании, отдается соблазнителю и изменяет возлюбленному.
В продолжение всей жизни занимали Шекспира эти две фигуры. Уже в поэме «Лукреция» он сопоставляет имена Гектора и Троила. В пятом действии «Венецианского купца» Лоренцо восклицает:
В такую ночь, я думаю, Троил Со вздохами всходил на стены Трои И улетал тоскующей душой В стан греческий, где милая Крессида Покоилась в ту ночь.В «Генрихе V» (II, 1) Пистоль называет Долли Тиршит отродьем Крессиды. Такое сравнение со знаменитой троянской красавицей рисует Долли в особенно комическом виде. В «Много шума из ничего» Шекспир влагает в уста Бенедикта слова (V, 2) «Троил первый пользовался сводниками…», а в пьесе «Как вам угодно» Розалинда говорит о нем с уважением, в котором слышится насмешка. Розалинда протестует против мнения, что люди умирают от любви, и восклицает затем: «Троилу раздробила мозг греческая палица, а между тем он делал все возможное, чтобы умереть, он, который может служить образцом влюбленного». Наконец, в «Двенадцатой ночи» (III, 1) и в «Конец — делу венец» шут и Лафе острят над забавной расторопностью Пандара, завлекающего красавицу в сети Троила.
Медленно, гораздо медленнее, чем «Гамлет» созидалась в голове поэта эта пьеса, которая отняла у него больше времени и потребовала более частых переделок.
Легенда жила сначала в его воображении в том виде, как она рассказана отечественными писателями, особенно Чосером, переделавшим, расширившим прелестный роман Боккаччо «Филострато» в поэму о Троиле и Крессиде. Но ни Чосер, ни кто-либо другой из английских писателей, обработавших старую легенду, не нашли в ней ничего сатирического, ни Лайдгет, который перевел в 1460 году троянскую историю Гвидо де Колумны («Historia troiana»), ни Кокстон, издавший около 1471 года перевод троянских рассказов Рауля Лефевра. Никто из предшественников Шекспира не находил также никаких отрицательных черт в характере Крессиды. Даже поэты не составляли в данном случае исключения. Чосер заимствует у Боккаччо, а этот последний, отливший впервые этот сюжет в художественную форму, не желал вовсе выставить свою героиню в отрицательном виде. Он заявляет чистосердечно, что облекает здесь в поэтический покров свою собственную любовь к даме сердца (вероятно, к знатной аристократке Фьяметте). Положим, Боккаччо позаимствовал у старого трувера Бенуа де Сен-Мор ту подробность, что Крессида (у Бенуа ее имя звучит Бризеида) отправляется в греческий стан в сопровождении опасного соблазнителя Диомеда и мало-помалу изменяет Троилу. Положим, Боккаччо пишет по этому поводу целую строфу о женском непостоянстве. Но ведь у Боккаччо нечего искать ту платоническую любовь, тот восторженный культ мадонны, который характеризует Данте и Петрарку. Беатриче — это идеал мистический, Лаура — идеал земной. А его Крессида просто молодая неаполитанка из придворного общества, прелестная, но слабая женщина из крови и плоти. Но именно только слабая, а отнюдь не испорченная, даже не опасная и во всяком случае не кокетка. Боккаччо не забывал ни на одну минуту, что посвящает свою поэму возлюбленной, которая однажды так же, как Крессида, покинула место их общего пребывания (Неаполь) и уехала туда, куда он не мог за ней последовать. Он прямо заявляет, что рисуя красоту Крессиды, он рисовал портрет возлюбленной, но просит деликатно и тактично не доводить этой параллели до крайностей.
И Чосер ничего не находит позорного или смешного в романе молодой парочки. Он силится придать их любви невинный и законный характер. Он останавливается так наивно и долго на описании их любовного счастья; он приходит при этом сам в такой восторг, который показывает, что он не видит здесь ничего предосудительного, относится к героям без всякой иронии. Даже измена Крессиды не возмущает его. Он оправдывает ее. Крессида колеблется и дрожит, прежде чем совершает этот шаг. Неверность девушки объясняется просто стечением роковых обстоятельств.
У всех этих прекрасных, старых поэтов нет ничего подобного той страстной вспыльчивости и ненависти, ничего похожего на тот гнев и то безграничное презрение, с которым Шекспир рисует и преследует свою Крессиду. Это тем более поразительно, что он не выставляет ее несимпатичной, грязной, испорченной, упрямой или злой, а просто ветреной, легкомысленной, пустой, чувственной, кокетливой и расчетливой. Строго говоря, она не совершает ничего такого, что было бы достойно сурового осуждения. Она дитя в сравнении с Клеопатрой, к которой поэт отнесся все-таки довольно снисходительно. Но здесь Шекспир так сгруппировал факты, что его Крессида поневоле возбуждает негодование и ненависть. Переход от любви к измене совершается в пьесе Шекспира так быстро, как ни в одной из более ранних обработок этой легенды. И каждый раз, когда Шекспир влагает в уста одного из действующих лиц отзыв о Крессиде, который должен быть руководящей нитью для публики, мы удивляемся той горечи и злобе, которая в нем обнаруживается. В этом отношении особенно характерна одна сцена (IV, 5). В сопровождении Диомеда появляется Крессида в греческом стане. Князья приветствуют ее поцелуями. Она не совершила еще никакого греха. Горя чистой, страстной любовью к Троилу, она провела с ним одну ночь, подобно тому, как Ромео провел одну ночь с Джульеттой, она пользовалась услугами Пандара, подобно тому, как Джульетта — услугами кормилицы. Но теперь она отвечает на поцелуи греческих царей. Подобные поцелуи были тогда в моде в Англии. В книге Вильяма Бренчли Рейя «England as seen by foreigners in the days of Elizabeth and James the First» находится следующая заметка ульмского купца Самуила Кихеля: «Если англичанин приглашает гостей, то хозяин, хозяйка и их дочь приветствуют их, причем гость имеет право их обнять и поцеловать. Таков обычай страны. Если же он отказывается от этого права, то его считают неблаговоспитанным». Тем не менее Уллис, в умственном отношении самое выдающееся лицо пьесы, угадывающий всех и каждого одним взглядом, восклицает:
Пфуй, пфуй! Что в ней хорошего? Разврат Торчит у ней из глаз; в словах, в приемах Во всем нахальный вызов! Пламя чувства Сквозит во всех движеньях! Знаю я Прелестниц этих, чей ответ заранее Уже готов на приступы любви. У них в душе найдется отголосок Для каждого, кто только подойдет С щекоткою в крови. Считай их всех Добычею порочных наслаждений И жертвой первой страсти!Вот какими глазами смотрел Шекспир на свою героиню. Это, без сомнения, его собственный взгляд, его окончательное суждение. Непосредственно перед тем он нарисовал портрет Клеопатры. Если вспомнить его отношение к египетской царице, которую он выставляет самой опасной из всех опасных кокеток, то приходишь в удивление при мысли о том, как далеко он ушел в своем духовном развитии.
Мы уже давно заметили, что в натуре Шекспира коренилась всегда глубокая склонность к обожанию, к рабскому самоподчинению. Богатый лиризм его реплик вытекает часто именно из этого источника. Вспомним, как смиренно преклоняется он перед некоторыми из своих героев, например, перед Генрихом V, как благоговейно обожает он в своих сонетах друга и т. д. Еще в пьесе «Антоний и Клеопатра» обнаруживается то стремление к благоговейному удивлению в целом ряде мечтательных, лирических тирад. Шекспир вовсе не хотел написать апофеоз этой опасной соблазнительницы, но каким блестящим ореолом окружил он ее чело! Сколько похвальных эпитетов расточает он ей! Восторженные отзывы самых разнообразных людей сплетаются для нее в лучистый венок. Когда Шекспир создавал эту великую трагедию, в нем было еще столько романтизма, что он, при всем стремлении унизить Клеопатру, вопреки исторической справедливости считал естественным заставить ее жить и умереть в обаянии красоты. Пусть она чародейка, но она очаровывает. А здесь что за контраст! Это различие в настроении можно определить одним словом. Шекспир раньше был почитателем прекрасного пола, теперь он сделался женоненавистником. В нем снова ожили забытые чувства ранней молодости, они крепли и разрастались, и все его внутреннее существо переполнилось презрением к женщине.
Что же случилось? Да и в самом ли деле что-нибудь случилось? Что-нибудь новое? О чем и о ком он думал? Был ли то новый опыт, который он здесь облек в художественные образы, или то были просто переживания из эпохи сонетов, которыми он раньше пользовался для портрета Клеопатры, которые теперь, под гнетом вечных размышлений, приняли иной характер, прониклись горечью и подверглись, так сказать, процессу гниения?
Существует два типа художников. Одни нуждаются в постоянной смене впечатлений и моделей, воссоздают в поэтических образах каждое вновь переживаемое событие. Другие, напротив, не требуют много фактов для того, чтобы вдохновиться. Одно какое-нибудь единичное событие, прочувствованное с редкой душевной энергией, дает им материал для целого ряда произведений и созданий. К какой из этих двух категорий отнести Шекспира?
Разносторонность, богатство его творчества не подлежат никакому сомнению. Все позволяет угадать, что он пользовался множеством моделей, хотя мы видели выше, что целые группы женских характеров сводятся к одному основному типу, стало быть, вероятно, к одному какому-нибудь оригиналу. Если мы узнаем о каком-нибудь значительном событии в жизни поэта, мы всегда склонны приводить все, что в его произведениях может относиться к данному факту, в связь с вызванными им впечатлениями. Так, французские критики и читатели находили долгое время во всех произведениях Альфреда де Мюссе, в которых он жалуется на свое одиночество, намеки на его связь с Жорж Санд. Однако брат поэта, Поль де Мюссе, доказал в своей биографии, что стихотворение «Декабрьская ночь», казавшееся просто дополнением к «Майской ночи», где говорилось о Жорж Санд, воспевает иные воспоминания и посвящено другой особе. Он доказал далее, что женщина, к которой поэт обращается в своем «Письме к Ламартину», не имеет ничего общего со знаменитой писательницей, как привыкли думать. Поэтому, если последняя из упомянутых женских фигур Шекспира и является только видоизменением типа Клеопатры, то желчное настроение, разлитое в пьесе «Троил и Крессида», быть может, явилось под влиянием новых жгучих впечатлений, вызванных женским непостоянством. Мы знаем слишком мало о жизни поэта, чтобы решить этот вопрос. Мы имеем лишь право сказать, что не нуждаемся непременно в предположении о новых событиях и новом опыте для объяснения душевного настроения поэта. Есть некоторое, но очень, впрочем, твердое основание предполагать, что первый очерк пьесы относится к 1603 году, г. е. к той эпохе, когда в жизни поэта произошла единственная достоверно известная катастрофа. В таком случае, вероятно, моделью для Шекспира послужила опять «смуглая дама». Но мы уже упомянули, что в жизни творческого гения одно событие может иметь такое же значение, как многие сходные. Если этот факт сначала казался патетическим, или элегическим, или, наконец, трагическим, то при неимоверно быстром развитии и росте гения он потом может представляться совершенно в ином виде, потерять свой первоначальный характер. Так и здесь. Сначала Шекспир страдал и мучился. Он чувствовал, как его сердце истекало кровью, он понимал, что потерпел страшное поражение на жизненном пути, и он воплотил эти настроения в серьезных и строгих образах. Но потом вся эта история показалась ему самому забавной, комичной. Он увидел вдруг в своем горе не прихоть жестокого рока, а заслуженную кару за свою безграничную глупость, и он искал утешения в том злобном хохоте, который режет своей дисгармонией наш слух при чтении «Троила и Крессиды».
Сначала Шекспир благоговел перед своей возлюбленной, жаловался на ее равнодушие, на ее беспощадность, увлекался ее пальчиками, проклинал ее непостоянство и свое двусмысленное положение и доходил до исступления. Вот настроение, царящее в сонетах.
Затем, когда прошли годы, и кризис миновал, когда воспоминания о чарах возлюбленной все еще слегка волновали его воображение, он настолько успокоился, что изобразил ее, как редкое существо, как царицу и цыганку, привлекательную и отвратительную, искреннюю и лживую, смелую и слабую, как сирену и загадку — это точка зрения поэта в трагедии «Антоний и Клеопатра». И наконец, когда он окончательно отрезвился, когда пыл молодости угас от леденящего прикосновения житейского опыта, тогда он увидел, быть может, в своем прежнем безумном увлечении таким недостойным предметом, увидел в этом настроении, которое начинается самообманом и кончается разочарованием, просто позорную, бесконечную глупость. Он негодовал на себя за бесцельно растраченное чувство, за потерянное время, за выстраданные мучения, за все унижения и оскорбления, вынесенные им в это время, за свое ослепление и за измену, жертвой которой он сделался, и он постарался облегчить свою душу восклицанием: что за дурак! — восклицанием, которое воссоздает самую суть настроения, лежащего в основе пьесы «Троил и Крессида».
Глава 62
«Троил и Крессида». — История сюжета
В 24-й песне «Илиады» Гомер упоминает в первый и последний раз о Троиле. Приам лишился этого сына еще до начала поэмы. Старый царь восклицает:
О злополучный я смертный! Имел я в Трое обширной Храбрых сынов и от них ни единого мне не осталось! Нет боговидного Нестора, нет конеборца Троила, Нет и тебя, мой Гектор, тебя, меж смертными, бога!Вот и все, что сказано в величайшей поэме древности о том юном царевиче, который в Средние века затмил своей славой даже Гектора. Скудные известия о смерти Троила заинтересовали рано фантазию. Циклические поэты разукрасили этот простой намек — заставили красавца юношу погибнуть от копья Ахиллеса. В эпоху римской империи, когда происхождение римского государства связывалось с падением Трои, возник ряд фиктивных описаний троянской войны, принадлежавших будто бы очевидцам. Однако то произведение, которое вытеснило в Средние века Гомера, относится к эпохе Константина Великого. То была книга некоего Диктиса Критянина «О троянской войне», переведенная с греческого оригинала Квинтом Септимием. В предисловии переводчик заявляет, что Диктис был товарищем Идоменея, что он написал эту книгу по его просьбе, и когда умер, взял ее с собой в могилу. При Нероне случилось землетрясение, и книга снова увидала свет. Наивный переводчик, по-видимому, не сомневается в истинности этого рассказа. После падения Западной Римской Империи, не позже 635 года, появилась другая, еще более дерзкая и плоская подделка. Ее автором считался некий фригиец Дарес, который будто бы помогал Гектору своими советами и написал еще до Гомера «Илиаду». Книга эта также озаглавлена «Троянская война». Предание называло Корнелия Непота переводчиком. Рассказывали, что этот последний нашел рукопись в Афинах, где «все считали Гомера полоумным», так как он описывал сражения между богами и людьми. Книга представляет жалкую компиляцию. Здесь главным героем является Троил.
Дарес служил главным источником для средневековых рассказчиков, особенно для вышеупомянутого Бенуа де Сен-Мора, придворного трувера английского короля Генриха II. Поэма Бенуа содержит 30 тысяч стихов и издана пока только в отрывках. Как истинный трувер начала XII в. он разукрасил античный сюжет роскошными описаниями городов, дворов и доспехов. Он углубился, насколько сумел, в психологию своих героев и прибавил к сюжету любовные эпизоды во вкусе того времени. Он сделал знаменитую возлюбленную Ахиллеса, Бризеиду, дочерью Калхаса, а этого последнего, по примеру Дареса, троянцем. Он заставил далее Троила влюбиться в Бризеиду, которая осталась в Трое после перехода отца к грекам. Калхас желает видеть свою дочь, и тогда ее меняют (как у Шекспира) на Антенора. В качестве посла за ней посылают (как у Бенуа, так и у Шекспира) Диомеда, который ее соблазняет. Масса мелких подробностей, встречающихся в драме Шекспира, находятся также в поэме Бенуа; так, Диомед у обоих — опытный знаток женского сердца; Бризеида дарит ему кусок ленты для украшения копья; Диомед сбрасывает Троила с коня и посылает его коня в подарок своей даме; Троил возмущается изменой Бризеиды и т. д.
Наблюдая за дальнейшим развитием легенды, можно видеть, как каждый новый писатель прибавляет к сюжету новые подробности, разработанные потом детальнее Шекспиром. Гвидо де Колонна, судья в городе Мессине, переводит в 1287 г., без ссылки на источник, плохим латинским языком поэму Бенуа де Сен-Мора и превращает Ахиллеса в кровожадного и грубого дикаря. Боккаччо, любивший многозначительные имена, озаглавил свой роман «Филострато», что должно означать «покоренный любовью». Он превратил Бризеиду в Хризеиду (так, по крайней мере, она называется в древнейших изданиях), чтобы сблизить ее имя со словом «золотая». Он присочиняет к действующим лицам еще Пандара (т. е. «человека, готового все отдать»), молодого товарища Троила, посредника между возлюбленными и родственника Хризеиды, — характер глубоко симпатичный.
Чосер несколько изменяет фигуру Пандара, так что последний является уже переходным типом к шекспировскому герою. Юный друг Шекспира превращается под его пером в пожилого родственника Хризеиды, который сводить парочку просто из легкомыслия. Он совращает молодую девушку ложью, обманом и нарушением клятвы. Но Чосер не желает, подобно Шекспиру, выставить этого старика в отвратительном виде. Он не наделил его той циничной, лишенной юмора манией говорить о всем низком и безобразном. Чтобы смягчить отрицательное впечатление, вызываемое этой фигурой, Чосер сделал ее комической и забавной. Положим, он не достиг своей цели. Читатели видели в лице Пандара только сводника, и имя его сделалось нарицательным в английском языке.
Но только Шекспир наделил этот тип свойственными ему отвратительными и отталкивающими чертами. Впрочем, поэт пользовался для своей драмы еще другими латинскими, французскими и английскими источниками. Он заимствовал, например, из «Метаморфоз» Овидия, знакомых ему еще со школьной скамьи, характеристику Аякса, как самоуверенного идиота. В XIII книге «Метаморфоз» Одиссей ругает во время прений, возникших по поводу доспехов Ахиллеса, своего соперника Аякса такими оскорбительными и дерзкими словами, которые рисуют его в самом деле дураком. В той же самой песне Шекспир нашел имя Терсита и намек на его роль «хулителя царей».
Сомнительно, знал ли Шекспир книгу Лайгета о Трое. Он заимствовал большинство подробностей об осаде города из старинного произведения, переведенного с французского и изданного в 1503 г. Винкин де Вордом. Здесь, в том месте, где описывается народ героев, сказано, что Неоптолем не сын Ахиллеса. Здесь же нашел Шекспир также название шести троянских ворот: «дарданских, тимбрийских, актеноридских, хетанских, троянских и гелийских», затем имя лошади, принадлежавшей Гектору (Галатея), фигуру стрелка, созывающего греков, незаконного сына Маргарелона, далее он заимствовал отсюда предостережение, сделанное Гектору Кассандрой, тот факт, что Кассандра дарит одну из своих перчаток Диомеду и, наконец, мысль Троила, что на войне не следует быть сострадательным, а добиваться победы все равно каким путем.
Сомнительно также, пользовался ли Шекспир более древними драматическими обработками этого сюжета, от которых до нас дошли только одни заглавия.
Уже в 1515 году при дворе Генриха VIII была представлена «комедия» о Троиле и Пандаре. Под новый 1572 год в виндзорском дворце была разыграна драма об Аяксе и Уллисе, в 1584 г. пьеса об Агамемноне и Уллисе. Затем из дневника Генсло (апрель и май 1599 г.) видно, что Деккер и Генри Четтль, в комической орфографии Генсло Dickers and Cheattel, написали по его заказу для труппы лорда-адмирала пьесу «Троил и Крессида». В мае он дал им аванс и переправил заглавие, так что оно гласило «Трагедия об Агамемноне». Наконец, 7 февраля 1603 года в регистры книгопродавцев вносится пьеса «Троил и Крессида, игранная слугами лорда-камергера», т. е. шекспировской труппой. Так как в драме Шекспира в дошедшей до нас редакции встречаются в различных местах рифмованные стихи, и некоторые особенности версификации также указывают на период времени ранее 1607 или 1608 года, то очень вероятно, что упомянутая пьеса представляет первый очерк «Троила и Крессиды». Но гипотеза Флея, изложенная им очень подробно, в силу которой пьеса была написана в три приема с промежутками в 12 и 14 лет, но так искусно, что кажется одним неразложимым целым, не заслуживает никакого внимания, ибо доказывает абсолютное непонимание процесса художественного творчества. Не следует далее выпускать из вида, как это обыкновенно делается, что в предисловии к древнейшему изданию 1609 года говорится как-то настойчиво о том, что пьеса еще ни разу не шла на сцене. Положим, это было воровское издание. Но автор предисловия не стал бы лгать, так как нетрудно было его уличить, а главное ему было вовсе не выгодно лгать.
Глава 63
Шекспир и Чапман. — Шекспир и Гомер
Мы исчерпали, по-видимому, все литературные источники этого малопонятного, грандиозного и загадочного произведения. Однако мы должны ответить еще на один вопрос, над которым работало много голов и на который было потрачено много бумаги и чернил. Хотел ли Шекспир написать пародию на Гомера? Знал ли он вообще Гомера? Читая «Троила и Крессиду», невольно вспоминаешь шуточную пародию Гольберга «Уллис из Итаки». По-видимому, английская пьеса является тем же самым, чем был для Гольберга Одиссей, т. е. средством осмеять те несообразности, которые находил в поэмах готический или англосаксонский ум (т. е. в данном случае его ограниченность и односторонность). Как бы там ни было, но странным является, во всяком случае, то, что Шекспир написал такую пьесу, которую можно, в условном смысле пародии, сопоставить с шуткой Гольберга. Точка зрения этого последнего крайне проста. Он разделял вкусы просветительной эпохи, был представителем сухого рассудочного рационализма, он недоумевал и улыбался при одной мысли о благородной наивности античной цивилизации. Но ведь Шекспир так был далек от рационализма. Он, кроме того, жил в эпоху, когда классическая древность возродилась к новой жизни, в эпоху, которая благоговела перед этой цивилизацией. А он над ней смеялся!?
Предварительно следует заметить, что эллинистическое движение того времени, побудившее, например, Елизавету написать комментарий к сочинениям Платона и перевести произведения Сократа, Ксенофонта и Плутарха, прошло мимо Шекспира, который плохо знал греческий язык. Он был, кроме того, представителем народного направления в литературе, в противоположность многим другим поэтам, гордившимся своею ученостью. Затем, англичане того времени, как римляне, итальянцы и французы, считали себя также потомками древних троянцев, которых уже Вергилий, как истинный римлянин, прославлял на счет греков. Современные Шекспиру англичане гордились своими троянскими предками. Мы можем заметить в целом ряде других произведений поэта, что он всегда стоял на стороне троянцев как английский патриот, и поэтому не очень горячо симпатизировал грекам. Но главная суть, на мой взгляд, не в этом.
Мы видели выше, что тот поэт-соперник, который вызвал в душе Шекспира ревность, печаль, гнев и меланхолию, который вытеснил его из сердца лорда Пемброка, доставил ему только одно гнетущее сознание того, что он забыт был никто другой, как Чапман. Мне очень хорошо известны аргументы, приводимые в пользу того мнения, что этим соперником являлся не Чапман, а Дэниель, и я знаю также те возражения, которые мисс Шарлота Стоне сделала Минто и Тайлеру. Но все подобные соображения не могут поколебать нашего убеждения, что Шекспир намекает в сонетах 78–86 именно на Чапмана. А как раз в 1598 году Чапман издал семь первых книг своей «Илиады», т. е. перевод 1, 2, 7, 8, 9, 10 и 11 песен; впоследствии (именно в 1611 году, следовательно, два года спустя после издания «Троила и Крессиды») эта часть вошла в полную «Илиаду», за которой последовала «Одиссея».
Мысль перевести Гомера, совершенно неизвестного английской публике, хорошим английским стихом заслуживала, конечно, вполне шумного одобрения, которого удостоился Чапман. Несмотря на некоторые недостатки, этот перевод считается до сих пор в Англии наилучшим. Ките воспел его в одном из сонетов. Каким авторитетом Чапман пользовался у своих сотоварищей драматургов — видно из посвящения, приложенного к пьесе Джона Вебстера «Виттория Аккаромбони» (1612 г.), где в заключении говорится: «…пренебрежение к другим и невежество — два родных брата. Лично я всегда радовался чужим успехам и всегда высоко ценил произведения других; особенно возвышенный и богатый стиль Чапмана, умные и тщательно отделанные труды Джонсона, превосходные вещи Бомонта и Флетчера и (хотя я называю их последними, но я не желаю сказать, чтобы они были хуже других) полезную и плодотворную деятельность Шекспира, Деккера и Гейвуда».
Итак, имя Чапмана — на первом месте, а Шекспир упоминается рядом с такими посредственными писателями, как Деккер и Гейвуд. Чапман был в глазах Шекспира, вероятно, одним из самых несносных людей. Его высокомерие было так же велико, как велика была педантичность его стиля. Так как он был очень учен, то он много воображал о себе. Он был самого высокого мнения о своем поэтическом таланте. Но даже самый пылкий из теперешних поклонников Чапмана признает, что он, как поэт, и карикатурен, и скучен. Шекспир испытывал, вероятно, нестерпимую боль, читая жалкий конец, приделанный Чапманом к прелестной поэме столь высоко им чтимого и так рано погибшего Марло, к поэме «Геро и Леандр». Попробуйте прочесть его предисловие к переводу Гомера, написанное прозой и занимающее лишь несколько строчек. Это почтя невозможно. Или прочтите, например, его посвящение к песням, изданным в 1598 году, «самому уважаемому, ныне живущему представителю ахиллесовской доблести, увековеченной Гомером, графу Эссексу и т. д.» Эти странички, переполненные пустой болтовней и подслеповатыми, нагроможденными друг на друга образами непереводимы. Суинберн, который любит Чапмана, так характеризует его слог. «Демосфен клал, по преданию, в рот камни, чтобы научиться говорить. Конечно, когда он решился выступить публично оратором, он уже умел обходиться без этих камней. Напротив, наш поэт-философ заботится старательно о том, чтобы набрать в рот самых широких, неотесанных и остроконечных кремней, какие только можно извлечь из темных шахт языка, набрать их в таком количестве, что челюсти вот-вот разорвутся на части, и каждый раз, когда он освобождает при помощи объемистой сентенции или неловкого периода свой рот от первой коллекции варваризмов, он метит наполнить его вновь». Это очень удачное сравнение. Благодаря этому тяжелому и непонятному слогу Чапман никогда не имел большого числа читателей. Он постоянно жалуется на невнимание и неразвитость публики. Труня над его слогом, Суинберн приводит следующий стих:
We understand a fury in his words But not his words[24].Даже прекрасный перевод Гомера отличается неясностями и туманными фразами, изобилует вымученными и напыщенными выражениями. Никто во всей Англии не походил так мало на эллина, как именно Чапман. Суинберн заметил очень метко, что он обладал скорее исландским, чем греческим темпераментом; он прикасался к священным сосудам эллинов грубыми руками варвара; в его переводе слышится не легкая поступь бога, а неуклюжие шаги гиганта.
Быть может, угнетающая мысль, что Пемброк предпочел ему, Шекспиру, Чапмана, в связи с негодованием на него, вызванным его высокомерием, напыщенностью, манерностью и педантизмом, вызвали в душе Шекспира это отрицательное отношение к обязательному и модному поклонению перед гомеровским миром и его героями. И он излил на него всю накипевшую желчь и злобу Шекспир воспроизводит прекрасные и важные эпизоды «Илиады»: гнев Ахиллеса, его дружбу с Патроклом, вопрос о выдаче Елены грекам, попытку упросить Ахиллеса принять участие в войне, прощание Гектора с Андромахой и, наконец, смерть Гектора; но он все пародирует и грязнит. Странная случайность заставила Шекспира взяться за обработку этого сюжета как раз в тот период его жизни, когда озлобление и меланхолия достигли в его душе своих крайних пределов. И когда видишь, как величайший поэт эпохи Возрождения, величайший поэт северных народов искажает поэзию античного мира, чувствуешь, насколько современное человечество огрубело и очерствело в сравнении с древними эллинами.
Вспомните, например, как рисует Гомер дружбу между Ахиллесом и Патроклом, их братский союз, в котором, впрочем, первенствующую роль играет главный герой, и сравните с этой картиной те отвратительные выходки, которые позволяет себе под влиянием духа времени Терсит. Шекспир позволяет Терситу оплевать этот братский союз, и исполненный страшного презрения к людям, он считает его, по-видимому, безусловно правым, так как не заставляет никого протестовать. Или обратите, например, внимание на фигуру Елены. Гомер говорит о ее связи с Парисом необыкновенно деликатно. Менелай же не тот смешной глупец, каким он является у более поздних поэтов; он остается, несмотря на измену жены, все тем же «богами воспитанным», «могучим героем». Гомер не издевается над Еленой. Подобно тем старцам, которые, стоя на троянских стенах, восхищались ее красотой, и Гомер любуется ею. Он сочувствует ее горю. А у Шекспира только вечные насмешки над семейным счастьем Менелая, вереница удачных или плоских острот над его судьбою, варварское глумление над сладострастием Елены.
Большинство этих острот и насмешек Шекспир вложил в уста Терсита. Он нашел его имя у Овидия. Его характеристику он мог прочесть в одной из переведенных Чапманом гомеровских песен:
Все успокоились, тихо в местах учрежденных сидели; Только Терсит меж безмолвными каркал один празднословно. В мыслях имел всегда непристойные многие речи. Вечно искал он царей оскорблять, презирая пристойность, Все позволяя себе, что казалось смешно для народа. Муж безобразнейший, он меж данаев пришел к Илиону; Был косоглаз, хромоног; совершенно горбатые сзади Плечи на персях сходились, глава у него подымалась Вверх острием и была лишь редким усеяна пухом. Враг Одиссея и злейший еще ненавистник Пелида. Их он всегда порицал; но теперь скиптроносца Атрида С криком пронзительным он поносил. На него аргивяне Гневались страшно, уже восставал негодующий ропот; Он же, усиля свой крик, порицал Агамемнона, буйный.Если обыкновенно утверждают, что Шекспир не воспользовался этими гомеровскими стихами для фигуры своего Терсита, или, что он их просто не знал, то приводимое в пользу такого мнения соображение не выдерживает никакой критики. Многим казалось так же непонятным, почему поэт, который так хорошо умел пользоваться всякой типической чертой, не обратил никакого внимания на то знаменитое место в «Илиаде», где Одиссей бьет Терсита, почему он не вывел вместе этих героев. Однако в действительности Шекспир воспользовался этой сценой и притом очень остроумно. Но роль Одиссея исполняет у него Аякс (II, 1), и Шекспир влагает в уста Терсита следующие великолепные слова (II, 3): «Слон Аякс тебя бьет, а ты над ним смеешься — славное мщение! Хотел бы я, чтобы это было наоборот: чтобы я его бил, а он пусть надо мной острит».
Образ остроумного, злоязычного хулителя произвел, по-видимому, сильное впечатление на душу Шекспира. По примеру, быть может, вышеупомянутых пьес, он превратил Терсита в клоуна и навязал ему роль хора, как в других пьесах шутам. Еще недавно он в «Лире» воспользовался для этой цели шутом короля. Но какой контраст существует между меланхолическими, при всей своей горечи, задушевными шутками, которыми спутник короля Лира облегчает свое наболевшее сердце и теми разъедающими сарказмами, теми потоками бешеной брани, которыми Терсит грязнит все и всех. Шекспир заставляет его совершенно естественно издеваться также над Менелаем и Еленой. Мнение, будто в насмешках Терсита не слышится голос самого Шекспира, ошибочно. Терсит является, без всякого сомнения, чем-то вроде сатирического хора; в этой пьесе герои, свободные от страстей, выражают обыкновенно взгляды самого автора. Обратите, например, внимание на следующую реплику Терсита (II, 3): «Мщение, мщение на весь лагерь! Или нет, лучше сифилис: это самое приличное наказание для тех, кто воюет из-за юбки. И весь этот шум, и вся эта кукольная комедия затеяны из-за рогоносца с потаскушкой! Славный предлог лить кровь! Чтобы чума поразила виновницу войны, а мор и распутство всех вас!» Или обратите, например, внимание на характеристику Менелая (V, 1): «А превращенный Юпитер, бык Менелай! Вот — то образец рогатых мужей. Он — рожок для натягивания башмаков, что болтается на икре Агамемнона. Но, впрочем, как ни изощряй остроумие, ему не приберешь лучшего имени, как назвав просто Менелаем. Ослом его назвать нельзя, потому что в нем много обычных свойств, но он не бык, потому что он слишком похож на осла. Он бык и осел вместе. Если бы судьба вздумала создать меня собакой, мулом, хорьком, совой, селедкой, я бы не сказал ни слова, но если бы она вздумала сделать меня Менелаем, — я подрался бы и с самой судьбой. Если меня спросят, кем я желаю быть, если не Терситом, я отвечу, что скорее вошью прокаженного, чем Менелаем». В этих презрительных словах обнаруживается нечто большее, чем простая ненависть насмешливого и ворчливого раба к высокопоставленной особе, тем более, что в том же духе высказывается Парису и беспристрастный Диомед (IV, 1):
Парис. Скажи, как другу, Мне, Диомед, кто в мнении твоем Имеет больше прав владеть Еленой Я или Менелай? Диомед. По правде — оба Вы стоите ее. Он, потому что Закрыв глаза на женино распутство, Упрямо домогается добыть Ее назад, накликав столько бедствий На целый мир, а ты — как покровитель Распутницы, который точно так же Нимало не стесняешься стыдом Губить из-за подобного предмета Своих друзей. Он, как рогатый бык, Упрямо уперся на том, чтоб выпить Подонки грязной бочки, а тебе Не совестно прижить себе детей С развратницей. Коль скоро взвесить вас, То эта дрянь, куда она ни станет, К себе весов никак не перетянет Парис. Ты слишком уж жесток к своей землячке. Диомед. Не я жесток, она чресчур жестока К моей земле. Подумай, есть ли капля Ее преступной крови, для которой Не пал во поле грек? Найдется ль скрупул В ее распутном теле, не принесший Погибели троянцу? Если взять И счесть ее слова все, то наверно, За каждое, какое лишь успела Она сказать во весь пустой свой век Сражен в бою троянец или грек.Гомеровские фигуры созданы воображением самого благородного из всех народов, обитавших на берегах Средиземного моря, светлым, радостным воображением, не зараженным ни страхом перед религиозными призраками, ни влиянием алкоголя, воображением, взлелеянным теплым климатом и голубым небом. А у Шекспира эти фигуры похожи на карикатуры, набросанные великим поэтом в период озлобления и раздражения, потом — вышедшим из смешанного северного народа, получившего цивилизацию через христианство и привыкшего, вопреки всем попыткам возродить паганизм, видеть в чувстве любви соблазн, ведущий в ад, в наслаждении — запретный плод, а в половых отношениях — нечто недостойное человека.
В высшей степени любопытно, что Шекспир не может представить себе любовь древних греков без бича половых болезней. Через всю драму проходит вереница намеков, гневных вспышек и проклятий все по поводу той болезни, которая явилась лишь через несколько тысяч лет после гомеровской эпохи, и от этих слов исходит чумной запах. Подобно тому, как поэт закидал грязью чистую гомеровскую дружбу, так точно развенчал он греческую любовь, чтобы косвенно осудить современную. В глазах Терсита все греческие князья, а также часть троянских, только плоские ухаживатели. «Агамемнон, правда, малый добряк и охотник до податливых птичек, да жаль — мозгов у него меньше, чем серы в ушах» (V, 1). «Этот Диомед первейший бездельник на свете. Говорят, он свел шашни с этой троянской девчонкой и вечно сидит у Калхаса» (V, 1). «Ахиллес, этот идол среди идолопоклонников, этот переполненный дурацкий сосуд живет с дочерью Гекубы и дал ей обещание покинуть своих соотечественников», «Патрокл готов за скоромный анекдотец сделать больше, чем попугай за миндаль. Везде ссоры да распутство, распутство да ссоры!» (V, 2). Мы уже достаточно говорили о «рогоносце» Менелае и о Парисе. Менелай носит эпитет «отхожее место». Елена осуждается самым суровым образом. А Крессида с ее двумя поклонниками, Диомедом и Троилом! «Смотрите, как сладострастие начинает щекотать их обоих!»
Невинные и наивные понятия древних греков вытеснены, таким образом, христианской идеей супружеской верности. Как искренне проста любовь Ахиллеса к Бризеиде у Гомера! Как неподдельно и горячо его негодование, когда он обращается к послу Агамемнона с вопросом, — разве одни только Атриды из всех людских поколений, одаренных речью, «умеют любить своих жен», и когда он отвечает, что каждый благородный и разумный мужчина любит свою жену так, как он любит от всей души Бризеиду, как он хотел защищать ее, хотя и добыл ее на войне. Тем не менее Гомер тут же рассказывает, что Ахиллес, окончив свою речь и проводив гостей, лег спать не один.
Но Ахиллес почивал внутри крепкостворчатой кущи И при нем возлегла полоненная им Легдианка Форбаса дочь, Диомеда, румяноланитая дева.Греческому поэту и в голову не приходит, что любовь Ахиллеса к другой женщине, в отсутствие Бризеиды, могла бы считаться доказательством его охлаждения к ней. А точка зрения Шекспира средневековая, ригористическая.
Дважды сравнение Гомера с Шекспиром напрашивается само собой. Это, во-первых, в сцене прощания Гектора с Андромахой. Во всей греческой (другими словами — во всей мировой) литературе не найти ничего более возвышенного этой трагической идиллии, которая так глубоко прекрасна. Женщина, исполненная чарующей женственности, изнемогающая под бременем мучительной грусти, изливает здесь свои жалобы без всякой сентиментальности, признается в своей безграничной, всепоглощающей любви:
Гектор, ты все мне теперь, и отец и любезная матерь, Ты и брат мой единственный, ты и супруг мой прекрасный.И рядом с этой истинно женственной женщиной красуется ее крепкий, здоровый муж, чуждый всего грубого, дышащий кроткой нежностью и проникнутый несокрушимой решительностью. Эту трагическую картину дорисовывает фигура ребенка, который пугается развевающейся гривы шлема, и Гектор снимает свой шлем и осушает поцелуями слезы своего мальчика. Так как эта сцена описана в шестой песне «Илиады», не переведенной в то время Чапманом, то Шекспир не мог ее знать. Но посмотрите, какую сцену он рисует:
Андромаха. О, сжалься, не ходи Сегодня в бой. Гектор. Ты, кажется, решилась Сегодня рассердить меня. Клянусь Олимпом, я пойду! Андромаха. Поверь, что сон мой Предсказывает горе. Гектор. Перестань, прошу тебя!Так сурово объясняться с женой мог разве только средневековый герцог. Шекспир лишил крылья эллинской психеи того тонкого слоя разноцветной пыли, которая их покрывала. Если бы варяжский воин Гаральд Гаардераад задумался в ту минуту, когда проезжал со своими войсками по улицам Константинополя, над греческим духом и эллинским искусством, если он вообще слышал когда-нибудь что-нибудь о легендах античного мира, он составил бы о них именно такое представление. Он презирал древних эллинов, потому что современные ему византийцы были изнежены и трусливы. Шекспир, правда, не имел в виду определенного народа или известного сословия, когда рисовал древних греков и троянцев, но он преднамеренно лишал самые прелестные эпизоды их прелести, потому что чувствовал внутреннюю потребность анализировать более грубые и низкие элементы человеческой природы.
Второй эпизод — это посольство к Ахиллесу. Оно рассказано, как известно, в девятой песне «Илиады», переведенной и изданной Чапманом уже в 1598 году. Шекспир знал, без всякого сомнения, эту сцену. Это, на мой взгляд, одно из немногих вполне законченных художественных произведений мировой поэзии. Даже во всем греческом эпосе нет ничего более совершенного. Характеристика героев — бесподобна. Такое сочетание разных психологических контрастов и оттенков от героизма через посредство гордости, благоразумия и наивности до легкого комизма; от высокого пафоса вплоть до благодушной болтовни — не имеет ничего подобного в какой угодно литературе. Страстное негодование Ахиллеса, широкая опытность Нестора, хитрость и ум Одиссея, добродушная болтливость и филистерские принципы Феникса — все соединяется вместе, чтобы принудить Ахиллеса покинуть свою палатку. И теперь сравните с этой сценой комическую попытку шекспировских героев побудить к тому же Ахиллеса, этого труса, фанфарона и грубого фата: они прогуливаются мимо его ставки, не отвечая на его приветы! Вспомните, наконец, как Ахиллес у Шекспира убивает Гектора. Он нападает на него со своими мирмидонцами и умерщвляет его, как негодяй, в тот самый момент, когда Гектор, вернувшийся измученным из сражения, снял спокойно свой шлем и положил его рядом с оружием. Эта сцена кажется вымыслом средневекового варвара. И при всем этом Шекспир не был ни средневековым человеком, ни варваром. Но в тот период, когда он писал свою драму, он был уверен, что культ великих людей основан на таком же самообмане чувств, как и половая любовь. Как влюбчивость и верность Троила комичны, так точно и слава предков — только иллюзия, как вообще всякая слава. Шекспир сомневается даже в самой солидной репутации. Он рассуждал приблизительно так: «если в самом деле существовал когда-нибудь Ахиллес, то это был просто-напросто придирчивый забияка и глупый, самоуверенный негодяй», или «если существовала Елена, то это была, без сомнения, кокотка, из-за которой, право, не стоило поднимать столько шума».
И подобно тому, как Шекспир пишет карикатуру на Ахиллеса, точно так же он издевается над всеми остальными главными действующими лицами. Гервинус заметил очень метко, что Шекспир себя ведет точь-в-точь, как в его пьесе Патрокл, когда пародирует в беседе с Ахиллесом и важность Агамемнона, и старческую слабость Нестора (I, 3). Правда, однако, что в характеристике Нестора чувствуется твердая рука англосакса, который пользуется целым рядом мелких черт, которыми пренебрег греческий поэт: он
Начнет кряхтеть, плеваться, кашлять Хватается бессильною рукой За панцирь или пряжку.Каждый раз, когда Шекспир говорит об Агамемноне, чувствуется его презрение к профессии актера, которое, в связи с презрением к сословию писателей, проходит красной нитью через всю его жизнь, хотя он неустанно стремился к тому, чтобы поднять в глазах света оба эти звания. А Нестора Шекспир положительно готов утопить в море смешных нелепостей. Он заявляет в конце первого действия, что «прикроет серебро своих седин блестящей сталью шлема» и докажет Гектору, что его покойная жена была и красивее, и целомудреннее бабки Гектора. А Одиссей, которому назначалась роль самого благоразумного и мыслящего из героев, сделался низким и мелочным. В отношениях Яго к Отелло, Родриго и Кассио, которыми он играет, как пешками, все-таки проглядывало нечто необыкновенное. Но обращение Одиссея с фанфаронами и дураками Аяксом и Ахиллесом лишено всего необычайного. Теперь, в этот мрачный период своей жизни, Шекспиру доставляет удовольствие рисовать Уллиса такими же темными красками, как и тех дураков, которыми он играет, как пешками.
Трудно представить себе более ошибочный взгляд на драму «Троил и Крессида», чем тот, который был высказан некоторыми немецкими учеными, между прочим Гервинусом, называвшим ее «добродушной юмористической пьеской». Едва ли кто из поэтов был так мрачно настроен, как Шекспир в эту эпоху. Не менее ошибочен взгляд того же Гервинуса, что поэт английского Возрождения возмутился легкомысленной моралью гомеровских поэм и поэтому написал на них пародию. Шекспир никогда не был таким образцом высокой нравственности, каким его хотят сделать немецкие морализующие критики, а кто из них не стоит на этой морализующей точке зрения? Нет, Шекспир прекрасно понимал гомеровскую этику; он не понял только гомеровской поэзии. Современные ему англичане слишком увлекались античной культурой, чтобы оценить по достоинству ангичную наивность. Только на заре XIX века, когда обратили должное внимание на народную поэзию, Гомер восторжествовал над Вергилием. Еще юный Гёте предпочитал второго первому.
Поэтому Гервинус глубоко заблуждается, утверждая при своем одностороннем взгляде на шекспировскую пьесу, в которой он видел исключительно литературную сатиру, что эта драма не принадлежит к числу тех, которые «представляют зеркало своего времени».
Совсем напротив!
Шекспир имеет здесь перед глазами, с самого начала и вплоть до конца, своих собственных современников и больше никого!
Глава 64
Негодование на женское вероломство и на глупость публики
Пьеса «Троил и Крессида» была впервые издана в 1609 году в двух редакциях, из которых одна была снабжена курьезным вступлением под заглавием «Послание человека, ничего не пишущего, к человеку, все читающему». (A never Writer to an ever Reader). Здесь говорится, между прочим: «Ты, вечно читающий! Вот перед тобою новая драма. Она никогда не шла на сцене, никогда не слышала аплодисментов толпы. Тем не менее она блещет несравненным комизмом (здесь игра слов — „palm“ — ладонь и „palm“ — пальма). Это продукт той головы, которая отличалась всегда в области комического. Если бы только можно было вместо нелепого слова „комедия“ назвать ее „предмет, годный для полезного употребления“ (опять непереводимая игра слов „commedies“ и „commoditas“), вы увидели бы, как все строгие цензоры, клеймящие теперь комедии как глупое фиглярство, посещали бы их, чтобы насладиться их неотразимой прелестью и их глубокомыслием. Это особенно справедливо относительно комедий нашего автора. Они так хорошо отражают в себе жизнь, что могут служить прекрасным комментарием ко всем ее случаям и событиям. Сила и меткость его остроумия так велики, что даже люди, относящиеся обыкновенно равнодушно к драме, восхищаются его пьесами. Многие тупоумные, безмозглые светские люди, которые не понимают ни одного остроумного слова, соблазненные, однако, славой нашего автора, посетили театр и нашли в его комедии столько ума, сколько никогда не находили в собственной голове. Они покидали театр более умными, чем пришли. Они почувствовали, что против них направлена такая тонкая насмешливость, которая им раньше казалась немыслимой. В комедиях этого автора столько соли, — кому она не доставит громадного наслаждения? — что можно подумать, комедия его возникла в том море, из которого вышла богиня Венера. Но из всех его комедий эта — самая остроумная. Если бы у меня было время, я написал бы к ней комментарий, хотя знаю, что он, в сущности, лишний. Я хочу только сказать, что эта комедия заслуживает такого комментария подобно лучшим произведениям Плавта и Теренция. Поверьте моему слову: если автор умрет, и его пьесы выйдут из продажи, то вы не замедлите учредить новую английскую инквизицию, чтобы отыскать их. Примите мое предостережение к сведению. Если вы не желаете лишиться удовольствия, и если вам угодно считаться умными, то не пренебрегайте этой пьесой, а полюбите ее, хотя бы потому, что нечистое дыхание толпы еще не коснулось ее!»
В этом старинном предисловии нас поражает верная оценка интересующей нас комедии, а также вдохновенно проницательный взгляд на Шекспира, на его значение для потомства. Вторично пьеса появилась в издании in-folio от 1623 года, причем издатели недоумевали относительно ее классификации. Пьеса не упоминается в оглавлении, где все драмы распределены по трем рубрикам: комедии, хроники и трагедии. Она помещена без обозначения числа страниц в самой середине тома, между хрониками и трагедиями, между «Генрихом VIII» и «Кориоланом». Вероятно, издателям показалось, что пьеса представляет нечто среднее между хроникой и трагедией. Но в ней по меньшей мере столько же комических элементов. Недаром ведь «Троил и Крессида» напоминает более всех шекспировских пьес «Дон-Кихота» Сервантеса.
Насколько исключительный интерес к чисто филологическим внешностям, особенно к метрическим особенностям (зависящим то от сюжета, то от каприза), притупил во многих психологическое чутье, столь необходимое в этой области, видно, например, из того, что некоторые исследователи считали «Троила и Крессиду» юношеским произведением Шекспира и относили эту пьесу к тому же самому периоду, как «Ромео и Джульетту». Этого мнения придерживается, например, Л. Молан и Ш. д’Эрико в книге «Nouelles francaises du XIV-ieme siecle». Тот же взгляд разделяют и другие не очень проницательные шекспирологи.
На самом деле эта пьеса представляет разительный и поучительный контраст к «Ромео и Джульетте». То было действительно юношеское произведение, воодушевленное верой и надеждой. «Троил и Крессида», напротив, продукт зрелого возраста, произведение, пропитанное скептицизмом, горечью и разочарованием. Многих ввело в заблуждение то обстоятельство, что здесь встречаются отрывки, написанные, по-видимому, молодым человеком. В некоторых сквозит эвфуизм, который однако носит, вероятно, тоже характер пародии; в других, как например во многих репликах Троила, чувствуется юношеская мечтательность и страстная влюбленность. Возьмите, например, следующие стихи в самом начале пьесы:
Я говорю, что я люблю Крессиду, А ты твердишь: Крессида хороша! У ней такой-то голос, ручки, ножки, Иль волосы; берешься уверять, Что в белизне покажется пред нею Чернил ом все на свете, годным только Писать про свой позор и т. д.Но все, даже самые мечтательные, излияния отзываются с самого начала чем-то комическим.
Фабула «Троила и Крессиды» является чуть ли не карикатурой на историю Ромео и Джульетты. В юношеской трагедии любовь носит характер безграничного постоянства, которое и послужило причиной смерти молодой женщины. Напротив, в пьесе «Троил и Крессида» выведена девушка, не выдерживающая первого испытания. В трагедии «Ромео и Джульетта» дух находился в безусловной гармонии с телом. Все внутреннее существо молодых людей сосредоточивалось в одном напряженном чувстве. А здесь чувственная сторона любви как бы пародирует ее идеальную сторону приблизительно так, как в известной серенаде моцартовского Дон-Жуана шаловливый аккомпанемент пародирует чувствительные слова текста.
Правда, любовь Троила дышит нежностью и преисполнена рыцарской деликатности; здесь Шекспир за несколько столетий предвосхитил чувство, свойственное Китсу. Но теперь во все эти нежные настроения разочарование и опытность надвигающейся старости запускают свои железные когти. Шекспир считает теперь безграничную и всепоглощающую любовь мужчины смешной и глупой. Поэт рассказывает, как Троил слепо попадается в ловушку, как у него от счастья кружится голова, как он чувствует себя на седьмом небе, как возлюбленная ему изменяет, и он постепенно отрезвляется. Шекспир рассказывает все это без искры сострадания, рассказывает сурово и хладнокровно. Вот почему пьеса не вызывает светлого настроения. Даже Троил не возбуждает сочувствия. Пьеса не согрета теплом и поэтому не греет. Шекспир этого и хотел Многие прочтут «Троила и Крессиду», иные придут в восторг, но никто не полюбит эту пьесу.
Шекспир наделил Крессиду физической красотой и лишил ее вместе с тем симпатичности и деликатности. Не любовь, а чувственный инстинкт влечет ее к Троилу. Она принадлежит к числу тех людей, которые родились опытными. Она знает уже заранее, как увлечь, как воспламенить и приковать к себе мужчину. Она всегда обманет человека, который любит ее честно. Но вместе с тем она легко найдет своего повелителя. Кто сумеет спастись от ее кокетства, разгадать ее вызывающие манеры, ужимки, тот скоро ее покорит. Вся ее мудрость сводится к одной истине если бы она сдалась не так быстро, то Троил был бы еще пламеннее, словом, она знает только то, что мужчины всегда ценят только недоступное и недостижимое. Это философия самой обыденной кокетки, и нигде Шекспир не выставил кокетство в таком несимпатичном виде.
Крессида не робеет даже тогда, когда прикидывается чопорной. Она понимает самые грубые и фривольные шутки, она сама не прочь от смелой выходки и слушает тирады старого Пандара без всякого отвращения. Она обладает кошачьей красотой, но она совсем не интересна. При всем своем горячем темпераменте она холодная эгоистка. Но она не смешна. Она не красива, но и не дурна собой. Однако чувственная привлекательность женщины никогда не была лишена у Шекспира поэзии в такой мере. Здесь немыслимо возвышенное и чистое впечатление.
Дядя Крессиды, к которому она так близка, умеет, подобно ей, действовать на инстинкты, привлекать к себе и отталкивать. Кто-то назвал его «деморализованным Полонием», и это выражение в высшей степени метко. Так как этот старый волокита уже не может играть активной роли, он находит удовольствие быть зрителем и сводником. То циническое благодушие, с которым Шекспир рисовал эту фигуру при всем глубоком к ней презрении, характеризует ярко настроение поэта в этот период жизни Панд ар неглуп и подчас остроумен, но его остроты не доставляют никакого удовольствия. Он так же забавен, циничен и бесстыден, как Фальстаф, но не возбуждает той же абстрактной симпатии. Здесь ничто не вознаграждает зрителя за ту грязь, которой насыщены речи Пандара, Терсита и вообще всех действующих лиц.
Словом, в этой пьесе, так же, как в «Тимоне», чувствуется биение того чисто англосаксонского нерва, который многие были склонны отрицать у Шекспира, который является жизненным нервом произведений Свифта и Хогарта и некоторых из лучших творений Байрона. И он объясняет нам тот факт, что старая, веселая Англия стала родиной сплина.
Мы указали уже на суровое осуждение Крессиды Уллисом. В той сцене (V, 2), когда Троил становится свидетелем измены Крессиды, встречаются такие многознаменательные слова и такие глубоко прочувствованные выражения, в которых обнаруживается сердце самого Шекспира. Диомед просит Крессиду подарить ему наручник, который она, в свою очередь, подучила в подарок от Троила.
Диомед. Я с ним (т. е. с сердцем) беру в придачу и наручник. Троил (в сторону). И я клялся терпеть. Крессида. Нет, Диомед, Я лучше дам тебе другой подарок Диомед. Не нужно мне другого; чей наручник? Крессида. Не все ль равно? Диомед. Я непременно хочу узнать. Крессида. Мне дал его, кто любит Меня сильней, чем ты меня полюбишь Когда-нибудь. Но, впрочем, если ты Его уж взял, так удержи, пожалуй.А затем обратите внимание на ту психологию женской души, которая обрисовывается в прощальной реплике Крессиды:
Прощай! Смотри ж, приди! Простимся также С тобой, Троил: пока еще мне больно Забыть тебя, но глаз уже невольно Влечет к нему. Неверный глаз всегда Влечет наш ум: в том женщин всех беда! Кого ж винить, что верных нет меж нами, Когда в обман мы вводимся глазами.Но особенное внимание обратите на те страшные слова, которые Шекспир влагает в уста Троила, когда он в отчаянии от всего виденного и слышанного пытается отогнать от себя эти впечатления, не веря в их реальность:
Уллис. К чему еще стоять? Троил. Затем, чтобы припомнить По букве все, что слышал. Неужели Не будет гнусной ложью, если я Здесь повторю все, что, как нам казалось, Мы слышали? О, я еще таю В моей душе упорную надежду, Что слух мой был обманут иль клевещет Намеренно! Скажи, ужель была Крессида здесь? Уллис. Не вызвал же я духа. Троил. Но это не она. Уллис. Она наверно. Троил. Скажи, ведь я с тобою говорю Не в сумасшествии? Уллис. О, нет, и я Скажу не в сумасшествии, что здесь Была сейчас Крессида. Троил. О, не верь, Прошу, тому, хоть ради чести женщин! У нас ведь были матери; неужто Дозволим мы бесчестить их по мерке Неверности Крессиды? Их ведь будут Судить по ней! Забудем лучше то, Что здесь была Крессида. Уллис. Чем же это Бесчестит наших матерей? Троил. Ничем, Когда была здесь только не Крессида!Эта оценка Крессиды, сделанная Уллисом, проникает глубоко в душу Троила, пронизывает собою всю пьесу. В этом отчаянном возгласе «у нас ведь были матери!» выражена с уничтожающей ясностью основная идея драмы.
Но фигуры Троила и Крессиды не господствуют над драмой. В виде противоядия циническому содержанию главного действия, в виде контраста к напыщенным речам, к нескончаемой руготне и горькой ювеналовской сатире Шекспир рассыпал всюду глубокомысленные эпизоды и серьезные реплики. Он вложил в них всю свою многостороннюю опытность и облек их в граненую форму полнозвучных сентенций. Он заставляет Уллиса и Ахиллеса размышлять в высшей степени глубокомысленно о вопросах политики и жизни, хотя Ахиллес является у него обыкновенно безыдейным дураком, а Уллис — несимпатичным хитрецом, настолько холодным, опытным и коварным, насколько Троил горяч, молод и наивен. Глубокомысленные и прекрасные речи Ахиллеса и Уллиса вяжутся как-то плохо с их характером, производят порою впечатление дисгармонии и не находятся ни в какой связи с карикатурным действием пьесы. Однако эти явные противоречия только увеличивают интерес произведения. Они привлекают внимание глаза подобно неправильным чертам лица, которое способно выражать иронию и меланхолию, сатиру и глубокую мысль.
Уллис, который является единственным истинным политиком среди греков, унижается до самой плоской и низменной лести по адресу Аякса. Он восхваляет этого «трижды благородного и храброго» героя, которому не подобает явиться послом к Ахиллесу за счет этого последнего. Именно он подговаривает греческих вождей прогуляться мимо палатки Ахиллеса и не отвечать на его поклон. В этой сцене Ахиллес, этот фанфарон, дурак, трус и негодяй, поражает читателя своими речами, исполненными, как речи Тимона, серьезным и мрачным пессимизмом (III, 3):
…Что ж это значит? Иль я упал так низко? Мне известно, Что люди покидают нас со счастьем. Тот, кто упал, прочтет свое паденье В глазах людей в один момент с паденьем. Никто ни разу не был почитаем Сам по себе; нас чтут лишь за дары Слепого случая, за славу, деньги Иль доблести, и кто теряет их, Теряет вместе с тем любовь людскую Державшуюся ими.Затем Уллис вступает в беседу с Ахиллесом, блещущую богатыми и глубокими мыслями. Он утверждает, что никто, даже высокоодаренный человек, не в состоянии оценить как следует своих способностей, если суждения и поведение других не дадут ему надлежащего масштаба. Ахиллес соглашается с ним в речи, полной метких и тонких сравнений, отличающейся философским изложением мысли. Уллис продолжает:
…Да человек Не может знать и правды о своих Достоинствах, покуда будет слушать О них хвалы других, чей голос только Напрасно увеличит их значенье Подобно отраженью солнца в стали Иль эха в круглой арке.Когда затем Ахиллес прерывает его пространное рассуждение, заканчивающееся насмешкой над Аяксом, вопросом: «Неужто я забыт?», в ответной реплике Уллиса звучит явственно субъективная нотка. Внимательный читатель вынесет невольно такое впечатление, как будто он подошел к самому источнику того горького и пессимистического настроения, которое породило эту пьесу Нет никакого сомнения в том, что Шекспир сознавал в этот период своей жизни, что публика перенесла свои симпатии от него на более молодых и посредственных поэтов. Известно, что вскоре после его смерти звезда Флетчера затмила его славу. И Шекспир проникался все глубже всепожирающим сознанием, что люди в корне своем и низки, и неблагодарны. Он возмущался все больше несправедливостью жизненных явлений и мирового порядка. Мы уловили это настроение впервые в пьесе «Конец — делу венец», где король приводит слова покойного отца Бертрама. Но это чувство обнаруживается ярче в пространной сентенциозной реплике Уллиса, которая сама по себе кажется натянутой. Уллис доказывает Ахиллесу, что он поступает неразумно, отдыхая на лаврах:
У времени привешен за спиной Большой мешок, куда оно бросает Все, что прошло, в подачку для забвенья, — Для этого чудовища, которым Глотаются все славные дела Тотчас по их свершеньи. Свершенное покроется немедля, Как старый панцирь, ржавчиной и может В нас возбудить одну насмешку; слава Промчится мимо нас, как наводненье, И мы лежать останемся, как лошадь, Погибшая в бою, которой труп Пригоден лишь служить другим в защиту. И все тогда, чтоб мы ни совершили, Послужит впрок другим, хотя дела их Гораздо ниже наших. Время схоже С хозяином, который, распростившись Кой-как с ушедшим гостем, поспешает Встречать других с приветливой улыбкой. «Прощай» звучит холодностью, а «здравствуй» Встречает нас с приветом. Невозможно Найти привет за прошлое. Дары, Доставшиеся нам: заслуга, разум, Рожденье, красота, любовь и дружба, Подвержены губительным ударам Завистливого времени. В одном Согласны только люди: им всегда Милее тот, кто ходит в новом платье, Будь даже это платье перешито Из старых лоскутков. То, что блестит, Как золото, нередко ценят выше Чем золото, когда оно снаружи Покрыто слоем грязи. Современность Влечется к современному.Едва ли может быть сомнение в том, что один из источников той черной меланхолии, которая сквозит повсюду в драме «Троил и Крессида» следует искать именно здесь. Эта беспощадная ирония не щадит ни мужчину, ни женщину, ни войну, ни любовь, ни героя, ни любовника, и если одним из ее источников является «женское непостоянство», то другой ее источник, несомненно, «глупость публики». В конце этого разговора Уллис произносит несколько слов об идеальном государственном строе, которые пользуются знаменитостью в Англии. Здесь диссонанс между поводом к этим глубокомысленным изречениям и способом их выражения является особенно разительным. Уллис сообщает Ахиллесу, что греки узнали, почему он отказывается от участия в войне: он влюблен в дочь Приама. Ахиллес недоумевает, каким образом греки разоблачили эту тайну его интимной жизни. Тогда Уллис отвечает с большим пафосом, который плохо гармонирует с незначительностью факта и с отвратительным поведением шпиона, следующими почти мистическими, во всяком случае, чересчур глубокомысленными словами:
…Тут дива нет! Во всяком государстве Известны сокровеннейшие мысли Тех, кто стоит в главе, как знает Плутус Песчинки драгоценного металла Сокрытые в земле. Людское мненье Прочтет почти с предвиденьем богов Все, что затеют высшие. Хоть это И кажется чудесным, но на деле Бывает так!Затем Уллис сообщает Ахиллесу, что его связь с Поликсеной сделалась предметом всеобщих толков; он старается уговорить разнеженного воина принять участие в сражении, замечая, что слова «Гектора сестра заполонила великого Ахиллеса, Аякс же сразил самого Гектора» — эти слова превратились в пословицу. На отношение Аякса к Ахиллесу намекают довольно темные заключительные стихи:
…Прощай И внемли слову друга: твой противник Стоит на льду — умей его сломить, Чтоб прежних лет величье возвратить.Хотя все эти размышления о политике в данном случае совершенно неуместны и искусственно приклеены, но они интересны в том отношении, что образуют переход к другой великой трагедии Шекспира из римской истории, т. е. «Кориолану» (1608).
Уллис постоянно протестует против ходячего мнения, будто успех в политике зависит не от отдельных личностей, а от черной подготовительной работы; например, в том месте, где он возмущается насмешками Ахиллеса и Терсита над военачальниками:
Они клеймят систему наших действий Названьем трусости, а осторожность Считают непригодной ни к чему. В делах войны и битв, по их понятьям, Вся сила в кулаке. Искусство думать И рассчитать, как враг силен, где лучше Его атаковать, как много войск Потребно для сраженья — называют Они постельным делом, иль пустым Черченьем карт…Здесь Терсит задает тон — и легкое остроумие или глубокомысленный юмор прежних клоунов уступает место яростному издевательству низкого негодяя. Терсит — это карикатура на завистливого и бездарного (хотя и неглупого) плебея. Шекспир осмеивает его устами напыщенность и развращенность аристократов. Но он презирает и ненавидит его политические убеждения. Если проницательный Уллис является как бы первым эскизом Просперо с его светлым, неземным спокойствием, то Терсит словно первый очерк Калибана, но только лишенного неповоротливости и сказочной неуклюжести. Впрочем, Терсит служит скорее переходной фигурой к грубому цинику Апеманту в «Тимоне». Интереснее пространная реплика Уллиса (I, 3), где он излагает свое политическое миросозерцание. Шекспир разделяет его, по-видимому, и скоро провозглашает его энергичнее в «Кориолане». Это мировоззрение основано всецело на том принципе или на том настроении, которое получило в новейшей немецкой философии название «Das Pathos der Distanz», т. e. на том убеждении, что существующее между людьми неравенство не должно быть уничтожено. Сначала Уллис излагает систему Птолемея полуастрономическими, полу-астрологическими доводами:
Светила все и самый центр вселенной В своих путях покорны лишь ему. Вот почему небесная зеница, солнце, Имеет власть среди других планет. Как смелый царь, оно стоит над ними, Даруя блеск всем, силу и красу, И гордо назначая каждой место В кругу светил, покорных лишь ему. Но если б вдруг пресеклась подчиненность Светил небесных солнцу, если б вдруг Планеты все задумали вращаться Как захотят — подумайте, какой Тогда хаос возник бы во вселенной, Какой раздор вселился б средь людей В какой бы вид пришла земля от вихрей, Ужасных бурь, взволнованных морей! Не скрылся ли б навеки в государствах Тогда спокойный мир?Затем следуют стихи, вошедшие во все английские антологии из Шекспира и вводящие нас непосредственно в трагедию о Кориолане. Речь идет о термине «degree» (т. е. приблизительно — «сословие»):
…О, верьте мне, Что если раз исчезла подчиненность, Тогда прощай исход счастливых дел! Она душа всему. Не ей ли только Поддержаны — порядок в городах, Успехи школ, цветущая торговля, Права семейств, короны, скиптры, лавры… Попробуйте остаться без нее — И в тот же миг раздор воспрянет всюду, Не связанный ничем! Пучины вод Поднимутся над твердою землей И сделают весь шар земной похожим На мокрый, грязный ил. Жестокость станет Царить над тем, кто слаб. Дурные дети Восстанут на отцов. Насилье сменит Везде закон, иль, лучше говоря, Добро и зло, забывши власть закона, Смешаются, утратив имена! В главе всего тогда восстанет сила. И быстро увидав, что ей ни в чем Препятствий больше нет, подобно волку Накинется на все, пожрав к концу И самое себя. Такой хаос царит везде, где только Исчезла подчиненность; без нее Мы, думая идти вперед, ступаем За шагом шаг назад. Где же хотят Чтить власть вождей, там низшие, имея Дурной пример в других, влекутся им же Питая в сердце зависть к тем, кто выше.Шекспир отдавал так часто личным заслугам предпочтение перед преимуществами происхождения, что его нельзя заподозрить в сословных предрассудках, в пристрастии к чинам. Он здесь выражает только то аристократическое мировоззрение, которое сложилось у него гораздо раньше и крепло все больше с течением времени. Оно сложилось в стране с аристократическим, одно время даже монархическим строем и развивалось затем под влиянием, с одной стороны, враждебного отношения буржуазии к актерам, с другой — меценатства знати. Потом это мировоззрение прониклось страстным задором и выразилось резко и энергично в «Кориолане».
Хотя драма «Троил и Крессида» кажется на первый взгляд романтической пьесой с античными героями, но она является, несмотря на все свои причудливые орнаменты, просто сатирой на античные сюжеты и пародией на романтику. Вот почему эту драму только с некоторой натяжкой можно сопоставить с попыткой других поэтов снова оживить гомеровские фигуры, например, с «Ифигенией в Авлиде» Расина и «Ифигенией в Тавриде» Гёте. Греки Расина — французы придворных салонов; эллины Гёте — немецкие принцы и принцессы эпохи гуманитарного классицизма в пластических позах, как на картинах Рафаэля и Менгса. Можно было бы подумать, что Гектор Шекспира, цитирующий Аристотеля, и его лорд Ахиллес со шпорами и эспаньолкой, похожи на английских лордов эпохи Ренессанса так же, как расиновский Seigneur Ахиллес на придворного в напудренном парике и башмаках на красных каблуках. Но Расин не создает карикатуры. Шекспир же пишет преднамеренно пародию. У него все кончается резким диссонансом. Любовнику изменяют, героя убивают, верность осмеяна, ветреность и злоба торжествуют. Нигде не сияет луч надежды на лучшее будущее.
Пьеса кончается неприличной шуткой, заключающей собою непристойную реплику отвратительного Пандара.
Глава 65
Шекспир теряет мать. — «Кориолан». — Отвращение к черни
В начале сентября 1608 года Вильям Шекспир лишился матери. В эти годы он обыкновенно с половины мая и до самой осени, пока двор и знать отсутствовали в Лондоне, разъезжал со своей труппой по стране, давая представления в провинции. Возвратился ли он тогда уже в столицу или нет, во всяком случае, при получении известия о кончине матери он поспешил в Стрэтфорд. Он присутствовал 9 сентября на ее похоронах и после того провел несколько недель в своей усадьбе Нью-Плейс, так как мы видим, что 16 октября он еще находится в Стрэтфорде, состоя в этот день восприемником при крещении сына своего приятеля с юношеских лет, местного олдермена Генри Уокера (упоминаемого в завещании Шекспира). Мальчика назвали в честь его Вильямом.
Потеря матери всегда ужасная, незаменимая потеря; часто это бывает самая ужасная потеря, какую только может понести мужчина. Какою жгучею болью она отозвалась в сердце Шекспира, об этом нам легко будет догадаться, когда мы представим себе способность чувствовать сильно и глубоко, которой благословила и прокляла его природа. Мы мало знаем о матери Шекспира, но на основании духовного родства, обыкновенно соединяющего замечательных людей с их матерями, мы можем заключить, что она была недюжинная женщина. Мэри Арден, принадлежавшая к одной из древнейших и наиболее уважаемых фамилий графства, фамилии поместного дворянства (the gentry), быть может, справедливо возводимой к Эдуарду Исповеднику, представляла в шекспировской семье гордый патрицианский элемент. Ее предки целые века носили дворянский герб. Сын и по этой причине гордился своей матерью, равно как и она гордилась своим сыном.
Среди уныния и пессимистического ожесточения, царивших в это самое время в его душе, на него обрушилось это новое горе, и при отвращении к жизни, какою она рисовалась ему, благодаря окружавшей его среде и всему пережитому, напомнило ему одну точку опоры — мать, напомнило ему все то, чем она была для него в течении 44 лет, устремило мысли мужчины и грезы поэта к тому значению, какое мать, этот единственный образ, не допускающий сравнения ни с каким другим, имеет вообще в жизни мужчины.
Вот чем объясняется тот факт, что хотя его поэтический гений с внутренней необходимостью идет далее по стезе, по которой он только что направился и которой должен следовать до самого конца, в произведении, задуманном теперь Шекспиром, посреди всего низменного и мелкого, возвышается одна величавая фигура матери, самая гордая и самая законченная из написанных им, фигура Волумнии.
«The Tragedy of Coriolanus» была в первый раз напечатана в издании in-folio 1623 г., но критика довольно единодушно устанавливает ее датой 1608 год, отчасти потому, что «Молчаливая женщина» Бена Джонсона заключает в себе, по-видимому, свежий отзвук одной реплики в «Кориолане», отчасти же и по той причине, что стиль и версификация, по однородному впечатлению многих и самых различных исследователей, указывают на этот самый год.
Как возникла эта пьеса из пучины уныния, раздражения, отвращения к жизни, презрения к людям, наполнявших в этот момент душу Шекспира? Я представляю это себе так:
Он чувствовал в своем сердце гнев и горечь, и эта горечь стала выдвигать в его произведениях то ту, то другую из породивших ее причин, проявляться то тем, то другим способом, играть переливчатою гранью сначала, как в пьесе «Троил и Крессида», на отношениях между обоими полами, а вслед за тем, как здесь, на общественном порядке и политике.
Исходная точка была, наверно, как нельзя более личного свойства: страстная ненависть Шекспира к господству толпы, ненависть, основанная на его пренебрежительном недоверии к разумению масс, но глубже всего коренившаяся в чисто чувственной антипатии его художнических нервов к атмосфере простолюдина. Эта ненависть должна была усилиться до крайних пределов именно теперь, вследствие ясно сквозившего уже в «Троиле и Крессиде» негодования на неразумие публики, и когда Шекспир в это самое время в третий раз нашел в своем Плутархе римскую тему, согласовавшуюся с господствовавшим в эту минуту душевным состоянием его и дававшую ему вместе с тем изображение замечательной матери, то он почувствовал непреодолимое стремление пересоздать ее в драму.
Это была древняя легенда о Кориолане, великом человеке и полководце седой римской старины, попадающим в такой безвыходный конфликт с плебеями в своем родном городе и испытавшим такое дурное отношение к себе народа, что, раздраженный им, он решается на преступное дело.
Однако, чтобы воспользоваться этим сюжетом как выражением для своего настроения, Шекспир должен был предварительно переделать его с начала до конца. Плутарх отнюдь не выступает противником простого народа. Он старался, по мере сил, перенестись в условия этой даже и для него уже отдаленной старины, хотя относительно подробностей и впадает в крупные противоречия с самим собой. Его рассказ сводится в главных чертах к тому, что когда Кориолан уже достиг большого почета и могущества в городе, сенат, державший руку богатых, вступил в спор с массою населения, страшно угнетаемой ростовщиками. Дело в том, что законы против должников были неимоверно жестоки. Простых людей брали заложниками, продавали их последние крохи и сажали в тюрьму даже тех из них, которые были покрыты шрамами и храбрее, чем кто-либо, сражались с врагом.
В последнюю войну с сабинянами богатые должны были обещать плебеям, что будут впредь снисходительнее к ним; но по окончании войны они нарушили свое слово, захват имущества и заключение должников в тюрьму продолжались по-прежнему. Так как вследствие этого простой народ решительно не был в состоянии уплачивать подати, то богатые вынуждены были уступить, несмотря на контрпредложение Кориолана.
Очевидно, Шекспир не мог составить себе ни малейшего понятия о свободных гражданских обществах античного мира, всего менее об условиях их жизни в эту древнюю эпоху брожения, когда плебеи города Рима сомкнулись в сильную политическую партию, соединив в себе сословия граждан и воинов, и таким путем образовали ядро, вокруг которого мало-помалу сложилась громадная римская империя. Об этой политической группе можно было бы сказать то же, что Гейберг говорит о мысли: она, по меньшей мере, завоюет мир.
Во времена Шекспира, так сказать, на его глазах совершалось нечто подобное. Английский народ начинал именно тогда борьбу за самоуправление. Но так как класс, образовавший оппозицию, был противником поэта и его искусства, то он смотрел без симпатии на его стремления. Для него гордые и самоуверенные плебеи, выселившиеся на mons Sacer (священную гору), чтобы только не подпасть под иго патрициев, сделались поэтому лондонской чернью, которую он ежедневно имел перед глазами. Римские народные трибуны сделались в его глазах политическими агитаторами самого низменного свойства, самомнительными и тщеславными бездельниками, олицетворением зависти масс, их глупости и грубой силы, основанной на численном превосходстве. Обходя штрихи, выгодно освещавшие римскую чернь, он взял для своего язвительного изображения все черты из рассказа Плутарха о позднейшем восстании, после войны за Кориоли, когда народ держал себя более неразумно. Наконец, он снова и снова, особенно в страстно ругательных репликах главного действующего лица, останавливается на безмерной трусости плебеев, и это несмотря на категорическое свидетельство Плутарха об их мужестве; его презрение к черни нашло себе пищу в этом постоянно повторяющемся подчеркивании жалкой боязливости человеческой толпы, несмотря на положительно воинственную ненависть ее к своим великим благодетелям.
Хотел ли Шекспир дать намек на натянутые отношения и на борьбу между королем Иаковом и английским народом? Есть ли в «Кориолане» в числе многого другого и косвенное указание на положение дел в Англии от лица поэта, аристократически настроенного в политических вопросах? Я думаю, что есть. Богу известно, как мало было сходства между лично столь поразительно трусливым Иаковом и гордым героем римской легенды, который сражается один на один с гарнизоном целого города; почти так же мало его между решительным характером героя и колеблющимся Иакова. Да и не в этом чисто личном элементе кроется намек, а в общем взгляде на отношения между великим благодетелем и народом, рассматриваемым единственно только как толпа, в общем воззрении на стремления к свободе только и только как на бунт.
Тяжело в этом признаваться, но чем глубже мы проникаем в произведения Шекспира и в условия его времени, тем более поражаемся необходимостью, в которую он был поставлен, вопреки своему несомненному отвращению к весьма и весьма многому в особе короля, искать поддержки против своих врагов у королевской власти — и тем большее количество находим у Шекспира несомненных, хотя легких и сдержанных, любезностей по адресу монарха. Взор, обращенный к Иакову, чувствуется, быть может, впервые в «Гамлете», еще до восшествия короля на престол, где поэт, едва ли без благодарности или без призыва к шотландскому государю, так долго останавливается на отношениях принца к актерам. Желание угодить королю сильно чувствуется в пьесе «Мера за меру», где удаление герцога из Вены, но вдвойне бдительный надзор за всем, что там происходит во время его мнимого отсутствия, наверно, должны были оправдать и объяснить случившееся непосредственно после восшествия Иакова на престол не особенно мужественное отсутствие его в Лондоне в течение всего того времени, когда там свирепствовала чума. Те же отношения вновь заметны здесь, в «Кориолане», и еще (в последний раз) в «Буре», которая, несомненно, будучи написана для представления на торжествах, сопровождавших бракосочетание королевской дочери с принцем Фридрихом Пфальцским, заключает в изображении мудрого Просперо несколько брошенных необыкновенно тонко и тактично, но никак уж не заслуженных комплиментов мудрому и ученому королю Иакову. Отношение Мольера к Людовику XIV и отношение Шекспира к своему королю представляют большую аналогию; оба эти великие писатели имели против себя религиозные предрассудки населения, оба они как придворные драматурги должны были действовать с известной предосторожностью; разница только в том, что Мольер мог питать более искреннее уважение к своему Людовику, чем Шекспир к своему Иакову.
Ричард Гарнет, без околичностей назвавший «Кориолана» «отражением чувств консерватора при зрелище борьбы Иакова с парламентом», — отзыв, слишком уж крайний, — задает вопрос: которым из конфликтов была, следовательно, вызвана пьеса, первым или вторым, разразившимся в 1614 г., и, высказываясь в пользу второго, он приходит к результату, с которым считает возможным согласиться, что «Кориолан» — самая последняя по времени пьеса Шекспира.
Но довод, приводимый им для подкрепления этого взгляда, при ближайшем рассмотрении оказывается совсем шатким. Поэтому нет никакого основания отступать от вероятной даты 1608 г., и нет никакого основания делать это с целью произвести искусственное сближение между ситуацией «Кориолана», с одной стороны, и с другой — роспуском парламента по повелению Иакова в июне месяце 1614 г.
Ибо, во всяком случае, можно достоверно установить, что антидемократический дух и антидемократический пафос этой драмы возникли не из взгляда на политические условия данной минуты, а из тайников личности самого Шекспира, какою она развилась перед нами после долголетнего роста. Антипатия к толпе, положительная ненависть к массе как массе так стара у Шекспира, что встречается уже в неуверенных пробах пера его ранней молодости.
Мы уже чувствовали это в изображении восстания, организованного Джеком Кэдом во второй части «Генриха VI», изображении, несомненно принадлежащем Шекспиру. Мы вновь это встретили в полном умолчании о великой хартии в исторической пьесе о короле Иоанне.
Выше мы утверждали, что аристократическое презрение Шекспира к господству масс коренилось в чисто чувственном отвращении его художнических нервов к атмосфере простолюдина. Чтобы найти доказательство этому, стоит только пробежать взором его произведения. Уже во второй части «Генриха VI» (IV, 2) есть намек на эту атмосферу. Ричард умоляет Кэда изречь законы Англии своими собственными устами. Смит делает в сторону следующее замечание: «Это будут вонючие законы: ведь у него изо рта так и разит поджаренным сыром». В «Юлии Цезаре» эта черта повторяется в рассказе Каски о том, как держал себя Цезарь на празднике Луперкалий, когда он отказался от короны (I, 2):
После этого Антоний поднес ему ее в третий раз, и он в третий раз оттолкнул ее; и за каждым отказом толпа поднимала громкие клики, хлопала заскорузлыми руками, бросала вверх сальные колпаки и от радости, что Цезарь отказался от короны, так наполнила воздух своим вонючим дыханием, что Цезарь задохся, потому что лишился чувств и упал. Я не хохотал только от боязни раскрыть рот и надышаться гадким воздухом.
Сравните с этим слова, в которых Клеопатра выражает отвращение, возбуждаемое в ней одной мыслью о том, как ее поведут в Рим в свите Октавия Цезаря («Антоний и Клеопатра», последняя сцена):
Ну, Ира, как это тебе нравится? И тебя, египетскую куколку, будут показывать в Риме, точно так же, как меня. Подлые ремесленники, с засаленными передниками, с треугольниками и молотками, поднимут нас, чтобы мы были виднее, на руки, и мы, объятые их вонючим дыханием, должны будем впивать в себя их гадкие испарения.
Все главные лица в пьесах Шекспира имеют, в сущности, то же брезгливое отношение к черни; если же они его не выражают прямо, то это всегда вытекает из низкого расчета. Когда Ричард II в пьесе того же имени предал изгнанию Болингброка, он в следующих словах описывает его прощание с народом (I, 4):
…Заметили мы сами, И видели то Бэгот, Буши, Грин, Как ластился к простому он народу. Казалось, он в сердца людей вползал Униженной и панибратской лаской. Мы видели, какие он поклоны Глубокие отвешивал рабам, Как вкрадчивой улыбкою своею, Смиренною покорностью судьбе, Мастеровым понравиться старался, Как будто бы желая унести Всю их любовь с собой, в свое изгнанье. Он шляпу снял пред устричной торговкой. Когда же два иль три ломовика Ему вскричали: «Бог вам помоги!» — То, гибкое колено преклонив, «Благодарю вас, земляки, друзья!» — Он отвечал.Большая часть этих цитат ясно показывает, что Шекспира отталкивал просто-напросто дурной запах. Он и в том отношении являлся истым художником, что был восприимчивее всякой женщины к неприятному ощущению, порождаемому гадкими испарениями.
К тому моменту жизни Шекспира, к которому мы теперь приблизились, это неприятное ощущение, как и всякое другое недовольство его, возросло прямо до страстного негодования. Добродетели и преимущества простого народа не существуют для него, его страдания — страдания воображаемые или заслуженные, его стремления — стремления вздорные, его права — одни бредни, его действительные характерные черты — повиновение тому, кто ему льстит, неблагодарность к тем, кто его спасает, а действительная страсть его врожденная, глубокая и глухая ненависть к тому, кто велик. Но все свойства его поглощаются одним свойством — тем, что от него воняет:
Кориолан (III, 1). А что до черни, смрадной и беспутной, Я льстить не в силах ей, и пусть она В моих речах любуется собою. Брут (II, 1). При мне он клялся Что он не будет консульства искать, Так, как другие: не пойдет на площадь, Не станет надевать перед народом Смирения одежду, и на раны Показывая, не попросит он Согласия у смрадных ротозеев.Когда плебеи изгоняют Кориолана, он начинает свою речь к ним восклицанием (III, 3):
Вы — стая подлых сук. Дыханье ваше Противней мне, чем вонь гнилых болот! Любовью вашей дорожу я столько ж, Как смрадными, раскиданными в поле Остатками врагов непогребенных![25]Старик Менений, восторженный почитатель Кориолана, услыхав, что изгнанник перешел на сторону вольсков, говорит народным трибунам:
…Ну, заварили кашу Вы с вашими рабочими-друзьями! Не понапрасну вы за чернь стояли, Так чесноком протухшую!И несколько ниже:
А, вот и сволочь! Так и Авфидий с ним? (Народу.) На Рим заразу Вы навлекли в тот час, когда кидали Свои засаленные шапки вверх, В тот час, когда приветствовали криком Изгнание Кориолана.Если мы спросим теперь, как дошел Шекспир до этого, в политическом смысле так малообоснованного, но определяемого внешними чувствами пренебрежения к «народу», всегда отождествляемому им с чернью, то естественно будет возвратиться к его личной жизни и ежедневным его впечатлениям. Где сам он приходил в постоянное соприкосновение с народом, который был для него то же, что человеческий муравейник? В своей ежедневной деятельности при театре он страдал от необходимости постоянно писать, ставить написанное на сцену и играть перед большой смешанной публикой. Самым тонким и самым лучшим из его произведений часто всего труднее было добиться успеха. Отсюда в «Гамлете» горькие слова о превосходной пьесе, которая едва могла быть сыграна один-единственный раз, «она не понравилась толпе» выражение, в котором Шекспир сконцентрировал свое низкое мнение о простолюдине как художественном критике. Даже те многочисленные поэты и художники, которые были серьезно и восторженно убежденными политическими демократами, редко простирали свою веру в ценность решений большинства на свое искусство. В этой области даже самый народолюбивый в политическом смысле художник слишком хорошо знает, что суждение одного знатока имеет более веса, нежели приговор сотни тысяч профанов. Но у Шекспира художническое пренебрежение к суждению толпы распространяется на все поле, лежащее вне искусства.
Когда он со сцены обводил взором эту массу голов, всклокоченные волосы или лысые затылки которые были прикрыты низенькими шапками, внизу, на открытом дворе, образовавшем партер (ground), то все менее и менее находил он в себе с годами благодушные чувства к groundlings, этим неумытым мещанам, ненавидевшим знатных господ, сидевших наверху, на сцене, и получившим от Бена Джонсона шутливое прозвище the understanding gentlemen. Их камзолы из козьей кожи пахли не очень-то приятно, их черные ситцевые куртки не были красивы. Их называли ореховыми щипцами, потому что они вечно грызли орехи и бросали скорлупки на сцену. Какого-нибудь каприза было достаточно, чтобы туда полетели вдобавок пробки, апельсинные корки, объедки колбасы и даже камешки, между тем как продавцы табака, эля и яблок прокладывали себе дорогу среди этих завсегдатаев партера. Табачный дым и винные пары постоянно поднимались от них вверх, еще до того, как раздвигался занавес, пока они нетерпеливо выжидали момента, когда примадонна кончит свое бритье и можно будет начать пьесу. Stinkards (вонючки) — вот как звали их господа-аристократы, сидевшие в ложах и на сцене, к которым они питали ненависть и с которыми всегда искали пререкании. Часто с обеих сторон сыпался целый град ругательств; иногда из партера бросали яблоками, мало того, грязью; пробовали даже плевать на сцену. В «The Gull Hornebooke» Деккера от 1609 г. говорится: «Ты не можешь быть прогнан со сцены, если даже пугала, стоящие на дворе, будут тебе шикать, будут тебе свистеть, будут плевать на тебя». Еще в 1614 г. в прологе к старинной комедии «Свинья, потерявшая свою жемчужину» актеры говорят, что они находятся под угрозой быть забросанными яблоками, яйцами или камнями со стороны стоящих внизу.
И кто знает, значительно ли более удовлетворяла Шекспира остальная, менее скорая на руку публика? Она посещала театр ради многих других причин, ничего общего не имевших с искусством. Вот что говорится в одной старинной книге об английских пьесах: «В лондонских театрах молодые люди имеют обыкновение спускаться сперва в партер и обводить взором все галереи, затем, подобно ворону, высмотревшему падаль, спешат сесть как можно ближе к самым первым красавицам». Да и знатные господа, сидевшие или лежавшие врастяжку на сцене, были, вероятно, не многим менее заняты своими дамами, чем не столь богатые театралы. Нередко они смотрели пьесу, как Гамлет, прислонившись головой к коленям своей возлюбленной. В «Царице Коринфа» Флетчера описана подобная ситуация.
«The Gulls Hornebooke» Деккера показывает нам, что зрители весьма усердно играли на сцене в карты; другие читали, пили или курили табак, на что жалуется уже Кристофер Марло в одной эпиграмме, и Бен Джонсон в своей «Bartholomew Fair» (those, who accommodate gentlemen with tobacco at our theatres). Но в своей пьесе «The Case is altered» он дает в одной из реплик (II, 4) подробнейшее описание того, как держали себя при представлении какой-либо новой драмы капризные молодые дворянчики: «Они так привыкли все порицать, что ничему не хотят выразить одобрения, как бы ни была пьеса хорошо сочинена и разработана, а сидят хмурые, строят гримасы, плюют, пожимают плечами и кричат: „Гадко! Гадко!“, определяя этим лишь свой собственный характер и пользуясь своими искривленными лицами как винтом, с помощью которого они у всех сидящих по соседству с ними отвертывают доброжелательное выражение от того, на что те смотрят».
Быть может, грубости театральной публики способствовало отчасти и то, что женские роли без исключения исполнялись мужчинами, хотя, с другой стороны, это обстоятельство должно было сделать менее фривольными условия самой сцены, и в особенности должно было явиться облегчением в существовании Шекспира, так как к числу зол, от которых ему приходилось страдать, не принадлежало, по крайней мере, очаровательное и ужасное зло, называемое актрисами.
Такой странной казалась в Англии мысль, что женские роли могли бы исполняться женщинами, что тот же человек, который открыл в Италии существование вилок, там же и одновременно с этим открыл существование актрис. Кориет пишет в Венецию в июле месяце 1608 г.: «Здесь пришлось мне наблюдать некоторые веши, каких я никогда не видал ранее. Я видел, как женщины играли комедию, чего никогда не видал до сих пор, хотя и слышал, что это иногда практиковалось в Лондоне. И они играли с такой грацией, мимикой, жестами и всем, что только приличествует актеру, что не уступали лучшим из виденных мною актеров-мужчин». После смерти Шекспира проходит 44 года, прежде чем на английских подмостках появляется женщина. Мы знаем в точности, когда и в какой пьесе это случилось. 8 декабря 1660 г. первая английская актриса выступила в роли Дездемоны в «Отелло» Шекспира. Еще сохранился произнесенный по этому случаю пролог.
Театральная публика, какою она была в те дни, представляла взору Шекспира картину совершенно нецивилизованной ватаги, и эта толпа и дала ему наглядное зрелище, осязательную картину, по которым сложились его представления о «народе». В молодости он смотрел, быть может, на эту массу с некоторым доброжелательством и снисходительностью; теперь же она сделалась для него прямо ненавистной. Но нет сомнения, что в особенности постоянное зрелище understanders, постоянное вдыхание их атмосферы заставило его в этот период более неудержимо, чем когда-либо, излить свою кипучую насмешку над народными движениями, народными вождями и всей непризнательностью и неблагодарностью, которые олицетворялись для него теперь в понятии «чернь».
В силу своего по необходимости скудного исторического образования и чутья он видел древние времена как Рима, так и Англии в совершенно том же свете, как современную ему эпоху. Уже первая его римская драма «Юлий Цезарь» свидетельствует об антидемократическом основном чувстве Шекспира. Он с жадностью выхватывает у Плутарха всякое доказательство глупости и бесчеловечности масс. Припомните, например, то место, где толпа убивает поэта Цинну под влиянием обуявшей ее ярости против заговорщика Цинны (III, 3):
3-й гражданин. Твое имя? Без обмана.
Цинна. Цинна.
1-й гражданин. Разорвем его на части; он заговорщик!
Цинна. Я поэт Цинна! Я поэт Цинна!
4-й гражданин. Разорвем его за его скверные стихи!
Цинна. Я не заговорщик Цинна!
2-й гражданин. Все равно, его имя Цинна; вырвем это имя из его сердца, и затем пусть его идет, куда хочет
3-й гражданин. Разорвем, разорвем его!
Как видите, Шекспир умышленно представил всех четырех граждан одержимыми в равной степени манией убийства. Здесь слышно все то же аристократическое пренебрежение, которое так резко выступает вновь в моментальном переходе толпы на сторону последнего из говоривших ораторов, в перемене ее настроения после речи Антония; более того, быть может, это же пренебрежение в последней инстанции повинно и в неудавшемся образе Цезаря. Быть может, он отталкивал Шекспира не тем, что ниспровергнул республиканскую форму правления, а тем, что был вождем римской демократии, и Шекспир сочувствует заговору патрициев против Цезаря, потому что всякое народное верховенство, если даже оно отдается гению, несимпатично ему как власть, прямо или косвенно находящаяся в руках у бессмысленной толпы.
Проникнутая совершенно тем же духом вражды к черни, выступает перед нами личность Шекспира и теперь, в репликах Кориолана. Разница лишь та, что все, что в более ранних его произведениях было разбросано и могло показаться наполовину случайным, здесь сконцентрировано во всем настроении пьесы и является в сто раз резче и сильнее.
Мне небезызвестно, что ни английская, ни немецкая критика не разделяют моей точки зрения. Англичане, для которых Шекспир успел сделаться не только национальным поэтом, но органом мудрости, сплошь и рядом видят в его поэзии лишь любовь к тому, что просто, справедливо и истинно. Поэтому они обыкновенно находят, что права народа представлены к этой драме с подходящим уважением; они находят, что эта пьеса заключает как бы квинтэссенцию всего, что можно сказать в пользу как демократии, так и аристократии, но что сам Шекспир остается беспристрастен. Он отнюдь не держит, говорят они, сторону своего героя, гордость которого, вырождающаяся в несносное высокомерие, сама по себе готовит кару, внушая ему преступную мысль поднять оружие против отчизны и приводя его к бесславной смерти Только в отношении к матери ослабляется и смягчается бесчеловечная, противообщественная жестокость в характере Кориолана; в общем же он с начала до конца суров и несимпатичен, римский же народ, напротив того, в высшей степени симпатичен здесь и добр. Конечно, говорят они, народ немного неустойчив, но Кориолан не менее его переменчив и гораздо менее его невинен в своем непостоянстве, страсть народа к грабежу, проявляемая им перед стенами Кориоли и так сильно раздражающая Марция, есть черта всех простых солдат во все времена. Нет, Шекспир не был пристрастен. Если он здесь с кем-нибудь заодно, так это со стариком Менением, прямодушным патриотом, относящимся к народу с веселым юмором даже и тогда, когда он всех яснее видит его недостатки.
Я только передал здесь точку зрения, фактически высказанную выдающимися английскими и американскими шекспиро-логами, и она, по всей вероятности, сплошь и рядом представляется заслуживающей одобрения говорящей на английском языке публики Точно так же и в Германии, преимущественно в то время, когда драмы Шекспира истолковывались либеральными профессорами, невольно приноровлявшими его к своим собственным идеям и идеям века, было сделано много попыток изобразить Шекспира политически совершенно беспристрастным в силу его мудрости, или даже сделать его либералом в духе сороковых годов нашего столетия в средней Европе. Но у нас нет никакого интереса пересоздавать его. Для нас вопрос заключается лишь в том, достаточно ли тонко и остро наше чутье для того, чтобы ощутить самого поэта в его произведении? И надо положительно надеть на свои глаза шоры, чтобы не видеть, на чьей стороне здесь симпатия Шекспира. Он слишком согласен с сенаторами, говорящими, что «у бедных просителей дыхание неприятное» Слишком часто чувствуется, что Кориолан, которому никто не делает возражений или опровержений, высказывает здесь не что иное, как только то, за что поручился бы от собственного имени поэт.
Тотчас после того, как в первой сцене пьесы Менений рассказывает римским гражданам знаменитую басню о желудке и других членах тела, является Марций и с горячностью выступает поборником того самого взгляда, который Менений изложил юмористически:
…Будет тот подлец Из всех льстецов презреннейший, кто скажет Вам ласковое слово. Что вам нужно, Псы недовольные войной и миром? Войны вы трусите, в спокойном доме Вы нос дерете вверх. Кто верит вам, В бою найдет вас зайцами, не львами, Гусей увидит, где нужны лисицы; Надежней вас на льду горячий уголь И град под солнцем. Вы на то годитесь, Чтоб поклоняться извергам преступным И правду проклинать. Кто смел и славен, Тот гадок вам, а сердце ваше рвется, Как у больного прихоть, лишь туда, Где гибель скрыта. Тот, кто верит вам И дружбе вашей — плавает в воде С свинцом на шее. Твари, верить вам! Когда ваш нрав меняется с минутой, Когда во прахе пред врагом вчерашним Вы роетесь, а прежнего кумира Врагом зовете!Факты подкрепляют каждое предложение, произнесенное здесь Кориоланом, так, например, и то, что плебеи только кричать горазды, но обращаются в бегство, как скоро дело доходит до битвы. Они бегут в первой же стычке с вольсками (I, 4):
Марций. Пусть южная чума на вас нагрянет! Вы — Рима стыд! Вы — стадо! Пусть задавит Вас туча целая срамных недугов, Пусть язвы вас покроют, пусть друг друга Вы заражаете, пусть смрад и вонь Идут от вас по ветру! Что бежите Вы, гуси в человеческом уборе? Чего боитесь вы? И обезьяны С таким врагом управятся! Проклятье! На спинах кровь у вас, на лицах ужас И бледность смертная.Герой грозит сам броситься с мечом на беглецов, и ему удается снова устремить их на неприятеля, обратить его в бегство и взять его город; совсем один, словно полубог или бог войны, он врывается в городские ворота, которые тотчас же запираются, и никто из его собственных воинов не следует за ним. Когда он, окровавленный, снова выходит из ворот и город сдается, единственная забота солдат-плебеев сводится к тому, чтобы захватить себе как можно больше добычи. Тогда вновь начинает грохотать гром его гнева:
Взгляни на этих удальцов: как славно Они ведут себя! Не кончен бой, А уж они хватают кто подушку, Кто ложку оловянную, кто тряпки, Каких палач с преступника не снял бы. Прочь, подлецы!Для Кориолана народная партия просто-напросто олицетворяет собою тех, кто не умеет ни слушаться, ни повелевать (III, 1):
…Поживите вместе С народом, неспособным управлять, А над собой властей не признающим!Прочие члены патрициата слишком слабы для того, чтобы выступить против народных трибунов, как они того заслуживают, но Кориолан, предусматривающий всю опасность, какая может воспоследовать, если они добьются влияния на управление городом, смело, хотя и неразумно навлекает на себя их ненависть, оказывая им сопротивление и ставя им преграды (III, 1):
Сенаторы. Довольно, перестань! Кориолан. Как перестань? Я, не страшась врагов, За родину лил кровь на поле брани. Так побоюсь ли я слова чеканить, Покуда целы легкие мои, На обличенье прокаженных этих, К которым мы идем навстречу?Он доказывает, что народ не заслужил даровой раздачи хлеба, которая была произведена. Когда был издан призыв к войне, плебеи уклонились. Во время войны они свое мужество проявляли по большей части в бунтах; жалобы, поданные ими в сенат, были неосновательны. Ничто не могло быть хуже, как из страха к их численному превосходству сделать их участниками в управлении. И вот его последние слова:
…Эта власть, Распавшаяся надвое, заставит Забыть про благо родины и Рим Сведет к ничтожеству. Там, где они Правители других бранят безумно, Где им за дерзость платят справедливым Презрением, где род, и сан, и мудрость Бессильны пред крикливым большинством, Там нет дорог разумному правленью, Там нет порядка!..Улисс в пьесе «Троил и Крессида» стал бы говорить не иначе, а Улисс представитель истинной государственной мудрости. Как видит читатель, ни гуманные соображения об угнетенном положении простолюдина, ни доводы справедливости в пользу того, что тот, кто платит налоги, должен иметь голос в их распределении, никоим образом не принимаются в расчет. А что Шекспир разделяет политические мнения Кориолана, это он выказывает без утайки, заставляя самых различных персонажей сочувствовать ему во всем, кроме запальчивой, вызывающей формы, в которой он выражается; иногда, впрочем, и в ней. Менений, в своей характеристике народных трибунов, ничуть не уступает в резкости Марцию (II, 1).
Сами жрецы наши выучатся хохотать, часто встречая вашу братию! И в лучшей речи вашей смысла меньше, чем в покачивании бород ваших; а что до этих бород, так лучше бы идти им в набивку ослиных седел. Да, по-вашему Марций горд, очень горд; да он и по скупой оценке дороже всех ваших предков с Девкалиона…
Когда Кориолан своими смелыми речами навлек на себя кару изгнания, тот же Менений не знает пределов своему удивлению перед ним:
Он слишком чист и прям душой для мира. Он не польстит Нептуну за трезубец, Юпитеру — за право гром метать! Его душа на языке…Он изгнан, следовательно, не за недостатки свои, а за добродетели. В сущности, все думают так, как Менений. Когда Кориолан перешел на сторону врага и возникает вопрос о том, как смягчить его гнев, Коминий, одинаково со старым юмористом, считает, что трибуны и народ совершили против него преступление:
…Да кто ж пойдет Просить пощады? От стыда трибунам Идти нельзя. Народ пощады стоит, Как волк от пастуха…Мало того, голоса черни, даже служителей в Капитолии, стоят за Кориолана (II, 2). Они оправдывают его одинаковое презрение как к приязни, так и к неприязни народа. Ведь массы ни в чем не знают толка:
…так, стало быть, коли чернь умеет любить без толка, то и ненавидит она без причины! А Кориолан это знает: он не заботится ни о любви, ни о ненависти черни, да по своей откровенности и не скрывает этого.
Это слишком изысканный язык для служителя. Видно, что поэт не особенно побеспокоился изменить свой голос. И далее он того же служителя заставляет разъяснить, что Кориолан оказал великие услуги отечеству, что он прославился не так, как другие, все подвиги которых заключались в том, что они стояли с шапкой в руке и кланялись для того, чтобы подольститься к народу
Он честно служил отечеству. Он прославился не пустяками, не поклонами народу; он умел сделать то, что молчать о его славе, не ценить заслуг его есть и неблагодарность, и преступление. Кто унижает его, тот лжет и сам готовит себе наказание.
Таким образом, нищие духом ничуть не меньше самых проницательных и самых умных патрициев свидетельствуют о величии героя.
Мне кажется нетрудным проследить, что предшествовало в душе Шекспира созданию этой трагедии. Когда он раздумывал о том, что было его радостью в этой печальной земной жизни, что сделало ее сносной для него, то единственный постоянно, хотя и не обильно текущий источник радости видел он в дружбе некоторых вельмож. Усладу его жизни составило расположение двух-трех человек, аристократов по рождению и по образу мыслей.
К массам он чувствовал одно лишь презрение; он не мог разлагать их на отдельные личности; он видел лишь зверство, развившееся у этих отдельных личностей, когда они становились массой. Таким образом, его взору стало представляться, что человечество вообще состоит не из миллионов единиц, а из нескольких, весьма немногих великих единиц и миллионов нулей. Все более и более казалось ему, что существование великих людей есть необходимое условие для всего, что вообще дает жизни цену. И таким образом развился в еще большей степени культ героев, который он лелеял со своей ранней юности. Но когда он был молод, этот культ не имел полемического характера. Теперь он принял такой характер. Шекспир внес в свою драму, потому что должен был это сделать, то обстоятельство, что Кориолан был военный герой; это случайная черта, и она импонировала ему; не рубаку хотел он возвеличить в Кориолане, а полубога. Ибо теперь отношения и условия жизни являлись ему в следующем виде: против немногих, отдельных великих личностей со стихийной необходимостью составлялся заговор ненависти и зависти со стороны мелких и дрянных людей. Как говорит Кориолан:
Кто смел и славен, тот гадок вам.В силу этого движения мыслей, культ героев у Шекспира находил все меньше и меньше полубогов, достойных поклонения, но делался в то же время все интенсивней. Здесь он выступает в выражениях, поражающих неведомой до сих пор у него силой. Те из патрициев, которые знают цену Кориолану, питают к нему нечто вроде эротического энтузиазма, нечто вроде обожания. Когда его престарелая мать говорит сенатору Менению, что пришли письма от сына, и прибавляет затем: «Одно уже к тебе послано», Менений восклицает (II, 1):
Весь мой дом сегодня запляшет от радости! Письмо ко мне?
Виргилия. Я его сама видела.
Менений. Письмо ко мне? Оно принесет мне на семь лет здоровья. Что мне в лекарях? Какое их пойло сравнится с таким лекарством?
Так говорит друг. Послушайте теперь его злейшего врага, предводителя вольсков, Авфидия, которого он унизил, как никого другого, которого побивал в целом ряде сражений. Авфидий ненавидит его, и мы слышали, как он клялся в трагедии, что ни храм, ни молитвы жрецов, ничто, способное обуздать бешеную ненависть, не сможет остановить его жажду мести. Он дал клятву, что где бы он ни встретился с этим врагом своим, хотя бы у своего собственного очага, он омоет свои руки в крови его сердца. Когда же Марций действительно покидает Рим, направляется в землю вольсков и является к Авфидию в его дом, к его очагу, — послушайте тогда, какое удивление, более того, какой восторг от одного вида его лица, одного звука его голоса, одного впечатления величия в его существе охватывает этого врага, который был бы рад лишь ненавидеть, и еще более был бы рад, если бы мог презирать его:
О Марций, Марций! С каждым этим словом Ты исторгаешь из души моей Все корни злой вражды. Когда бы Зевс Из облаков со мной заговорил Про тайны неба и своею клятвой Их подтверждал, — священному глаголу Не верил бы я больше, чем тебе, Мой благородный Марций. О, позволь Обнять себя! Дай мне обвить руками Того, на ком копье мое ломалось, Обломками взлетая до луны. Здесь наковальню моего меча Сжимаю я в объятиях моих И сладко мне в любви с тобою спорить, Как спорили мы ревностно и жарко В бесстрашии на наших встречах бранных. Послушай, Марций: я любил когда-то Святой любовью девушку одну; Она — жена моя. Но в самый час, Когда моя избранница ступила Чрез мой порог — не билось это сердце Так радостно, как здесь, при нашей встрече…Итак, культ героев, безграничный, безусловный, доходящий до экстаза, на фоне столь же неумеренного пренебрежения к толпе; но для всякого, кто умеет читать, не прежнее смиренное поклонение чуждому величию (как оно выступает в «Генрихе V»), а другое, коренящееся в могучем и гордом чувстве собственного достоинства и сознании превосходства.
Читатель снова должен припомнить, что современники Шекспира смотрели на него не как на поэта, добывавшего себе средства к жизни на поприще актера, а скорее как на актера, бывшего, между прочим, и драматическим писателем; затем, что актерское сословие было малоуважаемой кастой, и, сверх того, работа драматурга, вид поэзии, к которому относились пренебрежительно, не считалась принадлежащей к области литературы. Большинство современников Шекспира, без всякого сомнения, видело в его мелких эпических поэмах «Венера и Адонис» и «Лукреция» истинное право его на славу и сожалело о том, что ради заработка он вступил в цех тысячи и одного драматурга. Как говорится еще в посвящении к «Histriomastix» (1634), «эти драматурги — корыстолюбивый народ, и ни малейшего значения не придают они тому, что пишут. Оттого они и не стесняются. Они грабят, крадут, переводят, распространяют, выводят на сцене небо, землю и преисподнюю… заимствуют материал из событий вчерашнего дня, из хроник, сказок, романов». Притом Шекспир даже не сам издавал свои драмы. Он мирился с тем, что алчные книгопродавцы незаконно присваивали их себе и издавали их, так бесцеремонно обращаясь с текстом, что один взгляд на него должен был приводить поэта в содрогание. Ему, вероятно, до такой степени было противно видеть свои пьесы напечатанными в таком виде, что он не пожелал даже получить в свою собственность несколько экземпляров этих изданий. В этом отношении он был поставлен, как современный писатель, не охраняемый литературной конвенцией и видящий, как его произведения искажают и увечат на иностранных языках.
Он пользовался, правда, известной популярностью, но продолжал быть актером, как другие актеры (на втором месте после Бербеджа), а как поэт, оставался в числе множества других. Никогда, безусловно никогда не случалось, чтобы кто-либо из его современников понял, что он представляет отдельную крупную величину, и что все сборище других — ничто в сравнении с ним. Он жил и умер, как один из многих.
Очевидно, что в этот период его жизни в глубине души его поднялось сильное возмущение против такого отношения к нему. Бывали ли мгновения, когда он вполне чувствовал и вполне сознавал свое величие? Едва ли возможно сомневаться в этом. Эти мгновения теперь часто повторялись. Бывали ли минуты, когда он говорил себе: через пятьсот лет, через тысячу лет человечество еще будет знать мое имя, еще будет читать мои драмы? Кто может на это ответить? Но это маловероятно, иначе он отвоевал бы себе право печатать их самому. Зато почти несомненно, что в этот момент он считал себя достойным такой прочной славы. Но он, это легко усмотреть, не верил, что потомство будет проницательней, что оно будет стоять на более высоком уровне, что оно лучше оценит его, чем современники. Ведь ему было чуждо понятие об историческом развитии. Скорее всего он полагал, что культура в его отечестве находится в состоянии быстрого регресса, ибо видел, как вокруг него преуспевает ограниченность, видел, как торжествует ханжество, ополчившееся против его искусства как против дьявольского начинания, и в нем выработалось отвращение к человеческой толпе не только в прошлом и настоящем, но и в будущем, отвращение, сделавшее его равнодушным и к похвалам ее, и к порицанию. Поэтому он с интересом и самоуслаждением изображает это равнодушие у Кориолана, уходящего прочь, когда сенат собирается восхвалять его и назначает его консулом, — у Кориолана, о котором Плутарх рассказывает, что единственная вещь, заставлявшая его любить почести, была радость, доставляемая его матери славою сына, и который, однако же, у Шекспира говорит в самом начале пьесы (I, 9):
…Тошно слушать мне И матери моей хвалы, хотя она Свое дитя хвалить имеет право.Характер Шекспира высвободился из-под власти людского суда. Он обитал теперь на прохладных высях, над снеговою линией, вдали от похвал и от хулы людей, вознесенный над радостями славы и неудобствами известности, вдыхая в себя чистую атмосферу горной природы, высокое равнодушие, среди которого парит душа, когда ей служит опорой ее презрение.
Лишь немногие были людьми, остальные были стадом, мелюзгой, как называет их Менений. Поэтому он сочувствует Кориолану и возвеличивает его. Поэтому он приписывает ему такую же ненависть, какая воодушевляет Корделию, ко всякой недостойной и выгодной лести, — более того, вкладывает ему в уста ее слова (II, 2):
…Народ люблю я так, как он того достоин.Поэтому он вооружает его той же строгой любовью к правде, какой в позднейшие годы того века Мольер наделит своего Альцеста, но только делает ее не полукомической, а безусловно героической (III, 3):
Пускай меня столкнут с Тарпейской кручи, Пускай сдирают кожу, пусть скитаться Пошлют меня в изгнание, посадят В темницу и дают на пропитанье Одно зерно на сутки — не скажу Ни одного приветливого слова. Я не склонюсь пред ними, не куплю Пощады я у них, хоть для того Мне стоило б сказать мерзавцам этим: «День добрый».Вся душа Шекспира живет с этим Кориоланом, когда он не может заставить себя просить у народа консульского сана как награду за свои неоспоримые заслуги. Пускай дают ему награду за его подвиги, но просить ее — какая мука!
Его друзья требуют от него, чтобы он последовал обычаю и лично выступил просителем. Шекспир, шаг за шагом придерживающийся здесь Плутарха, присочиняет, что это претит Кориолану выше всякой меры. Он долго отказывается. Тогда как у греческого историка он без рассуждений является с пышной свитой на форум и выставляет напоказ раны, полученные им на войне, герой Шекспира не может принудить себя хвастать перед чернью своими подвигами или показывать ей свои раны с тем, чтобы взывать к ее состраданию или удивлению (XI, 2):
…Не в силах Я стать полунагим перед толпою, Указывать ей раны и за них Униженно просить избранья. Нет, Такой обряд тяжел мне.Наконец, он поддается, но едва он ступил на форум, как начинает проклинать обряд, который согласился исполнить (II, 3):
Что ж говорить мне надо? «Муж почтенный, Прошу тебя!» Проклятье! Не умею На этот лад я свой язык настроить. «Взгляни, достойный муж, на эти раны: Я добыл их в бою, в тот самый час, Когда иные из твоих собратий Бежали с ревом…»Он пытается преодолеть себя и, немного погодя, словно с плохо скрытой иронией и нетерпением, обращается к стоящим поблизости. Но на вопрос — из-за чего он решился выступить искателем консульства, он отвечает запальчиво и безрассудно:
…Из-за моих заслуг 2-й гражданин. Твоих заслуг? Кориолан. Конечно, не по собственной охоте. 3-й гражданин. Как не по собственной? Кориолан. Я не хотел бы Моею просьбой бедняков смущать.Получив несколько голосов посредством такого, не особенно дипломатического образа действий, он восклицает в сторону:
О, как мне сладки эти голоса! Нет, лучше умереть голодной смертью, Чем нашу заслуженную награду Выпрашивать!И когда затем трибуны принимаются строить против него козни, подстрекают народ не избирать его, и он, под влиянием этого оскорбления, забывается до такой степени, что они получают возможность приговорить его к изгнанию, тогда он разражается потоком ожесточенных ругательств и угроз: «Вы — стая подлых сук!.. Я изгоню вас!» — вроде того, как через две тысячи лет, на достопамятном заседании, другой вождь, сначала избранный народом, потом внезапно возбудивший против себя нападки демократической зависти, Гамбетта, излил громовым голосом над шумевшим народным собранием в Бельвиле свой негодующий гнев: «Подлое отродье! Я буду преследовать вас до самых ваших нор!»
По свойству сюжета и по всему замыслу трагедии было необходимо присоединить к чувству собственного достоинства у Кориолана высокомерие, отталкивающее порой той формой, в которой оно выражается. Но сквозь сознательное художественное преувеличение в изображении гордости героя, чувствуется, как из глубины презрения к людям, презрения, вздымающегося, как море во время бури, в душе самого Шекспира поднималась в те дни неизмеримая гордость, чистая и твердая, как гранит.
Глава 68
Выздоровление. — Переворот. — Новые женские образы
И вот оно было произнесено, это самое последнее, самое исступленное слово горечи. Черная туча разрядилась, и постепенно небо вновь сделалось чистым.
Шекспир точно избавился от самой жгучей муки отчаяния, облекши ее в слова и образы, и точно вздохнул полной грудью, когда поднимавшееся целые годы crescendo достигло, наконец, наивысшего forte, и когда не оставалось ничего больше сказать. Ибо после желания, чтобы вся совокупность человечества была уничтожена чумой, сифилисом, резней и самоубийством, могло ли быть еще более жестокое проклятие?
Он устал проклинать, он вылил все свое бешенство, горячка миновала. Он почувствовал себя так, как будто начал выздоравливать.
И что же случилось тогда? Погасшее солнце зажглось сызнова. Черное небо снова сделалось голубым для взоров поэта. Он снова проникся кротким участием ко всему человеческому.
Каким образом? Почему? Кто может на это ответить?
Нигде в окутанной мраком жизни Шекспира нет столь чувствительного пробела; нигде не страдаем мы до такой степени от отсутствия сведений насчет того, что случилось с ним лично. Некоторые указывали здесь вообще на покорность судьбе, свойственную немолодым летам; действительно, проблески этого душевного состояния можно уловить в последних произведениях поэта. Но в 45 лет Шекспир не был и не чувствовал себя стариком, и слово «покорность» есть лишь общее место, употребленное для объяснения удивительного, поразительного смягчения, вселяющегося теперь в душу Шекспира, долгое время столь мятежную. И не только смягчение видим мы в ней или примирение, хотя примиряющий или примирительный элемент заявляет себя с известной силой, но и пробуждение свободной, резвой фантазии, так долго и так всецело покоившейся как бы сном смерти. Покорность судьбе не бывает двигателем для воображения.
Жизнь снова приобрела цену в его глазах; земля снова показалась ему прекрасной, волшебной, фантастически привлекательной, а люди, ее населяющие, перестали быть для него ничтожной толпой.
Во внешних обстоятельствах не наступило никакой перемены. Политическое положение Англии и англичан было все то же. Шекспира не могли глубоко затронуть такие, например, события, как последовавшая в 1610 г. смерть Генриха IV Французского от кинжала Равальяка, или изгнание иезуитов из Англии как результат этого убийства и запрещение английским католикам (рекузантам) приближаться ко двору на 10 миль в окружности. Сильного впечатления не мог произвести на него и тот факт, что в 1612 г. король Иаков устроил торжественное перенесение в Вестминстер останков своей матери и воздвиг над нею прекрасный памятник.
Что случилось лично с самим поэтом? Что повлияло на него, что изменило его чувства, что настроило его, что возвратило его так долго расстроенной лире прежнюю гармонию и мелодичность? Никто не может на это ответить. Мы можем только с уверенностью чувствовать, что здесь в его жизни произошел решительный перелом.
Но перенесем взор на остающиеся крупные драматические произведения Шекспира, на «Перикла», «Цимбелина», «Зимнюю сказку», «Бурю», на последний великолепный период его деятельности для театра! Взглянем на этот изумительно яркий сентябрь его жизни с таким богатством красок, какою никогда до сих пор не представляло еще его искусство и с чистой прозрачно-свежей сентябрьской атмосферой.
Что стоит на первом плане в воспоминании всякого человека из творений этой пышной осени? Что иное, как не юные женские образы: Марина, Имоджена, Пердита, Миранда, эти утраченные и вновь обретенные, порой одинокие и покинутые юные создания, сплошь и рядом претерпевающие жестокую несправедливость, во всяком случае, не оцененные по заслугам или не занимающие того места, которое им подобает, но все преодолевающие прелестью, возвышенностью и победоносным благородством своего существа.
Само собою разумеется, что они имели модели или одну и ту же модель. Новый мир открылся для Шекспира, и было бы бесплодно предаваться разнообразным, близким или далеким догадкам насчет того, как он открылся для него, или кто ему открыл этот мир. Мы лишь слегка коснемся той возможности, что во время и после бурного кризиса презрения к людям Шекспир вновь примирился с жизнью благодаря юношески женственному величию и благодаря поэзии, которое оно распространило вокруг себя и которое оно принесло с собою.
У всех этих молодых женщин есть нечто родственное, и все они резко отличаются от других групп молодых женщин у Шекспира. Они лишь наполовину принадлежат миру действительности, наполовину же — миру фантазии. Обаяние юности и романтика сказки окружают их лучезарным сиянием, все они оказываются поистине неприступными для житейской грязи и незаслуженного унижения, в которое их повергает судьба. Они самоуверенны, хотя не обладают смелой отвагой гениальных молодых девушек Шекспира. Они кротки, хотя нет у них безмолвной, трогательной грусти, свойственной его молодым женщинам, приносимым в жертву. Ни одна из них не кончает трагически, и ни одна не произносит шутки. Но каждая стоит перед поэтом, как достойное благоговения существо.
Марина и Пердита находятся в совершенно сходных условиях. Они брошенные дети, по-видимому, без отца и без матери; они переживают одинаковые опасности, одинаково терпят низкую долю. Имоджену ложно обвиняют, угрожают ей смертью, как перед тем Марине, но ее обвиняет и ее обрекает на смерть тот, кто ей дороже всех в мире, и все же она сохраняет несломленной силу своего характера, более того, сохраняет неприкосновенной свою любовь к безрассудному и недостойному супругу.
Миранда, наконец, низвергнута с того места, которое принадлежит ей как принцессе, обречена на уединенную жизнь на необитаемом острове, но бдительная нежность отца оберегает ее. Вообще, в изображении как ее, так и Марины, в той нежности, с какой рисуется этот образ есть нечто наполовину отеческое, но в «Буре» особенно поразителен взгляд на молодую девушку в ее естественной прелести как на возбуждающую удивление тайну природы. Агнеса у Мольера и Миранда у Шекспира представляют в том отношении сходство между собою, что ни та, ни другая не видала молодого мужчины ранее встречи с тем, кого ей суждено полюбить; но, тогда как Мольер наделяет свою Агнесу лишь тою невинностью, которая коренится в ее искусственно поддерживаемом неведении, невинностью, исчезающей так же быстро, как роса, перед солнцем любви, Миранда является перед Шекспиром почти как чуждое ему существо и остается идеалом невинности, задушевной женственности и девственной эротики, перед которым он едва не склоняет головы с чувством, похожим на молитву.
Пробежим взором женскую галерею Шекспира.
Вот грубые, с мужским складом характера, героини его юности, женщины кровожадные, как Тамора, преступные и энергичные натуры, как Маргарита Анжуйская, а позднее леди Макбет, Гонерилья, Регана; вот образы, выполненные с некоторым пренебрежением к женщине, как Анна в «Ричарде III», или сварливые, бранчливые, как Катарина в «Укрощении строптивой» и Адриана в «Комедии ошибок», натуры, в которых как будто нашли отзвук воспоминания об оставленной в Стрэтфорде жене.
Вслед за тем являются страстно любящие молодые женщины из периода молодости Шекспира: Джульетта в «Двух веронцах», Венера, Титания, Елена в комедии «Конец — делу венец» и, наконец, настоящая Джульетта.
Затем утонченные, остроумные, чисто-веселые молодые девушки, начиная уже с Розалинды в «Бесплодных усилиях любви», переходя к Порции в «Венецианском купце» и кончая Беатриче, Виолой и настоящей Розалиндой.
Затем следуют наивные, с трагическим складом души, глубоко чувствующие, молчаливые, обреченные на гибель: Офелия, Дездемона, Корделия.
Затем, в период самого глубокого разочарования, — чисто чувственный женский тип: Клеопатра, Крессида.
И вот теперь, под самый конец, совсем юная девушка, на которую поэт смотрит горячим взором зрелого мужчины, радуясь ее юности и чувствуя к ней некоторую эротику восхищения.
Женщина была так же потеряна для него, как Марина для своего отца Перикла, Пердита для своего отца Леонта. Он углубляется в ее существо с некоторой долей той отеческой нежности, которую он сам чувствует к своему созданию Имодже-не, и которую его последнее воплощение, волшебник Просперо, чувствует к своей дочери Миранде.
Он надорвался над жизнью; теперь он не берется больше за самую тяжелую ее ношу.
Не надо больше трагедий! Не надо больше исторических драм! Не надо больше этих ужасов и этой действительности! Нет, теперь он покажет фантастический отблеск жизни с переменами и нечаянностями в причудливом стиле волшебной сказки. Теперь он создаст фантастически-поэтическую рамку вокруг пленительной серьезности молодой женщины, вокруг серьезной пленительности молодой девушки.
Она представляется как бы откровением из другого, лучшего мира, эта чарующая прелесть, и потому поэт перенесет ее в обстановку, навевающую мечту, как и она сама: на корабль, плывущий по открытому морю у берегов Митилены, или в удивительную, омываемую со всех сторон морем Богемию, или на уединенный, защищенный волшебными чарами остров, или в Британию, где короли из эпохи римлян и итальянцы XVI века встречаются с молодыми принцами, живущими в лесных пещеpax и никогда не видавшими молодой женщины, подобно тому, как Миранда никогда не видала молодого мужчины.
И таким образом постепенно возвращается он к некоторым светлым настроениям своей молодости, когда он создавал пляску эльфов в комедии «Сон в летнюю ночь» или поселял беззаботных юношей и дышащих весельем молодых девушек в неведомом лесу в Арденнах, где были львы и кипарисы.
Но только задорное настроение исчезло, между тем как фантазия, не связанная законами действительности, играет вполне свободно. За этой свободной игрой фантазии много скрывается теперь серьезного смысла и опыта. Поэт взмахивает волшебным жезлом, и действительность отодвигается или прорезывается — теперь, как и прежде, в дни его молодости. Но светлое настроение перешло в тихую грусть; задор превратился в слабую улыбку. Грезы души, по которой прошел бич жизни, — вот что предлагает он нам под конец; богатую, но непродолжительную фантасмагорию, занимающую всего-навсего каких-нибудь три-четыре года.
Затем Просперо навсегда бросает в море свой волшебный жезл.
Глава 69
«Перикл». — Сотрудничество с Вилкинсом и Роули. — Шекспир и Корнель
Непроницаемый мрак окружает творчество Шекспира в тот промежуток времени, когда совершается переход от его мрачного, недоверчивого взгляда на жизнь к более светлому миросозерцанию, выступающему в его последних пьесах. Мы встречаем здесь небольшой ряд драм, в которых мы или положительно видим, что они лишь частью написаны им, как это было с «Тимоном» и следующим за ним «Периклом», или же о которых мы можем с уверенностью сказать, что самая крупная часть в них не имеет никакого отношения к нему, но где все же остается более или менее сильная или слабая возможность предполагать, что он вписал в них некоторые важнейшие реплики или внес в них местами значительную ретушевку, как, например, в «Генрихе VIII» и в «Двух благородных родственниках».
С тех пор, как миновали дни, когда Шекспир впервые выступил на своем поприще, он не переделывал больше чужих произведений, не вставлял созданий своего гения в то, что было создано другими, менее значительными умами и не дозволял подобной смеси; по какой причине начинает она вдруг теперь все чаще и чаще появляться в его литературной деятельности?
Я изложу свою точку зрения, без околичностей и не подвергая критике взгляды других.
Мы видели уже на «Кориолане», что душевное настроение Шекспира по отношению к людям в этот самый мрачный период его жизни отразилось и на отношении его к его жизненной задаче. В его работе стала заметна некоторая поверхностность. Все более и более глубокое недоверие к возможности встретить доброе и достойное в человеческом мире, постоянно возраставшее негодование на грубость и неблагодарность в животном, носящем имя человека, повлекло за собою то, что художник стал равнодушнее, небрежнее смотреть на свое дело.
Мы ведь следили за Шекспиром, начиная с первых дней его житейской борьбы, мы прошли с ним счастливую пору его юности, прошли великий трагический период в его жизни, примыкающий к довольно продолжительной эпохе горечи, достигли в «Тимоне Афинском» момента кризиса, дикого взрыва горячки бешенства и презрения к людям и затем усмотрели первые признаки выздоровления. Нашему взору открылись в перспективе не слишком удручающие серьезностью, не слишком правдоподобные, а скорее фантастические произведения, в которых Шекспир является вновь примиренным с жизнью. Само собою разумеется, однако, что это примирение совершилось не внезапно и не сразу. То искреннее воодушевление, с каким Шекспир относился прежде к своему искусству, не тотчас возвращается к нему, а, в сущности, лишь в самой последней его драме, когда он расстается навсегда со своей поэзией.
Мы видели: он надорвался над жизнью. Но, кроме того, он чувствовал, что как будто надорвался и над искусством. Когда он пишет, он не делает уже ставкою свою всю до крайних пределов напряженную силу. Или, может быть, он не владеет уже этой силой, для которой в былое время никакая задача не казалась слишком обширной, никакой ужас — слишком великим? Мы начинаем чувствовать с этих пор или начинаем понимать, что этот могучий гений отложит в сторону перо на целые годы до того момента, как настанет конец его жизни; мы предугадываем, что душа его постепенно отрешается от театра, хотя и не тотчас же отрывается от него. Он перестал уже выступать как актер, вскоре он перестанет и писать для сцены. Он томится по отдыху, уединению, его тянет прочь от города в деревню, прочь от боевой арены его жизни в сельскую обстановку его родины, где он хочет провести те годы, которые ему остается прожить, и где он хочет умереть.
Движение в его душе было, вероятно, такого рода: из презрения к людям развилось героическое равнодушие к людскому приговору над ним, и художническое тщеславие его было убито, между тем как гордость его разрослась в наивысшую самоуверенность. Для кого было ему писать? Где были те, для которых он писал роскошные пьесы своей молодости, те, чьего одобрения он в то время домогался и чья похвала была ему утехой? Они или умерли, или были далеко, или же он потерял их из вида, почти всех, как и они его — долго ли длится обыкновенно сердечное, человечное сочувствие к творящему духу!
И все более и более равнодушный к своему имени и своей славе он частью стал уклоняться от напряжения, нераздельного с обширным замыслом и законченным выполнением, частью стал относиться безразлично к тому, будет ли предпринятая им работа носить его имя или чужое. Как в своем величественном пренебрежении к тому, что думала или чего не думала о нем людская толпа, он, ни разу не заявив протеста, допускал книгопродавцев-пиратов выпускать в свет одну за другой глупые и дрянные пьесы с его бессмертным именем на заглавном листе («Sir John Oldc-astle» 1600, «The London Prodigal» 1605, «А Jorkshire Tragedy» 1608, «Lord Cromwell» 1613), точно также он или сам топил теперь свою работу, или позволял другим топить ее в жалких произведениях посредственных, бездарных или молодых и аффектированных писателей. Как в «Тимоне», так тотчас после того в «Перикле» и затем в других пьесах мы видим, что строки, начертанные его рукою, рукою мастера, переплетаются с контурами, набросанными неуверенными, неумелыми руками. Во многих случаях весьма трудно сказать, сам ли Шекспир написал начало и, утомившись на полпути, оставил свою работу неоконченной, как это часто делал Микеланджело, и после того со спокойным духом смотрел на то, как ее заканчивали другие, или же перед ним лежали попытки этих других, и он свою поэзию, свою силу, свое величие похоронил в дряблых и наивных стихах или в нездоровой прозе этих людей и с полным равнодушием предоставил решить судьбе, отыщет ли его долю в них потомство, о котором он вряд ли много думал. Быть может, он поступал со своей работой для театра вроде того, как делают современные писатели, или представляющие товарищу свои мысли и идеи, или же пишущие анонимно в газете, в журнале. Они пишут, потому что это их ремесло, пишут без особенного удовольствия, нисколько не думая о славе или почете. Они рассчитывают, что в среде их друзей или приятельниц всегда найдется три-четыре человека, которые сумеют узнать их перо; если же эти друзья не разгадают автора, — что нередко случается — то это горе легко пережить.
Первое издание in-quarto «Перикла» от 1609 г. носит на своем заглавном листе следующие слова: «Последняя и возбудившая величайший восторг пьеса, называющаяся Перикл, князь Тирский… Вильяма Шекспира». «Последняя» — самым ранним моментом, когда пьеса могла быть представлена, следует считать 1608 г., так как ни в каких современных заметках ранее этого года не говорится о ее постановке, между тем как с 1609 г. пьеса часто упоминается. «Возбудившая величайший восторг» — все говорит в пользу справедливости этих слов.
Сохранилось множество свидетельств той популярности, какую приобрела эта драма. В одном анонимном стихотворении от 1609 г. «Перикл» упоминается как новая пьеса, на представление которой стекаются толпою и знатные, и простые люди.
Упомянутый выше пролог к пьесе Роберта Тейлора «The hoy has lost bis pearl» от 1614 г. заканчивается двумя строками, в которых автор не находит возможным пожелать большей удачи своей пьесе, как успеха, выпавшего на долю «Перикла».
В 1629 г. Бен Джонсон, раздраженный тем, что его пьеса «The New Inn» потерпела фиаско, свидетельствует о притягательной силе, которую неизменно оказывает на зрителей «Перикл» своею выходкою против тех, кто еще находит удовольствие в таких заплесневелых сказках; выходку эту он вставил в оду к самому себе, приложенную к пьесе.
В 1646 г. Шеппард положительно из-за «Перикла» провозглашает Шекспира равным Софоклу и обладающим более богатым воображением, чем Аристофан.
Эта пьеса не была включена в первое издание in-folio, вероятно, по той причине, что издатели не могли прийти к соглашению по этому поводу с напечатавшим ее книгопродавцем — ибо пираты охранялись законом, как скоро книга была занесена в книгопродавческий каталог, — хотя не существует ни малейшего сомнения насчет того, что Шекспир вложил в нее свой труд; тем не менее, она и при его жизни и после его смерти принадлежала к популярнейшим произведениям английской сценической литературы.
В прежние времена полагали, что «Перикл» — одна из самых первых юношеских работ Шекспира. Но ни один из критиков не сомневается в настоящую минуту, что язык в той части, которая написана Шекспиром, обнаруживает, как то доказывал уже Галлам, манеру его последнего периода, и вся английская критика в совокупности единодушно утверждает, что шекспировская часть «Перикла» возникла в 1608 году или около этого времени, во всяком случае, после «Антония и Клеопатры», «Кориолана» и «Тимона», и раньше «Цимбелина» и «Бури». Что касается меня, то я, само собою разумеется, вполне разделяю мнение, что «Перикл» в идейном отношении идет за «Кориоланом» и «Тимоном» и образует увертюру к последующим идиллически-фантастическим пьесам. Читатель, однако, заметил, быть может, что я не решился (как это сделали Фернивалль и Дауден) настолько отодвинуть назад весь пессимистический ряд драм, чтобы считать его законченным в 1608 г. Я полагаю, что некоторые места «Перикла» создались в уме Шекспира еще в то время, когда он в последний раз давал волю своему негодованию в «Тимоне». В периоды внутреннего разлада ведь и в душе поэта, как и у других людей, может одновременно сказываться верхнее и нижнее течение; и в таком случае именно нижнее вскоре после того должно усилиться и наполнить собою чувства. Между тем мыслящий читатель, конечно, уже понял, что даты, назначаемые как мною, так и другими для последних пессимистических произведений Шекспира, могут быть лишь приблизительны. Я склонен подвинуть их на год вперед, так как усматриваю некоторую связь между «Кориоланом» и думами Шекспира о матери, кончина которой приходится не ранее, как на 1608 год. Но само собою разумеется, что сын останавливается мыслями на матери не только в тот момент, когда лишается ее, не говоря уже о том, что страх потерять ее во время болезни, вероятно, предшествовавшей ее смерти, мог особенно живо представить ему ее образ еще значительно раньше того. Читатель поймет, что здесь, как и всюду в подобных случаях, где это не высказано категорически, подразумеваются слова «может быть» или «вероятно», и сам их прибавит, если почувствует, что они нужны. Лишь крупные основные линии в порядке драм несомненны. Где отсутствуют все внешние признаки, там одни только внутренние не могут решить вопроса о годе и месяце. Относительно «Перикла» мы можем определить их с приблизительной достоверностью; ни с чем не сообразно было бы думать, что шекспировская часть пьесы не находилась еще в ней налицо, когда в 1608 г. она была играна в театре «Глобус», тем более, что заглавный лист категорически утверждает обратное.
В своем целом виде, как она дошла до нас, эта пьеса не настоящая драма, а неудовлетворительно приспособленная к сцене эпическая поэма. Мы видим здесь драматическое искусство в период детства. В качестве пролога выступает перед каждым действием, да и во многих других местах пьесы, старинный английский поэт Джон Гауэр, обработавший в 1380 г. этот сюжет в стихотворном рассказе. Он излагает пьесу как комментатор (presenter) с помощью своей указки. Чего нельзя представить, то он прямо рассказывает или изображает в пантомимах (немых сценах, dumbshows). Он говорит старомодными четырехстопными ямбами, оканчивающимися рифмами, которые зачастую едва могут сойти за простые созвучия.
Он сам шутит по поводу того, что пьеса изображает весь жизненный путь Перикла с самой юности и до старости. В начале третьего действии Марина появляется на свет, а в конце пятого она уже готовится выйти замуж.
Нельзя быть дальше, чем здесь, от единства времени и места, которое несколько позднее пытались установить во Франции. Первый акт происходит в Антиохии, в Тире и Тарсе, второй — в Пентаполисе, сначала на берегу моря, затем в коридоре дворца Симонида, затем в зале для пиршеств. Третий акт разыгрывается сначала на палубе корабля в открытом море, затем в Эфесе, в доме Церимона, четвертый — в Тарсе, на открытом месте близ моря, потом в публичном доме в Митилене; пятый — сначала на корабле Перикла, стоящем на якоре, затем в Эфесе, в храме Дианы.
Как нет здесь единства времени и места, точно так же нет и единства действия. Только единство главного действующего лица сплачивает распадающиеся частности. В том, что происходит, нет внутренней необходимости; простая случайность царит во всем, что приключается с героем.
Какой-нибудь идеи — я разумею не тенденцию, а основную мысль — читатель напрасно будет искать в этой пьесе. За отсутствием идеи Гауэр, в качестве хора, подчеркивает напоследок контраст между безнравственной царевной в начале пьесы и нравственной в конце ее. Однако промежуточные акты не имеют ни малейшей связи с этим моральным противоположением.
Сюжет «Перикла» был старинный и популярный. Надо думать, что происхождение свое он ведет от греческого романа, написанного в пятом веке и сохранившегося в латинском переводе. В Средние века этот рассказ был переведен на многие языки и в одной из принятых им форм получил место в Gęsta Romanomm. В двенадцатом веке Готфрид из Витербо включил его в свою обширную хронику. Джон Гауэр, изложивший его в четырнадцатом столетии в 8-й книге своей поэмы «Confessio Amantis», объявляет, что источником для него послужил Готфрид из Витербо. В 1576 г. латинский рассказ был переведен Лоренсом Твайном на английский язык под заглавием «Образчик печальных приключений», а в 1607 г. вышло новое издание этой книги. Впрочем, в ней, как и во всех переложениях этого сюжета за пределами Англии, герой назван Аполлонием Тирским. Нет никакого сомнения в том, что лежащая перед нами драма создалась на основе этого издания 1607 г., чего уже само по себе достаточно для того, чтобы опровергнуть устарелый взгляд, будто доля, вложенная в нее Шекспиром, относится к его юношеской поре. Зато на основе самой пьесы и, наверно, шекспировских ее частей возникла излагающая тот же сюжет новелла, изданная в 1608 г. Джорджем Вилкинсом под следующим заглавием: «Печальные приключения Перикла, князя Тирского. Верная история пьесы Перикл, как она недавно была объяснена достойным и почтенным поэтом Джоном Гауэром».
Не только то обстоятельство, что в посвящении этой книги, представляющей, собственно, ничто иное, как извлечение из Твайна и из драмы, Вилкинс называет ее «бедный плод моего мозга», но в гораздо большей еще степени замечательно соответствие в стиле и в стихе между первыми актами «Перикла» и написанной Вилкинсом пьесой «Бедствия насильственного брака», которое указывает на Вилкинса, как на главного автора нешекспировских частей драмы. Как там, так и здесь масса ничем не связанного между собою материала скомпилирована в пространную пьесу без драматического интереса или драматической коллизии; в языке как там, так и здесь те же режущие слух перестановки слов и те же жесткие для уха пропуски слов. События, излагаемые в «Насильственном браке», напоминают нешекспировские места «Тимона» — здесь тоже встречается расточитель, пользующийся симпатией поэта и выставленный жертвою. Форма, представляющая смесь прозы, нерифмованных пятистопных ямбов и тяжеловесных и крайне монотонных парных рифм, напоминает стиль как «Тимона», так и «Перикла» в тех действиях и сценах, в которых Шекспир не вложил ничего своего. Флей подсчитал, что в первых двух актах «Перикла» встречается 195 рифмованных строк, в последних же трех-14, — так велика разница в стиле в обеих половинах, и он же поставил на вид, что рифмы здесь так же чисты, как и в оригинальных произведениях Джорджа Вилкинса. Ибо Флей и Бойл готовы вместе с Делиусом, впервые высказавшим это мнение, считать Вилкинса автором первых двух актов. Кроме того, на основании сопоставлений Флей указал чрезвычайную вероятность того, что две речи Гауэра в пятистопных ямбах до и после 5-й и 6-й сцены в четвертом акте, резко отделяющиеся по всей своей форме и по стилю от других его монологов, принадлежат перу Вильяма Роули, выступившего еще за год перед тем сотрудником в сфабрикованной Вилкинсом вместе с Деем плохой мелодраме «Путешествие трех английских братьев». Если, однако, Флей хочет приписать Роули и сцены в прозе в четвертом действии, происходящие в притоне разврата, то он делает это, руководствуясь в гораздо меньшей степени эстетическими, нежели моральными доводами, в данном случае имеющими весьма мало значения. Что касается меня, то я убежден, что эти сцены почти целиком принадлежат Шекспиру. Они положительно предполагаются в некоторых местах текста, несомненно вышедшего из-под его пера; они нисколько не противоречат основному воззрению на жизнь, от которого он лишь теперь начинает постепенно освобождаться, и немало напоминают соответствующие сцены «Меры за меру».
Определить с полной уверенностью более точные обстоятельства, сопровождавшие возникновение этой пьесы, в настоящее время невозможно. Утверждали, что Шекспир с самого начала приступил самостоятельно к своему «Периклу» с тех сцен, которые составляют теперь третий акт, потом отложил в сторону то, что было написано, и разрешил Вилкинсу и Роули дополнить его работу в целях постановки ее на сцену. Но, как мы сейчас увидим, Вилкинс и Роули должны были сообща написать первоначальную драму, и театр, вероятно, отдал ее на рассмотрение Шекспиру, который затем разработал понравившиеся ему в ней места. Издать пьесу Вилкинс уже не мог — она принадлежала театру; поэтому он удовольствовался тем, что пошел навстречу представившейся ему книгопродавческой спекуляции, выпустив в свет пьесу в форме новеллы, и затем приписал себе всю честь и замысла, и выполнения.
Просто невероятно, чего только не превратили в драматический материал в этой пьесе, сохранившейся для нас в следующем виде.
Рыцарственный князь Тирский, получивший на английской сцене взятое из «Аркадии» Сиднея имя Pyrocles, вскоре исковерканное в Pericles, — всего скорее потому, что имя Apollonius не подходило к пятистопному ямбу, является в Антиохию с тем, чтобы разгадать загадку, с которой сопряжена опасность для жизни, так как ее верное или неверное решение сулит или руку царевны, или смерть. Из этой загадки он делает ужасный вывод, что царевна живет в преступной связи со своим отцом, и тогда удаляется и бежит из страны, чтобы спастись от мести злого царя, которая еще несомненнее должна постигнуть отгадавшего верно, нежели многих, отгадывавших неверно. Он едет в Тир, но даже и там не чувствует себя в безопасности, впадает в тоску и оставляет свои владения, чтобы уклониться от преследований Антиоха. В Тарсе он застает голод, делается спасителем народа, снабжает его хлебом со своих кораблей, затем претерпевает кораблекрушение близ Пентаполиса, волны выбрасывают его на землю, он встречает на берегу рыбаков, которые находят в море его панцирь, и тотчас после того принимает участие в рыцарском турнире. Царская дочь видит его и влюбляется в него с первого взгляда, как Навзикая в Одиссея. Ради благородного чужестранца, только что претерпевшего кораблекрушение и всюду встречавшего столько невзгод, молодая царевна забывает всех блестящих молодых рыцарей, которые толпятся вокруг нее. Его женою хочет она быть и ничьей другою: он сверкает перед ними, как алмаз перед стеклом. Отпраздновав свою свадьбу с Таисой, Перикл уезжает.
Затем буря на море. Во время бури Тайса умирает от родов, и суеверные матросы требуют, чтобы ее тело было выброшено за борт. Перикл исполняет это требование, но гроб Тайсы пристает к берегу, и в Эфесе она, совершенно невредимая, вновь пробуждается к жизни. Новорожденную дочь свою Перикл устраивает в Тарсе, но когда она из ребенка превращается в девушку, злая воспитательница ее, негодуя на то, что Марина затмевает своей прелестью ее некрасивую дочь, решает умертвить ее. Пираты, только что высадившиеся на берег, останавливают убийцу, но уводят Марину и продают ее в Митилене в публичный дом. Там, в этой омерзительной обстановке, ей удается сохранить свою чистоту и приобрести себе покровителя, который ее выкупает. Таким образом и случается, что ее приводят на стоящий в гавани корабль к погруженному в глубокую меланхолию Периклу, чтобы испытать, не сумеет ли она вызвать в нем перемену настроения. Между ними происходит сцена узнавания, и затем, повинуясь велению Дианы, все отплывают в Эфес, где Тайса живет в храме богини и где отец вновь обретает свою жену, а только что найденная дочь — свою мать.
Вот та невозможная в драматическом смысле канва, которая лежала перед Шекспиром и которую ему захотелось разработать или переделать в главных ее частях. Что он, как это ревностно старался доказать Флей, уже заранее подготовил свою часть в этой пьесе, это для каждого, кто внимательно читал всю драму строку за строкой, должно представляться в высшей степени неправдоподобным. Это сделало бы неимоверно трудной задачу Вижинса и его компаньонов. Необходимость написать, таким образом, начало к готовой второй половине превзошла бы их силы, или, по крайней мере, обязала бы их работать с самой мучительной тщательностью, тем более, что шекспировские сцены вставлены в рамку их собственного труда в монологах Гауэра, его интермедиях и в эпилоге.
Все говорит в пользу того, что Шекспир наложил свои штрихи на полуготовое или совсем готовое ремесленное изделие. Первых двух актов он почти не коснулся, но в них все же заметны следы его пера, например, в деликатности, с которой в первых сценах пьесы затронут вопрос о кровосмешении, затем в застенчивой и почти безмолвной, но внезапно проснувшейся любви Тайсы к тому, кто с первого же мгновения является в ее глазах первым из мужчин. В сцене между тремя рыбаками, открывающей второе действие, тоже встречаются обороты речи, в которых слышится Шекспир. Особенно то место, где первый рыбак говорит о корыстолюбивых богачах, которые, как киты на земле, «ходят с разинутым ртом, пока не проглотят целый приход с церковью, колокольней, колоколами и прочим». Цитаты из «Перикла» приводятся по переводу Холодковского. Второй рыбак говорит: «Будь я пономарем, хотел бы я быть в это время на колокольне», и на вопрос «Это зачем?» отвечает: «Пусть бы он проглотил меня: попавши в его брюхо, я поднял бы там такой трезвон, что он бы не успокоился, пока не выпустил бы обратно колокола, башню, церковь и весь приход».
Однако в таких пунктах может ведь все-таки оказаться, что то, в чем мы видим проблески шекспировского остроумия или искры шекспировского гения, есть лишь подражание шекспировской манере.
Совсем иначе, плоско и неуклюже, подделывается под заключение комедии «Сон в летнюю ночь» пролог Гауэра к третьему действию:
Уснул, утих весь шумный дом. Лишь слышен храп гостей кругом: Так брачный пир их утомил, Пресытил их и тягчил. Кот мышку в норке сторожит, И глаз его во тьме горит, Как уголек; сверчки поют, Найдя за печкою приют.Сравните песню Пока:
Теперь огонь в печах погас, Совы зловещей крики Напоминают смерти час Страдальцу-горемыке.За этим введением еще следует неумело составленная немая сцена, за нею продолжение тяжеловесного, эпически растянутого пролога и вдруг — как если бы голос из иного мира, золотой голос, звучный и богатый, прервал бесцветную чепуху, как если бы полились волны небесной музыки, по которой давно томился наш слух — вдруг раздается голос самого Шекспира во всей его несомненнейшей неподдельности и с чисто царственною мощью. Пусть читатель отыщет в английском тексте эти дивные стихи:
Перикл (на палубе) Ты, грозный бог пустыни водяной, Уйми ты гневным словом эти волны, От ада хлещущие к небу! Ты, Властитель ветра, скуй его железом И призови обратно в глубь морей! Могучий! Оглушительные громы Ты усмири, и серные огни Проворных молний потуши рукою Спокойною. — О Лихорида, что С царицею моей? — Шумишь ты, буря! Ты хлещешь, точно ты сама себя Стремишься выхлестнуть! Свисток матроса Не слышен, точно шепот в ухо смерти. — Эй, Лихорида! и т. д.Кормилица приносит новорожденного младенца. Она говорит:
…Вот вещица вам, Для этих мест уж слишком молодая. Когда б она с понятием была, То умерла б, как я, едва живая. Возьмите ж на руки кусочек этот Царицы вашей мертвой! Перикл. Лихорида! Лихорида. Терпенье, господин; не помогайте Свирепству бури. Все, что вам осталось От королевы — это ваша дочь. Для ней старайтесь мужественно горе Сносить, чтобы ее спасти.Входят матросы, и после нескольких прямо мастерских реплик, дающих полное представление о неистовстве бури и усилиях матросов спасти корабль, они в своем суеверии требуют от Перикла, чтобы он выбросил за борт бедную, едва только испустившую дух царицу. Царь вынужден уступить им и, обращаясь к умершей, говорит мелодическими стихами:
Ужасную родильную постель Тебе судьба послала, друг мой бедный! Ни света, ни огня; тебя забыли Враждебные стихии. Не имею Я времени, в гробнице освященной Чтоб схоронить тебя, но бросить должен, Едва прикрыв, в глубокий ил морской. Не памятник над бедными костями. Не вечная стоять лампада будет, Но воду мечущий громадный кит. И волны шумные над хладным трупом, Лежащим между раковин простых, Носиться будут.И он отдает приказ, чтобы корабль с новорожденным младенцем, который не вынесет морского плаванья, переменил курс и направился в Таре.
В этих сценах такое могучее веяние бури и пенящихся вод, в них так грохочет гром, так искрится молния, что выше этого нет ничего во всей английской поэзии, даже у самого Шекспира в «Лире», даже у Байрона и Шелли в их описаниях природы. Этот шторм на море и гудит, и ревет, и хлещет, и воет, так что свисток боцмана теряется с шипеньем в разъяренных голосах непогоды. Оттого эти сцены и знамениты, оттого они и дороги морякам, для которых писались. В этой области Англия имеет достаточно знатоков.
Впечатление оказывается тем сильнее, что к чисто внешней страсти стихий примешивается человеческая страсть, столь же нежная, как и великая, страсть, прорывающаяся наружу в сдержанном вопле Перикла над Таисой. Она не заглушается шумом непогоды, она раздается, как контраст бешенству ветра и моря, в звуках, идущих от одухотворенной и тонкой натуры. Восхитительны также слова, которыми Перикл приветствует новорожденную малютку:
…Будь же Тиха вся жизнь твоя, мое дитя Несчастное! От века не рождалось Дитя в такой тревоге шумной. Мир И радости тебе на долю! Грубо Ты встречено на этом свете, точно Не дочь ты князя. Будь же то, что после Судьба сулит тебе приветно! Буря, Огонь, вода, земля и небо громко Тебя из чрева матери воззвали…Хотя новелла Вилкинса весьма точно придерживается хода пьесы, все же лишь в двух только местах ее встречается совпадение, простирающееся до буквального употребления одних и тех же слов. Одно из этих мест находится во втором действии, следовательно, в собственном тексте Вилкинса, другое здесь. У Шекспира это место выражено так:
For thou art the rudeliest welcome to this world That ever was prince’s child. Happy what follows! Thou hast as chiding a nativity As fire, air, water, earth and heaven can make…В новелле Вилкинса сказано:
Poor inch of nature! Thou art as rudely welcome to the world as ever prince’s babe was, and hast as chiding a nativity, as fire, air, earth and water can afford thee[26].
Еще более, чем буквальное совпадение и сохранившиеся в прозе стихи, поражает здесь первое восклицание «Poor inch of nature!» («Бедный вершок природы!»), в котором до такой степени чувствуется Шекспир, что можно подумать, будто оно было забыто в рукописи, послужившей основой для первого издания пьесы.
Итак, сотрудничество Шекспира проявляется лишь с начала третьего действия. Он принимается за работу с рождения Марины. Почему? Потому что лишь с вступлением ее в пьесу сама пьеса начинает интересовать его. Создать эту фигуру, этот нежный образ девичьей прелести и недосягаемой чистоты, вот что показалось ему привлекательной задачей.
Обратите внимание на то, как соответствует духу Шекспира сцена, где Марина непосредственно перед тем, как Диониса отсылает ее, чтобы отдать ее в руки убийце, сыплет цветы на могилу своей умершей кормилицы. Эта сцена как бы предвозвещает две, вскоре после того написанные сцены в других произведениях Шекспира: в «Цимбелине», где братья осыпают цветами мнимый труп отрока Фиделио — имя, под которым они познакомились со своей сестрой Имодженой, и в «Зимней сказке», где пастушка Пердита раздает цветы знатным чужестранцам и своим гостям. Марина говорит (IV, 1):
Я у земли возьму ее одежды, Чтобы цветами дерн украсить твой. Пусть голубые, желтые фиалки И ноготки лежат ковром роскошным Все лето здесь, над милым гробом. Горе Мне бедной! В шуме бури рождена, Я потеряла мать; подобный буре, Мир отнимает всех моих друзей.Простые слова, не представляющие сами по себе ничего замечательного. Но для меня они имеют величайшее значение как симптомы. Это первые кроткие аккорды, слетающие с этого инструмента, так долго издававшего лишь резкие и пронзительные звуки. Ни в одной из драм Шекспира, относящихся к периоду разочарования, вы не найдете ничего соответственного.
Если, несмотря на утомление и на угнетавшую его печаль, поэт не погнушался взять на себя переделку некоторых частей этого «Перикла», то им руководило желание вложить в главное действующее лицо чувства, наполнявшие его в данный момент. Перикл — это романический Одиссей, много скитавшийся по свету, много претерпевший бед и невзгод и мало-помалу потерявший все, что ему было дорого в мире. Сразу, как только мы знакомимся с ним, он видит себя лицом к лицу со смертью, потому что верно решил одну из отвратительных загадок жизни, — как это символично! — и это делает его подозрительным и сосредоточенным в себе, тревожным и унылым. У него с самого начала есть черта меланхолии, а потому и равнодушие к опасностям; позднее, когда в нем пробудилось недоверие к людям, эта черта усиливается и придает ему отпечаток глубины как в мыслях, так и в чувствах. Его натура — вся впечатлительность, во время кораблекрушения он выказывает достаточно мужества, но все более и более погружается в меланхолию, постепенно принимающую характер чуть ли не душевной болезни. Чувствуя себя совсем одиноким и покинутым, он не терпит близ себя ни одного человеческого существа, не отвечает ни на чьи речи, а сидит безмолвный и угрюмый, питаясь своею скорбью (V, 1). Тогда-то Марина и вступает в его жизнь; появившись на корабле, она сначала пытается привлечь его внимание смиренной игрой и тихим пением, потом заговаривает с ним; он не слушает ее, мало того, с гневом отталкивает ее, пока кроткий рассказ ее о том, кто она и какие ее преследовали несчастия не пробуждает его интереса. Дочь, узнанная, вновь обретенная, вызывает мгновенный переход от снедающей сердце муки к меланхолически-счастливому настроению.
Именно так Шекспир как поэт замкнулся в себе от мира; именно так смотрел он на людей и их участие, когда со вступлением в его поэзию Марины и ее сестер основное настроение его изменилось сразу. По всей вероятности, Шекспир приспособил роль Перикла для Бербеджа, который играл ее, но в ней много личных его черт. Между двумя артистами было больше общего, чем можно заключить из слишком известного анекдота об их соперничестве на тайном свидании. Но ведь наиболее тривиальные вещи всего скорее распространяются и всего более остаются в памяти.
И как Перикл одухотворен Шекспиром, так и Марина сделалась в его руках лучезарным образом, она, с самого вступления своего в возраст юности возбуждающая зависть и злобную ревность в силу своей прелести и своих редких качеств. Мы видим ее впервые в тот момент, как она сыплет цветы на могилу, и тотчас же после того, среди ее попытки обезоружить человека, получившего приказание ее убить, мы убеждаемся, что она столь же невинна, как безгрешна в народной песне королева Дагмара на смертном одре. Она никогда не сказала злого слова, ни одному живому существу не сделала зла, никогда не убила мыши, даже мухи никогда не могла обидеть; один раз она нечаянно наступила на червяка и плакала об этом. Нельзя представить себе более кроткую человеческую душу. Кротости же ее соответствует венец правдивости и величия, сияющий над ее головой.
Когда во вступлении к сцене узнавания Перикл, сначала грубо отстранив и оттолкнув Марину, постепенно начинает обращаться с ней более приветливо, и когда он просит ее сказать, где родилась она, и кто подарил ей ее богатые одежды, она отвечает, что если бы она поведала историю своей жизни, ее рассказ сочли бы за ложь. Поэтому она предпочитает молчать. Перикл возражает на это (V, 1):
О, расскажи, прошу! Ложь от тебя происходить не может. О, нет! Твой скромен вид, как Справедливость, Ты Истины дворцу подобна! Знай, Что я тебе во всем поверю… О, поведай Про жизнь твою. — И если из несчастий Твоих одна хоть тысячная доля Равняется моим, ты — крепкий муж, А я — девица слабая. Но ты Терпению подобна, что спокойно Глядит на царские могилы, даже Отчаянье улыбкою встречая.Поэт развертывает здесь все богатство метафор, каким располагает фантазия, чтобы дать истинное представление о достоинстве Марины, просвечивающем и во внешнем ее облике. Но Периклу самому кажется, что он похороненный царь, его самого не покидает ни на миг ее терпеливое участие, и необузданность его собственной скорби удается ей ослабить своей улыбкой.
В этой сцене много драматического воздействия; нахождение и узнавание составляют эффект, часто употреблявшийся уже в древних греческих трагедиях и неизменно достигающий цели. Но все смягчение в этих репликах. Нам показывают не картину с яркими, палящими красками, а воздушную гармонически нежную пастель.
Когда мы должны были дать живое представление о душевном состоянии Шекспира в то время, когда возникли пьесы «Двенадцатая ночь» и «Как вам угодно», мы просили читателя вспомнить какой-нибудь день, когда он чувствовал себя вполне здоровым и бодрым и сознавал, что все органы его тела находятся в счастливой деятельности — один из тех дней, когда солнце светит по-праздничному и сам воздух как будто ласкает.
Для того, чтобы подобным же образом перенестись в основное настроение Шекспира в настоящее время, следует припомнить, что чувствовали мы сами при первом возврате здоровья после тяжкой и долгой болезни. Мы так еще слабы, что боимся всякого более или менее сильного напряжения. Мы не больны уже, но все же далеко еще не здоровы. Наша походка нетверда, жесты руки неуверенны, но чувства наши стали острее, мы видим многое в малом. Солнечный луч, заглянувший в комнату, больше нас оживляет и сильнее настраивает, чем в другое время целый ландшафт, залитый солнцем. Щебетанье пташки в саду, хотя бы она только раза два чирикнула, говорит нам больше, чем в другое время соловьиные трели в лунную ночь. Ветка гвоздики в стакане доставляет нам не меньше радости, чем в иное время оранжерея, наполненная экзотическими растениями. Мы благодарны за всякую малость, восприимчивы ко всякому привету, склонны к энтузиазму. Кто возвращен жизни, у того признательная душа.
И как Шекспир с глубокой восприимчивостью гения чувствовал сильнее, чем другие, эту беспечную радостную пору юности, так и теперь он глубже ощущал меланхолические и кроткие настроения, знаменующие возврат здоровья.
Он хотел выставить на вид высоту невинности в природе Марины, и поэтому он подверг ее невинность самому гнусному испытанию и дал ей самую черную рамку, какую только можно себе представить. Пираты продают юную Марину в грязный вертеп, и изображение его обитателей и отношения Марины к ним и посетителям занимает весьма значительную часть четвертого действия.
Мы упоминали уже, что нет никаких оснований вместе с Флеем называть эти сцены нешекспировскими. Если этот исследователь, скомпрометировавший свой авторитет произвольностью и непостоянством своих мнений, не решается приписать их Вилкинсу, но в то же время оспаривает их принадлежность Шекспиру, то происходит это от умственной ограниченности английского священника, требующего от искусства, которое он должен признать, соблюдения благопристойности и если и допускающего нарушение ее, то лишь юмористическим образом, наполовину в шутку. В красках, наложенных на эти сцены, как ни плоско правдивы они, в развертываемой этими сценами мрачной и отвратительной картине жизни именно и выступает свойственный Шекспиру в этот период, который он готовится покинуть, колорит Корреджио. Реплики Марины в этих сценах всегда метки; это превосходнейшие из всех вообще реплик, какие Шекспир вложил ей в уста, ибо они одушевлены смелым величием, напоминающим величие, которым запечатлены ответы Христа на вопросы ею мучителей и гонителей. Наконец, как мы указывали, весь персонал здесь тот же самый, какой был налицо и в «Мере за меру», где никому не приходило в голову опровергать подлинность пьесы. Сама ситуация здесь и там имеет родственный характер. Изабелла, со своей голубиной чистотой, находится там в таком же контрасте к миру сводников и сводней, наполняющему своим шумом пьесу, как Марина здесь к хозяйке дома, слуге и прочим.
Нельзя представить себе, чтобы Шекспир после всего, что он пережил и переиспытал, мог когда-либо отдаться сызнова романически-средневековому поклонению женщине как женщине. Но с присущей его натуре справедливостью он уже вскоре стал делать исключения из всеобщего приговора, под который некоторое время он склонен был подводить всю женскую половину человеческого рода, и теперь, когда к нему возвратилось душевное здоровье, в душе его явилась потребность окружить ореолом святости голову молодой девушки после того, как он так долго останавливался преимущественно на женщинах, вся природа которых заключалась в чисто половом назначении. И ему посчастливилось вывести незапятнанной ее невинность из самых отвратительных положений.
Обратите побольше внимания на реплики Марины во второй и шестой сцене четвертого действия. Видя, что она пленница в этом доме, она говорит:
Ах, для чего ты медлил, Леонин? Убил бы ты меня без разговоров. Пираты эти — можно ль быть жесточе!? Зачем они не бросили меня В объятья матери, в морские волны! Хозяйка. О чем ты плачешь, красотка? Марина. О том, что я красива. Хозяйка. Что ж за беда, что боги тебя наградили? Марина. Я не обвиняю их. Хозяйка. Ты попала ко мне, и здесь тебе понравится. Марина. Я избегла рук убийцы, чтобы попасть в еще худшие руки… Женщина ли ты? Хозяйка. А кто же, если ты не считаешь меня за женщину? Марина. Или честная женщина, или не женщина.Лизимах, правитель Митилены, является в дом и вскоре остается наедине с Мариной. Он начинает разговор:
Ну, красавица, давно ли ты при своем ремесле?
Марина. При каком ремесле, сударь?
Лизимах. Я не могу назвать его, не обижая тебя.
Марина. Мое ремесло не из обидных. Не угодно ли вам назвать его?
Лизимах. Давно ли ты занимаешься своим делом?
Марина. С тех пор, как я себя помню.
Лизимах. Как, с таких лет? Так ты была дрянью с пяти или семи лет?
Марина. Если была, то еще раньше.
Лизимах. Да ведь сам этот дом свидетельствует, что ты продажная тварь.
Марина. Вы знаете, что это такой дом, и идете в него? Я слышала, что вы человек почтенный, правитель этой страны.
Лизимах. Как? Твоя хозяйка уж рассказала тебе, кто я такой?
Марина. Какая моя хозяйка?
Лизимах. Хозяйка вашей лавочки, зеленщица, которая сеет позор и мерзость. О, ты слышала кое-что о моем могуществе и потому так и топорщишься, чтобы я получше ухаживал… Пойдем-ка в укромное местечко, пойдем, пойдем…
Марина. Коль рождены вы честным человеком, то докажите это, покажите себя достойным вас самих теперь.
Слова эти поражают Лизимаха и вызывают переворот в его душе. Он дает золото Марине, советует ей не покидать пути невинности и желает, чтобы боги пришли ей на помощь. Когда ей посчастливилось вырваться на свободу и проявить на деле способности и таланты, которыми она обладает, тогда становится очевидно, какое впечатление она произвела на него в своем унижении. Он посылает за ней, чтобы рассеять меланхолию царя Перикла, и после того просит ее руки.
Приведенные сцены не дают, конечно, интеллектуального удовлетворения, соразмерного всему тому, на что отважился поэт, чтобы вывести их перед читателем. Но в них сказывается стремление, которое чувствовал в это время Шекспир, — изобразить величие юной женской души, блистающее, как снег, в змеином гнезде пороков.
Обратите также внимание, в каком духе это выполнено. Это дух Шекспира и эпохи Возрождения.
Несколько ранее обработка такой темы в Англии составила бы «моралитэ», аллегорическую духовную пьесу, в которой добродетель верующей женщины восторжествовала бы над «пороком»; немного позднее во Франции результатом ее оказалась бы христианская драма, где религиозно настроенная юная дева приводит в смущение языческую грубость и неверие. Здесь, у Шекспира, переносящего фабулу в дни культа Дианы и делающего одинаково языческими и порок, и добродетель, нет и в помине ничего церковного или конфессиональною.
Можно провести здесь сравнение, ибо всего лишь 37 лет спустя, в малолетство Людовика XIV, подобный же сюжет обрабатывается во Франции Пьером Корнелем, в его сравнительно малоизвестной трагедии «Theodore, vierge et martyre». Действие пьесы происходит в том же месте, где начинается «Перикл», а именно в Антиохии, в царствование Диоклетиана.
Злая Марцелла, жена правителя области, хочет дать в мужья своей дочери Флавии Плакида, которого девушка любит. Но все помыслы Плакида обращены к царевне Феодоре, ведущей свое происхождение от древних Царей Сирии. Однако Феодора — христианка, а это время гонений христиан. Поэтому, чтобы отомстить девушке и отнять у нее сердце Плакида, Марцелла приказывает отвести ее в такого же рода дом, где вынуждена оставаться Марина, и держит ее там в заключении.
Драматический интерес остановился бы здесь, конечно, на развитии чувств Феодоры, когда она видит себя предоставленной своей судьбе. Но молодая целомудренная девушка не хочет и не может давать волю в словах ужасу, который должна испытывать; во всяком случае, правила приличия французской сцены не позволили бы ей выражать его. Корнель обошел это затруднение, переложив все действие в повествовании. Чередующиеся один за другим неверные или неполные рассказы о случившемся держат читателя в постоянном напряжении. Сначала Плакиду рассказывают, что наказание Феодоры заменено простым изгнанием. Он переводит дух. Вслед за тем ему сообщают, что Феодору действительно отвели в тот дом, но Дидим, ее поклонник-христианин, явился туда же, дал солдатам денег, чтобы они его первого туда впустили, и через несколько времени вышел с закрытым лицом, как бы стыдясь своего дурного поступка. Третья весть гласит, что это вышла Феодора, переодетая в платье Дидима. Ярость Плакида сменяется тогда самой мучительной ревностью. Он думает, что Феодора свободно отдалась Дидиму, и терпит невыносимую пытку. Наконец, открывается вся истина. Дидим сам рассказывает, как он спас Феодору; он не прикасался к ней; он христианин и сам ожидает смерти. «Живи без ревности, — говорит он Плакиду, — и дай мне принять смертную казнь». «Ах, — отвечает Плакид, — как же не испытывать ревности, когда это очаровательное создание обязано тебе более, чем жизнью? Ты пожертвовал своею кровью, чтобы спасти ее честь, и мне не завидовать твоему счастью?» — И мученик-христианин, и мученица-христианка, оба погибают от руки палача, а влюбленный в Феодору язычник, ничего не сделавший для того, чтобы спасти любимую девушку, стоит пристыженный.
Весь контраст здесь заключается, следовательно, между великими свойствами, проистекавшими из христианской веры, и свойствами низменного уровня, которые влечет за собой язычество.
Две вещи поражают при этом сопоставлении: смелость английского театра, неустрашимо представляющего взорам зрителей все, даже то, на чем правила благопристойности запрещают останавливаться в общественной жизни, и различие между умственным отпечатком в старой Англии времен Возрождения и в спиритуалистически-христианнейшей Франции при начале классицизма.
Спокойная смелость, которую сообщает Марине ее невинность, не имеет ни следа конфессионального привкуса, без которого не могли обойтись ни средневековые драмы до Шекспира, ни Корнель и Кальдерой после него, но который, как это достаточно очевидно, сильно претил английскому поэту. Феодора Корнеля — святая по профессии, мученица — по своему выбору, и когда после своего освобождения она вновь отдается во власть своих врагов, то делает это потому, что путем небесного откровения она получила обещание, что не будет вторично заключена в тот дом, откуда ее освободили. Марина Шекспира, этот нежно и бережно исполненный эскиз первой юной девы нового женского типа, который наполнит собою вскоре его поэзию, чисто человечна во врожденном благородстве своей натуры.
Крайне интересно проследить теперь, как в этой мрачной и в то же время причудливой пьесе о Перикле зарождается все, что Шекспиру еще остается создать. Марина и мать ее Тайса, обе утраченные и лишь после стольких лет вновь обретенные оплакивающим их царем, представляют как бы первый набросок Пердиты и Гармионы в «Зимней сказке». Пердита, как говорит уже само имя, потеряна и живет, как и Марина, в совсем чужой стране, не зная ни матери, ни отца. Мы уже видели, что как Марина сыплет цветы на могилу, так и Пердита дарит их со множеством глубоких изречений о характере цветов; как царь Перикл находит под самый конец Тайсу, так и Леонт находит Гермиону.
В «Цимбелине» злая мачеха, королева, соответствует злой воспитательнице Дионисе в «Перикле». Она ненавидит Ижоджену, как Диониса ненавидит Марину. Пизанио в «Цимбелине» должен убить Имоджену близ Милфордской гавани подобно тому, как Леонин в «Перикле» должен убить Марину близ морского берега. Цимбелин находит под конец своих сыновей и свою дочь, как Перикл под конец находит Марину.
Влечение к замене строгой драматургической работы более легкими средствами, мелодраматической музыкой, явлениями духов, приводящими к развязке и т. п. — все это, свидетельствующее в своей совокупности о некотором утомлении по отношению к требованиям искусства, обнаруживается уже в этой драме. Диана является дремлющему Периклу точь-в-точь, как в «Цимбелине» Юпитер предстает перед спящим Постумом. Как Диана повелевает царю отправиться в Эфесский храм, чтобы там вновь обрести Тайсу, так и Юпитер объявляет, что Постум будет снова супругом Имоджены.
Но более чем какую-либо другую пьесу «Перикл» подготовляет собою «Бурю». Отношения к дочери меланхолического Перикла как бы предвозвещают отношения великодушного Просперо к Миранде. Он также владетельный князь, живущий в изгнании, вдали от родной земли. Но при всем том первым эскизом характера Просперо служит образ Церимона в «Перикле». Пусть только читатели обратят внимание на его длинную реплику (III, 2):
Всегда считал я ум и доблесть выше, Чем знатность и богатство; блудный сын Последние пусть тратит, если хочет; Бессмертье ж первыми дается нам И человека в бога превращает. Держась такого мнения, природу Я изучал, у знающих людей Выведывал ее святые тайны, И собственным трудом все дополняя, Дошел до сокровенных сил, творящих В металле, камне и растеньях разных Свою работу. Я познал тот вред, Который нам природа причиняет, И средства исцелять его, и этим Счастливлю жизнь свою, конечно, больше, Чем вечной жаждой почестей пустых Иль сохранением богатств в мешках шелковых Глупцам и смерти на потеху.Здесь, во втором действии, Перикл и Тайса совершенно так же противопоставлены разгневанному отцу, не слишком, однако, негодующему на их союз, как Фердинанд и Миранда противопоставлены Просперо, когда он притворяется рассерженным. Но в особенности сама буря, которой открывается пьеса того же имени, уже предсказана дивной сценой бури, с которой начинается шекспировская часть «Перикла». И как сами сцены бури соответствуют одна другой, так рассказ Марины о непогоде, во время которой она появилась на свет («Перикл» IV, 1), соответствует рассказу Ариэля о кораблекрушении в «Буре» (I, 2).
Помимо того, многие мелкие штрихи выдают внутреннее родство между этими двумя произведениями. Как в «Перикле» (V, 1), так и в «Буре» (II, 1) раздается убаюкивающая, усыпляющая волшебная музыка; как в «Перикле» (IV, 3), так и в «Буре» (III, 3) говорится о гарпиях. Слово virgin-knot, применяемое Мариной к самой себе в «Перикле» (IV, 2.) в прелестных стихах:
If fires be hot, knives sharp, or waters deep, Untied I still my virgin-knot will keep[27], —употребляется и в «Буре» (V, 1), где Просперо прилагает его к Миранде, и это слово, надо заметить, встречается у Шекспира только в двух этих местах.
Таким образом, в этой столь несправедливо обойденной и пренебреженной пьесе находится в зародыше все позднейшее творчество поэта. Она имела против себя две вещи: отчасти то, что она не вся целиком написана Шекспиром, отчасти же, что в ней, как воспоминание о только что пережитом мрачном периоде, падает черная тень на физиономию Марины от той грязной обстановки, в которую она помещена в четвертом действии. Но как документ к душевной истории Шекспира и как плод поэтического вдохновения этот прекрасный и замечательный отрывок «Перикла» представляет собою произведение, полное величайшего интереса.
Глава 70
Френсис Бомонт и Джон Флетчер
Было сравнительно нетрудно доказать участие Шекспира в создании «Перикла» и «Тимона». Оно заметно в самых важных сценах. Те писатели, которые сотрудничали с ним вместе, удостоились этой чести почти случайно и не представляют поэтому теперь для нас никакого интереса. Иначе обстоит дело с двумя другими драмами, возникшими в тот же период. В данном случае имя Шекспира упоминается в связи с именем другого писателя и, по мнению большинства критиков, совершенно основательно. Я имею в виду пьесы «Два благородных родственника» и «Генрих VIII». В этих двух произведениях перу Шекспира принадлежит лишь немногое, в одном из них почти ничего. А тот писатель, который создал все остальное, выступил тогда с особенным успехом, занял видное место в современной драматической литературе, и Шекспир не мог относиться к нему равнодушно. Поэтому невольно возникает вопрос, что заставило Шекспира вступить с ним в сотрудничество.
В 1608 году на сцене театра «Глобус» была представлена драма «Филастр», встреченная очень сочувственно и имевшая продолжительный успех. Авторами этой трагедии были 22-летний Френсис Бомонт и 28-летний Джон Флетчер. Успех этой пьесы был настолько поразителен, что имена обоих поэтов сделались сразу знаменитыми. До этого момента (1606–1607) Флетчер успел уже поставить одну свою, якобы веселую, в действительности же плоскую пьесу, написанную прозой, «Женоненавистник». Здесь встречаются, правда, некоторые комические фигуры, но ничто не позволяет угадать будущих творений поэта.
После нашумевшей пьесы «Филастр» оба поэта написали в 1610 году свою лучшую драму «Трагедия девушки» («The Maid Tragedy»), а в 1611 г. столь же известную драму «Король — не король». С тех пор Флетчер продолжал свою драматическую деятельность, сначала в сотрудничестве с Бомонтом, а после его смерти (1615) еще десять лет, последние годы своей жизни, самостоятельно (впрочем, одну пьесу он написал вместе с Роули) и даже затмил своей славой имя Шекспира, быть может, еще при его жизни, но, во всяком случае, после его смерти. Его авторитет с течением времени все возрастал, так что в 1668 г. Драйден утверждает в своем известном сочинении «Опыт драматической поэзии»: «Пьесы Бомонта и Флетчера нравятся больше всех и даются чаще всех. Если в продолжение года на подмостках появится одна пьеса Шекспира, или Джонсона, то из произведений обоих поэтов дают, по крайней мере, два». Впрочем, если сравнить это утверждение с замечаниями в дневнике Пеписа, то оно покажется преувеличенным. Что же касается Шекспира и Бена Джонсона, то звезда второго затмила с течением времени звезду первого. Самуил Ботлер не только лично предпочитает Бена Джонсона, но считает его превосходство над Шекспиром общепризнанным фактом.
Оба вновь выступивших поэта не принадлежали, подобно старшему поколению писателей (Пиль, Грин, Марло), к литературному или ученому пролетариату, или как Джонсон и Шекспир — к среднему сословию. Оба происходили из знатных фамилий. Флетчер был сыном высокопоставленного священника, человека лично знакомого с придворной жизнью в царствование Елизаветы и Иакова; отец Бомонта был гражданским судьей и находился в родственных отношениях со многими аристократическими семьями. Современников сразу поразило умение обоих поэтов рисовать в совершенстве беспутство и остроумную находчивость знатных господ.
Френсис Бомонт родился, вероятно, в 1586 году в Грас-Дие (Grace-Dieu), в Лейстершире, в семье, принадлежавшей к судебной знати, члены которой отличались поэтическими наклонностями и способностями. В тот год, когда Френсис умер, в семье существовало не менее трех поэтов, носивших одну и ту же фамилию. Десяти лет Френсис Бомонт сделался студентом второго курса в Бродгейт-Холле в Оксфорде и переехал затем в Лондон, где его приняли в качестве студента-юриста в корпорацию «The Inner Temple». Впрочем, он изучал юриспруденцию не очень серьезно; он с большим удовольствием писал драмы и «маски», которые в то время часто разыгрывались на юридических факультетах. Еще в 1613 году Бомонт является автором той «маски», которую в день свадьбы принцессы Елизаветы с пфальцским князем ставили на придворной сцене юридические корпорации «The Inner Temple» и «Grays Inn».
Одинаковое увлечение пьесой Бена Джонсона «Volpone» сблизило, по-видимому Бомонта и Флетчера. Как только оба познакомились, они заключили такую братскую дружбу и вступили в такое интимное сотрудничество, которое редко в летописях истории. Обри, который сохранил нам несколько анекдотов о Шекспире, описал их сожительство в следующей сильной фразе: «Они обитали вместе, недалеко от театра, оба они были холостые, имели одну и ту же… которую в высшей степени уважали, то же платье, один плащ и т. д.» Едва ли можно сомневаться в том, что собственно подразумевал Обри под многоточием, которое включил так стыдливо в текст, тем не менее Чалмерс пытался в свое время заменить его бессмысленным словом «bench», т. е. скамейка. Оба товарища стали в скором времени писать сообща. По-видимому, оба набрасывали вместе план пьесы, а затем каждый отделывал те сцены, которые были по силам его таланту. На это обстоятельство указывает один анекдот, сохраненный Винстенлеем, анекдот, быть может вымышленный, быть может исторический. Однажды оба поэта сидели в таверне, занятые распределением между собой отдельных частей пьесы. Вдруг из их комнаты послышался крик: «Я беру на себя убить короля!» Человек, стоявший за дверью, вообразил, что в комнате сидят политические заговорщики, и сделал донос. За достоверность этого анекдота говорит тот факт, как метко заметил Джордж Дарлей, что в пьесе Флетчера «Женоненавистник» подобное недоразумение также ведет к доносу, и что вообще эта пьеса проникнута горькой ненавистью к доносчикам. Прочтите третью сцену первого действия, где дается не очень лестная характеристика их поведения и образа мыслей.
Мы не знаем, как распределили оба поэта работу над драмой «Два благородных родственника», но они, во всяком случае, просмотрели свой труд вместе и старались, по мере возможности, стушевать различие в стиле. Вот почему нам теперь так трудно воздать каждому должную честь, хотя мы имеем и такие произведения, которые написаны ими порознь.
Впрочем, существуют разные признаки, особенно метрического свойства, позволяющие нам разграничить их разнородные таланты. Насколько мы теперь в состоянии судить, Бомонт был в большей степени трагическим поэтом. Его поэтический стиль глубже и полнее флетчеровского. Он не обладал таким остроумием и такой технической ловкостью, но его вдохновение отличалось большей серьезностью, его чувство — большей глубиной, а его изобретательность— большей смелостью. В глазах потомства его хорошенькое личико окружено ореолом страдания. Подобно двум другим выдающимся поэтам Англии, Марло и Шелли, он умер, не достигнув тридцатилетнего возраста.
Бомонт привязался с трогательной искренностью к Бену Джонсону, был завсегдатаем в клубе «Сирена» и воспел происходившие там литературные вечеринки в поэтическом послании, из которого выше мы привели несколько стихов. Насколько страстно Бомонт увлекался Беном Джонсоном, видно особенно из того стихотворения, которое он посвятил автору пьесы «Volpone». Здесь он ставит искусство Бена Джонсона и прелесть его комического стиля выше всего, что было создано для английской сцены остальными поэтами, в том числе, стало быть, также и Шекспиром. В ответ на это послание Бен Джонсон написал свои стихи «К мистеру Френсису Бомонту», где благодарил за посвящение теплым объяснением в любви и заверением, что он «не стоит, в сущности, и самых снисходительных слов», выходящих из-под его пера, что он завидует более блестящему таланту своего друга.
Если верить Драйдену, то Бен Джонсон давал свои произведения на просмотр Бомонту, покуда тот был жив, и всегда советовался с ним о них. Если имена Бомонта и Бена Джонсона соединены таким образом вместе, то имя Флетчера составляет с именем Шекспира другое созвездие.
Джон Флетчер родился в декабре 1579 года в местечке Рей в Суссексе. Он был, следовательно, 15 годами моложе великого поэта, бывшего, по преданию, несколько раз его сотрудником. Его отец был сначала священником в Петерборо, потом епископом в Бристоле, в Ворстере и, наконец, в Лондоне. Это был красивый, красноречивый человек, любивший пожить и попользоваться всеми благами царедворцев с ног до головы. Все его мысли постоянно были сосредоточены на том, чтобы расположить к себе государя и сохранить его доверие.
В жизни этого человека был один момент, в высшей степени интересный в историческом отношении и исполненный драматического или даже трагического смысла. Он, вероятно, любил в беседах с сыном повторять этот рассказ, производивший глубокое впечатление на подраставшего трагика. Дж. Флетчер был тот священник, который должен был присутствовать при последних минутах Марии Стюарт. Он был, следовательно, не только пассивным зрителем, но и активным участником в эпизоде кончины «шотландской Клеопатры». Когда он пошел навстречу королеве в зале, обитом черным сукном, и предложил ей вместе помолиться, она повернулась к нему спиной. «Мадам, — начал он тихим голосом. — Ее величество королева… мадам, ее величество королева…» — трижды пытался он продолжать, но голос его дрожал от внутреннего волнения. Когда он в четвертый раз повторил эти слова, она прервала его с резкостью: «Господин священник, я католичка и хочу католичкой умереть. Вы напрасно меня мучаете, ваши молитвы мне не помогут». — «Так образумьтесь! — воскликнул он, снова получив господство над своим языком. — Раскайтесь в своих грехах, возложите свои надежды на Христа: он вас спасет». — «Не беспокойтесь, господин священник, я возлагаю свое упование на собственную веру, за которую теперь умираю». — «Мне жаль, — воскликнул Шрусбери, — что вы так преданы папской ереси!» В эту минуту ее дамы сняли медленно вуаль с головы, чтобы не расстроить прическу. Они помогли ей снять длинное черное платье, она стояла перед ними в юбке из пунцового бархата. Они сняли с нее черную кофту, и она осталась перед ними в темно-красном корсаже. Плача, надели они на нее темно-красные рукава и темно-красные туфли. Так стояла эта гордая женщина в черном зале, одетая в пурпурное платье. Это превращение совершилось с быстротой сценической метаморфозы. Дамы громко плакали. Она крикнула им: «Ne criez vous pas, j’ai promis pour vous. Adieu, au revoir!» И произнося вслух молитву, она положила голову на плаху. Конечно, Ричард Флетчер запомнил на всю жизнь как душевную стойкость и непоколебимое мужество, обнаруженное при этом случае великой комедианткой, так и то своеобразное сочетание ужасного с комическим, которое характеризовало последующую часть этого эпизода. Первый удар взволнованного палача был неудачен. Он скользнул по щеке и по платку, которым были завязаны глаза. После второго удара голова повисла только на одной тонкой полоске кожи. Палач перерезал ее обратным движением топора. И Флетчер снова сделался свидетелем превращения столь чудесного, как будто оно было вызвано чародейством. Богатый, но фальшивый головной убор упал с отрубленной головы. Когда королева опустилась на колени, чтобы умереть позорной смертью, она казалась женщиной, обладавшей всей прелестью зрелого возраста. А когда палач показал отрубленную голову небольшой кучке свидетелей, это была голова морщинистой поседевшей старушки.
Кажется, ни один рассказ из всемирной истории не мог познакомить молодого Флетчера нагляднее с ужасами трагической катастрофы, с ужасами смерти, с тем сочетанием возвышенного и карикатурного, которое обнаруживается иногда в важных моментах жизни, как именно этот рассказ, слышанный им от отца и словно посвятивший его в поэты карикатурно-трагических театральных эффектов.
Джон Флетчер воспитывался в Кембридже и приехал в Лондон, по-видимому раньше Бомонта, чтобы здесь попытать счастье в качестве драматурга. В 1608 году он положил начало своей карьере пьесой «Филастр, или Любовь, истекающая кровью». Шекспир испытывал, вероятно, какое-то особенное настроение, присутствуя при первом удачном представлении этой пьесы. Эта драма должна была ему показаться местами просто отголоском собственных произведений. Принц Филастр находится в таком же положении, как Гамлет, так как и он лишился противозаконно престола, и он объясняется иногда с королем совершенно в стиле Гамлета. Например, в первой сцене первого действия:
Король. Он словно одержим бесом.
Филастр. Нет, не бесом, а духом моего отца. Этот дух присутствует здесь, король, и это — опасный дух. Он нашептывает мне, что я наследник престола, и приказывает мне заявить свои права на этот престол. Он уверяет меня, что все эти люди — мои подданные. Странно, что он мне не дает покоя и во сне. Он нисходит в мое воображение и создает там фигуры людей, которые преклоняют предо мною колени, которые служат мне и приветствуют меня королем. Но я порабощу этого духа. Мой государь! Вашу руку! Я ваш слуга!
Король. Прочь! Я не стерплю этого…
Впрочем, Филастр не опасен королю. Он любит его дочь Аретузу, которая молится на него. Отец хочет ее выдать замуж за надменного испанского принца Фарамонда. С другой стороны, Филастр не замечает, что дочь придворного Диона, Эвфразия, также обожает его. Под именем Белларио она поступает к нему на службу, переодетая пажом. Она любит его с такой преданностью, что выходит победительницей из всех предстоящих ей испытаний. Она готова даже быть посредницей между Аретузой, в пользу которой она отказывается от возлюбленного, и этим последним, лишь бы помогать ему. Она находится в том же самом положении, как Виола в «Двенадцатой ночи», с тою только разницей, что в шекспировской пьесе этот сюжет обработан в духе комедии, а здесь все дышит серьезным романтическим и трагическим пафосом.
Шекспир должен был вспомнить в гораздо большей степени еще одну из своих пьес, когда присутствовал при постановке «Филастра», драму, в которой, как гласило здесь заглавие, любовь действительно истекала кровью, т. е. «Отелло». В самом деле, весь ход действия ставит Филастра и Аретузу в положение Отелло и Дездемоны.
Вот как это происходит. Так как принцесса обходится со своим женихом Фарамондом в высшей степени холодно и не желает до свадьбы признать его супружеских прав, то принц, объявляющий зрителям наивно, что его организм не допускает этой отсрочки, приглашает на свидание крайне услужливую придворную даму по имени Мегра, одну из тех ветреных красавиц, которых Флетчер умел так мастерски рисовать. Она напоминает Хлою в его прелестной пьесе «Верная пастушка». Однако придворные узнали время и место ее свидания с принцем. Король, возмущенный позором, причиненным его дочери, расстраивает свидание тем, что стучится в дом Мегры и осыпает ее самыми жестокими бранными словами. Тогда в пылу самозащиты Мегра грозит его величеству, что если король опозорит публично ее имя, то она расскажет всем и каждому о тех нежных отношениях, которые существуют между его дочерью и только что поступившим к ней на службу молодым, хорошеньким пажом. Как только король узнает, что Белларио находится на службе у Аретузы, он верит клевете и требует в грубых выражениях удаления пажа. Придворные, любящие Филастра и желающие, подобно всему народу, чтобы он свергнул короля с престола, видели с прискорбием, как страсть к принцессе парализовала его волю. Они немедленно передают Филастру клевету, и один из них, сам отец Белларио, Эвфразий, уверяет его даже ложной клятвой, что он лично был свидетелем свидания принцессы с пажом (впрочем, этот мотив и все те события, которые являются следствием переодевания, не кажутся здесь избитыми, так как зритель до конца не знает, кто и что Белларио). С этого момента Филастр превращается в Отелло. Он грозит мечом бедному Белларио, который изнывает и гаснет от любви к нему, и прогоняет его прочь. Паж чувствует, что Филастр опутан сетью неизвестных ему интриг. Он произносит следующие слова, которые подходят как нельзя лучше к Отелло:
But through these tears Shed at my hopeless parting I can see A world of treason practised upon you And her and me[28].Подобно тому как доверчивая Дездемона заступается тепло за Кассио перед Отелло, так точно здесь Аретуза горюет в присутствии Филастра, что ее принудили отказаться от дорогого посланника (III, 2):
О ты, жестокий! Так и ты бессердечен! Кто тебе теперь расскажет, как я тебя люблю? Кто поклянется теперь в этом перед тобой? Кто будет проливать эти слезы, которые я тебе посылала? Кто передавал тебе письма, кольца и браслеты? Кто изнурит свое здоровье, служа тебе? Кто будет проводить бессонные ночи, рассказывая мне о твоих достоинствах?
И Фил астр испытывает при этих словах такие же муки, как венецианский мавр. Но отличаясь с самого начала более мягкой натурой, он отвечает ей несколькими репликами, исполненными трогательного пафоса, глубину и красоту которого трудно превзойти. Но когда он потом застает в лесу Аретузу и Белларио, которые случайно встретились, в нем просыпается бешеная ревность, и он ранит сначала Аретузу, а потом и Белларио, подставившего свою грудь удару и позволяющего себя арестовать, будто за покушение на жизнь принцессы. Глубокая преданность Дездемоны нашла как бы двойное трогательное воплощение в этих двух женских образах. Потом все кончается благополучно. Революция возвращает Филастру престол. Раны обеих любящих женщин заживают. Клевета и подозрение против Аретузы замолкают в ту минуту, когда Белларио оказывается женщиной. Филастр женится на Аретузе и эта последняя заключает пьесу словами, приглашающими Белларио-Эвфразию остаться с ними и разделить их жизнь, причем она обнаруживает даже больше великодушия, чем королева в «Carmosine» Мюссе.
Шекспир не мог не заметить таланта, проявившегося в этой пьесе, переполненной отголосками его собственных работ.
Ему, вероятно, особенно понравились женские характеры обоих поэтов, отличавшиеся в высокой степени кротостью и прелестью, в противоположность Чапману и Марло, не обладавшим способностью понимать и рисовать женщин. В драмах Чапмана, даже в лучших, как например, в драме «Заговор и трагедия герцога Шарля Бирона, французского маршала», воспроизводившей так точно современную историю, Шекспир едва ли нашел что-либо привлекательное. Это скорее поэма в десяти актах, чем драма.
А комедии Чапмана, даже лучшие, вроде «Eastword Ное!» («На Восток!»), рисующей такую удивительною живую картину тогдашнего Лондона, отталкивали, по-видимому, Шекспира своим реализмом, тем реализмом, которого он сам постоянно избегал. А действие драмы Бомонта и Флетчера происходило на фантастическом острове Сицилии, или, вернее, в царстве фантазии, куда оба поэта переносили и впоследствии обыкновенно действие своих пьес.
Вообще вся эта драма отличалась какой-то отвлеченной поэзией. Характеристика людей и страстей напоминала стиль романских народов, которому Шекспир должен был сочувствовать особенно в этот период своей жизни.
Пьеса «Король — не король», изданная обоими писателями после «Филастра», отличалась приблизительно теми же достоинствами и недостатками. Здесь Шекспиру также было нетрудно уловить следы собственных творении. Если, например, мать короля опускается на колени перед сыном, а он ее поднимает, то явственно чувствуешь, что молодые поэты видели недавно на сцене, как Волумния преклоняла колени перед Кориоланом. Здесь есть далее комическая фигура, воин Бесс, последний из трусов, несмотря на свой капитанский чин, хвастун, лгун, иногда сводник и всегда шутник. Создавая этот тип, оба поэта обнаружили значительное поэтическое дарование. Однако нельзя отрицать, что сквозь рисунок просвечивает порою контур мощной фигуры Фальстафа. Иногда поэты заимствуют у него целые обороты. Так, в одном месте (IV, 3) учитель фехтования говорит с намеком на Бесса: «Он обнаружил осторожность, т. е. лучший вид храбрости».
Подобно тому, как в пьесе «Филастр» страсть героя к Аретузе глохнет под влиянием совершенно безосновательного подозрения, так точно еще более глубокая страсть короля Арбака к принцессе Пантее приводит к замешательствам и к ужасу, так как оба в продолжение всей пьесы крепко убеждены, что они брат и сестра. Только в конце пятого действия Арбак узнает тайну своего происхождения, как в пьесе «Филастр» главные действующие лица узнают только в последнем действии настоящий пол Белларио. Спакония, сознающая, что король Тигран, которого она обожает, также любит Пантею, находится в том же положении, как Эвфразия относительно Филастра. Но в этой пьесе психология гораздо глубже. Характер Арбака, в котором смешано преувеличенное самомнение, тщеславие, хвастовство с редкими добродетелями, отличается сложностью, естественностью и симпатичностью. Психология страсти напоминает «Федру» Расина. Любовь вспыхивает с дикой силой, с неутолимой жаждой, но страх кровосмешения вступает с ней в борьбу. Здесь поэты обнаруживают пафос и диалектику первоклассной силы.
Около 1609 или 1610 года Флетчер и Бомонт находились в зените своей поэтической славы. Пастушеская идиллия «Верная пастушка», написанная одним Флетчером, эта пьеска, от которой веет свежим лесным воздухом, была, вероятно, издана ранее весны 1610 года, так как сэр Вильям Скипвит, один из тех людей, которым посвящена идиллия, умер уже в мае этого года. Флетчер нашел здесь сюжет, который был как раз под силу его свежему, легкому и грациозному лиризму. И здесь, сквозь эту пьесу, Шекспир видел, как дальний образчик, очертания одной из собственных драм, именно «Сна в летнюю ночь». Здесь влюбленные также переодеваются. Перигот, обнимая Аморета, воображает, что обнимает свою возлюбленную Амарилис. Впрочем, он ранит Аморета так же, как Филастр Аретузу. Другим источником пьесы послужил «Пастушеский календарь» Спенсера. Дарлей доказал, что Флетчер заимствовал несколько стихов из этой поэмы и, по какому-то странному совпадению, именно такие, в которых Спенсер подражал, в свою очередь, Чосеру. Но ни тот, ни другой не достигли изящной прелести Флетчера.
Третьим образцом для Флетчера была пастораль Гварини «Pastor fido», как видно уже из самого заглавия.
«Верная пастушка» — поистине прелестная пьеса. Она была слишком изящна и воздушна, чтобы ее оценили после первого представления. Но еще теперь вы прочтете ее с большим удовольствием. Она на долгое время составила славу поэта. Можно с некоторою достоверностью предполагать, что Шекспир остался доволен этим образчиком настоящей поэзии.
Тотчас после создания этой легкой трагикомедии в пастушеском стиле Флетчер представил дирекции театра «Глобус» трагедию «The Maid Tragedy», лучшую из всех, написанных им в сотрудничестве с Бомонтом, лучшую, которую ему вообще суждено было оставить. Первое действие заполнено приготовлениями к пышной свадьбе. Король (родосский) приказал честному дворянину Амитору отказаться от руки кроткой, любящей Аспасии и жениться на обворожительной Эвадне. Ее брат, великий полководец Мелантий, лучший друг Аминтора. Так как Аминтор считает приказания короля священными, и так как он невольно подчиняется чарующей прелести Эвадны, то он и порывает с Аспасией. Мы становимся свидетелями глубокой печали Аспасии, бешеного гнева ее отца, трусливого Калианакса, и, наконец, представления «маски», в которую вставлен ряд песен, принадлежащих к лучшим лирическим произведениям поэтов.
Во втором действии картина брачной ночи. Во вступительных сценах подруги раздевают невесту и сопровождают эту церемонию всевозможными шутками. Затем следует в спальне первое объяснение между женихом и невестой. Это такая же смелая и эффектная сцена, как любая, написанная Шекспиром. Аминтор подходит к Эвадне с нежными словами на устах. Она его скромно отстраняет. Тогда он пытается обезоружить ее мнимую стыдливость. Она отвечает ему холодно-спокойно, что никогда в жизни не будет принадлежать ему. Он решительно не понимает, что все это означает, и сам, трепеща от желания, старается ее образумить. Тогда она поднимается во весь рост, как раздраженная змея поднимается на своем хвосте, и заявляет ему, шипя от злости, что она любовница короля, ею она хочет остаться, и король устроил этот брак только как ширму для их связи. Когда Аминтор узнает свой позор, он приходит в бешенство, но жажда мести стихает при одной мысли, что оскорбителем является король: на короля подданный не имеет права поднять руки.
Третье действие открывается дерзким утренним визитом короля. Он расспрашивает Аминтора спокойно, доволен ли он своей ночью. Когда же Аминтор отвечает на все прозрачные вопросы еще более спокойным тоном и ведет себя вообще, как счастливый жених, то король теряет спокойствие духа, призывает Эвадну и осыпает ее за мнимую неверность грубыми обвинениями. Эвадна страстно протестует. Тогда король, забывая элементарнейшие правила приличия, призывает Аминтора. Эвадна бранит и поносит его неверный рассказ королю о тайнах их брачной ночи. После этого король грубо объясняет Аминтору существующую между ними любовную связь и ею роль в этой истории. Эти две сцены написаны также мастерски и с замечательным знанием драматических эффектов. Конец третьего действия не имеет никакой цены. Он состоит из диалога между Аминтором и его другом Мелантием, который узнает при этом случае о позоре своей сестры. Но здесь все неестественно. Друзья то и дело хватаются за мечи, чтобы в следующую же минуту опустить их обратно в ножны, сначала потому, что Мелантий не хочет поверить обвинению против Эвадны, затем потому, что Аминтор отказывается от совета друга мстить, чтобы не разглашать его позора. Все это слишком напоминает манеру испанских предшественников Кальдерона.
В четвертом действии встречаются опять в высшей степени эффектные места. Это, во-первых, та сцена, где Мелантий объясняет сестре ее позор. Она хладнокровно отрицает свою вину. Тогда он с мечом в руках заставляет ее поклясться, что она отомстит опозорившему ее необузданному и сладострастному королю. Затем та сцена, где переродившаяся Эвадна умоляет мужа на коленях о пощаде, и когда он, убедившись в ее искреннем раскаянии, прощает ее. Наконец, к числу эффектных сцен принадлежит также та, прекрасно задуманная и мастерски изложенная, где смешной, старый Каллианакс обвиняет перед королем ненавистного ему Мелантия в том, что он уговорил его, Каллианакса, передать ему городские укрепления, а Мелантий выслушивает это справедливое обвинение с совершенно равнодушным лицом и объясняет все дело тем, что Каллианакс впал в детское состояние и говорит глупости.
В пятом действии находится вторая главная сцена пьесы, когда Эвадна превращается в Юдифь. Эвадна идет мимо передней, где придворные острят на ее счет, в спальню короля. Затем следует сцена, разработанная поэтами с какою-то сладострастной жестокостью, сцена между королем, который просыпается и замечает, что его руки привязаны к постели, и его бывшей кровожадной любовницей, которая мучает короля ядовитыми словами и потом вонзает ему в грудь нож. Конец действия испорчен пристрастием поэта к сентиментальным сценам. В костюме брата Аспасия подходит к Аминтору, с которым не может расстаться. Он встречает ее сначала любезно, но потом она глумится над ним, бьет и отталкивает его ногой, чтобы добиться блаженства умереть от его руки. Наконец, Аминтор выходит из себя и убивает мнимого мужчину. Он узнает слишком поздно, что умертвил свою возлюбленную. Затем появляется Эвадна, горя страстью, с окровавленными руками. Но Амишор отталкивает ее, так как она осквернила свои руки цареубийством, величайшим из всех ее преступлений. В отчаянии она кончает самоубийством, и Аминтор также налагает на себя руки.
Как видно, Аспасия олицетворяет собою тип молодой, покинутой женщины, постоянно встречающейся в произведениях Бомонта и Флетчера, всегда одинаково кроткой и преданной. Старый трус Каллианакс является также одной из стереотипных фигур. Побратимство между Мелантием и Аминтором представляет, несмотря на некоторую натянутость, много интересного, так как образцом служили, вероятно, взаимные отношения обоих друзей-поэтов. Что же касается характера Эвадны, правда, не совсем ясного, то он — hors ligne и дает богатейший материал исполнительнице этой роли. Наконец, драматическая и сценическая стороны пьесы блещут мастерской отделкой и должны были производить впечатление на умы тех, для которых искусство Шекспира было слишком возвышенно. Неудивительно, что друг обоих поэтов, Шерли, издавший после их смерти их произведения, мог написать следующие строчки, не боясь услышать возражения: «Имена обоих поэтов затмевают своим блеском имена всех писателей прошлых времен, а также и поэтов будущего, так как эта книга, мы говорим без лести, является величайшим сценическим памятником, когда-либо изданным, и так как она, и только она одна, венчает наш народ славой и заставляет краснеть от стыда другие нации».
Глава 71
Шекспир и Флетчер. — «Два благородных родственника» и «Генрих Vrn»
В 1634 г. появилась впервые драма под заглавием
«Два благородных родственника» — пьеса, представленная в Блэкфрайрсе слугами его королевского величества с большим успехом, написанная знаменитыми современными писателями:
Мистером Джоном Флетчером, джентл.,
Мистером Вильямом Шекспиром, джентл
напечатанная в Лондоне Томасом Котсом для Джона Ватерсона и продающаяся под вывескою «Короны» на Павловском кладбище.
Пьеса не была включена в первое издание in-folio произведений Бомонта и Флетчера (1647). Она появилась в печати только при втором издании (1679). Даже в том случае, если издатели первого шекспировского in-folio знали об участии Шекспира в этой пьесе, она едва ли была им доступна. Рукопись оставалась во владении Флетчера до его смерти, последовавшей в 1625 году.
Эта драма не имеет особенной ценности. Она далеко уступает лучшим пьесам Флетчера и не выдерживает никакого сравнения с любым из произведений Шекспира. Но целый ряд выдающихся английских исследователей нашего столетия нашли в ней яркие признаки стиля как великого поэта, так и другого, более посредственного.
Сюжет перешел, подобно легенде о Троиле и Крессиде, от древних поэтов, в данном случае от «Тебаиды» Стация, к Боккаччо, от него к Чосеру и был в таком виде положен в основу нескольких английских драм из эпохи Елизаветы и Иакова. Почти все важные подробности в пьесе «Два благородных родственника» уже встречаются дословно в поэме Боккаччо «Teseide». Это рассказ о двух нежно преданных друг другу друзьях, возгоревших романтической любовью к одной и той же даме, прогуливающейся по саду, которую они видели из окна темницы, куда были брошены Тезе ем. С этой минуты их дружбе — конец. Каждый считает только себя вправе получить руку Эмилии, сестры герцога. Одного из друзей отпускают на свободу под условием не возвращаться никогда в страну Но тоска по возлюбленной гонит его назад, и он проживает переодетым вблизи нее. Вскоре после этого освобождают его друга. Они встречаются, вступают в поединок, но герцог прерывает дуэль и узнает от одного из них историю как их взаимных отношений, так и их любви к его сестре. Тогда герцог устраивает правильный турнир между ними. Победитель женится на Эмилии, побежденный умрет позорной смертью. Но победитель падает с лошади и получает смертельный ушиб, и тогда побежденный женится на княжне.
Что одним из авторов этой пьесы был Джон Флетчер, в этом никто не будет сомневаться. Во многих местах драмы заметна его версификация, и многие другие особенности напоминают его более слабые работы, например, слабая композиция, в силу которой два действия развиваются параллельно, не сливаясь и не сплетаясь, неодолимая страсть к чисто внешним театральным эффектам, наконец, желание поразить зрителя неожиданностями в ущерб психологии, то есть отсутствие необходимой мотивировки. Во всей пьесе вырисовываются взгляды Флетчера на добродетельные и порочные отношения между мужчиной и женщиной. Под добродетелью Флетчер подразумевает целомудрие в смысле безусловного воздержания, и он рисует рядом с некоторыми удовольствиями бесстыдную, чисто чувственную страсть. Эмилия постоянно говорит о своем «целомудрии», а дочь тюремщика — о своей страсти к Паламону, причем выражения этой последней отталкивают своим бесстыдством. Любящие женщины у Шекспира никогда не бывают ни целомудренны, ни страстны в этом смысле. Те из них, которым Шекспир симпатизирует и которых уважает, любят только одного мужчину, любят его с постоянством и без вероломства. А у Флетчера любовь подвергается быстрым метаморфозам, как мы видели это в пьесе «The Maid Tragedy». Вот почему только он и мог создать такую фигуру, как героиня этой драмы, которая воображает, что любит то одного, то другого из друзей, смотря по тому, на чью сторону клонится победа.
Если в этой пьесе встречаются частые отголоски шекспировских произведений, то это обстоятельство говорит не против, а в пользу того мнения, что главным автором пьесы был Флетчер. Мы видели, что даже в лучших его работах слышались такие отголоски. Здесь они находятся еще в большем количестве. Это реминисценции из «Сна в летнюю ночь», из «Юлия Цезаря» (спор между Брутом и Кассием) и особенно плоское и непристойное подражание сцене сумасшествия Офелии там, где дочь тюремщика ищет в лесу Паламона, сходит с ума от страха, говорит бессвязные слова и поет песни в припадках безумия. Шекспир подражал самому себе только с целью превзойти себя, а не ради того, чтобы, как в данном случае, пародировать себя.
Не Шекспир создал план этой пьесы. Он отличается отсутствием идеи, и если порою просвечивает некоторое мировоззрение, то оно не напоминает шекспировское. Поэтому мнение Суинберна едва ли верно. Он утверждает, что мы имеем перед собою шекспировский план, дополненный после смерти великого поэта Флетчером. Такое предположение нелепо уже потому, что рука Шекспира заметна, по мнению Суинберна, особенно в последних сценах. Трудно предположить, чтобы поэт начал отделывать пьесу с конца. Но существуют ли вообще в этой драме такие отрывки, которые должны быть приписаны Шекспиру? Гардинер и Делиус отвечают «нет». Но едва ли это справедливо. Правда, Бирфрейнд не смущается тем обстоятельством, что целый ряд выдающихся английских исследователей разделяют ныне противоположный взгляд. Но этот факт обязывает иностранного критика просмотреть как можно добросовестнее этот вопрос, и такое исследование приводит, на мой взгляд, к тому заключению, что если Флетчер построил план и отделал главные части, то Шекспир ретушировал пьесу. Он сделал это, потому что интересовался молодым поэтом и питал к нему дружеские чувства, и потому, что тот отдал ему свою пьесу на просмотр и попросил его о помощи.
Мы утомили бы читателей, если бы разобрали всю пьесу от начала до конца, чтобы указать на те места, которые запечатлены стилем Шекспира. Следы его пера встречаются особенно часто в первом действии. Обратите, например, внимание на воззвание королевы к Тезею во вступительной сцене, начинающееся словами: «Мы три королевы…» и т. д. Это поистине ритм, свойственный последним произведениям Шекспира. Обратите также внимание на смелые образные выражения, встречающиеся здесь; например, в блещущей фантазией реплике королевы:
Царственные вдовы, дадим друг другу руки; будем вдовами нашего горя; время осуждает нас на бесплодную надежду.
Обратите далее внимание на последнюю реплику Тезея в этом действии, на то, как он здесь перечисляет обстоятельства и условия, напоминающую собою монолог Гамлета (бич и посмеяние века, гнет тиранов) или пространную реплику Уллиса (красота, ум, происхождение). Это место гласит:
С тех пор, как я узнал страх, ярость, заповедь друзей, призывы любви, рвение, обязанность, налагаемую возлюбленной, жажду свободы, горячку, безумие и т. д.
Не следует смешивать те части пьесы, которые написаны в подражание Шекспиру с теми, которые носят отпечаток его собственного стиля. Сюда принадлежит то место, достоинство которого в Англии обыкновенно переоценивают, где Эмилия говорит о своей нежной и страстной дружбе с покойной Флавиной. Это плохое подражание той речи в «Сне в летнюю ночь» (III, 2), где Елена описывает свою дружбу с Гермией. Здесь любовь носить болезненный, чисто флетчеровский характер, тем более отталкивающий, что Эмилия, характеризуя эту любовь, употребляет в немногих стихах три раза слово «невинный».
В третьем действии чувствуется снова кисть Шекспира, именно в монологе дочери тюремщика, занимающем вторую сцену. Обратите, например, внимание на выражение «Горе во мне убило страх» и на многие другие. Но начиная с того момента, когда она сходит с ума, и вплоть до ее последнего слова Шекспир не написал ни единой реплики и, вероятно, возмущался неумелому подражанию его собственным репликам.
Первая сцена пятого действия принадлежит, по всей вероятности, опять перу Шекспира. Первая реплика Тезея прекрасна, а слова Арситы, обращенные к рыцарям, и ее воззвание к Марсу — прямо великолепны. В конце пьесы мы снова слышим в стихах шекспировскую мелодичность, например, в следующем выражении Тезея, которым так восхищался Суинберн:
That nought could buy Dear love, but loss of dear love[29].Но все это не имеет для нас особенного интереса, так как Шекспир не повинен в психологии, или, вернее, в ее отсутствии.
Значительнее ли его участие в создании «Генриха VIII»? Пьеса явилась впервые в издании in-folio 1623 г., заключая собой ряд «хроник». Первые четыре действия построены на основании хроники Холиншеда, последнее действие основано на «Церковных актах и памятниках» Фокса, именуемых обыкновенно «Книгой мучеников», и затем, косвенно или непосредственно, на «Жизнеописании кардинала Вульси» Джорджа Кавендиша, которое существовало только в рукописи тогда и которым заметно пользовались Холиншед и Холл.
Намек на пьесу о Генрихе VIII встречается впервые в книгопродавческом регистре под 12 февраля 1604–1605 гг., где говорится об интерлюдии «Король Генрих VIII», хотя здесь имеется в виду, по всей вероятности, плохая, фанатическая протестантская пьеса Роули. Затем такая пьеса упоминается в известном письме о пожаре, происшедшем в театре «Глобус» 29 июня 1613 г. Водном письме Томаса Лоркина к сэру Томасу Пикерингу, написанном в последних числах июня 1613 года, говорится: «Не далее как вчера, когда Бербедж и его труппа давали на сцене театра „Глобус“ пьесу „Генрих VIII“, несколько пушечных выстрелов оповестили торжество. При этом загорелась соломенная крыша, и огонь распространился с такой быстротой, что за два часа театр сгорел дотла (публика была слишком занята своим собственным спасением)». В одном письме сэра Генри Воттона к племяннику, от 6 июля 1613 года, сказано: «Оставляю в стороне политические дела и расскажу тебе, что случилось на этой неделе в театральном мире. Актеры короля давали новую пьесу „Все — правда“, в которой изображались некоторые эпизоды из царствования Генриха VIII. Драма была поставлена в высшей степени пышно и эффектно. Сцена была покрыта коврами, и на ней появлялись рыцари св. Георгия или рыцари Подвязки, гвардейцы в затканных золотом мундирах и т. д. Всего этого было совершенно достаточно, чтобы опошлить и осмеять на некоторое время королевское величие. Когда Генрих VIII приблизился в маске и с большой свитой к дому Вульси и переступил за порог, послышалось несколько выстрелов. От бумаги или материи, которой были заряжены эти пушки, загорелась соломенная крыша. Сначала все сочли показавшийся дым незначительным и продолжали внимательно следить за пьесой. Вследствие этого огонь распространился внутрь театра, охватил все здание, и менее чем в час весь дом сгорел дотла».
То обстоятельство, что в прологе подчеркивается трижды каким-то демонстративным образом, что в пьесе изображается сущая правда, доказывает, в связи с другими совпадающими подробностями, что трагедия, упоминаемая здесь как новинка, была наша пьеса «Генрих VIII».
До 1850 года никто не сомневался в том, что эта пьеса, которой едва ли кто восхищался, написана одним только Шекспиром. В наше время никто больше не разделяет такого взгляда. Теперь вопрос об этой пьесе находится почти в таком же положении, как о драме «Два благородных родственника». Многие из современных компетентных критиков утверждают, что Шекспир не написал в ней ни одного стиха. Тонкий наблюдатель Эмерсон обратил в своей книге «Representative Men», там, где он говорит о «Генрихе VIII», внимание читателей на то обстоятельство, что здесь заметно два различных ритма шекспировский и более незначительный. Одновременно Спеддинг напечатал в журнале «The Gentleman’s Magazine» в августе 1850 года статью, изданную им впоследствии под другим заглавием «Кто написал шекспировскую пьесу о Генрихе VIII?». Здесь он также указывает на два различных вида стихов и утверждает, что в одной группе видна манера Флетчера. В 1874 году к нему примкнули Флей и Фернивалль.
Чтобы понять смысл этих исследований, пусть читатель вспомнит следующую простую эволюцию пятистопного ямба. В английском языке не существует контраста между мужскими и женскими рифмами. Первая попытка внести в белый стих некоторое разнообразие состояла в том, что к первоначальным 10 слогам присоединялся один лишний (double-ending) В «Генрихе VIII» на каждые сто стихов встречается 18 таких Бен Джонсон пытался восстановить старую манеру версификации, но должен был в конце концов подчиниться новому обычаю. Флетчер употребляет 11-сложный стих часто с такой правильностью и преднамеренностью, что впадает порой в однообразие и явную манерность.
В последних произведениях Шекспира насчитывается 33 одиннадцатисложных стиха на 100, у Мессинджера 40, у Флетчера 50–80 и даже больше. Но Шекспир все чаще и чаще переносил мысль, начинающуюся в одном стихе, в следующий. Особенно в драмах, возникших в самый мрачный период его жизни, господствует этот стиль. У него стих оканчивается теперь все чаще и чаще вспомогательным глаголом, союзом или наречием. В каждой из последних пьес Шекспира попадается около ста таких стихов. В «Цимбелине» даже 130. Его преемники впали в крайность. Драмы Мессинджера, которые короче шекспировских, содержат около 150 или 170 подобных стихов. Если сравнить стиль Флетчера с метрическим стилем Шекспира, то первый покажется далеко не мужественным. Если стиль Шекспира похож на ионический, то стиль Флетчера коринфский. Эти два стиля трудно смешать. Запутаннее становится вопрос в том случае, если оба стиля встречаются вперемежку в одном и том же произведении, т. е. в «Генрихе VIII». Перед нами та же дилемма, как при разборе «Двух благородных родственников» — оставил ли Шекспир, умирая, неоконченное произведение, дополненное потом Флетчером, или же этот последний построил план пьесы, а Шекспир принимал только некоторое участие в работе, оставляя и дополняя отдельные сцены? Для меня первая возможность не существует. Нет, не Шекспир построил эту пьесу. Нет, не мог он написать этого произведения, лишенного целости и единства.
Но в самом ли деле встречаются в этой драме такие части, которые должны быть приписаны ему? Вопреки Ферниваллю и Саймонсу, я утверждаю «да» Не следует, во-первых, пренебрегать тем фактом, говорящим в пользу такого мнения, что Геминдж и Кондел включили пьесу в первое издание in-folio. Во всех остальных случаях никто не сомневается в том, что они были лучше нашего посвящены во все тайны шекспировского авторства. Ни одна из пьес, включенных ими в первое издание in-folio, не была заподозрена в подложности. Только самые веские причины могут нас, следовательно, заставить отказаться от «Генриха VIII». Однако единственный аргумент, приводимый обыкновенно против этой драмы, заключается в ее недостатках, в отношении слабости даже тех отрывков, о которых только и может быть речь, а это далеко не основательный довод. Шекспир, сотрудничая с другим писателем, не отдавался всецело своей работе, не призывал на помощь все свои силы и не давал свободно расходиться своему воображению. Ведь случай с «Генрихом VIII» не единственный в своем роде. А с другой стороны, в тех местах, которые ему приписываются большинством английских критиков, встречаются явные аналогии с теми работами, которые написаны в этот же период им и только им одним.
Уже Самуил Джонсон, не сомневавшийся в авторстве Шекспира, заметил в свое время (1765), что гений Шекспира является и исчезает здесь вместе с королевой Екатериной; все прочее было нетрудно придумать и написать. В 1850 году Джеймс Спеддинг, пользуясь указанием Теннисона, открыл, как мы уже упомянули, что только одна часть пьесы написана Шекспиром, тогда как другая принадлежит Флетчеру. Мнение это поддерживал также Самуил Гиксон, заявивший по этому поводу публично, что он года три или четыре тому назад занимался тем же вопросом и пришел, по крайней мере относительно отдельных сцен, к тому же выводу. Эта догадка получила новое подтверждение, когда после тщательных метрических изысканий Флей всецело примкнул к упомянутому взгляду.
Что не Шекспир начертал план пьесы — было заранее известно. Спеддинг метко заметил, что пьеса не производит в целом никакого впечатления, так как с ходом действия интерес зрителя ослабевает, вместо того чтобы усиливаться, и потому что вызванная в зрителе симпатия не гармонирует, а контрастирует с развитием самой пьесы. В первых действиях героиней является, бесспорно, королева Екатерина. Все внимание зрителя сосредоточивается на ее фигуре. Хотя необходимость почтительно отнестись к монарху, который был почти современником, к отцу королевы Елизаветы, не позволяла осветить слишком ярко фактические отношения, но автор делает довольно прозрачный намек на то, что угрызения совести, которые терзают короля по поводу почти двадцатилетнего бесплодного брака, вызваны собственно желанием жениться на Анне Болейн. Однако, тем не менее, зритель должен, по мнению автора, испытывать потом при торжественном короновании Анны чувство радости и удовольствия, а когда у нее родится дочь, то настроение должно перейти в настоящее ликование. Затем, включенное в пятое действие обвинение против архиепископа Кранмера в ереси, покровительство короля, оказанное ему, его оправдание и назначение кумом Елизаветы — все это не находится ни в какой внутренней связи с самим действием. Вульси, являющийся одним из главных действующих лиц пьесы и как бы злым демоном королевы Екатерины, исчезает с подмостков ранее ее и не переживает конца третьего действия. Вся пьеса остается в памяти только как ряд обстановочных сцен с пением, музыкой и танцами. Экстренное заседание государственного совета по поводу судьбы Бекингема; большой праздник с маскарадом и балом в доме Вульси; допрос английской королевы; коронационная процессия с трубными звуками, балдахином и королевскими драгоценностями. Видение умирающей королевы, хоровод ангелов в позолоченных масках и с пальмовыми ветвями. Наконец, торжественные, пышные крестины во дворце и опять процессии, балдахины, трубачи и герольды.
Незримыми буквами написаны над пьесой в ее целом слова: «работа по заказу». Это, кроме того, крайне спешная работа, состряпанная на скорую руку для придворных празднеств по случаю свадьбы принцессы Елизаветы, подобно, следовательно, небольшой «маске» Бомонта «The Masque of the Inne Temple and Grag’s Inn» или подобно великому шедевру Шекспира «Буря». В «Генрихе VIII» Шекспиру принадлежат следующие сцены: I — 1 и 2, II — 3 и 4, III — 2 (до первого монолога Вульси), V — 1 и 4. Эту пьесу поэтому не следует сопоставлять с другими драмами Шекспира из английской истории. Мы уже упомянули, что события, выведенные в ней, были слишком близки шекспировской эпохе, чтобы сделать возможным строго правдивое их изображение. Нельзя же было говорить правду о Генрихе VIII, об этом грубом и жестоком рыцаре, «Синей Бороде», имевшем семь жен. Ведь он был виновником реформации и отцом Елизаветы. С другой стороны, Шекспир не имел никакого права говорить с подмостков о материальных и светских причинах, благоприятствовавших распространению реформации, о ее религиозном и политическом характере. Связанный и стесненный в своем творчестве, он исполнил предстоявшую задачу с ловкостью и тактом. Не рисуя Генриха лицемером, который испытывает угрызения совести за долголетний брак с женой брата, всякий раз, когда перед ним появляется красивая придворная дама, Шекспир позволяет, тем не менее, угадать, что влюбленность придавала этим нравственным мучениям особенно острый характер. Он создал характер Вульси на основании данных хроники и подчеркнул несколькими легкими штрихами дерзкое и, при всей своей беззастенчивости, рабское поведение даровитого выскочки. Флетчер испортил эту фигуру плохими монологами, которые кардинал произносит после своего падения. В слегка проповедническом тоне этих монологов слышится голос сына священника. Наконец, Шекспир нарисовал легкий эскиз фигуры Анны Болейн, искаженный впоследствии Флетчером. Но особенно ярким светом осветил он покинутую католическую королеву, Екатерину Арагонскую, в том виде, как она вырисовывалась на страницах старой хроники, как тип благородной, непризнанной женщины, как тот тип, который теперь занимает поэта с особенной силой. Она напоминает Гермиону в «Зимней сказке» — эту непризнанную королеву, которую бросают в темницу и разъединяют с супругом. Она не перестает любить своего обидчика, как Имоджена Постума, когда он от нее отказывается. Хотя Шекспир не придумал в данном случае ничего от себя, а вложил в ее уста слова хроники, тем не менее Екатерина вышла прекрасной и благородной фигурой в ее характере соединяется кастильская гордость с безусловной простотой, непоколебимая решительность с кротким самоотречением, горячий темперамент с искренней религиозностью. Шекспир рисовал эту фигуру с истинной любовью. Эта королева не красавица, она не блестяща и не остроумна, но она правдива, правдива до мозга костей и гордится своим происхождением и королевским титулом. Но она тает, как воск, перед своим коронованным повелителем, которого любит после 24-летнего брака так искренно горячо, как в первый день. Эта характеристика не противоречит истории. Несколько писем, написанных ее рукой и дошедших до нас, показывают, как она была нежна и симпатична. Здесь она называет супруга «Ваше Величество, мой муж, мой Генрих» и подписывается «Ваша преданная супруга и верная служанка». В тех сценах, где королеву заставляет говорить уже Флетчер, он следовал как указаниям Шекспира, так и данным хроники. Даже в предсмертный час Екатерина делает выговор послу, который не опустился перед ней на колени и не обращается с ней как с королевой. И в то же время она прощает своего врага кардинала и просит приветствовать короля следующими словами:
…Вы государю И обо мне напомните. Скажите, Что в мир другой уж скоро перейдет Виновница его мучений долгих, Скажите, что оставила я жизнь, Его благословляя… так умру я.Ее благородное спокойствие напоминает Гермиону. Но она отличается от этой последней каким-то странным сочетанием религиозного благочестия с сословной гордостью. Гермиона ни высокомерна, ни набожна. Таков был и сам Шекспир. Доказательством служит прозаическая сцена в конце этой обстановочной праздничной пьесы (V, 4). Когда любопытная толпа теснится в дворцовый двор, чтобы полюбоваться торжеством крестин, привратник восклицает:
Это — гуляки, которые в театре шумят и дерутся из-за отведанного яблока, и шума которых не могут выносить никакие слушатели, кроме Товерчильского цеха, да члены Лаймхауса, достойные соперники их.
Лаймхаус состоял из квартир для ремесленников, которые оглашались спорами религиозных сектантов. В высшей степени забавно видеть, как здесь Шекспир поднимает на смех как ненавистных ему театральных «groundlings», так и буржуазных пуритан.
Пьеса заканчивается, как известно, пространным, льстивым предсказанием Кранмера о Елизавете и Иакове. Эти стихи звучат по-английски очень однообразно. Это — самый плохой стиль Флетчера. Шекспир не написал, без всякого сомнения, ни одной строчки этой тирады. Как странно поэтому приписывать этому предсказанию какую-нибудь роль в вопросе о религиозной и церковной точке зрения Шекспира, которую часто истолковывали с полным отсутствием психологического чутья. Как много раз утверждали, что выражение «под скипетром.
Елизаветы мир познает истинного Бога» служит неопровержимым доказательством в пользу твердых протестантских убеждений великого поэта, а стих этот вовсе не принадлежит ему и ни в одной строчке этой грандиозной реплики не слышится ни его пафоса, ни его стиля.
Вообще во всей пьесе о Генрихе VIII мы только изредка видим проблеск его поэзии. Мы чувствуем, что он был стеснен и несвободен в своем творчестве. Он работал в союзе с другим писателем над неблагодарным сюжетом, и только призывая на помощь всю силу своего гения, он сумел оживить его кое-где драматическим интересом.
Глава 72
«Буря», написанная к свадьбе принцессы Елизаветы
Совсем не то видим мы в произведении, для которого Шекспир в последний раз напрягает свои духовные силы, в фантастической и роскошной сказке «Буря». Здесь все сосредоточено и замкнуто, все до такой степени одухотворено идеей, что мы постоянно как бы стоим лицом к лицу с символом. Здесь, несмотря на смелость воображения, все так скомпоновано и сконцентрировано в драматическом отношении, что вся пьеса согласуется с самыми строгими правилами Аристотеля. Действие со своими пятью актами происходит в течение всего только трех часов.
Долгое время «Бурю» относили к 1610–1611 г. на основании заметки заведующего придворными театральными развлечениями о представлении пьесы в Уайтхолле в 1611 г. Но эта заметка оказалась подложной. Единственное достоверное свидетельство, имеющееся у нас относительно «Бури» до ее появления как драмы, открывающей сборник шекспировских пьес в издании in-folio 1623 г., это запись в роскошных заметках Вертью о ее представлении при дворе в феврале месяце 1613 г. по случаю бракосочетания принцессы Елизаветы с курфюрстом Фридрихом Пфальцским. Есть возможность доказать, что это было первое представление пьесы, и что она специально написана для свадебных торжеств.
Принцесса Елизавета была воспитана вдали от нечистой атмосферы двора, в деревне, а именно в поместье Combe Abbey, под руководством его владельцев, лорда и леди Харриштон, почтенной и здравомыслящей четы. Когда пятнадцати лет от роду она возвратилась к родителям, то возбудила общее восхищение достоинством и грацией, которые были в ней развиты не по летам, и сделалась любимицей своего брата Генриха, в то время шестнадцатилетнего юноши. У нее тотчас же явились женихи. Первым претендентом выступил принц Пьемонтский, но папа отказал в своем согласии на брак этого католического князя с протестантской принцессой. Следующий претендент был никто иной, как сам Густав-Адольф Шведский, но он получил отказ, так как король не хотел отдать дочь врагу своего шурина и друга, Христиана IV Датского. Между тем еще в декабре месяце 1611 г. начались переговоры о принце Фридрихе V, только что вступившем после смерти своего отца на престол курфюршества Пфальцского, как о возможном кандидате на руку принцессы. В пользу этого брака с сыном владетельного князя, стоявшего во главе протестантского союза в Германии, говорило многое, и в мае месяце 1612 г. был подписан предварительный обручальный контракт. В августе того же года в Англию приехал посол от молодого курфюрста; между тем там вновь объявился первый претендент, находивший сильную поддержку в королеве с ее католическими симпатиями, тогда как предложение, сделанное королем испанским и предполагавшее переход принцессы в католическую веру, кончилось ничем. Победителем из состязания на руку принцессы вышел курфюрст Фридрих, и вскоре переговоры уже настолько подвинулись вперед, что он мог отправиться в Англию из своих владений. Когда в октябре месяце в Лондоне узнали, что он прибыл в Гревсенд, весть эта была встречена общим ликованием, — как протестантский принц Фридрих был популярен. 22 октября он поднялся вверх по Темзе к Уайтхоллу, приветствуемый с энтузиазмом густыми толпами народа. Он был как нельзя лучше принят королем Иаковом, подарившим ему перстень ценою в 1800 фунтов, быстро пленил сердце принцессы и нашел самую горячую поддержку у молодого принца Уэльского, высказавшего свое решение сопровождать сестру во время ее свадебного путешествия в Германию (где сам он втайне был намерен найти себе невесту, не сообразуясь с политическими интригами).
Пфальцграф был замечательно красивый и привлекательный юноша. Он родился 16 августа 1596 г.; следовательно, ему только что исполнилось 16 лет, и ничто в его поведении не давало повода предугадывать немужественный и жалкий характер, обнаруженный им восемь лет спустя, когда, будучи королем Богемии, он проиграл битву на Белой горе вследствие ночной попойки. Все английские известия об этой эпохе переполнены похвалами ему. Он всюду производил самое превосходное впечатление. В письме Джона Чемберлена к сэру Дадли Чарлтону от 22 октября 1612 г. говорится о его исполненной достоинства и княжеского величия осанке: «С ним свита из весьма трезвых и чрезвычайно благовоспитанных вельмож, общее число которых не превышает 170; количество слуг и т. п. ограничено королем до известного предела, преступать который не позволяется». Финансы предписывали избегать ненужной расточительности (не прошло и месяца после свадьбы, как почти вся свита, назначенная состоять при принце во время его пребывания в Англии, была уволена, — оскорбление, чувствительное для молодой принцессы).
Симпатичный принц Генрих был нездоров, когда его будущий шурин совершал свой въезд в Лондон. Он очень повредил себе усиленными физическими упражнениями, которые делал среди необычайной летней жары, и расстроил себе пищеварение массой истребленных им фруктов. Болезнь, открывшаяся у него, была тиф, как мы теперь понимаем, и она ухудшилась, когда он 24 октября, через несколько дней после того, как встал с постели, сыграл партию в теннис на холодном воздухе, оставаясь по пояс в одной рубашке.
Принц Генрих, со своей высокой душой, умом и строгими понятиями о чести, был надеждой английской нации и ее любимцем. Вскоре после того, как Рэлей должен был отказаться от надежд, с которыми был связан для него приезд Христиана IV в Англию, — что он будет освобожден и назначен адмиралом датского флота, — королева Анна взяла своего сына, тогда еще мальчика, в Тауэр, чтобы навестить знаменитого узника. Принц Генрих сблизился с Рэлеем в 1610 г. Ему обыкновенно приписывали следующие слова: «Никто, кроме моего отца, не стал бы держать в клетке такую птицу». С большими затруднениями добился он у короля обещания выпустить Рэлея на свободу на рождество 1612 г. Это обещание так и осталось неисполненным.
Утром 6 ноября положение принца было, очевидно, безнадежно. Тогда королева послала в тюрьму к Рэлею за его знаменитым укрепляющим питьем, которым, по ее убеждению, он однажды спас ей жизнь, и в которое сам Рэлей глубоко верил. Он прислал его, поручив сказать, что если принц умирает не от яда, то оно сохранит ему жизнь. Оно могло только облегчить агонию принца. В тот самый вечер он скончался всего лишь 19 лет от роду.
Печаль народа будет понятна, если мы примем во внимание, что никогда еще в истории Англии наследник престола не возбуждал таких великих ожидании и такой горячей любви. Повсюду, согласно нравам того времени, возникло подозрение, что его отправили на тот свет при помощи яда. Джон Чемберлен пишет сэру Дадли Чарлтону, что существовало сильное предположение насчет яда как причины смерти принца; он прибавляет, что, когда на другой день вечером тело было вскрыто, следов яда не было, однако, найдено. Между тем еще издатель этих писем делает на это следующее замечание: «Это последнее обстоятельство ничего не значит. Был яд, не оставлявший следов; притом, если бы даже действие яда и было обнаружено, то врачи не посмели бы это сказать. Зависть короля к столь любимому народом принцу и глупая влюбленность его в младшего брата, Карла, были известны и легко могли побудить такого человека, как королевский любимец, виконт Рочестер, подмешать яд в кушанье принца».
Лица, смотревшие с неудовольствием на брак принцессы с германским курфюрстом, надеялись, что смерть принца Генриха расстроит свадьбу. Да и действительно неуместно было праздновать ее теперь, когда королевский дом постигло такое тяжкое горе. Между тем курфюрст приехал в Англию для того собственно, чтобы там обвенчаться, и, следовательно, откладывать свадьбу на слишком долгий срок оказывалось неудобно. Поэтому король уже 17 ноября подписал окончательный брачный контракт, 27 было совершено обручение, а сама свадьба была отсрочена, но только до февраля. 6 января сэр Томас Лэк пишет в одном письме: «Черное сукно отслужило свое время, и уже начаты приготовления к свадебному торжеству».
Таким образом, 14 февраля семнадцатилетняя невеста была обвенчана со своим шестнадцатилетним женихом среди всеобщего удовольствия при дворе и всеобщего сочувствия со стороны населения. 18 февраля 1612 г. Джон Чемберлен пишет леди Чарлтон: «Невеста и жених были оба в костюмах из серебряной парчи, богато расшитой серебром. Шлейф невесты несли тринадцать, по меньшей мере, молодых леди или дочерей лордов, не считая пяти или шести, которым не удалось подойти к ней близко. Все они были в таких же платьях, как и невеста, хотя и не столь богатых. Невеста венчалась с распущенными и низко падавшими волосами и имела на голове чрезвычайно богатую диадему, которую король на следующий день оценил в миллион крон». После того жених вместе с королем и принцем принимал участие в турнире, а вечером выступил с блеском как всадник, на резвом скакуне, чем вызвал громкие рукоплескания. В современной этой эпохе истории Вильсона о свадьбе говорится следующее: «Платье у невесты было белое, символ невинности. Ее распущенные волосы, как украшение юности, спускались низко по спине. На голове у нее была корона из чистого золота, печать величия; она вся была осыпана драгоценными каменьями и сверкала, как созвездие. Шлейф принцессы несли двенадцать молодых леди в белых платьях, так разукрашенных драгоценностями, что процессия невесты походила на Млечный Путь».
В числе пьес, выбранных для представления на этих свадебных торжествах, была пьеса «Буря». Мы увидим, что она была специально написана ради этого придворного представления.
Взгляд Гентера, развитый им в целом этюде, что пьеса должна относиться к 1596 г., не стоит опровергать. Одно уже то обстоятельство, что в ней (как было указано нами выше) повторяется одно место из Монтеня в переводе Флорио от 1603 г., в достаточной степени показывает нелепость такого предположения. Пространно развитое мнение Карла Эльце, будто «Буря» написана уже в 1604 г., не имеет под собой солидных оснований. Уже размер стиха свидетельствует о том, что «Буря» принадлежит к последнему периоду творческой жизни Шекспира. Одиннадцатистопные стихи составляют здесь 33 на 100, тогда как в трагедии «Антоний и Клеопатра», написанной спустя долгое время после 1604 г., только 25, а в комедии «Как вам угодно», относящейся к 1600 г., всего лишь 12 на 100.
Затем существует решительное внутреннее свидетельство в пользу того, что пьеса не могла возникнуть ранее 1610 г. В мае месяце 1609 г. флот сэра Джорджа Соммерса, на пути в Виргинию, был разбросан штормом по океану. Адмиральский корабль, выбитый из курса, был отнесен бурей к Бермудским островам, но когда моряки уже потеряли всякую надежду на спасение, он застрял, на свое счастье, между двух утесов, как раз в такой же глубокой бухте, к которой Ариэль в шекспировской «Буре» заставляет пристать корабль. В 1610 г. вышло в свет небольшое сочинение Сильвестра Джурдана о пережитых здесь приключениях под заглавием «Открытие Бермудских островов, иначе называемых Чертовыми островами». В нем описывается эта буря и судьба адмиральского корабля. Корабль дал течь, и экипаж от изнеможения заснул над помпами, когда он сел на мель.
Остров оказался необитаемым, воздух мягким, страна необычайно плодородной. До этого времени эти острова считали заколдованными.
Из этой брошюры Шекспир заимствовал много штрихов. Из нее он взял название Бермудские острова, упоминаемое Ариэлем в первом акте, и лишь то обстоятельство, что он хотел перенести место действия на один из островов Средиземного моря, помешало ему придерживаться рассказа во всех частностях.
Между тем пьеса была написана лишь к свадьбе принцессы, состоявшейся в 1613 г. Это предполагал в свое время уже Тик, позднее это вновь было высказано, как нечто вероятное, И. Мейснером. Но лишь Ричарду Гарнетту посчастливилось подкрепить этот взгляд решительным образом. Он утверждает и доказывает, во-первых, что «Буря» написана для интимного кружка зрителей по поводу свадебного торжества, затем, что состав этого кружка зрителей и чья это была свадьба, легко угадать из прозрачных намеков на личность жениха, на безвременную кончину юного принца Генриха и на свойства, которыми, по своему собственному мнению, отличался король Иаков, и за которые он хотел быть восхваляем; наконец, что существуют, кроме того, внутренние показания в пользу даты 1613 г., тогда как в пользу каких-либо иных дат таких показаний не имеется.
По длине пьеса значительно уступает другим пьесам Шекспира. Между тем как средним числом они содержат в себе по 3000 строк, в «Буре» их всего лишь 2000. Нельзя было отнимать слишком много времени у короля и его гостей, и так как пьесу надо было написать, разучить и поставить на сцену в самый короткий срок, то она и в виду этого не должна была быть чересчур длинна. На все приготовления можно было отвести никак не более двух-трех месяцев. Поэтому настоятельно требовалось сделать пьесу по возможности короткой.
Так как она писалась для представления не в обыкновенном театре, то автору этим самым ставилась задача как можно реже менять декорации «Буря» единственная в этом отношении из пьес Шекспира. После сцены на палубе корабля для всего последующего нет решительно никакой надобности в перемене декораций, хотя действие происходит в различных местностях острова. Назначение пьесы делало равным образом желательным избегать перемены костюмов. Никакой перемены костюмов, действительно, и не происходит, за исключением одного места, где герцог в конце пьесы надевает свою герцогскую мантию, и это делается на сцене с помощью Ариэля. С этим находится в связи упомянутая уже нами сжатость действия; вместо того, чтобы растянуться на долгий период времени, как вообще у Шекспира, или даже на целую человеческую жизнь, как в «Перикле» и в «Зимней сказке», оно занимает всего-навсего три часа, — следовательно, немногим больше, чем требовалось для представления пьесы.
Несмотря на краткость пьесы, в «Буре» вставлены две «маски» вроде тех, какие обыкновенно игрались в торжественных случаях перед августейшими особами.
Пантомима и балет с превращениями, вставленные в 3-ю сцену третьего акта, разработаны гораздо подробнее, чем это было бы необходимо, если бы эта сцена писалась сама по себе: «Входят разные странные маски и приносят стол с различными кушаньями, потом начинают танцевать около стола, делают движения и поклоны, которыми приглашают короля со свитой кушать, и затем исчезают. Гром и молния. Является Ариэль в виде гарпии. Он машет крыльями над столом, отчего все блюда исчезают». Король Иаков был большой любитель всякой театральной механики, и Иниго Джонс в широких размерах устраивал подобные вещи для придворных празднеств.
Но еще гораздо знаменательнее большое свадебное представление масок, почти совсем заполняющее четвертый акт своими мифологическими фигурами, Юноной, Церерой и Иридой. Если бы «Буря» не была написана к свадебному торжеству, это был бы такой нарост на действии, что надо было бы смотреть на него, как на сделанную впоследствии вставку, что и действительно предполагали (Карл Эльце). Но без представления «масок» от четвертого акта ничего более не остается; только вложенные в него танцы придают ему сколько-нибудь приличную длину, и, кроме того, оно неразрывно связано с пьесой, так как самые знаменитые его строки «Когда-нибудь, поверь, настанет день, когда все эти чудные виденья и ч. д.» — как нельзя точнее относятся к ней. Некоторые критики хотели приписать эту «маску» Бомонту, не имея на то достаточных оснований; но если бы даже она была написана им, то задумана она и продиктована автором пьесы и доказывает несомненным образом, что «Буря» сочинена как случайная пьеса для развлечения царственных особ и придворных. Зрителям должно было быть известно то или другое обстоятельство, оправдывавшее введение «масок», и это обстоятельство по своему содержанию должно было быть не что иное, как свадьба. Между тем мы знаем с безусловной достоверностью, что «Буря» игралась при дворе по случаю бракосочетания принцессы Елизаветы. Но при подобных обстоятельствах не возобновляли пьесу, написанную первоначально для обыкновенной сцены, и еще менее возможно полагать, что в таком случае возобновили бы торжественную пьесу, написанную для какой-нибудь предшествовавшей свадьбы; во всяком случае, Шекспир, наверно, не выступил бы с чем-нибудь таким, что не подходило бы к данному поводу; притом же, до этой свадьбы не было никакой другой, к которой могла бы подойти пьеса. То обстоятельство, что один из королевских музыкантов, Роберт Джонсон, написал музыку к песням Ариэля, делает еще более вероятным, что представление «Бури» при дворе было ее первым представлением. Все указывает, таким образом, на свадьбу в королевской семье.
Кроме того, все в пьесе весьма точно соответствует событиям в 1612–1613 гг. Иностранный принц приезжает морем. Островная принцесса никогда не покидала своего острова. Мудрый родитель невесты своей прозорливостью приводит к осуществлению этот сулящий счастье союз. Пьеса была переполнена интересными для зрителей и воодушевляющими намеками не только на свойственную той эпохе страсть к открытиям и на условия колонизации вообще, но и на самих главных действующих лиц в драме, которой они были очевидцами и которая завершилась бракосочетанием в королевском доме.
В особенности много было лестных намеков на монарха, так как на свадьбе его дочери, конечно, было невозможно обойтись без них. Когда Просперо в самом начале пьесы (I, 2) объяснял Миранде свой характер словами, что он был первый из герцогов и не имел себе равного в науке, ибо к ней были устремлены все его помыслы, но что, углубляясь с восторгом в сокровенное знание, он сделался чуждым своему государству, то эта реплика заключала в себе такое толкование личности короля, какое он сам любил давать, заключала в себе, сверх того, защиту тех свойств его, которые делали его непопулярным, и, наконец, что в высшей степени вероятно, заключала в себе и капельку хорошо скрытой иронии. Гарнетт нашел строго проведенную драматическую иронию в угрюмости, обидчивости и самонадеянности этого характера, показывающего, что и высшее развитие человеческих достоинств имеет свои границы. Это будет, однако, уже натяжка в параллели со свойствами короля. Но зато совершенно справедливы слова Гарнетта, что государь, как Просперо, мудрый, гуманный и миролюбивый, преследующий отдаленные цели, которых никто, кроме него, не может осуществить, тем менее проникнуть в самую их глубь, независимый от советников и далеко превосходящий своих врагов своей прозорливостью, держащийся в стороне до решительного момента и затем начинающий энергически действовать, отдающийся изучению всех дозволенных наук, но заклятый враг черной магии, что таким государем был Иаков в своих собственных глазах и таким любил он, чтобы его изображали.
Мы видели, с какими смешанными чувствами король и его двор должны были подготовлять свадьбу принцессы. Скорбь о смерти принца Генриха была еще так свежа, что радость не могла быть неомраченной. Поэтому шумная, ликующая пьеса была бы неуместна. С другой стороны, невозможно было нарушать праздничное настроение прямым напоминанием об утрате, так недавно понесенной королевским домом и нацией. Шекспир с истинно дивным тактом и чуткостью выпутался из этой трудной дилеммы. Он слегка напомнил о смерти принца, но напомнил о ней так, что горе побеждается радостью. До самого последнего акта пьесы отец юного принца Фердинанда вместе со своими придворными считает его умершим, и скорбь об этой, здесь лишь предполагаемой, смерти часто находит себе выражение. Только в драме он сын не Просперо, а настоящего короля, Алонзо. Но Просперо, не имеющий сыновей, находит себе сына в Фердинанде подобно тому, как Иаков вновь обрел сына в юном курфюрсте Пфальцском.
Ввиду того, что пьеса, таким образом, насквозь проникнута осторожными намеками на кончину принца Генриха, — она не могла быть начата до 6 ноября. Так как свадьба праздновалась 14 февраля, а пьеса была представлена, по-видимому, несколько раньше, то отсюда видно, как мало времени понадобилось Шекспиру для того, чтобы создать произведение, в котором гениальность положительно бьет ключом, и как далеко еще не ослабело и не исчерпалось его дарование, когда он этой пьесой сказал «прости» своему искусству и своему положению в Лондоне.
От всей драмы так и веет кругосветными плаваниями и периодом колонизационных стремлений. Уоткис Ллойд превосходно доказал, что все темы и проблемы, затрагиваемые «Бурей», возникли именно в эту эпоху, во время колонизации Виргинии: элемент чудесного, связанный с открытиями новых стран и новых рас; преувеличения путешественников и их правдивые рассказы, еще более поразительные, чем преувеличения; новые явления природы и суеверие, которое они порождали; опасности на море и кораблекрушения; свойство подобных злоключений вызывать раскаяние в совершенных злодеяниях; распри и мятежи колонистов; усилия поддержать авторитет начальников; правительственные теории о цивилизации новой страны; характеристика человека в естественном состоянии; затруднения с туземцами; возрождение на новой почве пороков Старого Света; противоположность между моралью и разумом цивилизованных людей и дикарей со всеми требованиями, какие предъявлялись к деятельности, расторопности и силе завоевателей.
Первая американская колония была основана в мае месяце 1607 г. и состояла только из 107 колонистов. Виргинская компания образовалась не ранее 1609 г. В 1610 г. в Англию успело дойти из Виргинии весьма немного известий, и лишь в 1612 г. можно было написать на родину, «наша колония состоит теперь из 700 человек». Следовательно, и эти обстоятельства точно так же указывают на 1612–1613 гг. как на время возникновения пьесы.
Глава 73
Источники «Бури»
Настоящих источников «Бури» мы не знаем. Однако Шекспир имел, вероятно, ту или другую литературную основу для своей драмы, ибо чрезвычайно старомодная и наивная пьеса немца Якова Айрера «Комедия о прекрасной Сидее» построена на фабуле, представляющей, по-видимому, вариант той, которую имел перед собой Шекспир. О воздействии Шекспира на Айрера не может быть и речи, так как последний умер в 1605 г. Сходство ограничивается отношениями между Просперо и Алонзо, Мирандой и Фердинандом. И в пьесе Айрера, как и в «Буре», есть изгнанный владетельный князь со своей дочерью. И здесь попавший в плен принц, полюбив молодую девушку, должен таскать (или колоть) и складывать в кучу дрова, чтобы искупить этим свою смелость. И здесь он обещает любимой девушке, что сделает ее принцессой. И здесь он тщетно пытается обнажить свой меч: его обезоруживает волшебный жезл будущего тестя. О более глубоком сходстве нет и речи. Можно было бы подумать, что «Sidea» была завезена из Германии Доулендом или английскими актерами, но так как Шекспир, наверно, не знал немецкого языка, и так как пьеса слишком плоха, чтобы он мог хоть сколько-нибудь заинтересоваться ею, так как, сверх того, Айрер в других своих сочинениях копировал английские пьесы, то, по всей вероятности, общим источником для него и для Шекспира послужила какая-либо старейшая английская драма. Притом некоторые из приведенных штрихов малооригинальны. Неудачную попытку обнажить меч, когда он оказывается пригвожденным к ножнам силою волшебных чар, делают четыре человека со своим оружием в «Монахе Бэконе» Грина. Некоторые другие штрихи в «Буре» по необходимости совпадают с подробностями в других пьесах, где на сцене изображается волшебство. В «Докторе Фаусте» Марло герой наказывает тех, кто хочет его убить, заставляя их валяться в грязи, как здесь Просперо наказывает Калибана, Тринкуло и Стефано, загоняя их в болото и заставляя их стоять по самый подбородок в тине.
Совершенно произвольное и нелепое предположение было высказано Мейснером, утверждавшим, что Шекспир заимствовал свое свадебное представление из «маски», представленной в свое время на крестинах принца Генриха, так как в ней тоже выступали Юнона, Церера и Ирида. Эта старая «маска» была поставлена в Stirling Castle для короля Иакова лет за 19 перед тем, и не настолько уже был неизобретателен Шекспир, чтобы ему понадобилось откапывать ее описание, ибо неизвестно даже, была ли она когда-либо напечатана.
С другой стороны, с давних пор было обращено внимание на то, что для различных мелких штрихов в своем произведении Шекспир воспользовался различными описаниями путешествий. Из описания путешествия Магеллана к Южному полюсу в сочинении Эдена «История путешествия на восток и в западную Индию» он взял название демона Сетебоса и, быть может, первую идею своего Калибана; из книги Рэлея «Открытие обширной, богатой и прекрасной страны Гвианы» историю о людях, у которых голова находится под плечами. Рэлей говорит, что это, может быть, басня, но он склонен считать это истиной, так как всякий ребенок в провинциях Арромаи и Канури уверяет, что это так и есть на самом деле; рот у них находится посередине груди.
Гентер первый заметил, что, быть может, Шекспир заимствовал несколько подробностей для своей драмы у Ариосто. По-видимому, у него сохранились в памяти некоторые строфы из 43-й песни «Orlando furioso». 13-я и 24-я строфы этой поэмы заключают в себе как бы легкий абрис Просперо и Миранды, в 187-й строфе упоминается о способности вызывать волшебством бурю и потом снова разглаживать поверхность моря. «Orlando furioso» был переведен на английский язык Харриштоном; но мы уже видели, что Шекспир мог пользоваться и подлинником; между тем совпадения здесь до такой степени незначительны, более того, ничтожны, что совершенно нелепо было поднимать из-за них столько шума.
Гораздо замечательнее то, что даже знаменитое и прелестное место, выражающее тленность всего земного, то место, в котором как бы заключается меланхолически подведенный итог всей житейской мудрости Шекспира за эти последние годы его творчества, что даже оно только слегка приспособлено им для своих целей из совершенно неизвестного и второстепенного поэта того времени. Когда кончилось вызванное по мановению Просперо представление духов, и он открыл Фердинанду тайну, что актеры его были лишь духи, растворившиеся в воздухе, он, как известно, прибавляет:
…Как я уже сказал, Ты видел здесь моих покорных духов. Они теперь исчезли в высоте И в воздухе чистейшем утонули. Когда-нибудь, поверь, настанет день, Когда все эти чудные виденья, И храмы, и роскошные дворцы, И тучами увенчанные башни, И самый наш великий шар земной Со всем, что в нем находится поныне, Исчезнет все, следа не оставляя. И сами мы вещественны, как сны[30]; Из нас самих родятся сновиденья, И наша жизнь лишь сном окружена.В трагедии графа Стерлинга «Danus», вышедшей в свет в Лондоне, в 1604 г., встречается следующее:
Пусть величие тщеславится своими ничтожными скипетрами, которые суть ничто иное, как трости, способные скоро сломаться и разлететься в куски; пусть наши умники восхищаются земною помпою: все исчезает, едва оставляя по себе какие-либо следы. Эти раззолоченные дворцы, эти великолепные, роскошно убранные залы, эти вздымающиеся до неба башни — все это исчезнет в воздухе, как дым.
В истории не найдется, быть может, более поразительного свидетельства тому, как в искусстве стиль — это все, и какое ничтожное значение в сравнении с ним имеют содержание и мысль. Ибо красивые, отнюдь не заурядные или плохие стихи графа Стерлинга излагают точь-в-точь ту же идею, как и стихи Шекспира, и в совершенно совпадающих выражениях, притом же первые по времени излагают ее. Тем не менее ни одна душа в наши дни не знала бы ни их, ни имени поэта, если бы Шекспир одним почерком пера не переделал их в десяток строк, которые не изгладятся из памяти человечества, пока будет существовать английский язык.
Некоторые указания Шекспир (как это доказано Мейснером) заимствовал из описания путешествия Марко Поло в английском переводе Трамптона (1579 г.), где о пустыне Лоб в Азии говорится следующее: «В воздухе вы услышите бой барабанов и игру других инструментов, нагоняющих на путешественников страх перед злыми духами, которые производят эти звуки и в то же время многих путешественников называют по именам». Сравните с этим слова Калибана в «Буре» (III, 2):
…Весь остров голосами И звуками наполнен здесь всегда. Лишь слух они собою восхищают, Но никогда не причиняют зла. То тысячи звучат здесь инструментов, То голоса, от сна вдруг пробудив, Опять меня ввергают в усыпленье.Обратите также внимание на следующую шутку Стефано насчет барабанного боя, шутку, намекающую, очевидно, на помощника клоуна, когда он исполнял свой мавританский танец:
Я хочу непременно видеть этого барабанщика; он славно барабанит.
Сравните еще жалобы Алонзо (III, 3):
Ужасно, о ужасно! Слышал я, Как волны мне упреками шумели, И ветер выл, нашептывая в уши, И гром, как бас в концерте похоронном, Так звучно, так ужасно рокотал, По имени Просперо называя.Первый толчок к зарождению двух бессмертных образов, Калибана и Ариэля, быть может, дан был Шекспиру девятой сценой «Монаха Бэкона» Грина, где два волшебника Bungay и Vandermast ведут спор о духах пиромантики и геомантики, т. е. о том, какие из них более могущественны, духи огня или духи земли. «Духи огня, — говорит Bungay, — лишь прозрачные тени; они проходят мимо нас, как герольды, духи же земли так сильны, что могут взрывать горы». — «Духи земли, — отвечает Vandermast, — вялы и похожи на то место, где они живут; они глупее других духов, а потому эта грубая толпа земных духов служит лишь фиглярам, ведьмам и простым колдунам; духи огня, наоборот, могучи, проворны, и сила их простирается далеко».
Несколько более определенный толчок к созданию пленительного существа Ариэля был, по всей вероятности, дан Шекспиру заключительными словами пьесы его молодого друга Флетчера «Верная пастушка». Здесь сатир предлагает свои услуги прекрасной Клорине в выражениях, представляющих собой как бы первый предвестник вступительной реплики Ариэля (I, 2):
Я пред тобой, могучий повелитель! Ученый муж, приветствую тебя! Готов всегда свершать твои желанья, Велишь ли ты лететь мне или плыть, Велишь ли ты мне погрузиться в пламя Или нестись верхом на облаках Во всем тебе послушен Ариэль, А с ним и все способности его.Предложения сатира говорят совершенно о том же:
Скажи мне, какой новой услуги требуешь ты от сатира? Хочешь ли ты, чтобы я реял в воздухе и остановил быстро несущееся облако, или я должен ухаживать за луной, чтобы добыть от нее луч, могущий озарить тебя? Или я должен погрузиться на дно морское, чтобы добыть тебе кораллов, рассекая белоснежное руно волн?
Гораздо более поразительным примером склонности и способности Шекспира к заимствованиям служит, однако, длинная прощальная речь Просперо к эльфам (V, 1):
Вас, эльфы гор, источников, лесов И тихих вод…Это та речь, в которой сам Шекспир, при посредстве великолепного красноречия Просперо, прощается со своим искусством и перечисляет все, что он мог делать с его помощью. В основу этого места Шекспир положил заключительную речь, которую в «Превращениях» Овидия (VII, 197–219) после завоевания Ясоном золотого руна держит к духам ночи Медея с тем, чтобы по просьбе своего возлюбленного продлить жизнь его престарелому отцу. Шекспир имел перед собой эту латинскую поэму в переводе Холдинга. Если мы подчеркнем совпадения с его собственным текстом, то не останется никакого сомнения в сделанном заимствовании. Обращение к эльфам повторено дословно. Как Медея двигает море взад и вперед, так и эльфы гонятся за убегающими волнами и несутся прочь от них, когда они возвращаются. Как Медея, так и Просперо ссылаются на свою способность покрывать небо тучами и затемнять солнце, пробуждать ветры, разбивать в щепки деревья или вырывать их с корнями, колебать сами горы и заставлять могилы отверзаться и выпускать мертвецов.
Что касается имен в «Буре», то имена Просперо и Стефано встречаются уже в комедии Бена Джонсона «Every man in Ms humour», относящейся к 1595 г.; кроме того, Просперо было имя известного учителя верховой езды в Лондоне во времена Шекспира. Мэлон в свое время производил имя Калибан от каннибала. Возможно, что у Шекспира, когда он составлял имя Калибана, было в мыслях это наименование людоедов, хотя Калибан не имеет ни малейшей наклонности к людоедству. Это даже правдоподобно, так как заимствованное Шекспиром при изображении утопии Гонзало место из Монтеня находится в главе, озаглавленной «Des Cannibales». Фернес, начавший так широко задуманное и такое превосходное издание Шекспира, находит это словопроизводство ни с чем не сообразным. Вместе с Т. Эльце он склонен производить это имя от города Калибия вблизи Туниса, связь которого с Калибаном, однако же, ничуть не представляется более ясной. Имя Ариэль Шекспир нашел у Исайи (29, 1). Это имя города, где поселился Давид, и Шекспир взял его, конечно, вследствие созвучия с латинским и английским названием воздуха.
Этим мы, пожалуй, исчерпали все, что можно разъяснить по отношению к литературным источникам «Бури». Остается только прибавить, что Драйден и Давенант сильно воспользовались для своей ужасной переделки «Бури», вышедшей в Лондоне в 1670 г., различными частями вышеупомянутой пьесы Кальдерона и могли, таким образом, Миранде, никогда не видавшей мужчины, противопоставить Ипполито, никогда не видавшего женщины.
Глава 74
«Буря» как пьеса. — Шекспир и Просперо. — Прощание с искусством
Хотя «Буря», рассматриваемая как сценическое произведение, лишена драматического интереса, но пьеса эта, созданная могучим, магически действующим воображением, до того проникнута льющейся через край поэзией, что, точно небольшой обособленный мир, подавляет душу читателя свойством всего совершенного покорять своей власти. Если обыкновенный смертный хочет получить назидательное впечатление от своей собственной ничтожности и возвышающее впечатление от неизмеримого величия настоящего гения, то пусть он углубится в этот последний шедевр Шекспира. Ближайшим последствием этого изучения будет во многих случаях благоговейный восторг.
Шекспир творил здесь свободнее, чем когда-либо с тех пор, как он написал «Сон в летнюю ночь» и первую часть «Генриха IV». Он мог и должен был так творить, потому что, несмотря на соображения, с которыми ему приходилось считаться из-за обстоятельства, подавшего повод к этой пьесе, и несмотря на стеснения, которые это обстоятельство налагало на него, он здесь более, чем где-либо в эти позднейшие свои годы, отдался всей своей личностью своей работе. Среди пьес этого периода «Буря» более всех других носит характер самопризнания. За исключением «Гамлета» и «Тимона» Шекспир никогда еще не был так субъективен.
Можно сказать, что в некоторых отношениях «Буря» написана в прямой связи с душевным состоянием поэта в мрачный период его жизни. Эта пьеса трактует вновь о возмутительной неблагодарности, о хитрости и насилии, жертвами которых становятся добрые и благородные люди.
Миланский герцог Просперо, погрузившийся в научные исследования и видевший свое истинное герцогство в своей библиотеке, неосторожно предоставил управление своим маленьким государством брату своему Антонио; его доверие возбудило вероломство Антонио. Он переманил на свою сторону всех сановников, получивших назначение от Просперо, вступил в союз с врагом Просперо королем Неаполитанским Алонзо и превратил свободный до тех пор Милан в вассальное герцогство под верховенством этого короля; брата Алонзо, Себастьяна, он также вовлек в измену, затем произвел неожиданное нападение на брата, низвергнул его и пустил его по морю в утлом челноке вместе с трехлетнею дочерью. Один неаполитанский вельможа, Гонзало, движимый состраданием, снабдил лодку не только жизненными припасами, но и новой одеждой, домашней утварью и драгоценными книгами Просперо, на которых зиждется его сверхъестественная мощь. Лодка причалила к незаселенному острову. Здесь, благодаря своей науке, Просперо достиг владычества над миром духов, с ее помощью поработил себе единственного первобытного обитателя острова Калибана и затем сталь жить в тиши и уединении для развития и усовершенствования своего ума, для наслаждения природой и самого тщательного воспитания своей дочери, посредством которого он ввел ее в такие умственные сферы, в какие княжеские дочери редко проникают. Миновало двенадцать лет, а Миранде только что пошел шестнадцатый год, когда начинается пьеса.
Просперо знает, что именно теперь его счастливая звезда находится в зените. Он может захватить в свою власть всех своих старых врагов. Король Неаполитанский выдал замуж свою дочь Кларибеллу за короля Тунисского; свадьба, что довольно-таки странно, состоялась у жениха (но зато это и первый еще раз, что христианский король празднует свадьбу своей дочери с магометанином), и когда он со всей своей свитой, в том числе и с братом, похитителем миланского престола, находятся на обратном пути на родину, Просперо присущею ему силою производит бурю, забрасывающую всю компанию на его остров, где преступники терпят заслуженное унижение, мешаются в рассудке и получают, наконец, прощение после того, как королевский сын Фердинанд, созрев через возложенные на него испытания, сделался женихом очаровательной Миранды согласно тайному желанию Просперо.
В «Буре» Шекспир, очевидно, хотел вполне сознательно дать цельную картину человечества, каким он его видел теперь. Здесь — что мы находим у него впервые — встречаются типические образы различных фазисов человеческого развития.
В то время как Калибан есть тип прошедшего, первобытный житель, животный образ, развившийся до первой, грубой ступени человечества, Просперо является типом высшего совершенствования человеческой природы, человеком будущего, сверхчеловеком, истинным волшебником.
За несколько лет перед тем Шекспир, как мы видели, сделал первый набросок подобного образа, обрисовав неопределенными контурами Церимона в «Перикле». Просперо представляет собою исполнение того, что лишь смутно обещает главная реплика Церимона: личность, сделавшую себе подвластными все благодатные силы, обитающие в металлах, камнях и растениях. Он — существо с царственным отпечатком, существо, подчинившее себе внешнюю природу; свою внутреннюю, нередко отдающуюся страстным порывам природу приведшее в равновесие, а горечь, накопившуюся под влиянием мыслей о причиненном ему зле, потопившее в гармонии, изливающейся из его богатой душевной жизни.
Много зла сделано ему, как и всем другим героям и героиням Шекспира из этого последнего десятилетия (Периклу, Имоджене, Гермионе не менее, чем Лиру или Тимону). Против Просперо люди согрешили даже более, чем против человеконенавистника; он больше пострадал, больше потерял через неблагодарность. Ведь он не в безумной расточительности, как Тимон, растратил свое состояние; он из-за занятий высшего порядка пренебрег своими мирскими интересами и пал жертвой своей беспечности и своего доверия.
Зло, которое пришлось претерпеть Имоджене и Гермионе, не имело столь отвратительного происхождения, как зло, которое низвергло его; то зло проистекало из введенной в заблуждение любви, а потому и справедливее могло найти себе под конец прощение; зло же, предметом которого был Просперо, имело своим источником зависть, корыстолюбие, все лишь низменные страсти. Поэтому он испытан в страданиях, но в то же время и закален ими, так что, когда его постигает удар, он не только не изнемогает бессильно под ним, но теперь впервые обнаруживает силу, и силу необычную, силу грозную Он становится великим, непреодолимым чародеем — каким так долго был сам Шекспир. Дочь, еще дитя, не знает и не понимает всего его могущества, но его врагам приходится почувствовать его, он играет ими и вынуждает их раскаяться в их образе действий против него, а затем прощает их с величавым превосходством, до которого Тимон никогда не мог подняться, но и без той, все предающей забвению нежности, с которой Имоджена и Гермиона простили раскаявшихся.
В его прощении меньше человеколюбия к грешнику, чем того элемента, который так долго и так исключительно наполнял душу Шекспира в предшествовавшие годы, — презрения. Его прощение есть презрительное равнодушие, не столько равнодушие властелина, знающего, что он может снова, если понадобится, сокрушить своих врагов, сколько равнодушие мудреца, которого уже не особенно трогают превратности в его внешней судьбе.
В критических замечаниях, приложенных Ричардом Гарнеттом к этой пьесе в эрвинговском издании, автор весьма удачно разъясняет, что если Просперо может простить без внутренней борьбы, то это зависит от того, что в душе он слишком мало интересуется утраченным им герцогством или же не чувствует особенно глубокого негодования по поводу низости, лишившей его престола. Счастье его дочери — вот единственная вещь, сильно занимающая его теперь. Мало того, так далеко заходит его отрешение от дел этого мира, что без всякого внешнего принуждения он ломает свой волшебный жезл, бросает в море свою волшебную книгу и становится в ряды простых смертных, не удерживая за собою ничего, кроме своего неприкосновенного сокровища житейского опыта и мыслей. Я приведу одно место из Гарнетта, потому что оно замечательным образом подходит к представленному в этом сочинении основному взгляду на ход развития Шекспира.
«Что эта дон-кихотовская высота духа не озадачивает нас в Просперо, это обнаруживает, как глубоко коренится его существо в тайниках натуры самого Шекспира. Эта пьеса лучше, чем какая-либо другая, показывает нам, что сделала из Шекспира к 50-летнему возрасту дисциплина жизни. Сознательное превосходство, незапятнанное высокомерием, живое презрение к посредственному и низменному, снисходительность, в которой презрение играет весьма значительную роль, ясность души, исключающая страстную любовь, но отнюдь не исключающая нежность, ум, возвышающийся над нравственностью, нисколько, однако, не умаляя и не искажая ее; вот те духовные черты его, в развитии которых светский человек шел в один уровень с поэтом, и которые к этому моменту соединились над тем и другим в лучезарное сияние совершеннейшего идеала».
Иными словами, его собственная природа перелилась в природу Просперо. Поэтому Просперо не только великодушный и великий человек, но он гений, изображенный, заметьте это, символически, а не представленный психологически, как в «Гамлете». Вне Просперо, слышимо и видимо, находится как внутреннее, так и внешнее сопротивление, которое ему пришлось побороть.
Два образа, воплотившие в себе эту духовную силу и это сопротивление, принадлежат к превосходнейшим созданиям, какие когда-либо порождал художественный дар поэта. Ариэль и Калибан, это — существо сверхъестественное и существо животно-естественное, наделенные всеми элементами человеческой жизни. Не путем наблюдения, а путем творчества возникли они.
Что Просперо есть человек будущего, сверхчеловек, сказывается, прежде всего, в его владычестве над силами природы. Он считается волшебником, и в умершем в 1607 г. недюжинном ученом и добросовестном человеке, который сам верил, что может вызывать духов и демонов, за что и пользовался высоким уважением со стороны своих современников, Шекспир нашел модель для внешнего облика Просперо. Само собою разумеется, что человек, вооруженный хотя бы незначительной долей достигнутого в наши дни знания природы, представлялся бы во времена Шекспира непостижимым и непреоборимым волшебником. Таким образом, в Просперо Шекспир лишь бессознательно опережает уровень развития своей эпохи.
Вместо того, чтобы дать ему только волшебный жезл, поэт, в интересах поэтического оживотворения, предпочел дать ему в услужение сами силы природы и создал Ариэля согласно своей собственной поэтической программе в комедии «Сон в летнюю ночь» (V, 1):
…Пока его воображенье Безвестные предметы облекает В одежду форм, поэт своим пером Торжественно их все осуществляет И своему воздушному ничто Жилище он и место назначает. Да, сильное воображенье часто Проказит так, что ежели оно Лишь вздумает о радости — тотчас же Перед собой оно как будто видит И вестника той радости…Таким именно вестником радости и является Ариэль. Стоит ему только показаться, как зритель испытывает уже удовольствие и начинает предвкушать приятные впечатления. Он единственный добрый ангел, возбуждающий интерес в истории поэзии и действующий как живое существо, — не христианский ангел, а дух и эльф, носитель мыслей Просперо и исполнитель его воли силою всех элементарных духов, которыми повелевает великий чародей. Он как бы эмблема гения самого Шекспира, он поистине «доброжелательный, задушевный дух», обладанием которого, по выражению Шекспира в 86-м сонете, хвалился Чапман. Поэтому его тоска по освобождению от своей службы имеет совершенно особенную и трогательную символику, как тоска по отдыху, которую испытывал гений самого Шекспира.
У него вездесущая фантазия и способность ее к превращениям. Он скользит по морской пене, несется по резкому северному ветру, зарывается в замерзшую землю. То он является духом огня и вызывает ужас, то вспыхивает в виде разделившегося пламени вдоль мачты, на реях, вдоль бушприта корабля, то с быстротою самой молнии вытягивается в одну огненную струну. Он превращается в сирену, играет и поет обольстительные песни, он то видим, то невидим. Он сам точно чарующая музыка, точно звуки, носящиеся в воздухе, в которых слышится то лай собаки, то пение петуха, то мелодический плеск волн. Ибо по самой сути своей природы и по своему имени он дух воздуха, мираж, световая и звуковая галлюцинация. Он — птица, он может играть роль гарпии, может отыскивать свой путь среди мрака, может в полночь доставать росу с заколдованных Бермудских островов; он верно и усердно служит добрым, пугает, смущает и дурачит злых, он пленителен и легок, он быстр, как молния.
Он был прежде на службе у колдуньи Сикораксы, но она озлобилась против него и замуровала его в трещину расщепленной сосны, откуда после долголетнего заключения он был освобожден лишь волшебною силою Просперо. Поэтому он и служит ему в отплату, но все же постоянно томится по свободе, обещанной ему по истечении известного срока; хотя природа его — воздух, он может все-таки чувствовать жалость и вызывать в себе чувство преданности, которое, собственно, не питает. Тем не менее, подневольное состояние так сильно мучит его, что он с нетерпением ждет дня, когда пробьет час его свободы.
Если Ариэль есть, таким образом, дух воздуха и пламени, природа которого заключается в проказах и музыке, стихией Калибана является земля; он нечто вроде земноводного, существо, созданное из тяжелых и грубых элементов, которое Просперо из животной жизни возвысил до жизни человеческой, не имев, однако, возможности приобщить его к действительной культуре. Когда Просперо только что прибыл на остров, он ласкал Калибана, часто трепал его по плечу, давал ему пить воду с ягодным соком, научил его называть «большую свечу и меньшую свечу», дал ему место в своем доме и постепенно сообщил ему искусство речи. Но все изменилось, когда Калибан в своем диком вожделении посягнул на Миранду. С той поры Просперо стал обращаться с ним, как с рабом, и пользоваться им, как рабом. Замечательно, что Шекспир положительно не хотел заклеймить Калибана как грубое и прозаическое существо, не имеющее соприкосновения с поэзией очарованного острова. Тогда как вульгарные иностранцы, Стефано и Тринкуло, говорят по большой части прозой, речь Калибана постоянно ритмична, — больше того, лишь немного найдется стихов в этой пьесе, столь мелодически прекрасных, как те, которые срываются с его животных губ. Это как бы воспоминание о том времени, когда он жил в пределах очарованного близ Просперо и Миранды в качестве их товарища.
Но с тех пор, как из их товарища он сделался их рабом, всякая благодарность за прежние благодеяния исчезла из его души, и язык, которому научился, он употребляет на то, чтобы проклинать своего господина, похитившего у него, первобытного жителя, его царство. В речах его слышится ненависть дикаря к цивилизованному завоевателю.
Мы видели, что в этот период своего творчества Шекспир в силу отвращения к порокам придворной и культурной жизни имел склонность мечтать о чем-то вроде естественного состояния, далекого от всякой цивилизации («Цимбелин»). Но его инстинкт был слишком верен, его мудрость слишком здрава для того, чтобы он когда-либо, вместе с утопистами своего времени, мог верить в первобытное, естественное состояние как состояние невинности и душевного благородства; или в золотой век, предшествовавший будто бы исторической эпохе. Калибан есть, между прочим, протест против этого сумасбродного представления, и Шекспир прямо осмеял фантастические бредни этого рода, списав и вложив в уста Гонзало строки Монтеня об учреждении идеального государства без торговли, без властей и науки, без богатства и бедности, без хлеба, вина и масла и без какого бы то ни было труда, со счастливою праздностью для всех. Калибан есть, следовательно, человек первобытной эпохи, человек прошлого, но в таком смысле, однако, что в наши дни один философ с поэтическим складом ума (Ренан) нашел в нем характерные черты черни вообще. Поучительно было видеть, как мало понадобилось Ренану приспособлений для того, чтобы сделать из него современный символ и показать, как Калибан (понимаемый как глупая, лукавая демократия), если его причесать и умыть, может ничуть не хуже старой аристократически-клерикальной деспотии говорить консервативным тоном, покровительствовать искусству, милостиво сочувствовать науке и т. д.
Калибан у Шекспира является порождением дьявола и колдуньи Сикораксы, и само собою разумеется, что при таком происхождении ему трудно возвыситься до ангельской доброты и чистоты. Но так как он, впрочем, скорее стихийная сила, чем человек, то он не возбуждает в душе зрителей ни негодования, ни презрения, а доставляет истинное удовольствие. Он задуман и выполнен с бесподобным юмором. Он юмористически символизирует диких туземцев, которых англичане застали в Америке и которым они преподали благословенные дары цивилизации в форме алкоголя. Не только остроумна, но прямо глубокомысленна та сцена (II, 2), где Калибан, принимающий сначала Тринкуло и Стефано за двух духов Просперо, посланных для того, чтобы его мучить, воображает затем, что Тринкуло был человеком на луне, которого в былые дни Миранда показывала ему в чудные лунные ночи, и начинает поклоняться ему, как своему богу, потому только, что он владелец бутылки с небесным напитком, и приложив ее к его губам, тем привел его в дивное опьянение, вызываемое «огненной водой».
Между этими двумя символами самой высшей культуры и самой грубой природы Шекспир поместил юную деву, которая столь же благородна телом и душой, как ее отец, но так всецело и так исключительно дитя природы, что повинуется без сопротивления своим инстинктам, следовательно, и естественному влечению любви. Она противопоставлена изображенному в Просперо идеалу мужчины, олицетворяя в себе то, что достойно удивления в женщине (отсюда имя Миранда). Для того, чтобы сохранить ее совершенно нетронутой и непосредственной, Шекспир сделал ее почти столь же юной, как свою Джульетту, а чтобы усилить еще более впечатление девственной нетронутости, он воспользовался чертой, которую применяли и которой злоупотребляли испанцы во второй половине семнадцатого столетия, — заставил ее вырасти в такой обстановке, где она никогда не видала ни одного молодого существа другого пола. Отсюда взаимное восхищение при встрече ее и Фердинанда. Она говорит (в конце первого действия):
Что это! Дух? О Боже, как он смотрит Вокруг себя! Поверь мне, мой отец, Хоть облечен в чудесную он форму, Но это дух!Когда Просперо отрицает это, она продолжает:
Готова я божественным созданьем Его назвать. В природе ничего Прелестнее его я не видала!Фердинанд не уступает ей в выражениях восторга:
Откройся мне, о чудо из чудес Ты созданная дева или нет?Просперо, величие которого столько же обнаруживается в его власти над людьми, как и в его господстве над природой.
Просперо, и никто иной, соединил Фердинанда и Миранду, и хотя он и притворяется разгневанным на притягательную силу, которую они чувствуют друг к другу, тем не менее он заставляет все между ними произойти точь-в-точь так, как он хочет, и как он это предусмотрел.
Просперо глядит в человеческие души так же уверенно, как сам Шекспир. Что Просперо играет роль Провидения относительно всех окружающих его, это так же неоспоримо, как и то, что Шекспир исполняет подобную роль по отношению к созданным его фантазией образам. Это почти аллегорическая черта, когда Просперо показывает своим иностранным гостям обоих молодых людей, играющих в шахматы; они играют, как хотят, но в то же время играют так, как должны играть. Но помимо этого, в том, как Шекспир изобразил Просперо воспитателем и наставником влюбленной парочки, есть нечто почти субъективное. Из его неоднократно повторяемых советов Фердинанду не следовать внушениям страсти, а выказать воздержанность, пока не настанет час свадьбы, Гарнетт хотел заключить, что пьеса была представлена за несколько дней до совершения брачной церемонии между царственными обрученными. Однако эти увещания едва ли относятся так или иначе к герцогу как жениху. В таком случае они ведь были бы бестактностью, даже дерзостью. Нет, гораздо скорее следует думать, как мы уже упоминали выше, что за ними кроется меланхолическое признание и чисто личное воспоминание. Шекспира нельзя заподозрить в формализме в эротических вопросах. В «Мере за меру» защищается, как мы видели, тот взгляд, что отношения между обоими влюбленными, навлекшие на них такую жестокую кару, были столь же нравственны, как брак, хотя заключены без обрядов. Он говорит, следовательно, не из формализма, а на основании собственного опыта. Теперь, когда он мысленно уже находится на обратном пути в Стрэтфорд и живет представлением о том, что там ожидает его, он вспомнил, что когда-то он сам и Анна Гесве не захотели дождаться брачной церемонии, и назвал, как наказание за это, знакомое ему проклятие (IV, 1).
Раздор, презренье с едким взором И ненависть бесплодная тогда Насыпят к вам на брачную постель Негодных трав столь едких и колючих, Что оба вы соскочите с нее.Шекспир, как мы уже заметили, заимствовал из того или другого источника ту черту, что молодой поклонник должен выдержать предварительный искус носить дрова. Заимствуя ее, он как будто хотел изобразить служение из любви прекрасной и великой привилегией человека. Для Калибана всякое служение есть рабство; на пространстве всей пьесы он рычит о свободе и никогда не рычит о ней так громко, как когда он пьян. Но и для Ариэля всякое служение, даже служение высшему существу, есть пытка. Один только человек служит с радостью, когда он любит. Поэтому Фердинанд без ропота и даже с удовольствием несет возложенную на него тягость ради Миранды (III, 1):
Прекрасная, я по рожденью принц, А может быть, теперь уже король… …………………………………….. Но слушайте, что скажет вам душа: Лишь только вас я увидал, Миранда, Невольно я вам предался вполне, Душа моя рванулась к вам навстречу; Я сделался покорным вам рабом, Я сделался послушным дровосеком Для вас, для вас!И она, со своей стороны, точно так же чувствует, что служить есть блаженство:
Хотите ли, я буду вам женой? А если нет — умру служанкой вашей. Вы можете не взять меня в подруги, Но быть рабой вы мне не запретите.И в силу совершенно родственного чувства Просперо возвращается в свой Милан, чтобы выполнить обязанности относительно герцогства, к управлению которого он отнесся когда-то небрежно.
В «Буре» встречаются некоторые аналогии со «Сном в летнюю ночь». Как здесь, так и там перед нами фантастический мир. Как здесь, так и там небесные силы играют земными безумцами. Способ, посредством которого Калибан в пьянице Тринкуло видит бога, напоминает влюбленное обожание, которое чувствует Титания к ослу Основе. Обе пьесы предназначены для представлений во время свадебных торжеств. Но какая противоположность между ними! «Сон в летнюю ночь» написан Шекспиром около того времени, когда ему исполнилось 26 лет, и написан как одно из его первых самостоятельных поэтических произведений и как его первый триумф. В этой комедии все — лето. «Буря», напротив, написана незадолго до того дня, когда Шекспиру исполнилось 49 лет, и написана как прощание с искусством, с жизнью художника, и все в этой пьесе — осень.
Ландшафт пьесы весь целиком — осенний ландшафт, а время года — период осеннего равноденствия, сопровождающийся бурями и кораблекрушениями. С тщательным искусством поэт позаботился о том, чтобы все растения, здесь упоминаемые, даже те, которые встречаются лишь в виде сравнений, были все осенние цветы, осенние плоды или растения, появляющиеся преимущественно осенью в северном ландшафте. Ибо, несмотря на южное положение острова и на встречающиеся здесь южные имена, климат представлен северным и довольно суровым. Даже реплики богов, например Цереры, указывают на то, что действие происходит в конце сентября, — соответственно с жизненным периодом и настроением Шекспира в эту пору.
И ничего не упущено для того, чтобы вызвать это настроение. Грусть о гибели всего земного, выраженная в большой реплике Просперо о бесследном исчезновении всякой жизни, гармонирует со временем года пьесы и с основным воззрением Шекспира в этот момент: мы сотканы из того же вещества, как наши грезы; глубокий сон прежде, чем мы пробудимся к жизни, и глубокий сон после того. И разве не субъективно звучит то место, когда в последней сцене пьесы Просперо говорит:
А там от вас я удалюсь в Милан, Где буду только думать о могиле.Разве не чувствуется здесь, что Стрэтфорд был Миланом поэта, как тоска Ариэля по освобождению от его службы была тоской по отдыху его собственного гения? Довольно с него было тягости труда, довольно утомительного чародейства фантазии, довольно искусства, довольно жизни в большом городе. Сознание тщеты всяких стремлений наполнило его душу. Он не верит в прочность своей деятельности, не ждет никаких результатов от дела своей жизни:
…Теперь забавы наши Окончены. Как я уже сказал, Они теперь исчезли в высоте И в воздухе чистейшем утонули.Как Просперо, он когда-то ради служения искусству, странствуя по океану жизни, пристал к очарованному острову, где сделался господином и владыкой, повелевал духами и имел духа света своим служителем, духа зверства своим рабом. По его велению, как по велению Просперо, разверзались могилы и образы минувшего воскресали из мертвых волшебною силою его искусства. Поэтому и слова, которыми Просперо открывает пятый акт, вылились из его собственных уст, несмотря на все мрачные мысли о смерти и все усталые мысли о покое:
Мои дела приходят к окончанью, Послушен мне могучий духов сонм И действуют прекрасно заклинанья, А время все по-прежнему идет, Под ношею своей не спотыкаясь.Вскоре все совершено, и наступает час свободы для Ариэля. Разлука между повелителем и его гением далеко не лишена грусти. Поэтому прежде всего:
…Мой милый Ариэль! Мне жаль тебя; но будешь ты свободен.Ибо Просперо обещал сам себе и твердо решил положить отныне конец своему чародейству. Поэтому он и говорит напоследок:
Свободен будь и счастлив И вновь к своим стихиям возвратись.От собственного имени он уже простился со своими эльфами, и никогда еще на сцене Шекспира не звучали до такой степени субъективно слова воспроизводимого актером образа, как когда Просперо говорит:
От этих сил теперь я отрекаюсь! Лишь одного осталось мне желать: Мне музыки небесной нужны звуки! Я раздроблю тогда мой жезл волшебный, И в глубь земли зарою я его, А книгу так глубоко потоплю, Что до нее никто не досягнет.Раздается торжественная музыка, и последнее «прости» Шекспира его искусству сказано.
Сотрудничество над «Генрихом VIII» и разработка и постановка на сцену «Бури» были последними плодами деятельности Шекспира для театра. По всей вероятности, он только выжидал окончания придворных празднеств для того, чтобы осуществить давно лелеянный им план покинуть Лондон и возвратиться в Стрэтфорд. Весьма вздорная острота Бена Джонсона по поводу его последнего шедевра, выходка против those, who beget tales, tempests and such like drolleries (тех, которые сочиняют сказки, бури и тому подобные формы), уже не застала его в Лондоне. Говоря о его стараниях увеличить свой капитал и о приобретении им домов и земель в Стрэтфорде, мы доказывали, что он с давних пор должен был иметь цель покинуть столицу, отказаться от театра и от литературы для того, чтобы провести в родном городке последние годы своей жизни. Если по окончании «Бури» он еще отсрочил исполнение этого намерения, то всего лишь четыре месяца спустя произошло событие, которое должно было дать ему последний, решительный толчок к отъезду. Как известно, в июне месяце 1613 г. под вечер, во время представления «Генриха VIII», театр «Глобус» загорелся и весь погиб в огне. Так превратилась в дым и бесследно исчезла арена деятельности Шекспира за все эти долгие годы. Вероятно, он имел свою долю в театральных декорациях и костюмах, которые все целиком сгорели. Во всяком случае, все находившиеся в театре рукописи его многочисленных пьес, все эти неоценимые сокровища погибли в пламени — для него, несомненно, горестная, для потомства же незаменимая потеря.
Глава 75
Шекспир уезжает в Стрэтфорд
То был, несомненно, знаменательный день в жизни Шекспира, когда он оставил свой дом в Лондоне и сел на коня, чтобы вернуться в Стрэтфорд-на-Эвоне и там надолго поселиться. Вспоминался ему, вероятно, другой день, 28 лет назад, когда он в 1585 г. предпринял свою первую поездку из Стрэтфорда в Лондон с целью попытать счастья в большом городе. Тогда жизнь скрывалась еще за туманом неизвестности, ожиданий и надежд. Как сильно билось его сердце во время этого путешествия! Это свое настроение описал он в пьесе «ГенрихУ» (III, 7) словами наследника французского престола: «Когда я еду верхом, я несусь по воздуху, как сокол; мой конь летит над землею, которая словно поет под его прикосновением; каждый удар копыта звучит музыкальней дудки Гермеса».
Теперь жизнь лежала позади. Действительность превзошла его былые желания и мечты. Он достиг славы, возвысился над тем сословием, из которого вышел, сделался очень богатым человеком, — но при всем том он не чувствовал себя счастливым. Хотя Шекспир прожил в многолюдном городе более четверти века, он не привязался к нему, он покинул его без сожаления. Не было в нем ни одного человека, ни мужчины, ни женщины, настолько ему близкого, чтобы предпочесть из-за него шум толпы — деревенской тишине, общество одиночеству, жизнь в Лондоне — уединенной жизни в кругу родных, в тесном общении с природой.
Шекспир достаточно поработал на своем веку. Его рабочий день пришел к концу. Теперь он мог смыть со своего имени то пятно, которое наложила на него его артистическая карьера. За последние 9 лет он ни разу не появлялся на сцене; свои роли он передал другим… Теперь даже мысль взяться за перо не улыбалась ему. Для кого творить? Для кого ставить свои пьесы? Новое поколение, посещавшее театр, было ему совершенно чуждо. И в Лондоне никто не обратил никакого внимания на то, что он покинул город. Жители столицы не сделали попытки удержать его. В честь его отъезда не было устроено никаких торжеств.
Вспомнил он свой первый приезд в Лондон. Тогда он, по примеру бедных путешественников, продал свою лошадь в Смитфилде. Теперь он был настолько богат, что мог бы содержать не одну лошадь, но верховая езда не оживляла его так, как тогда, когда ему был 21 год. Тогда ветер играл его кудрями, развевавшимися из-под шляпы. Теперь он постарел и на голове осталось немного волос.
Путешествие из Лондона в Стрэдфорд продолжалось три дня. По пути он останавливался в тех гостиницах, где он привык ночевать во время своих ежегодных поездок. Здесь его принимали всегда радушно, как знакомого гостя. Его ждала постель, покрытая белоснежной простыней; пешеходы платили за нее лишний пенни, а он пользовался ею безвозмездно. Особенно хороший прием встретил он, вероятно, у хозяйки оксфордской гостиницы, красивой миссис Давенант: ведь с ней они были давнишние знакомые. В чертах лица ее семилетнего Вильяма и ее гостя было заметно, может быть, случайное, но во всяком случае поразительное сходство.
Шекспир поехал дальше и вдруг перед «очами его души», как выражается Гамлет, вырос город Стрэдфорд, так хорошо ему знакомый в качестве временного местопребывания и столь новый для него как постоянное местожительство.
После перерыва в 28 лет Шекспиру снова приходилось начать совместную жизнь с женой. Миссис Шекспир было теперь 57 лет, ему — 49. Разница в летах сказывалась теперь с гораздо большей силой, чем тогда, когда они только что обвенчались. В то время оба были молоды; он немного моложе 20 лет, она несколько старше, и они казались одних лет. После такой долголетней разлуки не могло быть и речи о какой-нибудь духовной связи между ними. Их брачный союз превратился в простую формальность.
Старшей дочери, Сусанне, было теперь 30 лет. Она была уже шесть лет замужем за доюором Холлом, который пользовался в Стрэтфорде всеобщим уважением. Младшая дочь, 28-летняя Юдифь, была еще девушкой. Молодая чета Холл с пятилетней девочкой жили в живописно расположенном доме в Старом Стрэтфорде, окруженном лесом. Жена Шекспира и Юдифь помещались в хорошеньком доме «Ньюплейс». Но дух, царивший в этом доме, был чужд самому Шекспиру.
Благочестивое пуританское мировоззрение проникло не только в Стрэтфорд, но также в собственную семью Шекспира.
Другими словами, та сила, которая относилась к нему так враждебно в Лондоне, стараясь запятнать его профессию, та сила, против которой он восставал в продолжение всей своей долголетней сценической деятельности, порою открыто, чаще осторожными намеками, — она ворвалась теперь победоносно в его родной город и завоевала за его спиной его же собственный будущий приют.
Если лондонские театры были впоследствии, после окончательного торжества пуританства, закрыты, то этот процесс завершился в Стрэтфорде гораздо раньше. Здесь уже давно представления драматических произведений были запрещены, а именно на одном из таких представлений Шекспир впервые познакомился с теми людьми, которые потом в Лондоне стали его опорой, его товарищами по призванию.
Еще в 1602 г. магистрат издал указ, запрещавший представление в гильдейском зале всяких драм и интермедий. А это длинное, низкое здание с его восемью небольшими окнами было единственным местом в Стрэфорде, пригодным для представлений. Много воспоминаний навевало оно Шекспиру. Как раз над длинным узким залом помещалось училище, куда он ребенком отправлялся каждый день. Зал оставался обыкновенно запертым и открывался лишь в дни театральных представлений. Со священным трепетом переступал маленький Вильям его порог, и здесь впервые предстал перед его детскими очами во всем своем великолепии — театр. Но вот 11 лет тому назад мудрый магистрат постановил, что городской голова, олдермен и вообще каждый гражданин, разрешивший хотя бы одно театральное представление, обязан заплатить штраф в 10 шиллингов за нарушение упомянутого указа.
Но так как это постановление не оказало должного действия, то штраф был вскоре увеличен до значительной суммы в 20 фунтов. Обложить таким штрафом разрешение дать один спектакль в единственном приспособленном к тому зале — это верх фанатизма.
И этот фанатизм проник в дом Шекспира.
Строго пуританское благочестие, царившее в его семье, нашло себе верных адептов также в его потомстве. Жена Шекспира была в высшей степени религиозна. Как это часто бывает с людьми, которые провели молодость далеко не безупречно, она под старость стала особенно благочестива. Мужа она себе поймала, когда ему было только 18 лет. Тогда ее кровь кипела не меньше, чем у него. С дочерьми у Шекспира тоже не могло быть ничего общего. Сусанна, равно как и ее муж, отличалась благочестием. Юдифь же была наивна, как дитя.
Теперь Шекспиру приходилось расплачиваться за то, что он, покинув надолго родной дом, не мог принять никакого участия в воспитании детей.
Словом, теперь, когда великий художник возвращался к буржуазной семейной жизни, ему нечего было рассчитывать на живой обмен впечатлениями и мыслями. Сцена с ее сказочным миром осталась позади. В Стрэтфорд его манило только то обстоятельство, что он здесь займет положение джентльмена, что ему уже больше не придется писать или играть из-за куска хлеба, что он будет чувствовать под ногами собственную землю. Если же он в Стрэтфорде мог встретить так мало отрадного, то как слаба должна была быть его связь с Лондоном, как одиноко должен был он себя там чувствовать! С годами острое ощущение горечи и обиды утихло, и он равнодушно покинул столицу с ее развлечениями. Пустынные улицы Стрэтфорда очаровывали его своей тишиной, своей удаленностью от шумного света. Но особенно влекла его к себе природа. В тесном общении с ней провел он свои юношеские годы. Долго жил он потом вдали от нее. Его сердце тосковало по ней, когда он писал пьесу «Как вам угодно» и другие однородные произведения. В Стрэтфорд манили его не люди, а обширные сады, насажденные его же собственными руками. Вид на них открывался прямо из окон его дома «Ньюплейс».
Глава 76
Стрэтфорд-на-Эеоне
Шекспир находился снова там, где ему были знакомы каждая дорожка, каждая тропинка, каждый дом, каждый куст в поле. Снова веяло на него тишиной от пустынных улиц. Эта тишина была так велика, что он явственно слышал отзвук своих собственных шагов. Вот змеится, сверкая под солнечными лучами, река Эвон между ивами, которые низко опустили свои ветви над ее поверхностью Здесь в дни молодости он убил однажды оленя. В комедии «Как вам угодно» Шекспир заменил эту реку ручейком. На его берегу стоит Жак, который, смотря на раненого оленя, вздыхает так глубоко, что его кожаная куртка грозит распороться по швам, и крупные слезы катятся по его липу. Кругом на лугу пасутся темно-бурые коровы. Они подняли свои головы с земли и смотрят на него.
В царствование Генриха VII некто сэр Хьюго Клоптон проложил через реку Эвон очень красивый мост; он же и выстроил дом «Ньюплейс». Потом купил этот дом Шекспир, но прежде чем переехать сюда со своей семьей, он должен был его значительно отремонтировать. Вблизи Эвона пролегала хорошенькая аллея к церкви св. Троицы, выстроенной в готическом стиле со стройной башней и великолепными окнами. В ней помещались гробницы и памятники почтенных стрэтфордских граждан. Среди них Шекспиру суждено было найти место последнего успокоения раньше, чем он сам предполагал.
Спускаясь по Церковной улице, Шекспир подходил к гильдейской часовне, красивой четырехугольной башне, с вершины которой по воскресеньям колокол созывал к обедне. Шекспир знал этот звон с детских лет. Теперь ему приходилось его слышать постоянно, потому что дом «Ньюплейс» находился как раз напротив, на расстоянии нескольких шагов. И скоро похоронный звон этого колокола проводит великого поэта в могилу. Рядом с башней помещался дом, в котором находились часовня и училище. Каким узким и маленьким казался ему теперь зал гильдий, рисовавшийся ему в воспоминаниях таким громадным и величественным. С гораздо большим наслаждением смотрел он на обширные сады с зелеными лужайками. Но с особенным умилением останавливался его взор на шелковичном дереве, посаженном его собственными руками.
Как раз напротив находилось низкое здание гостиницы. Шекспиру приходилось сделать только десять шагов, чтобы дойти до нее. В ней показывали замечательный стол, доска которого славилась своей величиной по всей Англии. Она была сделана, как говорят, из одного дерева. В гостинице можно было получать различные напитки, составить партию в шашки или кости. С грустным вздохом подумал Шекспир, что скоро подобное времяпрепровождение станет его единственным развлечением от томящей тоски одиночества. Куда он ни обращал своего взора, всюду его встречали воспоминания. В какие-нибудь пять минут дошел он до улицы Хенли, где он ребенком играл. Тут же находился тот дом, в котором он родился. Шекспир вошел. Вот кухня. Она служила семье столовой. У входа довольно вместительная комната, предназначавшаяся для женщин. Наверху спальня, где он увидел свет. Не предполагал он тогда, что этот дом станет по прошествии веков местом паломничества не только для всей англосаксонской расы, но и для всего цивилизованного мира.
Шекспир отправился по дороге в Шоттери. Сколько раз гулял он здесь в молодости. Здесь он впервые встретил Анну Гесве. Направо и налево виднелись высокие изгороди, отделявшие поля друг от друга. Поля не представляли плоской равнины. Всюду росли деревья, то группами, то отдельно. Волнообразная дорога вела по холмистой местности. Она змеилась между роскошными вязами, березами и подстриженными ивами по направлению к Шоттери. Через полчаса Шекспир стоял у дома Анны Гесве. Крыша обросла мхом. У камина он снова видел скамейку, приделанную к стене и к полу одновременно. Здесь они сидели когда-то рука об руку, молодые, влюбленные, и как давно это было. Он снова видел старинную кровать XV века, на которой спали родители Анны и она сама ребенком у их ног.
Правда, матрасом служила простая соломенная рогожа, зато постель была украшена красивыми резными фигурами в старинном стиле. Помнил ли Шекспир, что эта кровать принадлежала, в сущности, Анне, когда он несколько лет спустя завещал ей эту самую постель, «как вторую по достоинству»?
Потом, несколько дней спустя, Шекспир отправился в Уоррик и Уоррик-Кэстл. Этот городок из кирпича и бревен напоминал Стрэтфорд. Но над ним высился живописно необыкновенно красивый замок в романтическом вкусе, с двумя башнями.
Когда Шекспир стоял внизу на мосту, ведущем через Эвон, погруженный в созерцание замка, в нем пробуждались воспоминания давно минувших времен. Он снова переживал те юношеские грезы, которые навевал ему некогда вид этого старого замка. Перед ним воскресала фигура графа Уоррика, который в пьесе «Генрих VI» покидает могилу, чтобы доказать насильственную смерть герцога Глостера; рисовался его воображению также образ другого графа Уоррика, произносящего во второй части «Генриха IV» (III, 1) следующие слова: «Жизнь каждого человека есть история и отражение прошедших времен».
И этим словам было суждено оправдаться на самом Шекспире.
Вот снова перед ним Чарлкот-Хаус, где он некогда, как преступник, предстал перед разгневанным дворянином-помещи-ком. Здесь он испытал самое горькое унижение в своей жизни, заставившее его покинуть родину. Но зато оно же привело его в Лондон, где он имел такой быстрый успех, положивший прочное основание его долголетнему, счастливому пребыванию в столице. Странно чувствовал он себя теперь на родине, где все его знали, все ему кланялись. Там, в Лондоне, он незаметно терялся в толпе. Странно поражал его ухо родной, провинциальный выговор его имени, первый слог которого произносился очень коротко. В Лондоне, наоборот, этот слог звучал протяжно.
Ввиду этого разногласия в произношении Шекспир изменил в Лондоне правописание своего имени. Обыкновенно он писал «Shakspere». В Лондоне его имя с самого начала печаталось по его же желанию не иначе, как «Shakespeare» (например, в посвящении «Венеры и Адониса» и «Лукреции»), Это правописание удержалось во всех изданиях его драм in-quarto (только в одном таком издании мы находим «Shakspeare»)[31]. Все знали Шекспира. Со всеми необходимо было поговорить, с пахарем в поле, с крестьянкой в птичнике, с каменщиком, работавшим на лестнице, с портным, сидевшим на столе, с мясником на бойне — не было ни одной профессии, хотя бы и самой незаметной, которая была бы ему чужда. С давних пор он в особенности хорошо знал ремесло мясника. Мы видели раньше, что оно входило в круг занятий его отца. Насколько близко сам Шекспир был знаком с этой профессией доказывают самые ранние его трагедии о Генрихе VI. Там, во второй и третьей части, мы находим массу сравнений, взятых из области этого ремесла.
Вообще не существовало ни одного ремесла и ни одного промысла, с которыми он не был бы так хорошо знаком, словно в них воспитался. Нет никакого сомнения, что обыватели провинциального городка уважали его не только за его богатство, но также за его трезвый ум, за его обширные знания. Других более великих качеств они, вероятно, в нем не признавали.
Много лет тому назад, когда Шекспир только что начал свою карьеру драматурга, он вложил в уста побежденного короля похвалу счастливой сельской жизни, простой, не знающей невзгод («Генрих VI», II, 5).
Теперь дни Шекспира будут протекать так же равномерно, так же однообразно.
Глава 77
Последние годы жизни Шекспира в Стрэтфорде
Но нашел ли Шекспир то спокойствие, то внутреннее удовлетворение, которых он искал?
Есть основания думать, что нет.
Семья смотрела на него, как на фокусника-цыгана. Прежний образ жизни этого человека и его настоящие взгляды на религию делали его семейству мало чести. Некоторые исследователи, как например Эльце, утверждают, что Шекспир представлялся своим детям в таком же свете, как Байрон своим потомкам, что его считали каким-то позорным пятном для фамилии. Это предположение, может быть, соответствует действительности, но не имеет под собою достаточно твердого основания.
Старшую дочь Сусанну считают обыкновенно любимицей отца ввиду того, что он назначил ее в своем духовном завещании единственной наследницей. Несомненно, что в целом Стрэтфорде она была для него единственным симпатичным существом. Однако не следует придавать особенного значения духовному завещанию. Очевидно, Шекспир мечтал учредить майорат. Сначала он хотел сделать своим единственным наследником своего маленького сына, как носителя и хранителя своего имени. За ранней смертью сына майорат перешел к старшей дочери.
Нельзя думать, чтобы эта дочь в самом деле вполне понимала отца. Надгробная надпись на ее могиле доказывает, что она придерживалась иных религиозных убеждений, чем Шекспир. Надпись эта гласит, что Сусанна возвысилась своими способностями над уровнем ее пола, что у нее было нечто общее с отцом в том, что она мудро заботилась о спасении своей души, и что эту благоговейную мысль ей внушил тот, к блаженству которого она теперь приобщилась, — следовательно, уж никак не Шекспир.
Супруг Сусанны ревностно поддерживал ее благочестивые намерения. Его дневники и бюллетени, дошедшие до нас, говорят красноречиво о его ортодоксальности и органичной ненависти к католицизму. Можно догадываться, как глубоко страдал деликатный и впечатлительный Шекспир под влиянием своих отношений к зятю. Очень возможно, что Сусанна и ее муж сожгли посмертные бумаги Шекспира, считая выраженные в них взгляды греховными, подобно тому, как семья Байрона уничтожила посмертные бумаги поэта. Таким образом можно было бы объяснить себе исчезновение шекспировских бумаг, которое, впрочем, не более удивительно, чем отсутствие рукописей Бомонта, Флетчера и других современных драматургов.
Младшая дочь Юдифь едва ли очень интересовалась манускриптами отца. Когда она вышла замуж, она не умела даже подписать как следует своего имени. Она подписывалась обыкновенно забавными каракулями. Вообще дочери поэтов XVII в. не отличались особенной интеллигентностью. Впоследствии старшая дочь Мильтона была также безграмотна. Положим, Сусанна все-таки умела подписать свое имя, но, кажется, этим и ограничивалось ее литературное образование. Ее равнодушие к духовным интересам объясняет нам, быть может, само по себе бесследное исчезновение отцовских бумаг. Доктор Джеймс Кук, издавший посмертные рукописи ее мужа, приводит в предисловии к своей книге несколько изумительно характерных случаев. Когда он во время гражданской войны находился в качестве военного врача на стрэтфордском мосту, защищая переход, то один из его людей, бывший помощник д-ра Холла, заметил ему, что в городе остались бумаги и книги доктора, и предложил ему отправиться на квартиру вдовы, чтобы рассмотреть его посмертные рукописи. Когда Кук познакомился с ними, то миссис Холл рассказала ему, что у нее хранятся еще другие книги, оставшиеся после смерти одного человека, который вместе с ее мужем занимался медицинской практикой, и что эти книги стоили много денег. Он ответил, что готов за них заплатить, если они ему понравятся. Когда она принесла бумаги, то оказалось, что они составляли как раз ту книгу, которую Кук снабдил потом предисловием. Здесь же было несколько других сочинений того же автора, приготовленных к печати. Так как Кук знал хорошо почерк мистера Холла, то он заметил ей, что по крайней мере одна из этих книг написана ее мужем, указывая на сходство почерка. Она не соглашалась; он настаивал на своем. Наконец, он понял, что она оскорблена его предположением, и поспешил ей вручить требуемую сумму.
Это странное место во вступлении доказывает наглядно, что Сусанна не знала даже почерка собственного мужа, не знала, что тетради с его заметками не имеют ровно ничего общего с купленными книгами. Она, по-видимому, не умела читать писанные буквы. Она, которая жила в довольстве и даже в роскоши, обнаруживала так мало умственных интересов, что нисколько не ценила посмертных бумаг супруга и была готова продать их при первом удобном случае за бесценок. Отсюда мы можем сделать верное заключение относительно того, как она обращалась с печатными трудами и уцелевшими рукописями отца. Она их, может быть, и не сожгла, но могла их просто выбросить или продать, как макулатурные листы.
Если далее принять во внимание, что Сусанна стояла как по взглядам, так и по образованию гораздо выше матери, то мог ли Шекспир рассчитывать в это время на сочувствие со стороны своей уже довольно престарелой жены? Она интересовалась, по всей вероятности, больше проповедями, чем театральными пьесами. Она раскрывала перед странствующими пуританскими священниками не только двери своего дома, но также свое сердце. У нас существуют на то достоверные свидетельства.
В 1614 г. Шекспир провел часть зимы в Лондоне. Дошедшие до нас письма его двоюродного брата, городского клерка Томаса Грина, доказывают, что поэт находился в Лондоне 16 ноября и 23 декабря, а следовательно, по всей вероятности, весь этот промежуток времени вплоть до рождества. Это зимнее пребывание Шекспира в столице имеет для нас двоякий интерес. Мы узнаем, с одной стороны, какие услуги он оказал своим согражданам (как опытный делец он был ревностным защитником их интересов перед лендлордами). Мы видим, с другой стороны, как воспользовалась его семья этим отсутствием своей главы. Из городского бюджета явствует, что она приютила в это время бродячего миссионера-пуританина. По старому обычаю, заведенному в городе, магистрат послал ему кварту хереса и такое же количество красного вина.
Это очень характерный случай.
Семья Шекспира гостеприимно принимает в то самое время, когда он совершает деловую поездку, в его доме представителя того религиозного направления, которое он сам справедливо считал своим личным врагом. По всей вероятности, семья Шекспира не видала на сцене ни одной из его пьес. Едва ли она читала их в существовавших тогда воровских изданиях.
Когда автор этой книги посетил в октябре 1895 г. дом Анны Гесве в Шоттери, сохранившийся в том же виде, хотя крыша опустилась и покоробилась, он там встретил древнюю старушку, последнюю представительницу фамилии Гесве. Она сидела на стуле у очага против «the courtship bench», той скамьи, где, по преданию, обыкновенно сидели влюбленные. Перед ней лежала раскрытая фамильная Библия. Она указала с гордостью на длинный ряд имен отдельных представителей семейства Гесве, занесенных сюда в продолжение многих столетий. Эта библия являлась, таким образом, чем-то вроде родословной. Вся комната была наполнена разнообразными портретами Вильяма Шекспира, Анны Гесве, знаменитых актеров, изображавших героев пьес, поклонников великого поэта, а также всевозможными предметами, напоминавшими о нем, равно как фотографическими снимками с разных вещей, оставшихся будто бы после него.
Старуха, жившая в этом мире в большинстве случаев малоценных сокровищ, доставлявших ей необходимое пропитание, объясняла значение каждого отдельного предмета. Однако на осторожный вопрос, читала ли она сама хоть что-нибудь о Шекспире, в воспоминаниях о котором она постоянно жила, она ответила немного удивленно «Читала ли я что-нибудь о нем? О нет! Я читаю только Библию!»
Если же эта последняя представительница фамилии Гесве ровно ничего не читала о В. Шекспире, то едва ли можно сомневаться, что Анна Гесве, которая была еще менее образованна, которой современный культ Шекспира совсем не коснулся, также ничего не читала о нем. Если, таким образом, собственная семья Шекспира не была способна оценить поэта, то опять нет ничего удивительного, что высокомерные стрэтфордские буржуа не желали его признавать, несмотря на его богатство и всеми признанную любезность, полноправным гражданином.
Хотя Шекспир был самый богатый человек в городе, он не исполнял ни одной коммунальной должности за время своего пребывания в Стрэтфорде.
Немного было людей в этом небольшом городке, с которыми он мог бы сойтись. Чаще всего упоминается из его стрэфордских знакомых казначей графа Амвросия Уоррика, Джон Комб. Он пользовался довольно плохой репутацией в качестве сборщика податей. Он считался ростовщиком. По-видимому, молва о нем была хуже его самого. Судя по его завещанию, он был филантроп. Иначе знакомство с ним было бы недостойно Шекспира. Предание гласит, что оба видались часто не только у себя на дому, но проводили также вечера вместе в трактире против «Ньюплейса» Эта гостиница получила затем название «Сокол» и существует до сих пор. Вот здесь сидел за громадным столом, за стаканом вина гениальный человек, занесенный житейскими волнами в захолустную деревушку, и играл в кости с деревенским игроком весьма сомнительной репутации Предание рассказывает дальше, что Шекспир доставлял себе скромное развлечение, слагая для своих знакомых сатирические эпитафии. Так написал он, между прочим, саркастическое надгробное стихотворение, в котором воспел Джона Комба как ростовщика-эксплуататора. Эта эпитафия цитируется часто в различных версиях. Однако достоверно известно, что она была уже в 1608 г. напечатана вместе со всеми вариантами и приписана Шекспиру.
Джон Комб, скончавшийся в 1614 г., отказал в своем завещании Шекспиру 5 фунтов. Это был самый выдающийся из его стратфордских знакомых. Мы можем, таким образом, получить некоторое представление о других.
Шекспир проводил большую часть времени, вероятно, в общении с природой.
Самые мудрые и глубокомысленные слова в повести Вольтера «Кандид» — те, которыми она заканчивается: «II faut cultiver son jardin». В конце этого рассказа Кандид и его друзья встречают турецкого философа, который относится совершенно равнодушно к тому, что происходит в Константинополе, хозяйничает на своем огороде и появляется в городе только тогда, когда продает плоды своего сада. Миросозерцание этого турецкого философа производит глубокое впечатление на героя Вольтеровой повести, испытавшего все превратности судьбы. На последующих страницах книги постоянно повторяются эти слова «Je sais, qu’il faut cultiver notre jardin» — «Вы правы, — замечает одно из действующих лиц. — Будем работать, не размышляя. Это единственное средство выносить бремя жизни». И когда Панглос повторяет в последний раз свое рассуждение о том, как все в этом лучшем из всех возможных миров чудесно устроено и предусмотрено, то Кандид заключает повесть словами: «Совершенно справедливо. Но необходимо возделывать свой огород». Вот эта мысль звучала отныне скорбной и жалостной мелодией в душе Шекспира.
Оба сада, принадлежавшие поэту, простирались от «Ньюплейса» до реки Эвон. Единственный недостаток большого сада заключался в том, что он соединялся с главным поместьем лишь узкой полосой. Их разъединяли два маленьких имения, лежавших близ Chapel Lane. Между тем как меньший сад предназначался, вероятно, исключительно для цветников, больший называется обыкновенно фруктовым: он служил для разведения прибыльных фруктовых сортов. Уоррикшир славился своими яблоками. Теперь сам Шекспир мог заняться тем искусством, которому Поликсен обучал Пердиту в недавно написанной пьесе «Зимняя сказка», т. е. искусству улучшать при помощи прививки фруктовые деревья. Теперь он мог на манер садовника в давно созданной драме о Ричарде II приказать своему помощнику подвязать абрикосовые деревья и подпереть ветки, сгибавшиеся под тяжестью плодов. Он посадил собственноручно знаменитое шелковичное дерево, которое стояло в этом саду до 1756 г., когда тогдашний владелец «Ньюплейса», некий пастор Френсис Хестрел, возмущенный громадным наплывом путешественников, желавших посмотреть на это дерево, приказал его срубить. Из него были сделаны часть мебели, множество ящиков, шкатулок и разнообразных мелких вещиц, как это известно каждому посетителю Стрэтфорда. В 1744 г. актер Гаррик, вновь ожививший интерес к Шекспиру, сидел под сенью этого дерева. Когда он в 1769 г. был избран в почетные граждане города Стрэтфорда, ему поднесли диплом в футляре, сделанном из этого шелковичного дерева. А когда он в этом же самом году, в день юбилея Шекспира, спел песенку под заглавием «Shakspeares Mulberry-Tree», он в руке держал бокал, сделанный из того же самого дерева.
Именно при жизни Шекспира были сделаны первые серьезные попытки ввести в Стрэтфорде шелководство, и это обстоятельство находилось, быть может, в связи с предпринятым им самим разведением шелковичных деревьев.
Теперь «Ньюплейс» не похож даже на развалину. Осталось только место, где некогда стоял дом. Сохранился только колодец во дворе, весь увитый плющом; над ним свешиваются гирлянды из того же плюща. Фундамент внешней стены, покрытый землей и дерном, является как бы валом, обращенным к улице. Но сады уцелели. Больший из них так же красив и просторен, как во времена Шекспира. Если вы прогуляетесь в осенний день под тенью этих высоких деревьев, которые начинают лишь осенью поздно желтеть, то вы почувствуете, как над садом царит какое-то особенное настроение. Это одно из тех мест, от которых трудно оторваться. И вы невольно представляете себе серьезную, стройную фигуру Шекспира, в темно-красном костюме с большим белым воротником, в черном плаще без рукавов. Вы видите, как он здесь совершает свою прогулку, как он подвязывает ветки или обрезает слишком роскошно распустившиеся побеги. Он делает это той же самой рукой, которая написала столько непонятых и неоцененных, столько гениальных произведений. На его пальце сверкает в лучах солнца тот же самый массивный, простой золотой перстень с инициалами W. S., который сохранился до наших дней.
Многочисленные портреты Шекспира, а также найденная в Германии маска, снятая будто бы с покойника, являются несомненно подложными. Только плохая гравюра Droeshout’a, украшающая первое издание in-folio, и портрет поэта, довольно плохо отделанный на основании упомянутой маски красками голландцем Гергартом Ионсоном и хранящийся на хорах храма Св. Троицы, могут считаться подлинными. Однако следует прибавить, что восемь лет тому назад в Стрэтфорде нашли картину, которую принято считать оригиналом для гравюры Droeshout’a; но в ту минуту, когда пишется эта книга, подлинность этой картины еще не доказана. Это единственный удачный портрет Шекспира, объясняющий гравюру Droeshout’a и позволяющий нам понять популярность этой последней.
Эта голова со здоровыми красными, пухлыми губами, тонкими темными усами, высоким красивым лбом, обрамленным прекрасными рыжеватыми волосами, эта голова невольно привлекает вас. В ней столько выразительности. Именно таким должен был быть Шекспир.
Если же окажется, что и этот портрет просто подлог, совершенный на основании работы Droeshout’a, он тем не менее не лишен художественной и психологической ценности, не в пример остальным портретам Шекспира, нам известным. Здесь поэт является именно таким, каким мы себе его представляем в этот период его жизни, когда он разговаривает с обывателями Стрэтфорда или возделывает свой огород.
9 июля 1614 г. небольшой городок, в котором теперь жил Шекспир, был потрясен большим несчастьем. Страшный пожар истребил не менее 54 домов с амбарами и конюшнями. Бедные жители покрывали, вопреки запрещению, свои дома соломенными крышами, и огонь находил поэтому обильную пищу. Вероятно, Шекспир, дом которого уцелел, сделал как человек состоятельный все, чтобы только помочь общему горю.
В марте 1612 г. Шекспир купил в компании с виноторговцем В. Джонсоном, неким Джексоном и своим другом, известным актером Дж. Геминджем, впоследствии одним из издателей его драм, дом в Лондоне. Над одной из прикрепленных к акту продажи печатью (документ этот хранится в Британском музее) виднеется собственноручная подпись Шекспира, хотя имя его написано в самой бумаге по другому правописанию. Для заключения этого договора ему пришлось, вероятно, несколько раз съездить в Лондон. Однако не следует думать, что покупка этого дома была причиной того, что Шекспир прожил в 1614 г. несколько времени в Лондоне. Тогда он исполнял поручение своих сограждан. В продолжение нескольких столетий сельское дворянство стремилось освободиться от необходимости совместного с общинами владения пахотной и луговой землей. Дворяне захватывали все, что только могли. Они отгораживали луга и парки, выделяя их таким образом из прежней общинной земли. Вследствие этого сельское сословие беднело, а помещики поднимали произвольно цены на мясо и шерсть. Совершенно естественно, что деревенское население старалось по мере возможности препятствовать подобным захватам. В 1614 г. это движение захватило родной городок Шекспира. Была сделана попытка перевести на частное владение общинные луга Старого Стрэтфорда и Уэлкомба. Что Шекспир был против этих захватов и горячо протестовал, видно из одного его замечания, опубликованного Филипсом. По словам двоюродного брата поэта, Т. Грина, Шекспир заявил ему однажды, что не желает допустить захвата Уэлкомба. Мы видели также, что он 28 октября 1614 г. вступил как от своего имени, так и от имени двоюродного брата в переговоры с неким В. Реплингемом из Грейт-Харбо-ро, ревностным защитником проекта захватов: он обязался возместить им все убытки, могущие произойти для них от осуществления этого проекта. Кроме того, к Шекспиру обратились с просьбой заступиться за интересы стрэтфордского населения.
Городской совет послал Томаса Грина в Лондон с поручением: просить Шекспира похлопотать за стрэтфордских жителей, находившихся после пожара и без того в стесненных обстоятельствах. Шекспиру удалось оправдать возложенные на него надежды. Из одного письма, отправленного 17 ноября 1614. Т. Грином на имя городского совета, видно, что Шекспир получил утешительные известия. Как он, так и зять его, доктор Холл, выразили в конце концов убеждение, что опасный план вовсе не осуществится. Они не ошиблись. Правительство, которому стрэтфордские горожане подали свое прошение, положило в 1618 г. конец политике захватов и издало указ уничтожить все подготовительные работы.
1615 год прошел для Шекспира, по-видимому, без особенных событий, в деревенской тишине и глуши, о которых он так искренне мечтал.
Он чувствовал себя в январе 1615 г., по всей вероятности, плохо, потому что в завещании, написанном 25 марта, раньше значился январь. По-видимому, он затем поправился и оставил на время мысль о завещании. 20 февраля 1616 г. произошло последнее важное событие в жизни Шекспира. Он праздновал в этот день свадьбу своей младшей дочери Юдифи. Она была уже не первой молодости, ей шел 31-й год. Она не делала блестящей партии. Жених ее был хозяин винного погребка, Томас Куини, сын вышеупомянутого Ричарда Куини, который 18 лет тому назад просил «своего дорогого земляка В. Шекспира одолжить ему 30 фунтов». Т. Куини был на 4 года моложе невесты, так что совет герцога в «Двенадцатой ночи» (пусть девушка выбирает мужа, который старше ее) не был исполнен при свадьбе дочери, как он не был исполнен при бракосочетании отца. Трудно предположить, чтобы виноторговец в таком небольшом городке, как Стрэтфорд, был богачом. Он едва ли обладал таким образованием, чтобы доставить Шекспиру удовольствие своим обществом.
Последняя свадьба, на которой присутствовал поэт, была сказочная, царственная свадьба Фердинанда и Миранды. Разница между этой свадьбой и свадьбой его дочери с виноторговцем была в достаточной степени ощутительна. То была проза после поэзии!
Было высказано предположение, что Бен Джонсон и Дрейтон приехали ради этого праздника из Лондона в Стрэтфорд. Но ничего достоверного на этот счет нам не известно. Единственным основанием для подобного предположения служит заметка стрэтфордского пастора, Дж. Уорда, записанная им 50 лет спустя: «Произошло веселое свидание между Шекспиром, Дрейтоном и Беном Джонсоном. Они выпили при этом слишком много, вследствие чего Шекспир заболел лихорадкой и умер».
Пастор не говорит, что упомянутое свидание произошло по поводу свадьбы, но это возможно. Дрейтон был родом из Уоррикшира и имел близ Стрэтфорда интимных друзей. Бен Джонсон получил приглашение, может быть, в благодарность за то, что он раньше просил Шекспира крестить одного из его детей. Эльце высказывает очень вероятное предположение, что зять угощал гостей вином, и что серебряная с позолотой чаша, завещанная поэтом Юдифи, играла весьма видную роль во время этого торжества. Как наивен, однако, пастор, приводя болезнь Шекспира, которую он называет лихорадкой, в связь с предшествовавшей попойкой!
В Стрэтфорде еще в середине XVIII в. существовало предание, что Шекспир любил выпить. Многочисленные изображения дикой яблони сохранили легенду о том, как он однажды в молодости пропутешествовал в Бедфорд на том основании, что там нетрудно было отыскать хороших собутыльников. Он выпил так изрядно, что должен был на обратном пути прилечь и выспаться под дикой яблоней. Вот этот рассказ и послужил, вероятно, основанием для той истории, которую пришлось потом услышать пастору Уорду. Достоверен лишь тот факт, что Шекспир вскоре после свадьбы захворал. Он заболел, по-видимому, тифозной лихорадкой. Стрэтфорд расположен на сырой равнине. Он служил тогда настоящим рассадником тифа. На улицах грязь лежала кучами. Филипс опубликовал ряд предостережений стрэтфордской администрации и ряд приговоров к штрафу за грязное содержание улицы. Те же меры принимались еще в середине XVIII в. Если существует пробел в этих постановлениях как раз относительно интересующего нас времени, то только потому, что документы, касающиеся 1605–1646 года, исчезли. Но еще в 1668 г., в дни шекспировского юбилея, актер Гаррик, встреченный в Стрэтфорде с такими почестями, называл этот город «самым грязным, невзрачным и неприглядным заштатным городком во всей Великобритании». Улица Chapel Lane, на которой стоял дом Шекспира, была к тому же одной из самых нездоровых во всем городе. Там почти не было домов, стояли только амбары и конюшни. Посередине улицы в открытой канаве текла мутная, грязная вода. Неудивительно, что в Стрэтфорде вечно свирепствовали всевозможные инфекционные болезни. В то время о гигиене не существовало никакого представления. Против тифа не было никаких средств. По крайней мере, зять Шекспира, лечивший, по всей вероятности, больного, не знал никакого средства. Это видно из его бюллетеней. 25 марта Шекспир составил свое завещание. Этот документ сохранился. Он приложен в виде факсимиле к XXIV тому сборника статей, изданных немецким шекспировским обществом. Что Шекспир чувствовал себя плохо, видно из того, что он диктовал завещание, и что три подписи, сделанные им на документе, написаны дрожащей рукой. Пространное завещание назначало Сусанну главной наследницей, отказывало дочери Юдифи 150 фунтов и по прошествии трех лет еще 150 фунтов, с соблюдением некоторых условий. Таковы главные пункты. Затем Шекспир не забыл также своей сестры. Он завещал ей 20 фунтов и все платья, а каждому из ее сыновей по пяти фунтов. Имена этих сыновей тут же перечисляются, хотя Шекспир никак не мог вспомнить имени второго. Все серебро он назначал своей внучке Елизавете Холл, 10 фунтов — бедным родного города. Нескольким добрым стрэтфордским гражданам, среди них тем, которые свидетельствовали завещание, а среди этих последних тому Гамлету Садлеру, именем которого он некогда окрестил своего сына, Шекспир завещал каждому 26 шиллингов и 8 пенсов. На эти деньги они должны были купить перстень на память о покойнике. Такую же сумму завещал Шекспир, в строчке, вписанной им впоследствии в текст завещания, трем актерам той труппы, к которой он сам некогда принадлежал. Он называет Джона Геминджа, Ричарда Бербеджа и Генри Конделла своими товарищами. Как известно, потомство обязано первому и последнему древнейшим изданием in-folio. Оно содержит 19 пьес, которые иначе исчезли бы бесследно. Последующие пункты завещания имеют для нас особенный психологический интерес. Здесь, во-первых, поражает тот факт, что Шекспир, диктуя свою последнюю волю, совершенно, по-видимому, забыл о своей жене. Только когда ему прочитали завещание, он вспомнил, что следовало бы упомянуть также ее имя. Он вставил поэтому в конце завещания следующие слова: «Моей супруге я завещаю ту кровать, которая окажется по достоинству второй, а также все белье». Ничтожество этого подарка становится особенно поразительным, если вспомнить, как богато наделил свою жену тесть Шекспира. Очень поучительно и характерно для того времени то обстоятельство, что в завещании не упоминается семья миссис Шекспир. Имя Гесве в нем ни разу не встречается, хотя оно попадается довольно часто в завещаниях, составленных потомками поэта, например, в завещании Т. Наша, женившегося на дочери Сусанны, Елизавете, а также в завещании этой последней, по второму мужу — леди Барнард. Отношения Шекспира к семейству жены были, следовательно, натянутые. Затем завещание поражает тем, что Шекспир ничего не говорит в нем о своей прежней сценической деятельности и ни словом не упоминает о своих трудах, о своих бумагах, о своих книгах. Это равнодушное отношение к своей поэтической славе гармонирует как нельзя лучше с тем презрением к мнению потомства, которое мы в нем подметили. Наконец, характерен тот факт, что нет ни одного писателя или поэта среди тех лиц, которым он завещал деньги на покупку перстня на память о нем. Шекспир не считал себя, по-видимому, в долгу у своих коллег-литераторов и не питал к ним чувства благодарности. И это молчание согласуется превосходно с тем презрением, которым он осыпал поэтов, когда выводил их в своих пьесах. Конечно, Шекспир был не прочь выпить со своим старым завистником и другом Беном Джонсоном, но он не питал никакой нежности ни к нему, ни к кому бы то ни было из других современных драматургов или лириков. Он жил с ними, как выражается Байрон о Чайльд-Гарольде, но не был из их числа. Шекспир проболел еще 4 недели и скончался 23 апреля. Накануне ему исполнилось (кажется) 52 года. Он умер в том же возрасте, как Мольер и Наполеон. Он успел за это время выполнить свою жизненную задачу. Его жизнь началась, как шумный бурный поток, и закончилась тихой сменой дней, однообразной, как падение дождевых капель. Еще раньше 1623 г. родственники воздвигли ему памятник в стрэтфордской церкви. Под бюстом красуется надпись, составленная, вероятно, доктором Холлом. В первых двух стихах на латинском языке, построенных довольно плохо, Шекспир сравнивается с Нестором по уму, с Сократом — по гению, с Вергилием — по художественному таланту[32]. Нетрудно было бы придумать более меткую надпись.
Заключение
Самая продолжительная человеческая жизнь все же так кратковременна и быстротечна, что кажется чудом, если ее следы переживают столетия. Миллионы людей живут, умирают и обречены на забвение. Дела их исчезают вместе с ними. Немногим тысячам удается победить настолько смерть, что их имена сохраняются, отягчая память школьников, но эти имена сами по себе ничего не говорят потомству. Остаются лишь немногие избранные, немногие истинно великие гении. Шекспир занимает среди них определенное место. Он стоит рядом с Леонардо да Винчи и Микеланджело. Не успели еще опустить его в могилу, как он немедленно воскрес. Нет на земном шаре имени, бессмертие коего было бы так же бесспорно.
В наш век один английский поэт написал:
«Быстро несущиеся годы пронеслись над ним, всеуничтожающее время сделало свое дело, поклонники эвонского гроба сами сошли в юдоль праха, но Шекспир до сих пор остается без соперников, никто из смертных не мог подойти к этому гиганту Парнаса и монарху человечества».
Эпитет «монарх человечества» не гипербола. Шекспир, конечно, не единственный царь в духовном мире, но могущество его не ограничено ни временем, ни пространством. В тот момент, когда кончается жизненная история Шекспира, начинается его посмертная история. Она шире и сложнее. Она захватывает сначала Англию, потом Северную Америку, потом народы, говорящие по-немецки, далее всю германскую расу, Скандинавию, Финляндию, славянские нации, затем Францию, Италию и Испанию, и наконец, в XIX ст. — весь земной шар, доколе простирается цивилизация. Произведения Шекспира переведены на все языки. Хвала его славе раздается на всех языках. Драмы его влияли не только на читателей, но также на мыслителей, писателей, поэтов. Никто не возбудил в эпоху от Ренессанса до наших дней в литературной жизни самых разнообразных народов столько переворотов, столько новых движений. Шекспир был отцом умственных революций, которые вспыхивали во имя его смелости, грубости и не иссякающей молодости и затихали во имя его же трезвости, умеренности и не иссякающей мудрости. Было бы легче перечислить тех людей, которые его не знали и ничем ему не были обязаны, чем назвать тех, которые едва ли сами в состоянии сказать, насколько они его должники. Вся богатая духовная жизнь Англии носит с той поры печать его гения. Ее творческие умы питались жизненным соком его произведений. Лессинг основал на нем умственную жизнь Германии. В развитии Гёте и Шиллера без Шекспира — пробел! Во Франции он оказал влияние уже на Вольтера. В. Гюго и А. де Виньи, Л. Вите и А. де Мюссе вдохновлялись им с самого начала. Не только польская, но и русская драма развивалась под его влиянием. Под впечатлением его бессмертных фигур сложилась сокровеннейшая внутренняя жизнь славянских романистов-мечтателей. Когда поэзия возродилась на дальнем севере, Шекспира изучают Эвальд и Эленшлегер, Бредаль и Гаук. Он влияет впоследствии на Бьернсона и Ибсена.
В задачу нашего сочинения не входит задача изобразить триумфальное шествие Шекспира по земному шару или осветить легенду о его мировом владычестве.
Иную цель преследовала эта книга.
Она хотела показать, что «Шекспир» не есть только собрание 36 пьес и нескольких стихотворений, которые можно поглощать друг за другом без всякого порядка. Она хотела уяснить, что Шекспир был человек, который чувствовал и думал, радовался и страдал, размышлял, мечтал и творил. Слишком долго утверждали: «Мы ничего не знаем о Шекспире» или «То, что мы знаем о нем, можно изложить на одной страничке in-octavo». Слишком часто повторяли: «Шекспир царит, как безличный дух, над своими произведениями». Даже Суинберн заметил, что произведения его не раскрывают нам его характера. Наконец, дело дошло до того, что шайка плохих дилетантов в Америке и Европе дерзнула отрицать авторство Шекспира и доказывала, что не он создал произведения, составляющие его жизненный труд. Она приписала эту честь другому. Она загрязнила его неуязвимое имя безумными издевательствами, которыми огласились все страны. Вот в противоположность этому взгляду о безличности Шекспира, в гневе на эту атаку, которую невежество и высокомерие направили против одного из величайших благодетелей человечества, возник этот опыт. Автор держится того мнения, что если у нас есть около 40 художественных произведений, созданных этим человеком, то наша вина, если мы о нем ничего не знаем. В этих произведениях поэт увековечил свою личность. Необходимо научиться их читать. Тогда мы в них откроем его самого.
Тот В. Шекспир, который родился в царствование Елизаветы в Стрэтфорде-на-Эвоне, который жил и творил в Лондоне в эпоху Елизаветы и Иакова, который в своих комедиях вознесся к небесам, в своих трагедиях снизошел в ад и умер 52 лет в родном городке, — он воскреснет при чтении его произведений в полном величии, в ярких и твердых очертаниях, со свежестью действительной жизни, он воскреснет перед глазами каждого, кто прочтет эти произведения с чутким сердцем, здравым умом и с непосредственным пониманием всего гениального.
Примечания
1
Сердца у мужчин мраморные; у женщин — восковые, принимающие тот или другой образ, смотря по тому, что из этого воска заблагорассудит вылепить воля мрамора. Подчинить эти слабые и притесняемые существа можно при помощи силы, обмана и ловкости. Не считайте их виновницами своих прегрешений; не считайте негодным тот воск, из которого вылеплен образ дьявола. — Перевод Каншина.
(обратно)2
Цитаты из этой пьесы приводятся по переводу Сатина.
(обратно)3
См. у Лилли диалог между людьми и эльфами:
Основа. Позвольте узнать ваше имя?
Первый эльф. Мое имя — грош.
Основа. Мне жаль, что я вас не моту положить в свой кошелек. Позвольте, сударь, узнать ваше имя?
Второй эльф. Мое имя — сверчок.
Основа. Тогда я желал бы в угоду вам быть кроликом.
(обратно)4
Цитаты будут приводимы по переводу Грекова.
(обратно)5
Намек на то, что на крыше театра «Глобус» стояла статуя Геркулеса, державшая на своих плечах земной шар (Globus).
(обратно)6
Хроники приводятся в переводе Н. Кетчера.
(обратно)7
1 am determined to prove a villain // And hate the idle pleasures of these days. (Я решился быть злодеем и возненавидел суетные удовольствия нашего времени).
(обратно)8
Все цитаты из «Короля Иоанна» приведены по переводу Кетчера.
(обратно)9
Все цитаты приводятся по переводу Вейнберга.
(обратно)10
Twelfth Night (Двенадцатая ночь) — английское название праздника Крещения.
(обратно)11
Обе эти пословицы, и испанская, и французская, употребляются в смысле: способствовать любовной интриге.
(обратно)12
Прозаические переводы сонетов принадлежат Каншину.
(обратно)13
Его ли стих, прекрасный и могучий, Возвышенный мечтой награду получить, Сковал в мозгу моем паренье мысли жгучей, Где прежде рок сулил родиться ей и жить? (обратно)14
Все отрывки из «Гамлета» будут приводиться по переводу Кронеберга.
(обратно)15
Раймонд Луллий — философ XIII века.
(обратно)16
Перевод Вейнберга.
(обратно)17
Цитаты приводятся в переводе Кронеберга.
(обратно)18
Прекрасное — безобразно, а безобразное — прекрасно.
(обратно)19
Если она черна, но умна, она найдет белого, который оценит ее черноту.
(обратно)20
Если я не критикую, то я — ничто.
(обратно)21
Перевод Дружинина.
(обратно)22
Отрывки приводятся по переводу Кетчера.
(обратно)23
Он слишком женщина, а она слишком мужчина.
(обратно)24
Мы понимаем ярость его слов, но не сами слова.
(обратно)25
Все цитаты из «Кориолана» приводятся по переводу Дружинина.
(обратно)26
Бедный вершок природы! Никогда княжеское дитя не было так грубо встречено в этом мире; огонь, воздух, земля и вода приветствовали твое рождение.
(обратно)27
Пусть горячи огни, остры ножи и глубоки воды, я все-таки сохраню неразвязанным мой девственный узел.
(обратно)28
Но сквозь эти слезы, которые я проливаю, расставаясь с вами, я вижу целый мир предателей, окружающих вас, и ее, меня.
(обратно)29
Ничто не может так оценить дорогую любовь, как ее потеря.
(обратно)30
Т. е. сделаны из такого же вещества.
(обратно)31
Впрочем, тогда существовало много способов правописания его имени. Известно, что тогда правописание имен отличалось вообще произвольностью. Так, например, в бумаге, разрешавшей Шекспиру вступить в брак, имя его было написано так Shagspere.
(обратно)32
Iudicio Pylium, gemo Socratem, arte Maronem // Terra tegit; populus moeret; Olympus habet.
(обратно)
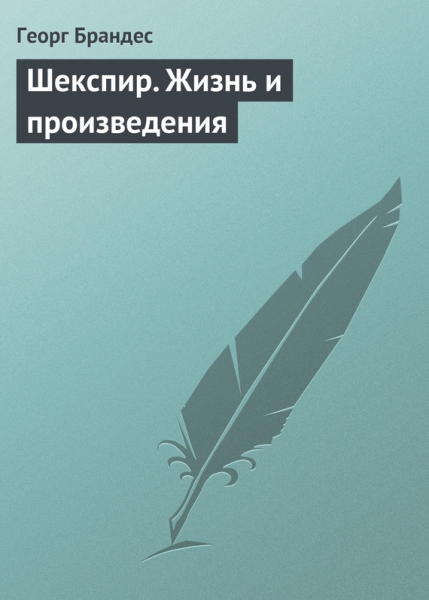

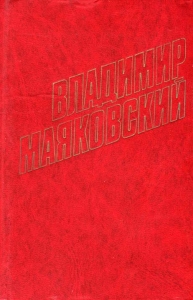

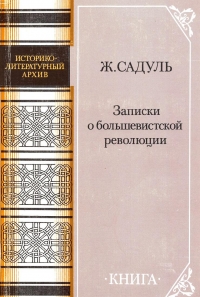

Комментарии к книге «Шекспир. Жизнь и произведения», Георг Брандес
Всего 0 комментариев