Островер Леон Исаакович ИППОЛИТ МЫШКИН
1
Всполошенно позванивая поддужными колокольцами, неслась по тракту фельдъегерская тройка. Рослый унтер-офицер в высоком кивере стоял в санях неподвижно и строго, словно в дворцовом карауле, и лишь порой тыкал кулаком в спину ямщика. За санями, отливая жемчужной рябью, тянулся снежный шлейф.
Было солнечное утро 19 февраля 1855 года. На полях, на крышах придорожных изб — всюду весело играл пушистый снег: то развернется голубым ковром, то заискрится алмазной россыпью, то вдруг блеснет розовым озерцом. Но рослого унтер-офицера ничто не трогало: он смотрел только вперед, туда, где на взгорье уже золотились луковки псковского Троицкого собора.
Не сбавляя скорости, фельдъегерская тройка ворвалась в город. Промелькнула полуразрушенная звонница Богоявленья, исчезли за поворотом угрюмые, с маленькими оконцами Поганкины палаты, блеснул острый шпиль Успенья в Бутырках — и вот он, дворец губернатора.
Псковитяне, которых в тот час было много на улице, сначала удивились, потом ужаснулись: на левом рукаве фельдъегеря они увидели широкий траурный бант!
Заторопились пешеходы, будто ясное зимнее небо должно разразиться внезапным ливнем, купцы бросились закрывать лабазы, матери сзывали детей, игравших на воле, захлопали ставни в домах, даже будочник, тащивший пьяного, кинул свою ношу и беглым шагом пустился в казарму — как полагалось по уставу в случае боевой тревоги.
Фельдъегерская тройка подкатила к губернаторскому дворцу. Унтер-офицер, не сходя с саней, крикнул в сторону широкого подъезда:
— Гофкульер!
Из дворца выбежал солдат. «Гофкульер» рывком подал ему большой плотный пакет и, толкнув кулаком ямщика в спину, укатил.
Опять скрип полозьев, жемчужный шлейф; тройка подскакала к штабу гарнизона, оттуда к обители архиерея — опять истошный возглас: «Гофкульер!», опять сдача пакета с черными сургучными печатями — и тройка вынеслась из города.
В Пскове нарастала тревога. Улицы обезлюдели. В окнах встревоженные лица: «Кто умер? Что несет эта смерть?»
Вдруг снова ожили улицы: скачут офицеры с вестовыми, несутся саночки с чиновниками, едут в неуклюжих рыдванах, поставленных на полозья, дородные попы.
В школе кантонистов гудит, как в улье ранней весной. Воспитатели и «дядьки» собрались в полутемном коридоре и ждут выхода своего начальника. Больше часа как он вернулся из штаба гарнизона. Лицо его мрачно и торжественно. На вопрос одного из воспитателей: «Какую весть привез фельдъегерь?» — начальник ничего не ответил, строго взглянул на спросившего и молча прошел в свою квартиру, а деревянная нога его выстукивала: «ох… ох…»
Шестьсот учеников в школе, и все солдатского корня: от отцов, поседевших в походах и израненных в боях, от отцов, пытаных и сеченых, от отцов, рожденных в рабстве и умирающих «смертью героя на поле чести», от отцов, что оставляют своим детям в наследство нищенскую суму и ненависть, великую ненависть к своим мучителям.
Шестьсот учеников — от семи до пятнадцати лет — в рвани, голодные, задерганные солдатской муштрой, но все до краев налитые той удивительной живучестью, которая и в растительном царстве дает молодому деревцу силу выстоять при урагане, — эти ученики вдруг почувствовали себя детьми, не презренными кантонистами, а обыкновенными детьми. Они не знали, что произошло за стенами школы, это их не интересовало, но обостренным чутьем мучеников уловили они растерянность своих мучителей, и это их радовало.
Шестьсот учеников, загнанные с утра в классы — без воспитателей и без дядек, — кричат, поют, прыгают, лают, кукарекают, стараясь как можно полнее насладиться свободой, ибо в каждом детском сердце живет уверенность: «Ненадолго эта свобода!»
Вдруг послышался резкий окрик:
— Все во двор!
Окрик шел издали, с нижнего коридора. Шестьсот учеников мгновенно замерли: они узнали голос «живодера» — воспитателя Бутякова.
— Во двор выходи!
Бутяков шел по коридору, отдавая команду на ходу, но страх перед ним был так велик, что каждый из шестисот школяров будто через стены класса видел маленькие глазки Бутякова, его багровое лицо с синюшным носом и его длинные руки с костистыми пальцами.
— Строиться поротно!
С опаской, стараясь не шаркать ногами, выходили кантонисты из классов. Они подвигались вперед цепочкой, в затылок друг другу, прижимаясь к стене.
Во дворе — все начальство. И школяры сразу заметили, что произошло что-то необычное. У офицеров на левом рукаве черная повязка, а у дядек черная ленточка на левом погоне. Начальник — в белых лосинах, это значит, что начальник прицепил «парадную ногу», которая надевается вместе с лосинами и ботфортами. Школяры заметили, что и лица у начальства сегодня необычные, растерянные.
— Поротно!
Кантонисты построились в виде буквы «Г». Солнце, снег, бодрая свежесть.
Офицеры и дядьки остались стоять на месте. Выступил вперед один начальник.
— Воспитанники, — начал он тихим и мягким голосом, — его величество всемилостивейший наш государь император Николай Павлович соблаговолил переселиться в елисейские поля…
Школьники не поняли, куда «соблаговолил переселиться» всемилостивейший император Николай Павлович, но по растроганному голосу своего начальника они догадывались, что «елисейские поля»— место хорошее, и, чтобы высказать свою радость по поводу царского «переселения», все четыре роты, точно сговорившись, одновременно гаркнули:
— Ура!
Офицеры и дядьки бросились вперед, но их остановила взметнувшаяся вверх рука начальника.
— Поручик Бутяков! — позвал он лающим голосом. — Высечь! Всех! — И легко, словно на шарнирах, повернулся и строевым шагом ушел со двора. Он шел так четко, будто обе его ноги были живые.
«Кобыла», на которой секли кантонистов, стояла тут же во дворе. Дядьки сами, без команды, принесли большую бадью с розгами.
— Первая рота, подходи! Федулов! Отсчитывай по десять горяченьких! Правофланговый первой роты, вперед!
Правофланговым в первой роте был Григорий Мышкин. Долговязый, худой. Он принялся суматошливо расстегивать ремень.
— Живей! — поторапливал его Бутяков. — Правофланговому честь: я сам тебя высеку!
Наконец-то упали штаны. Григорий Мышкин лег на «кобылу»…
В четвертой роте в первом ряду стоял семилетний мальчуган — худенький, смуглый, с горящими глазами. Он переминался с ноги на ногу. Когда поручик Бутяков медленно и с издевкой отсчитывал «шесть… семь…» и на коже Григория Мышкина прорезалась после каждого удара новая кровяная полоса, смуглый мальчуган вырвался из строя, подбежал к «кобыле» и, уставясь на поручика, прокричал:
— Не бей с оттяжкой! Не приказано с оттяжкой!
— Ах ты, клоп, — рассмеялся Бутяков, — в приказах уже разбираешься. Восемь!
— Не имеешь права с оттяжкой! — со злым упорством выкрикивал мальчуган.
— Девять!.. Десять! — спокойно закончил свое дело поручик. — Слезай, правофланговый. А теперь, Федулов, клади этого щенка. Выпорю его не в очередь.
Мальчуган не давался, бился в руках Федулова, кусался, но здоровенный дядька легко его осилил и уложил на «кобылу».
Поручик Бутяков «выпорол не в очередь» семилетнего Ипполита Мышкина, брата правофлангового первой роты Григория Мышкина, выпорол жестоко, с оттяжкой, приговаривая:
— Вот твое право, щенок! Вот твое право, щенок!
2
Только принцессы чувствуют неудобство, если под их мягкие тюфяки попадает горошина. Кантонисты не так привередливы: даже после порки они неплохо себя чувствовали и на жестких нарах. Не только неплохо, но даже отлично: им объявили, что три дня не будет занятий и что желающих отпустят «на побывку».
В классах забурлило: по воздуху летели сапоги, гимнастерки, пояса; дядьки метались меж нар, стараясь оплеухами и тычками водворить порядок.
Желающих «на побывку» нашлось много, в классах остались только круглые сироты и иногородние.
Среди желающих были и братья Мышкины: у них был дом, была мать, был и отчим. Дом плохонький, в одну комнату, отчим — фельдшер, унтер-офицер— душевный человек, правда с «выходами», но не частыми, не чаще одного раза в полугодье, и длились эти «выходы» не дольше трех-четырех дней, зато в эти дни отчим пропивал с себя все, вплоть до рубахи, а иногда и женину юбку прихватывал.
Фельдшера Карпыча знал весь Псков. Он был похож на царя Николая: такая же «видная фигура», такой же нос с горбинкой, такие же рачьи глаза с упрямым взглядом, такие же усы с подусниками. Карпыч был человеком «умственным» — читал много, дотошно и прочитанным делился с товарищами по службе, со знакомыми, с женой и с пасынками, когда они приходили «в отпуск».
Карпыч, можно сказать, «воспитывался» в княжеском дворце: мальчиком он был на побегушках у своего молодого барина, потом стал его камердинером, затем его денщиком.
Когда же барин вошел в силу и получил в командование целый корпус, он назначил Карпыча фельдшером, сначала ветеринарным, потом медицинским. От «княжеского воспитания» остались у Карпыча барские замашки: дома он носил шлафрок, правда перешитый из старой шинели, но со шнурами и красными накладными карманами; в пьяном виде был он изысканно вежлив и неназойливо болтлив, а свою речь он уснащал французскими словечками: «A quoi bon?» (к чему?), «le pauvre homme» (жалкий человек), «l'or est une chimère» (золото — лишь химера). Обедал Карпыч только на скатерти и с полным прибором, независимо от того, что подавалось к столу. В общем тихий, вежливый человек.
Совсем иной была мать, Авдотья Терентьевна. Статная, ловкая, с длинной белой шеей и высокой грудью. Если невзгоды пощадили бы ее лицо, если пережитые горести не оставили бы на нем сеть морщин, Авдотью Терентьевну можно было бы назвать красавицей. Белые зубы сверкали, в больших карих глазах то ярко, то приглушенно отсвечивала ироническая ухмылка, копна густых волос нависала над чистым лбом. Но нищенская жизнь неумолимо вытравляла красоту Авдотьи Терентьевны. Она шла от трудности к трудности с упорством человека, уверенного в своих силах. После тяжелого крепостного девичества она чуть-чуть передохнула в замужестве — ее Никитич, писарь в 85-м Выборгском полку, был чутким и заботливым мужем. В 1848 году, за месяц до появления на свет Ипполита, умер ее Никитич в далекой Венгрии. Куда деваться женщине с двумя детьми и годовым «пенсионом» в 4 рубля 30 копеек? Авдотья Терентьевна вторично вышла замуж. Легче ей стало? Нет, труднее: не в дом вносил Карпыч, а из дома, пропивал не только свое жалованье, но и женину справу.
Авдотья Терентьевна не жаловалась и не сдавалась, только стала чуть резче на язык, а в сердце, таком бодром в начале жизненного пути, стали все чаще закрадываться тревожные мысли: что будет с мальчиками? Зато сил — и физических и душевных— стало у нее больше. Она стирала чужое белье, убирала чужие квартиры, прислуживала в чужих домах.
Особенно привлекал ее дом ссыльного поляка Дулембы. Он жил тесно, в двух каморках, а народу у него всегда уйма, — самовар не сходил со стола. За чаем хозяин и гости говорили о таких вещах, что у Авдотьи Терентьевны подчас сердце замирало.
Горькую жизнь прожил Дулемба: и в железа его ковали, и двадцать лет таскали по сибирским острогам, и даже в Псковской ссылке жандармы не давали ему покоя. Но поляк остался чист сердцем и крепок духом, как и в день своего семнадцатилетия, когда он ушел из родительского имения, чтобы в Варшаве записаться добровольцем в повстанческий полк.
И он, этот горемычный Дулемба, и его сегодняшние гости были уверены, что ночь ушла, что вместе с царем Николаем положат в гроб и цепи, оплетавшие Россию. Кончится кнутобойство, мужиков отпустят на волю…
Авдотья Терентьевна, возвращаясь домой после хлопотного дня у Дулембы, думала: «Будет ли так, как видится полякам? Будет ли сегодняшний день, первый день нового царствования, началом счастливой жизни для ее сыновей?»
Для себя Авдотья Терентьевна уже ничего не ждала — ей бы только видеть своих детей без рубцов на теле и без слез в глазах…
Рубцы и слезы… Сколько лет прошло, а сердцу все еще больно, словно экзекуция произошла вчера-позавчера. Было это летом 1844 года. 85-й Выборгский полк вышел в поле на учение. Авдотья Терентьевна справилась с работой по дому, накормила Гришеньку и, уложив его спать, собрала грязное белье и направилась к речке. Ей навстречу четыре солдата: медленно шагая, они несли на носилках не то мертвеца, не то больного. Лицо прикрыто шинелью.
Обмерла Авдотья Терентьевна, ноги подкосились: сердце подсказало ей — твоя беда! Она бросилась навстречу солдатам… Те остановились и хмуро посмотрели на Авдотью Терентьевну.
— Мой? Скажите! Мой?
Солдаты поставили носилки на землю, один из них откинул шинель.
На носилках ее муж, Никита. Он обнажен до пояса. Спина влажная, опухшая, с багровыми. полосами.
Никита приподнял голову, взглянул на жену, а из глаз его, затуманенных, словно бельмом прикрытых, лились слезы…
— Не будет больше этого, — молвила Авдотья Терентьевна вслух, отгоняя горькое видение. — Ученые господа не могут ошибаться.
И хотя тревога не совсем улеглась, но на сердце Авдотьи Терентьевны все же стало покойнее.
День клонился к закату. В городе затихли шумы. В окнах то тут, то там зажигались огоньки.
— Не будет больше этого! — повторила Авдотья Терентьевна более уверенно и заспешила к своему дому.
А там — оба ее сына! Карпыч, в шлафроке разгуливая по комнате, говорит что-то, а мальчики, недовольные, видимо, чем-то, смотрят на него насупленными взглядами. Гриша, в шинели с поднятым воротником, сидит у печки, а Ипполит, тоже в шинели, — на кровати, положив голову на перекладинку.
— Мальчики! Вас отпустили? Почему вы не раздеваетесь? Ипполитушка! Скидывай сапоги, я тебе валенцы достану.
— Не нужны мне валенцы!
— Чего вы такие сердитые? — не унималась Авдотья Терентьевна. — День-то какой! Новый-от царь, говорят, добрый, сердешный.
— А ты, Авдотья, откуда это знаешь? — деловито спросил Карпыч.
— Умные люди сказывают.
Григорий вскочил на ноги:
— Умные люди, говоришь? А ты этих умных людей сюда пригласи, и мы с Ипполитом им свои зады покажем. По десять горячих нам сегодня за этого нового и добренького отсчитали!
— И с оттяжкой! — зло подхватил Ипполит.
— Серьезные дела надо обсудить с серьезным-спокойствием, — медленно начал Карпыч, присаживаясь к столу, — особливо если дела касательно лиц царствующей фамилии. Ты, Григорий, еще молод, потому и рассуждаешь несерьезно. Сегодня вас пороли не за нового царя, а за его величество в бозе почившего Николая Павловича.
— А за нового еще пороть будут? — резко спросил Григорий.
— Всенепременно будут, — серьезно ответил Карпыч, — но по какому регламенту, еще неизвестно. У нас в полку сегодня один майор сказывал, что розги упразднят, а вместо розог заведут калмыцкие нагайки.
— Врет твой майор! — сказала запальчиво Авдотья Терентьевна. — Не будет больше кнутобойства! Потерпите, дети! Новый царь-то, Александр, все отменит!
И чтобы показать своим сыновьям, что она уверена в этом, Авдотья Терентьевна принялась проворно, весело, с улыбкой на лице хлопотать по хозяйству. Накрыла стол скатертью, достала из печи чугун со щами, нарезала хлеб большими ломтями — она хотела сытным обедом немного утишить горе своих мальчиков.
Но когда все было готово и Авдотья Терентьевна уже собиралась сказать «Давайте кушать!», увидела: Ипполит лежит на кровати, уткнувшись лицом в подушку, и острые плечи его вздрагивают.
3
Кое в чем оказалась права Авдотья Терентьевна: 26 августа 1856 года, в день коронования нового царя, были упразднены кантонистские школы, они переформировались в военные училища для подготовки фельдшеров, деловодов и топографов.
Григорий ушел из школы, поступил кондуктором в инженерную дистанцию, а Ипполит остался в училище на топографическом отделении.
Кнут, розги, оплеухи, тычки — все это, правда, осталось, но экзекуции уже проводились без «душегубства». Поручик Бутяков ушел из училища: одни говорили, что он перешел в полицию, другие — что постригся в монахи. Новый начальник обращался к старшеклассникам на «вы», а некоторые преподаватели вели со слушателями беседы на «вольные» темы.
Как деревцо, вдруг открытое солнцу, идет в буйный рост, так и Ипполит Мышкин в новых, почти человеческих условиях из подавленного и озлобленного мальчугана быстро преобразился в сердечного и жадного до знаний юношу. Он хорошо учился, много читал и много думал.
В 1860 году Ипполит окончил училище, и его, как одного из лучших учеников, направили в Петербург, в школу колонновожатых, на топографическое отделение.
Был то год небывалого общественного подъема, когда вся Россия ждала решительных перемен, был то год шумных собраний, съездов, резких дискуссий.
19 февраля 1861 года было уничтожено крепостное право.
Ипполит Мышкин не забыл прошлого. Правда, рубцы на его теле давно зажили, но боль от беспрерывных порок и унижений осталась: так у человека, лишившегося ног, еще долго ноют отрезанные пальцы. И поэтому он, юноша, не разбирающийся в политических сложностях, воспринял крестьянскую реформу как огромное благодеяние: ведь его мать была рабыней, все родичи — рабы, да и он сам, хотя и числился «солдатским сыном», был от рождения наделен рабьей долей.
Как после коронационного манифеста изменился облик школы кантонистов, так и после реформы 19 февраля вошло что-то новое в школу колонновожатых. Одни ученики ликовали, у других было такое настроение, словно их обманули, словно вдруг среди лета наступила осенняя нудь. Одни звали в деревню, чтобы в качестве межевых техников способствовать реформе, другие издевались над реформой и звали в деревню на защиту мужика от алчных помещиков. Были и такие, что звали к забастовке, к братанию с университетскими студентами.
Ипполит Мышкин прислушивался к спорам. «Деревня», «мужик», «передел земли» — все это не будило в нем никаких воспоминаний, всего этого не было в его жизни. Но многое его смущало. Крестьян «освободили», «облагодетельствовали», так почему взбунтовались крестьяне в Казанской губернии? 12 апреля собралось 5 тысяч крестьян в селе Бездна, и они потребовали: всю землю мужику, никакого оброка барину… И за это, за одну только мечту, высказанную вслух, солдаты убили 50 крестьян и больше 300 ранили… «Крестьяне бунтуют и в других губерниях, и всюду их расстреливают, так почему же, — спрашивал себя Мышкин, — пишут в газетах, что «добродушный русский народ встретил свободу с умилением сердца, кротко и благодарно»?»
И бунтуют не только крестьяне. Весь сентябрь бунтовали студенты Петербургского университета. Мышкин видел, как городовые и жандармы окружили на Бассейной студентов и избивали их…
12 октября вышли на улицу студенты Московского университета. Они направились к дому генерал-губернатора с требованием освободить арестованных товарищей.
Шли недели, месяцы, и юному Мышкину приходилось все больше недоумевать, все чаще задумываться. События следовали одно за другим. 2 марта 1862 года в Петербурге состоялся литературный вечер. Выступал профессор П. В. Павлов. Он сказал, что основная масса населения всегда стояла вне правового порядка и положение этой части населения настолько ухудшилось, что можно ожидать страшного взрыва… За эти слова профессора Павлова сослали в захолустный городишко.
На пасхе 1862 года город заговорил о прокламации, которую министр двора граф Адлерберг нашел у себя в кармане шинели. Прокламация призывала офицерство обдумать, проверить «свои и чужие убеждения теперь же», так как «в минуту столкновения рассуждать будет поздно».
В мае 1862 года всех потрясла весть о пожарах в Петербурге. Выгорели Большая и Малая Охта, вся Ямская, уничтожен Апраксин двор… В правительственных газетах писали, что поджогом занимаются… студенты.
«Зачем, — спрашивал себя Мышкин, — станут студенты дома поджигать?»
24 сентября воспитанники Корпуса путей сообщения послали своему директору требование «сменить самого себя за негодностью к службе в новых условиях».
В октябре кадеты I Кадетского корпуса избили своего батальонного командира только за то, что он сказал: «Эх, если бы шпицрутены не были отменены…»
Юный, неопытный Мышкин не разбирался в исторических сложностях тех лет. Он видел отдельные события, они его изумляли, поражали, но причины и следствия этих событий были от него сокрыты.
XVIII век, уходя в небытие, завещал человечеству три слова: «Свобода, Равенство, Братство», и эти три слова, занесенные из Франции в лоскутные королевства, княжества, герцогства феодальной Европы, порождали бунты и восстания против догм и авторитетов, против векового гнета, против монархов и церкви, державших народ в нищете и страхе.
В те годы, когда река истории меняла свое русло, на российский престол вступил Николай I, вступил на престол под свист снарядов на Сенатской площади. Это было 14 декабря 1825 года, в тот знаменательный день, когда декабристы попытались штыками нескольких полков добыть зарю свободы. Николай I подавил восстание декабристов картечью, виселицами и каторжными приговорами.
30 лет правил Россией Николай I, и все эти годы он с настойчивостью муравья и свирепостью хищника уничтожал все живое, светлое, смелое.
В своей стране он пулей, кнутами, палками и шпицрутенами душил малейшее проявление свободной мысли. Это он подвел Пушкина под дуло наемного убийцы, послал Лермонтова на убой, обездолил поэта Полежаева, отдал в солдаты Шевченко, отправил в ссылку Герцена и Салтыкова-Щедрина, сослал на каторгу петрашевцев и даже петербургских шарманщиков упрятал в тюрьму, когда один из них, по ложному доносу жандарма Дубельта, попытался сыграть на своей шарманке «Марсельезу».
Вне своей страны Николай деньгами, окриком и войсками поддерживал старое, отжившее, реакционное.
Однако политические страсти в Европе бурлили, взрывались. Франция, Испания, Италия, Австрия, немецкие княжества, Дания — всюду вспыхивали бунты, назревали восстания, и чем беспокойнее становилось на Западе, тем больше свирепствовал Николай в России.
Историк Грановский писал: «Положение наше становится нестерпимее день ото дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас стеснительной мерой… Но что значит личная опасность в сравнении с общим страданием и гнетом!»
Однако именно благодаря «страданию и гнету» было неспокойно и в России. То тут, то там вспыхивали крестьянские волнения, то в одном университете, то в другом разгорались искры бунта, то на одной фабричке то на другой проявлялось «рабочее непокорство».
И вдруг рушилось дело, которому Николай посвятил 30 лет свирепой борьбы! Против России выступила Турция, ей на помощь поспешили Франция и Англия, Австрия выжидала, Пруссия, любимое детище Николая, отделывалась нотами сочувствия. Россия одна. Ее войска двигаются по бездорожью. В интендантстве хозяйничают казнокрады, генералы враждуют между собой. В результате — военное поражение в Крыму.
Россия бурлит. Кнутами и шпицрутенами уже нельзя держать народ в узде. Того гляди государственный котел взорвется! Нужны новые люди, новые методы.
И Николай в бозе почил.
Новый царь, Александр II, не сорвал крышки с котла, а только чуточку ее приподнял: «даровал» несколько реформ. Но давление в котле нарастало — назревала революция.
И, чтобы спастись от революции, правительство решило вернуться к свирепым методам Николая I.
Межевое дело не увлекало. Все свои способности, всю свою настойчивость и усидчивость Мышкин отдавал стенографии и в течение одного года достиг того, что поспевал со своей записью за самым быстроговорящим человеком. Многим это казалось чудом, да и сам изобретатель новой системы стенографии, подполковник Артоболевский, аттестовал своего ученика как «явление необычное и диву достойное».
Стенография — дело новое. Александр II хотел лично убедиться в ее быстроте и точности: поможет ли ему эта стенография знать, о чем говорят в стране.
17 мая 1864 года подполковника Артоболевского с приказанием «иметь при себе лучшего стенографа» вызвал начальник Академии.
Конечно, подполковник взял с собой унтер-офицера Мышкина.
Начальник Академии генерал Иванов принял их стоя и, держа руки по швам, заявил с официальной торжественностью:
— Государь император соизволил заинтересоваться стенографией, — и неожиданно закончил начальствующим тоном: — А ты, Мышкин, не подведешь? Понимаешь, кому тебе придется показать свое уменье? Самому государю императору!
— В нем я уверен, ваше превосходительство, — успокоил генерала Артоболевский. — Унтер-офицер Мышкин хорошо подготовлен.
— Тогда с богом, подполковник. Девятнадцатого ровно в семь утра будьте оба у Иорданского подъезда. Форма одежды — парадная, при всех регалиях А у тебя, Мышкин, есть медали?
— Никак нет, ваше превосходительство!
— Скверно! Государь император не любит пустой груди! — Он быстро направился к двери и позвал — Захар!
На зов явился пожилой, но с молодцеватой выправкой фельдфебель. Грудь в крестах и медалях. Генерал Иванов, с лицом сосредоточенным, перебрал Захаровы регалии, а самую крайнюю медаль, золотую, с выписанными на ней славянской вязью словами «За усердие», он отстегнул и, подавая ее Мышкину, сказал:
— Прицепишь девятнадцатого, только ленточку приобрети новую, государь император любит, чтобы все блестело, — и, повернувшись к Захару, добавил: — Молодой еще, не заслужил отличий, а девятнадцатого представляется его величеству, сам понимаешь. Представится и медаль тебе вернет.
— Понятно, ваше превосход! — молодцевато отрапортовал Захар.
Мышкин принял медаль и благодарно кивнул головой «заслуженному» фельдфебелю — он не знал, что этими медалями «За усердие» награждались при Николае I особо ретивые жандармы.
4
До Зимнего, до резиденции царя, можно добраться многими способами. Генерала Иванова доставила туда дворцовая карета с форейтором впереди и лакеем на запятках; подполковник Артоболевский приехал на извозчике, а унтер-офицер Мышкин прибыл пешком и раньше своих начальников, несмотря на то, что на пути ему пришлось раз тридцать сходить с тротуара и становиться во фронт перед встречными генералами.
Дежурный в Иорданском подъезде поздоровался с генералом Ивановым и, кивнув в сторону Артоболевского и Мышкина, коротко спросил:
— С вами?
Их ввели в кабинет царя и поставили спиной к камину.
Мышкин огляделся: на стенах картины, в поставцах — фарфоровые пастушки, деревянные солдатики. Пола не видно: он прикрыт молочно-белым ковром. Возле письменного стола, на круглом цоколе, мраморный бюст Николая I — лицо злое, надменное.
Кабинет огромный, но его величина не подавляет. Вещи были с какой-то умной находчивостью подобраны друг к другу. Высокие белые двери с написанными на них яркими птицами незаметно сливались со светлым гобеленом, на котором причудливые деревья склонялись в сторону двери будто для того, чтобы уставшие от полета птицы могли отдохнуть на ветвях. За гобеленом — полочки, но не прямые, а изогнутые, и поэтому казалось Мышкину, что фарфоровые пастушки и деревянные солдатики бегут от гобелена, бегут от ветра, покачивающего деревья, и бегут к картине, на которой раскинулось голубое озеро и уютные, под красной черепицей домики…
И он, солдатский сын Ипполит Мышкин, видит всю эту красоту, он, бывший кантонист, стоит перед письменным столом, за которым решается судьба России, и к нему, поротому и битому, сейчас выйдет сам царь!
Ипполиту Мышкину было тогда мало лет, всего 16, но ему пришлось столько претерпеть, что частенько сам себе задавал вопрос: как я выжил? Жизнь в его сознании упростилась: прошлое — темное, жестокое, будущее — ясное, радостное. И это будущее — ясное, радостное — стало возможным только благодаря царю Александру-освободителю, тому, что войдет сейчас через белые двери — добрый, чуткий, милостивый…
Сами собой распахнулись белые двери. Шаги, звон шпор. Впереди царь. Он весь сияет, голубая лента через плечо, словно полоска вешнего неба, тонет в сиянье золотого шитья на мундире; от царя исходит нежный звон, точно стеклянные бусы перекатываются по стеклянному блюду, — это звякают ордена, кончики аксельбантов, шпоры…
— Будем заниматься стено-гра-фией, — сказал он, как показалось Мышкину, с иронией в голосе. — Кто будет писать?
— Унтер-офицер Мышкин, ваше величество, — ответил генерал Иванов — маленький, кругленький, с лицом, багровым от счастья, а может быть, и от того, что подпирал высокий воротник парадного мундира.
Царь посмотрел на Мышкина — сначала на сапоги, потом на медаль, затем в лицо — быстрым, цепким взглядом и повернулся к военному министру Милютину, стоявшему впереди свиты.
— Молодой, а уже отличился. — И Мышкину опять послышалась ирония в словах царя.
Многоопытный и умный Милютин понял, что юный унтер-офицер не служил в жандармах, что медаль на его груди — плод холопского усердия Иванова, желавшего угодить царю, зная его слабость к побрякушкам, поэтому улыбнулся и, склонившись, произнес своим мяукающим голосом:
— На службе вашего величества каждый верноподданный старается выказать свое усердие.
Генерал Иванов уловил двусмысленность в ответе военного министра и еще гуще побагровел.
Царь и вся его свита двинулись к письменному столу.
— Садись за стол, Мышкин, — предложил царь, — покажи свое искусство, — и, повернув голову к Иванову, добавил: — Вы, генерал, объясните нам эту самую стено-гра-фию, а он будет записывать.
У Мышкина в голове туман. Все произошло так, как он себе представлял: нарядный царь, блестящая свита, вежливый разговор. И все же произошло что-то такое, что ударило в голову. Царь не такой молодой, каким он видится на портретах: лицо обрюзглое, возле глаз — стрелки. Но не это поразило Мышкина. Поразили глаза царя: холодные, мертвые, точь-в-точь как на мраморном бюсте Николая. Неужели он, этот человек с мертвыми глазами, освободил народ от рабства, уничтожил кабалу в школе кантонистов, дал ему, Ипполиту Мышкину, новую судьбу?
— Садись, унтер-офицер! — сурово повторил царь.
Мышкин уселся, достал из кармана тетрадку, карандаши, а в мыслях бился вопрос: «Неужели он?»
Генерал Иванов напряженно, как в строю, докладывал:
— Наша новая система стенографии состоит в том…
Мышкин механически записывал. Вдруг он вздрогнул: военный министр Милютин, стоявший возле письменного стола рядом с каким-то сановным старцем, тихо сказал: «Le pauvre homme» («Жалкий человек»). От этих слов повеяло домашним, родным. Ожил перед глазами Карпыч, привиделась мать… «Усердие не по разуму», — ответил сановный старец.
И Мышкин сразу обрел покой, развеялся туман, в голове стало ясно, и его рука с обычной ловкостью стала выписывать крючки, палочки, кружочки.
Генерал Иванов закончил свои доклад.
— Читай, что написано, — обратился царь к Мышкину, глядя поверх его головы.
Мышкин поднялся. Молодым звонким голосом он повторил доклад генерала Иванова.
Вышла одна неловкость: увлекшись, Мышкин прочитал и слова военного министра Милютина и ответ сановного старца. Царь, как бы желая удостовериться, действительно ли написаны эти слова, заглянул в тетрадь, но, видя одни загогулинки и закорючки, метнул злой взгляд на генерала Иванова и жестко спросил:
— Как понять?
Выручил генерала Иванова умный Милютин.
— Ваше величество, — сказал он своим мяукающим голосом, — унтер-офицер Мышкин, внеся постороннее в запись, хотел показать вашему величеству, что он поспел бы записать, кроме доклада генерала Иванова, еще и реплики, буде такие были бы произнесены.
— Молодец! Положительно молодец! — похвалил царь, но глаза по-прежнему холодные, безучастные. — Оставь мне свою тетрадь! Спасибо, генерал, — он пожал руку Иванову, — и вам, подполковник, спасибо, вы, кажется, тоже причастны к новой системе?
— Причастен, ваше величество.
— Одобряю, — сказал он, пожимая руку Артоболевскому. — А тебе, Мышкин, за ловкость, — он посмотрел в сторону белой двери, где стоял дежурный флигель-адъютант: — Дай унтер-офицеру двадцать пять рублей. — И, даже не кивнув головой, направился к двери.
Звеня шпорами и орденами, последовала за царем свита.
Когда дверь закрылась и в кабинете остались генерал Иванов, подполковник Артоболевский, Мышкин и дежурный флигель-адъютант, который вручал Мышкину голубую двадцатипятирублевую кредитку, Иванов бросился к Мышкину и, схватив его за грудь, промычал сдавленным шепотом:
— Что ты, сукин сын, наделал?
Флигель-адъютант укоризненно покачал головой:
— Унтер-офицер удостоился царской милости.
— Но меня он, подлец, зарезал своей вставкой! Зарезал!
— Наоборот, генерал, именно вставка повлияла на решение его величества.
— Тогда… тогда… — засуетился Иванов, и лицо его, багровое, злое, сразу стало ясным и теплым, как румяное яблоко, освещенное солнцем. Он вытащил из кармана кошелек, извлек из него трешку. — Получай, Мышкин, награду и от меня!
5
Генерала Иванова ждала у подъезда дворцовая карета; подполковник Артоболевский уехал на извозчике; унтер-офицер Мышкин пошел пешком. Он шел по набережной, смотрел на широкую, расцвеченную солнечными бликами Неву, смотрел на величественные здания, которые отгородились от внешнего мира колоннами и решетками, смотрел на приземистую церковь Петропавловской крепости, которая на острие своей колокольни подняла к небу золотого ангела, и… ни о чем не думал — вернее, думал о многом, но мысли неслись таким вихрем, что ни одна из них не успевала закрепиться в сознании. Всем своим существом сознавал Мышкин, что с ним произошло что-то большое, решающее: он, солдатский сын, сидел в царском кресле, за царским письменным столом, а царь, сам царь, стоял рядом с ним и любовался его уменьем. Ведь о таком счастье он и мечтать не смел, а между тем нет радости, что-то мешает ей пробиться. Что? Вот в этом, основном, не мог разобраться Ипполит Мышкин, и поэтому текли его мысли, как вода сквозь сито, не освежая и не оставляя следа.
Вспоминался иронический тон царя, его глаза, равнодушные, холодные, надменные; его рот с брезгливо оттопыренной нижней губой, как у человека, который вместо вина хлебнул воду. Ничем, решительно ничем не был похож Александр на того царя, которого он так часто видел в мечтах. Но ведь именно этот Александр освободил народ от неволи, ведь именно этот Александр дал ему, кантонисту, новую, человеческую судьбу.
Неужели он, Мышкин, по молодости не разбирается в людях? Или там, в царском кабинете, был он так ошеломлен необычной для него обстановкой, что потерял способность видеть людей такими, какие они есть на самом деле?
Он прерывал размышления, чтобы отдать честь офицерам, стать во фронт перед генералами; но после каждого перерыва мысли Ипполита Мышкина возвращались к какому-то началу, которое, развиваясь, не шло к логическому завершению, а растекалось на отдельные ручейки, все дальше и дальше уходя от главного: кто он, царь Александр?
На одной из улиц до слуха донесся барабанный бой. Мышкин машинально одернул на себе мундир и зашагал четким шагом. Барабаны били на Мытнинской площади. Мышкин не видел барабанщиков, издали проступали лишь кивера конных жандармов, а в их кольце — бородатый, в очках человек.
Мышкин удивлен: какого роста, подумал он, должен быть человек, чтобы его было видно поверх конников?
Мышкин вышел на площадь. Что это? Посреди площади — эшафот, выкрашенный в густой черный цвет. На эшафоте — черный столб, а на нем железная цепь. Возле столба — невысокий человек, бородатый, с виду суровый, но из-за стекол овальных очков проглядывают приветливые глаза. На нем длинное пальто с меховым воротником, на голове круглая шапка.
За спиной невысокого человека — два палача: оба в черном, под цвет столба. Немного в стороне — чиновник в треуголке, в вицмундире.
А вокруг эшафота — охрана, да какая! Три шеренги солдат с ружьями; за ними — кольцо конных жандармов; за жандармами — цепь из пеших городовых!
Кто этот человек с серыми приветливыми глазами? И зачем такая усиленная охрана?
На солнце набегали свинцовые тучи, утро начало хмуриться.
Народу на площади становилось все больше и больше. Подходили офицеры и студенты, подходили пожилые люди в широкополых шляпах и крылатках, целыми группами прибывала молодежь в «русских» костюмах, подходили девицы — стриженые, в черных платьях и черных башлыках. За спинами городовых скопилось несколько тысяч человек.
Многое удивило Мышкина: на эшафоте преступник и палачи, а попа нет. Какая казнь без попа?! И почему преступник не в арестантской робе?
Чиновник в вицмундире читал что-то с листа, читал торопливо, невнятно — ничего не разобрать! Правда, невысокого человека вовсе не интересовало чтение: он беспрерывно обводил близорукими глазами толпу, по-видимому искал кого-то? А возможно, подумал Мышкин, он и не ищет никого: ведь прежде чем попасть на эшафот, этот несчастный должен был долго просидеть в тюрьме, отвык от людей, не слышал шума толпы… И вот теперь она перед ним…
Неожиданно послышались из толпы окрики:
— Позор!
— Шапки долой!
Чиновник закончил чтение.
Один из палачей, детина с волосатым лицом, до того смотревший на все с тупым безразличием, сразу оживился, он достал откуда-то обнаженную шпагу и театральным жестом показал ее народу.
Второй палач сказал что-то хриплым голосом, и человек возле черного столба опустился на колени.
Обнаженная шпага блеснула в воздухе.
Замерла толпа, замерли солдаты. Это продолжалось несколько мгновений. Вдруг, точно озверев, первый палач смахнул шапку с головы осужденного и, поднявшись на носки, переломил шпагу над его головой.
Барабаны отбивали тревожную дробь.
Первый палач, подбоченившись, стоял у края помоста, как актер в ожидании аплодисментов.
Второй палач поднял осужденного, вдел его руки в кольца свисавшей со столба цепи, а затем повесил ему на грудь черную доску с надписью: «Государственный преступник».
Тут заголосила толпа:
— Опричники!
— Позор!
— Негодяи!
Гражданин в кумачовой рубахе и плисовых шароварах прорвался сквозь кольцо охраны.
— Хочу проститься с ним! — кричал он, озлобленно отбиваясь от наседавших на него городовых.
И в то время, когда городовые боролись с гражданином в кумачовой рубахе, выдвинулась из толпы девушка в длинной черной накидке и, замахнувшись, ловко бросила на эшафот букет алых роз.
Послужило это сигналом или вышло случайно, но вслед за розами полетели к эшафоту венки, букеты и охапки белой сирени.
Осужденный улыбался, кивал головой, кланялся во все стороны.
Городовые рассыпались. Одни пытались ловить людей, бросавших цветы, другие оттесняли толпу, рвущуюся к эшафоту…
Палачи подхватили осужденного под руки, уволокли его с помоста.
Молодой офицер, помахивая фуражкой, кричал:
— Прощай, Чернышевский!
Толпа подхватила:
— До свидания!
Мышкин выбрался из толпы. Его не увлек общий порыв: он был недоволен собой. «Есть люди, — думал он, — которые за какую-то правду идут на казнь. А за какую правду, ты не знаешь, не знаешь, Ипполит! Ты не знаешь, почему Чернышевский так дорог девушке в длинной накидке, почему он так дорог молодому офицеру, тому, который восторженно кричал: «Прощай, Чернышевский!»
И что ты, Ипполит, вообще знаешь о жизни? Ходишь гоголем с чужой медалью на груди и считаешь, что мир прекрасно устроен. А в этом прекрасно устроенном мире люди с улыбкой на лице идут на муки!
Ты сидел сегодня за царским столом, и в твоем сердце не было радости! Тебя поразил холодный и надменный взгляд Александра. А ведь ты, Ипполит, не разглядел, что за этой холодной надменностью скрывается трусливая озабоченность. Ведь он, Александр, в это время думал: «Как сойдет казнь Чернышевского?» Он, царь, конечно, догадывался, что народ будет тянуться к Чернышевскому через забор из штыков… И чтобы не допустить до этого, нагнал солдат, жандармов, городовых…
Помогло это царю? Нет! Чернышевский улыбался, к его ногам летели цветы, а те, что выполняли царскую волю, трусливо спешили, даже не посмели обрядить «государственного преступника» в арестантскую одежду!
Есть, видать, сила посильнее царя!
Вот, Ипполит, о чем надо тебе подумать!»
6
Опять школа: лекции, муштра, чертежи, стенография. К занятиям прибавилось чтение. Он читал жадно, неуемно, как человек, который должен в короткий срок нагнать упущенные годы.
В школе была приличная библиотека, но не все книги выдавались ученикам. Мышкину повезло: его соседом по койке оказался книголюб — парень, друживший с библиотекарем; тот доставал для Мышкина книги из так называемого «преподавательского шкафа».
Что читать, Мышкин не знал и поэтому читал все, что добывал для него товарищ.
Во многом юный Мышкин не разбирался: сегодня он соглашался с Белинским, завтра убеждала его логика Писарева. Только один Чернышевский казался ему безгрешным во всех своих высказываниях. Каждая страница Чернышевского напоена ненавистью к крепостному праву, к самодержавию. Его, Мышкина, увлекли герои романа «Что делать?» — волевые, талантливые люди, готовые в любую минуту на муки, чтобы своими муками и даже своей смертью очистить народу путь к счастливой жизни.
Если раньше, в первые годы ученичества, Мышкин сторонился товарищей, даже побаивался этих шумных и, как ему казалось, слишком смелых юношей, то теперь Мышкин искал их общества, бывал на секретных читках, участвовал в спорах…
1864 год. Школа закончена. По существующему тогда закону полагалось отработать четыре года в войсковых частях. Мышкина, как лучшего ученика, генерал Иванов потребовал для службы в Академию Генерального штаба.
Осеннее яркое солнце заливает город. На мостовых — кареты, дрожки, верховые, на тротуарах — толпы, толпы, в небе — золотой ангел, ангел, взлетевший на иглу Петропавловской крепости. Ангел простирает крест к Мышкину: не то благословляет, не то дорогу указывает.
Мышкин остановился перед зданием Главного штаба, что полукругом охватывает просторную Дворцовую площадь. Рядом — Зимний дворец. Там сидел Мышкин в царском кресле, за царским письменным столом…
Мышкин поднялся на четвертый этаж, в геодезическое отделение. Он нашел комнату № 216, постучал и, не дождавшись отклика, открыл дверь.
В комнате всего два офицера: капитан и подпоручик. Оба удивленно взглянули на вошедшего.
— Тебе кого? — строго спросил капитан, поднявшись из-за стола.
У капитана светлые, соломенного цвета, бакенбарды, они мягко сливаются с серебряным шитьем воротника.
— Унтер-офицер Мышкин, назначенный в службу в геодезическое отделение!
Отрапортовав, Мышкин протянул капитану свои документы.
Капитан сначала просмотрел документы, потом исподлобья взглянул на Мышкина, затем, прикрыв свой нос мышкинским пакетом, спросил:
— Воняешь?
Мышкин вопроса не понял:
— Как вы сказали?
Капитан отступил на один шаг и, не повышая голоса, сказал:
— Пошел вон. Службы не знаешь.
Мышкин вышел в коридор, длинный, унылый коридор с цепочкой белых дверей и синими песочными ящиками возле каждой двери.
Сколько надежд он связывал с новой службой! Ему чудилось, что именно здесь он начнет восхождение к тем высотам, о которых столько мечтал. Он будет служить и учиться, учиться, чтобы стать похожим на тех героев, которые ему полюбились, из романа «Что делать?». И вдруг — «Пошел вон!»
Дверь № 216 раскрылась, показался капитан.
Мышкин решительно шагнул к нему:
— Ваше высокоблагородие! С семи лет я на военной службе, с семилетнего возраста я знаю, что солдату полагается отвечать «так точно» и «никак нет». А на ваш вопрос я не мог ответить ни «так точно» ни «никак нет»: я вопроса не понял.
Капитан опять посмотрел на Мышкина исподлобья, но на этот раз посмотрел заинтересованно: ему понравился ладно скроенный юноша с живыми глазами и серьезной речью.
— Вопроса не понял? А в твоей характеристике сказано, что ты по-нят-ли-вый, — закончил он издевательски. Повернулся спиной к Мышкину, сделал несколько быстрых шагов, вдруг остановился и добавил: — Ступай к господину подпоручику.
Мышкин опять в комнате № 216. Подпоручик что-то вычерчивает на большом листе плотной бумаги. Перед ним угольники, линейки. От окна тянется солнечный луч, и он веером растекается по чертежной доске.
— Разрешите, ваше благородие!
Подпоручик поднял голову. Круглое лицо, тонкие усики, улыбающиеся глаза.
— Садитесь, унтер-офицер, — сказал он приветливо. — Как вас величать по имени-отчеству?
— Ипполит Никитич.
— А меня Михаил Сергеич. Сидите, Ипполит Никитич, не вскакивайте, забудьте, что вы нижний чин, мы с вами сослуживцы. Ошарашил вас капитан…
— Я его вопроса не понял.
— Его подчас и я не понимаю: с придурью он. Он убежден, что все солдаты грязные, что от них дурно пахнет. И, кроме того, обиделся: как это ему, сиятельному графу, придется сидеть в одной комнате с солдатом! Но не огорчайтесь, Ипполит Никитич, все устроится. Для карьеры наш сиятельный капитан поступится своим графским гонором.
И действительно, все устроилось.
Жизнь была однообразна и в то же время очень сложна. Мышкин работал и жил в центре города, а на котловом довольствии состоял при телеграфной роте, что квартировала за Невской заставой. Ходить туда завтракать, обедать и ужинать не было возможности, пришлось Мышкину тратиться на питание из своего жалованья. А жалованье было воробьиное: 4 рубля 20 копеек! Жил Мышкин на хлебе и воде, а сытым бывал только по праздничным дням, когда, свободный от службы, мог отправляться в телеграфную роту.
И так жил он четыре года, и если выжил, то только благодаря своему крепкому организму да тем крохам, которые могли ему уделить брат Григорий из своего нищенского жалованья кондуктора и мать из своего заработка поденщицы.
На службе быстро наладились отношения Капитан убедился в двух вещах: «от солдата не пахнет» и «солдат чертовски трудоспособен». Капитан был вздорным человеком, но достаточно умным, чтобы понять: на солдата можно свалить всю чертежную работу.
Мышкин работал безотказно: с утра до темна вычерчивал он топографические карты и до того набил себе руку в этом трудном деле, что частенько удостаивался похвалы начальства.
С Михаилом Сергеичем установились иные отношения. Подпоручик явно симпатизировал Мышкину. Правда, в присутствии капитана он обращался к Мышкину на «ты», зато когда оставались наедине, они беседовали непринужденно, даже дружески. Михаил Сергеич рассказывал Мышкину о своих семейных делах, говорил с ним о книгах, которые читал, интересовался планами Мышкина на будущее.
Мышкин был благодарен подпоручику за человеческое отношение, и в то же время был он крайне сдержан: голодный и униженный, Мышкин не мог преодолеть внутренней неприязни к сытому барчуку.
Как-то в субботу, на исходе рабочего дня, подпоручик сказал:
— Ипполит Никитич, вы жаловались, что у вас нет практики по стенографии.
Михаил Сергеич не понял Мышкина: не практика по стенографии нужна была ему, а приработок, который могли дать занятия по стенографии. У Мышкина не было свободного часа для побочных занятий, даже по праздничным дням приходилось работать дома.
— Да, Михаил Сергеич, совсем не занимаюсь стенографией.
— А хочется?
— Очень.
— Могу вам помочь. У меня по воскресеньям собираются друзья. Читаем, спорим. Иногда попадаются нам любопытные книги. Вот, например, завтра будем читать интересную книгу. Пришли бы ко мне, послушали, ведь вы любите хорошую книгу, а если книга вам покажется полезной, застенографировали бы ее. Вот вам и практика будет.
Мышкину понравилось предложение: он действительно любил хорошую книгу, но, увы, в штабе был лишен ее. В офицерскую библиотеку его не пускали, а в солдатской — одна дребедень.
Михаил Сергеич жил на Охте, в деревянном домике.
Старушка, открывшая дверь, поклонилась Мышкину и тепло сказала:
— Разденься, дружочек, самовар уже на столе.
Она проводила Мышкина по низеньким, но светлым комнатам. Желтые навощенные полы, на стенах — расписные тарелки.
В просторном кабинете человек шесть-семь — студенты и военные. На столе — самовар, блюда со снедью.
Михаил Сергеич поднялся с дивана:
— Ипполит Никитич Мышкин, мой друг и сослуживец. Прошу любить и жаловать!
Мышкин чувствовал себя неловко. Он пожимал руки, улыбался, но не мог отделаться от назойливой мысли: почему эти барчуки так обрадовались солдатскому сыну?
Артиллерийский юнкер, чернявый человек громадного роста, обнял его и, захлебываясь, промолвил:
— Наконец-то среди нас человек из народа!
Саперный подпоручик сказал церемонно:
— Рад пожать вашу руку.
А студент Военно-медицинской академии, длинноволосый, в дымчатых очках, потянул Мышкина за рукав:
— Тамбовский? — спросил он.
— Псковской.
— Почти соседи. Садись со мной, поговорить надо.
— Парфен! — оборвал студента хозяин. — Разговоры после. Давайте завтракать!
Все ели с большим аппетитом, перекидываясь при этом шутками, а Мышкин сидел словно замороженный. К еде не прикасался. Был уверен: барчуки знают, что он голодный, и пригласили его только для того, чтобы накормить голодного солдата!
— Ипполит Никитич! А вы что? Поститесь сегодня?
— Не хочется, Михаил Сергеич. Я дома плотно поел.
Как-то незаметно перешли от шуток к серьезному разговору. Юнкер достал из кармана книгу и, прежде чем приступить к чтению, сказал:
— Господа. Мы разобрались в споре Сент-Илера с Кювье. Мы проштудировали бюхнеровскую «Материю и силу». Проштудировали Дарвина и Молешотта. Мы убедились, что «природа не храм, а мастерская и человек в ней работник». Мы убедились, что все живое на земле совершенствуется в результате борьбы за существование. И вот теперь, господа, перед нами вторая задача: проштудировать труды, которые преследуют цель усовершенствовать человеческое общество. Таких трудов немало, и мы все их добудем. Сегодня начнем с Фурье, с его труда «Принципы ассоциаций». — Он протянул книгу через стол. — Прошу…
Подпоручик, юноша с грустными, а может быть, усталыми глазами, принял книгу из рук юнкера, откашлялся и приступил к чтению…
Мышкин закрыл глаза. Размеренное чтение убаюкивало. Ему почудилось: он на Мытнинской площади, Чернышевский, прижавшись спиной к черному столбу, говорит тихим, задушевным голосом… «Люди-братья, вы рождены свободными, а вас держат в рабстве. Вы рождены, чтобы быть счастливыми, а вас угнетают несчастья. Вы сильны, а вас ломают, как ветер сухие ветки… Объединяйтесь… Объединяйтесь, люди-братья…»
Жизнь в Петербурге приобрела для Мышкина новый смысл. Он стал постоянным участником «воскресных чтений».
Кружок Михаила Сергеича не преследовал политических целей (хотя впоследствии почти все участники кружка стали активными революционерами), да и сам Мышкин в то время таких целей не искал. Он учился, учился, чтобы достойно спорить с товарищами, которые были значительно образованнее его, он учился, понимая, что только знания дают ему возможность считать себя полноправным членом «барского» кружка, он учился, предугадывая классовым своим чутьем, что именно на путях Фурье, Сен-Симона, Герцена, Бакунина, Лассаля и Маркса (хотя пути эти разные, и в этой разности нужно еще разобраться!) человечество должно искать спасение от нищеты и унижений.
Четыре года Мышкин, прослужил в геодезическом управлении Генерального штаба, и четыре года продолжалась учеба.
Мышкин получил назначение в Москву — правительственным стенографом.
Солдатский сын очутился на свободе! Мир велик и богат всем, чего просит душа, — умей только взять то, чего желает твое сердце. Но что выберет он, безродный кантонист, выживший только благодаря своей сильной природе? Он выберет все, что могут взять ясная голова и здоровые руки!
Должность правительственного стенографа была почетная и прибыльная. Точный, исполнительный, трудолюбивый, Мышкин был нарасхват. Он стенографировал на заседаниях Окружного суда, вел отчеты земских собраний, ездил в Пензу, в Нижний…
Новая жизнь, новые отношения! Переход от подневольного состояния и нужды к свободе и полному благополучию был так внезапен, что первые месяцы в Москве Мышкин все еще чувствовал себя солдатом: при встрече с офицерами рука сама поднималась к козырьку, хотя на голове вместо военной фуражки сидела шляпа; уже питаясь в ресторанах, Мышкин набивал ящики своего стола всяческой снедью, словно не верил, что действительно кончилась петербургская голодуха. Новая жизнь была чересчур необычна для «правительственного стенографа», чтобы он мог сразу поверить в ее реальность. В Окружном суде за восемь рабочих дней в месяц ему платили 46 рублей, а в остальные дни, стенографируя на съездах, собраниях и в ученых обществах, Мышкин зарабатывал больше двухсот! Он мог разрешить себе все! Одевался у Голышева — модного в то время портного; жил в гостинице на Тверской; обедал у Соколова и не в «низке», а на втором этаже, где обедала «чистая» публика; посещал театры, покупал книги, задаривал мать и брата Григория. Источник дохода был неиссякаем! При трудолюбии Мышкина, при его усидчивости он мог, если бы ему понадобилось, удвоить и утроить свои заработки: стенографов было мало, особенно правительственных, чьи стенограммы считались официальными документами.
Прошел угар первых месяцев «свободы», наступили трудовые будни. Мышкин свыкся и с работой и со своим положением Новая жизнь, новое окружение, все это уже казалось ему естественным. Адвокаты, земские деятели, журналисты — народ, с которым он ежедневно общался, — больше не вызывали в нем настороженности или недоверия. Он убедился, что среди них есть люди хорошие и плохие, прогрессивные и отсталые, но даже плохие и отсталые считали его «человеком своего круга». Жизнь Мышкина текла ровно и тихо, как ручеек на дне оврага.
В 1869 году Мышкин встретился с двумя людьми, и эти встречи немного взбаламутили его безмятежное житье.
Первая встреча произошла в Пензе. На собрании земцев Мышкин познакомился с мировым судьей Порфирием Ивановичем Войнаральским, местным богатым помещиком. Мышкин волновался, стенографируя его речь: в деревнях голод, мор, и Войнаральский закончил свою речь страстным предупреждением: «Народ не стерпит, народ поднимется!»
Войнаральскому было лет 25, но говорил он сурово и веско, как умудренный жизненным опытом старец.
В сознании Мышкина всплыло прошлое, тяжелое и горькое. В смелой речи Войнаральского он услышал и отзвуки каких-то своих мыслей, каких-то своих сомнений.
После заседания он подошел к Войнаральскому:
— Вы привели ужасные факты. Но что, по-вашему, нужно делать сегодня, завтра? И можно ли что-либо сделать в наших условиях?
Войнаральский взял Мышкина под руку, отвел его в сторону:
— Друг мой, разрешите задать вам два вопроса.
— Пожалуйста!
— Вот на вас хорошо сшитый фрак. Скажите, друг мой, если вам предложат снять с себя фрак и обрядиться в рубище, вы очень будете страдать?
Мышкин рассмеялся:
— Тринадцать лет я носил солдатскую рубаху!
Войнаральский удивился: перед ним стоял юноша с тонким, породистым лицом, с высоким лбом мыслителя, из-под которого смотрели пытливые карие глаза.
— Вы носили солдатскую рубаху? И целых тринадцать лет?
— Да я же бывший кантонист, я солдатский сын. Мой фрак — случайность!
— Тогда, друг мой, я второго вопроса вам не задам. Я не носил солдатской рубахи, фрак на мне не случайность, но для блага народа я готов сменить фрак на арестантский халат.
— Порфирий Иванович! — опять рассмеялся Мышкин. — Сменой фрака народу не поможете! — И закончил серьезно: — Я вас спрашиваю, какие выводы вы делаете для себя из фактов?
Войнаральский склонился к уху Мышкина:
— Такие, как я, должны сделать все, чтобы народ скорее поднялся. Вот мой вывод из фактов, которые вы изволили назвать ужасными. И если, друг мой, эти факты и вас тревожат, буду рад поговорить с вами в любое время.
И Мышкин узнал от Войнаральского, что в Пензе есть люди, которые уже работают для «блага народа», что эти люди связаны с кружками в Москве, Петербурге…
С одним из таких кружков, по указанию Войнаральского, Мышкин и связался по возвращении из Пензы. Но кружок этот чем-то напоминал Мышкину воскресные чтения у подпоручика Михаила Сергеича: участники кружка занимались самообразованием, самоподготовкой к «подвигу», не зная еще, в чем выразится их подвиг.
Вторая встреча произошла в Москве. Был поздний вечер. Мышкин, сидя за столом, расшифровывал стенограмму. В комнате стоял полумрак, лампа под густым синим абажуром освещала только листы бумаги и руки Мышкина.
Без стука вошел в комнату странный человек. В ярком пледе, накинутом на плечи в виде римской тоги, на голове шляпа с широченными полями, из-под которой ниспадали длинные волосы, на носу дымчатые очки.
— Вам что угодно?
— Если ты Мышкин, то мне угодно, а если не Мышкин…
Мышкин обрадовался: по голосу узнал он гостя. Поднялся ему навстречу:
— Парфен! Какими судьбами?
— Не судьбами, а ногами. Прямо с вокзала. А. ты, земляк, неплохо устроился. Наследство от тетушки получил?
— Не наследство, а своими руками добыл, — в тон ответил Мышкин. — Разоблачайся. Будем чай пить.
— Погоди, земляк, с чаем, — хмуро сказал Парфен. — Нам сначала надо кой о чем договориться. Михаил Сергеич дал твой адрес и предупредил…
— Как поживает Михаил Сергеич?
— Ничего. Ждет производства в штабс-капитаны. На примете невеста. Богатенькая. В общем кандидат в либеральные помпадуры.
— Ты не изменился, Парфен!
— А чего мне меняться? Ведь жизнь не изменилась. Но не в этом дело. Можно будет у тебя прожить недели две? Знай, земляк, жилец я не из спокойных: народ будет ходить, а возможно, и голубой мундир заглянет. Подумай, земляк, не повредит ли это твоей чистенькой репутации.
— Живи сколько хочешь и принимай кого хочешь!
Парфен сбросил плед с плеч. Какой убогий вид! Серые холщовые брюки, заправленные в высокие сапоги, синяя ситцевая рубаха, перехваченная тесьмой.
Мышкин достал из шкафа полотенце, тонкое белье и новый черный костюм.
— Бери, Парфен, и шагай в ванную. Помойся с дороги, переоденься, и будем чай пить.
Гость сделал так, как предложил ему Мышкин, — щедрость товарища его не удивила.
За чаем разговорились: Парфен приехал в Москву, чтобы набрать «группу».
— Зачем?
— В Тамбовскую губернию поедем.
— Почему именно в Тамбовскую? И при чем тут группа?
Парфен прилег на диван, закрыл глаза.
— Вот что, земляк. Вместо того чтобы отвечать тебе на всякие «зачем?» и «почему?», я тебе скажу главное. Не всех россиян прельщает производство в штабс-капитаны или тихая жизнь в уютных гостиницах. Есть чудаки, которые не могут мириться с тем, что где-то в Тамбовской губернии народ мрет от тифа и болотной лихорадки.
— А в Пензенской он не мрет?
— И в Пензенской мрет, и в Рязанской, и в остальных губерниях святой Руси. Но наша группа едет в Тамбовскую. — Он вдруг раскрыл глаза, пристально посмотрел на Мышкина. — А знаешь, земляк, такое положение вещей предопределено законами природы. Птицы летают, гады ползают, хищники пожирают…
Мышкин тряхнул гостя за плечи:
— Ты, летающий, ты слеп, как сова днем!
— Задело? — спокойно спросил Парфен.
— Не твои прописные истины! Все вы говорите о народе, о его нужде, страданиях. Один хочет снять с себя фрак и обрядиться в арестантский халат, ты бросил медицинскую академию и вырядился в холщовые штаны. И все для блага народа. Один мой знакомый, тот самый, который тоскует по арестантскому халату, устроил в своей деревне что-то вроде кассы взаимопомощи для мужиков и считает, что облагодетельствовал народ. Ты вот со своей группой едешь в Тамбовскую губернию, чтобы объяснить мужичкам: «Не пейте, милые, болотную воду, в ней, проклятой, тиф водится», — и тоже считаешь, что облагодетельствовал народ. Чепуха! Слышишь, Парфен? Чепуха!
Парфен присел, заинтересованно взглянул на Мышкина.
— Валяй, земляк. Ты начал дело говорить.
— Начал и кончил! Все!
— Обиделся?
— Да! На себя обиделся! Плохое вижу, а как до хорошего добраться, не знаю!
Парфен уехал со своей группой в Тамбовскую губернию. Мышкин продолжал заниматься стенографией.
В Окружном суде ему приходилось часто работать с одним адвокатом, человеком передовых и смелых взглядов, хотя с виду и по манерам он казался сановником времен Николая I.
В один из дней этот адвокат пригласил Мышкина «на чаек».
Впервые Мышкин очутился в барской квартире, высокой, светлой, где вещи радовали глаз богатством красок, где воздух был насыщен ароматом невидимых цветов, где человеческий голос звучал приглушенно из-за обилия ковров.
«Чаек» оказался обильным ужином, с винами и несколькими переменами горячих блюд. Посторонних не было: хозяйка, женщина с яркими губами, адвокат и дочь Варвара, девушка лет девятнадцати. Золотисто-пепельные волосы, большие светлые глаза с задумчивым взором.
За ужином был Мышкин неловок, малословен. Адвокат что-то рассказывал, а Мышкин любовался Варварой. Их глаза встретились. Она улыбнулась.
— Счастливый вы человек, Ипполит Никитич, — начал адвокат, когда они перешли в гостиную. — Деньги лопатами загребаете, а аз, грешный, в вашем возрасте на Козихе жил, а на четверых нас, студентов, одна пара сапог была.
Мышкин был благодарен, хозяину: он понимал, что умный адвокат «приподнимает» гостя в глазах своей семьи.
Мышкин не курил, но тут он взял сигару из ящика, закурил и… все поплыло перед его глазами. А когда пришел в себя, когда улеглось кружение в голове, он увидел трогательно озабоченное лицо Варвары и услышал трепетный голос:
— Правда, что вы были кантонистом?
— Правда.
— Расскажите что-нибудь о себе.
Мышкин видел нежный взгляд, и ему стало радостно. Он рассказал, как его высекли в день смерти Николая I. Рассказ звучал весело, с детской непосредственностью.
Установилась тишина. Адвокат и его жена почувствовали себя неловко, они избегали взгляда гостя. А Варвара положила руку на рукав Мышкина и с материнской теплотой сказала:
— Бедненький.
Первая девушка, первая любовь! Мир казался Мышкину чудесным. С Варварой он виделся часто, говорил ей о своей работе, о своей мечте стать учителем. Она слушала его с трогательным сочувствием, лишь иногда чудилось Мышкину, что в ее взгляде нет-нет да появляется что-то пренебрежительное. Но в 21 год, если действительно любишь, видишь только то, что хочешь видеть.
Прошло несколько недель. Стоял июль. Жарко. Варвара с семьей жила на даче в Сокольниках. Суббота. Мышкин еле дождался конца судебного заседания: он собирался в Сокольники. Мысленно он уже видел: Варвара идет ему навстречу, вся залита солнцем, волосы на голове как бы дымятся. В своем легком платье кажется она розовой, воздушной…
— Вас просят в адвокатскую, — доложил служитель.
Мышкин отправился. В большой комнате — адвокат, один.
— Освободились уже?
— Полностью! — обрадовался Мышкин, догадываясь, что адвокат приглашает его с собой в Сокольники.
— Тогда пошли.
Перед зданием суда стояли «лихачи». Мышкин поманил пальцем одного из них.
— Не надо, — удержал его адвокат. — Пройдемся немного.
Они вышли к Кремлевской стене, к молодому садику.
Адвокат опустился на скамью. Несколько минут он сидел молча.
Тысяча мыслей пронеслась в голове Мышкина: молчание адвоката показалось ему зловещим. Неужели он против их любви? Неужели этот передовой человек не согласен впустить в свой дом бывшего кантониста? Неужели Варвара не смогла убедить его?
— Выручайте, батенька! — сказал вдруг адвокат нервно и громко. — В понедельник будет слушаться дело Огородникова.
— Чем я могу вас выручить? — облегченно вздохнув, спросил Мышкин. — С великим удовольствием!
— Я так и думал: кто-кто, а вы мне не откажете. А прошу я у вас безделицу: сделайте ошибочку в стенограмме.
— Не понимаю.
— Объясню, Ипполит Никитич. Дело Огородникова я должен выиграть. А если оно будет решаться в понедельник, то я его определенно проиграю. Нужно выждать, чтобы шумиха спала.
— И все же не понимаю, чем я могу вас выручить.
— Мне нужен бесспорный повод для кассации. И вы должны мне дать этот повод.
— Я?!
— Да, батенька, вы. Ваша стенограмма — официальный документ. Вот вы, дорогой Ипполит Никитич, сделайте ошибочку в этом документе. В показаниях одного из свидетелей напишите «да» вместо «нет» или «нет» вместо «да». Как вам более удобно. И это мне даст повод для кассации.
День яркий, солнечный, а Мышкину вдруг холодно стало. Ноги дрожат, ледяная волна поднимается по спине и заползает под волосы. Неужели он ослышался? Ему, Мышкину, предлагают совершить подлог, чтобы спасти от каторги миллионера-мукомола Огородникова, спасти от каторги того, кто поджег свои паровые мельницы, дабы сорвать крупный куш со страховых обществ! Ему, Мышкину, предлагают совершить подлог, чтобы «выгородить» миллионера и отправить на каторгу его приказчиков, чьими руками подлец хотел совершить свое подлое дело! И совершить этот подлог предлагает ему, Мышкину, кто? Человек, которого Мышкин уже мысленно называл отцом!
— Вы мне предлагаете…
— Ипполит Никитич, дорогой, ради бога, не волнуйтесь. С этической стороны нет ничего предосудительного в моем предложении. Вашу ошибку обнаружат, или вы сами заявите о ней. Высшая справедливость будет восстановлена, а мне вы большую услугу окажете. Вы, так сказать, приобщаетесь к нашему миру…
Мышкин не поднялся, а вскочил на ноги и почти бегом вышел из садика.
Ему было тяжело. Все в нем возмущалось, негодовало, но порой его охватывала такая жалость к себе, что слезы, как в детстве, лились обильной струей. Он сам загородил дорогу, ведущую к счастью: без Варвары он не мыслил будущего! Он сам порвал нить: не ему отказали, а он отказался от счастья, не желая его купить за… подлость!
Мышкин еще один раз столкнулся с «барином из либералов». На съезде земцев в Пензе выступал «уважаемый и почтенный общественный деятель», благообразный старик с Владимиром на шее, с львиной гривой и бархатистым голосом.
— …Что же это за освобождение без достаточного земельного надела, без гарантированного крестьянского самоуправления, без благоустроенной народной школы, даже без избавления от телесного наказания, унижающего человеческое достоинство освобождаемых, — освобождение, которое началось и продолжается до сих пор беспощадными порками? Возьмем наш. суд. Что осталось в нем от того идеала…
Эти мысли тревожили и Мышкина.
«Вот, — подумал он, — барин с Владимиром на шее, а мыслит шире, чем те из молодежи, которые видят только болото в какой-то Тамбовской деревне».
Вечером в гостинице он расшифровывал стенограмму. Заходит коридорный:
— К вам пожаловал…
Не успел он фразы закончить, раскрывается дверь — на пороге уважаемый и почтенный общественный деятель. Правда, ничего львиного уже не было в его обличии, он был больше похож на петуха, попавшего под ливень.
Долго не выпускал он руку Мышкина, говорил что-то о благородных порывах, которые, увы, «душатся холодным дыханием жизни», и когда Мышкин, не понимая, что произошло, спросил, чем он обязан визиту, старик ответил добродушно, хотя и немного стеснительно:
— Я сегодня увлекся, был несдержан. Наговорил такое, что даже губернатору не понравилось. Каково мне будет, когда стенограмма до министра дойдет? А у меня, уважаемый господин Мышкин, семья, большая семья. Прошу вас, убедительно прошу зачеркнуть все, что звучит неприятно. — Он достал из кармана «конверт со вложением», застенчиво положил его на стол. — Дорогой Ипполит Никитич, поймите меня: моя речь никому не поможет, а меня погубит. Погубит, уважаемый друг.
Мышкин был всегда ровен в обхождении с людьми и почтительно относился к старости, но тут он потерял власть над собой: схватил со стола конверт с деньгами, распахнул дверь, выкинул конверт в коридор и, повернувшись к «уважаемому и почтенному общественному деятелю», прокричал:
— Вон! Немедленно вон отсюда!
7
Летом 1871 года редактор «Московских ведомостей» предложил Мышкину дать отчет о «Нечаевском деле», которое должно было разбираться в Судебной палате.
Ипполиту Никитичу шел уже 24-й год, а своего места в жизни он еще не нашел. Он много зарабатывал, но мир сытых, благополучных, мир «уважаемых и почтенных общественных деятелей» его не прельщал. Не увлекали его и читки в кружке: Мышкин был человеком дела, а в кружке только говорили о деле. А может быть, именно разговоры в кружке привели к тому, что Мышкин все еще «плавал меж берегов»? Все его симпатии, все его помыслы были с теми, которые хотели что-то делать, но он, как и остальные кружковцы, не знал, как приняться за дело. Сенсимонисты предлагали одно, лассальянцы — другое, бакунинцы — третье, и все для блага русского народа. Мышкин видел, что в русском обществе идет брожение, но он хорошо помнил слова Марата: «Если в эти моменты общественного брожения не найдется смельчака, который стал бы во главе недовольных, чтобы сплотить их против притеснителя, не найдется сильной личности, которая подчинила бы все умы… то восстание обратится в бесплодную вспышку, которую очень легко подавить». Этой сильной личности не видел Мышкин!
«Нечаевское дело» произвело на Мышкина ошеломляющее впечатление: из выступлений Успенского и Прыжова, которые даже на скамье подсудимых говорили о своем страстном желании помочь народу, просветить его, добиться для него счастливой доли, — перед Мышкиным все яснее вырисовывался «его путь». Горячее отношение Успенского и Прыжова к тому, во что они верили, и их самопожертвование звало к подражанию. Успенский прямо заявил суду, что всякий честный человек должен работать на пользу народа.
«Что я, — спрашивал себя Мышкин, — способен на такой подвиг?»
На суде были названы книги, которые распространяли участники нечаевского кружка: «Политическая экономия» Милля, «Исторические письма» Миртова (Лаврова) и первый том Лассаля. Мышкин знал эти книги, он их опять добыл, вторично прочитал и… по-новому понял. Его поразила мысль, высказанная вскользь Лассалем, что всякий рабочий, отдавшись борьбе за интересы своего класса, совершает этим высоконравственный акт, ибо служит делу общественного прогресса… Вот почему, решил Мышкин, публика в зале суда чувствовала симпатию к обвиняемым: от них, словно от солнца, шли яркие лучи необыкновенной моральной чистоты — они принесли себя в жертву общественному прогрессу.
Обрабатывая свои заметки из зала суда, Мышкин обратил внимание на одну деталь: нечаевцы намеревались освободить Чернышевского из тюрьмы. Привлекавшийся по делу нечаевцев Кунтушов собирал уже деньги для этой цели.
Образ Чернышевского навечно вошел в сознание Мышкина: это был первый революционер, который поразил его воображение, это был первый человек, который вселил в него тоску по свободе. Но может ли быть человек таким многогранным? Студенты, протестовавшие в 61-м году против произвола министра просвещения Путятина, считали своим вождем Чернышевского. Каракозов, стрелявший в 66-м году в Александра II, преклонялся перед Чернышевским. Нечаевцы — и те хотят освободить Чернышевского!
«Где истинный Чернышевский? — спрашивал себя Мышкин. — Не может он одновременно быть учителем Каракозова и нечаевцев! Разные они, и разные у них пути!»
Как зародились у Мышкина первые революционные мысли? На это можно ответить с уверенностью: они зародились под влиянием всего виденного, пережитого и прочитанного. То из одной книги, то из другой, то из одного спора, то из другого оседали отдельные мысли, фразы, и они давали мозгу пищу для размышлений.
После Крымской войны появилась масса книг, преимущественно переводных, по естествознанию. На этих книгах воспитывались шестидесятники с их верой в человеческий разум. Вера эта не ослабела и в семидесятых годах, но питалась уже из других источников. Семидесятники накинулись главным образом на социальные науки. В 1872 году появился в русском переводе первый том «Капитала». Стройностью системы и глубиной критики Маркс произвел на молодежь большое впечатление. Другие, более ранние произведения Маркса оставались неизвестными широкому кругу — их, семидесятников, интересовало экономическое учение Маркса и Маркс как руководитель Интернационала. Далее этого их интерес не простирался: они проходили мимо и его философских и исторических взглядов. Молодежь продолжала оставаться на точке зрения утопического социализма и признавала своими учителями Чернышевского, а вслед за ним — Лаврова и Бакунина.
Мышкин, может быть, дольше, чем многие из его товарищей, задержался на Чернышевском. Возможно, читая его работы, перед глазами Мышкина стоял живой Чернышевский, стоял таким, каким он его видел в памятный майский день на эшафоте. Эти личные переживания сблизили, сроднили Мышкина не только с автором, но и с героями его романа: мозг Мышкина без какого-либо сопротивления принимал все доводы автора — так обычно безраздельно верят любимому человеку.
Мышкина увлекла фигура Рахметова: его физическая сила, волевой характер, его умение сочетать теорию с практикой, его высокие, благородные цели, его готовность отдать себя целиком делу революции.
«Что сделал бы я на его месте?» — спрашивал себя Мышкин.
Две-три фразы, мельком брошенные автором, как Рахметов «тянул лямку» с бурлаками — этот первый намек на близкое общение с народом, — возродили в душе Мышкина целый мир детских и юношеских воспоминаний, когда он сам на своей шкуре испытывал рабью долю народа.
И неужели он, часто рассуждал сам с собой Мышкин, ничего не может сделать для этого народа?
Нам только кажется, что деревья зазеленели вдруг, в одно утро, что именно прошумевший дождь вызвал к жизни листву.
Деревья не зеленеют вдруг — мы видим завершенное, но процесс свершения скрыт от наших глаз.
Нужна долгая и кропотливая работа корней, воды, солей, бактерий и солнца, чтобы дерево после зимней оголенности вновь убралось зеленью. Прошумевший дождь был только последним звеном в длинной творческой цепи.
Ипполит Никитич Мышкин давно искал пути к подвигу, весь творческий процесс был в нем самом уже завершен, но нужен был еще толчок, последний живительный дождь, чтобы тоненькие трубочки развернулись узорчатым листом.
И этим толчком, этим последним живительным дождем была для Мышкина встреча с мужественными и благородными юношами на процессе нечаевцев.
Но что? Что делать?
Лавров на этот вопрос отвечает: критически мыслящая личность, взвесив свои силы, должна решиться на борьбу с установившимися историческими формами общества. Какая цель этой борьбы по Лаврову? Уплатить долг народу за полученное образование, за привилегию носить глаженый воротничок!
На вопрос «что делать?» Бакунин отвечает более решительно: установить безвласгье!
Лавров и Бакунин, считал Мышкин, не видят того, что Чернышевский видел еще в начале шестидесятых годов: Россия пойдет по пути капиталистического развития, а ведь только это должно предопределить ответ на вопрос «что делать?».
Но… можно ли остановиться на этом? Что проповедовал бы сегодня Чернышевский, будь он на воле? Ведь не удовлетворился бы одним лишь утверждением, что Россия вступила на путь капиталистического развития! Он предложил бы новые методы борьбы применительно к новым условиям!
Какие методы? Какие? Те ли, о которых говорит Лассаль? Те ли, что предлагает Бакунин?
На какой путь встать ему, Мышкину? И как встать на этот путь, чтобы принести больше пользы делу, чем принесли Каракозов и Ишутин, Успенский и Прыжов?
Револьвер Каракозова Мышкин отверг решительно: новые общественные отношения не создаются выстрелами одиночек! Ему претил и лозунг Нечаева: «Все средства хороши». В этих словах Мышкину чудилось что-то безнравственное.
И Мышкин решил: революцию делает народ, а русский народ нуждается в просвещении, в хороших книгах, в таких книгах, которые рассказывали бы ему, кто накинул ярмо на его шею и как, какими действиями народ может освободиться от ярма. А когда народ это поймет, он сам поднимется против угнетателей.
Дать народу книги? А где их добыть? В обращении находятся одни листовки, брошюрки вроде «Чтой-то, братцы», а ими ограничиться нельзя, нужна массовая серьезная книга!
И Мышкин решил оборудовать типографию, чтобы в ней печатать серьезные книги.
А дальше? Как попадут его книги в руки народа?
Вспомнил Мышкин о Войнаральском.
После первых же слов Порфирий Иванович одобрил затею Мышкина. Они разработали подробный план распространения продукции мышкинской типографии.
Денег у Мышкина было много, но все же недостаточно, чтобы купить целую типографию.
Помог случай: некий Вильде, владелец типографии на Тверском бульваре, искал компаньона. Этим компаньоном и стал Ипполит Никитич. На воротах длинного приземистого двухэтажного дома по Тверскому бульвару, 24 появилась новая, писанная золотом вывеска:
ТИПОГРАФИЯ ВИЛЬДЕ И МЫШКИН
принимает заказы
на печатание книг,
каталогов, афиш, бланков
и визитных карточек.
Компаньоны поделили между собой обязанности: Мышкин распоряжается в книжном отделении, все остальное находится в ведении Вильде.
8
Два раза восставали поляки против царского самодержавия: в 30-м и 63-м годах, и оба восстания русские цари — Николай I и Александр II — жестоко подавили.
После обоих восстаний образовалась в Архангельске большая польская колония: тут были жертвы Николая I и Александра II. Одних поляков гнали в Архангельск непосредственно из Польши, других — из сибирских рудников и якутских поселений, третьих — из знойных степей Прикаспия, где бывшие повстанцы вели каторжную жизнь в солдатских мундирах.
В Архангельске было все для сносной жизни: возможность зарабатывать на пропитание, сочувствие населения, но не было главного, того, по чем истосковались мученики: не было песчаных холмов, окаймленных темно-синим венцом леса, не было деревень, укрытых в садах, не было статуй девы Марии на скрещениях дорог, не было воздуха родины. Работа, подневольная, мелкая, не давала ни радости, ни пищи для ума.
Еще труднее стало изгнанникам, когда подросли дети: они никогда не слышали мягкого рокота Вислы, не видели стрельчатой выси Мариацкого костела, они не поднимались при колокольном звоне к святыням Ясной Гуры.
По чем будет тосковать их сердце?
Вожаком польской колонии в Архангельске был пан Винценты Супинский — ширококостный, круто сбитый человек с красным крупным лицом и длинными сивыми усами. Ему досталось меньше многих: он был участником второго восстания, 63-го года. Однако пан Винценты импонировал товарищам по жестокой судьбе своим неистребимым оптимизмом. Казалось, что из всех красок пан Винценты видит только яркие, радостные. На каторге он воодушевлял своих соотечественников веселой песней; в Якутии, на поселении, он составил из поляков артель по выделке кож, и тем они неплохо кормились. В Архангельске он первый сумел поступить на государственную службу и ухитрился устроить — кого писарем, кого учителем — почти всех ссыльных поляков.
У пана Винценты Супинского был чудесный дар: нравиться людям и быть необходимым начальству. Одному он смешную историйку расскажет, другому умело сунет «барашка в бумажке», третьему «презентует» какую-нибудь безделушку, но с такой торжественностью, словно это не грошовая чепуха, а музейная редкость.
До изгнания из Польши был пан Винценты богатейшим помещиком — его поля, луга и лесные угодья тянулись от Закрочима до самого Модлина, но, потеряв все, он не жаловался на горькую судьбину, он как бы выбросил богатство из своего прошлого, не вспоминал о нем, и это тоже импонировало его собратьям по несчастью, особенно тем, которые и после четырех десятков лет изгнания все еще грезили своими «ланами и лясами».
Но в начале семидесятых годов споткнулась жизнь пана Винценты. В Архангельске появились новые ссыльные — русские, а двое из них зачастили в его дом из-за дочери, из-за единственной его дочери Ефрузины.
И было отчего беспокоиться. Пан Винценты только внешне примирился с изгнанием и грошовой жизнью. Он был достаточно умен, чтобы не воевать с ветряными мельницами, но недостаточно образован, чтобы разбираться в сложных исторических событиях. Пан Винценты ждал своего часа и верил, что этот час наступит. Два восстания удалось царям задушить, удастся ли им удушить и третье? А что вспыхнет третье восстание, был пан Винценты убежден.
И он готовил дочь к этому восстанию.
Все его мечты о свободной Польше, вся его жгучая надежда на возврат имений от Закрочима до Модлина, вся его тоска по утерянной жизни, все его сокровенные чаяния были связаны с судьбой Ефрузины.
Благословила его дева Мария дочерью! И в королевских дворцах редко рождаются такие! Сверкающее золото волос, темные, удивительно глубокого цвета зеленые глаза, в стройной фигуре какая-то затаенная сила, и эта тонкая рука, к которой можно прикоснуться не иначе, как смиренно, словно к ручке девы Марии. Ефрузина выступала легко и горделиво. К тому же умница, с мужественным сердцем. Юноши расцветают от ее улыбки, девушки ссорятся из-за места рядом с ней, даже старцы, приходя в дом к пану Супинскому, забывают о своих недугах.
Пан Винценты воспитывал свою дочь для третьего восстания: он внушал ей, что природа дала ей все, чтобы стать польской Жанной д’Арк.
Ефрузина поверила в свое высокое назначение, она готовилась к нему: много читала, много думала, даже сочиняла обращения к «своему народу».
И все рухнуло: «Жанна д’Арк» вместе с четырьмя своими подругами пошла работать в типографию… наборщицей.
Пана Винценты не хватил удар только потому, что это «несчастье» не стряслось вдруг, а свалилось на него после длительных споров. Правда, на людях пан Винценты держал себя с достоинством, не упрекал свою дочь, наоборот, защищал ее: «Раз Ефрузина это делает, значит так нужно!» Но наедине с дочерью он громы метал:
— Ты умна, ты красива, перед тобой открыты все пути в мир, в огромный мир, а ты сворачиваешь на тропинку, усеянную к тому еще колючками! И какое тебе дело, как живут рабочие в России? Мы с тобой тут не дома, а в неволе. Но бог смилуется над Польшей, он сорвет с нас оковы…
Ефрузина не спорила с отцом: она успокаивала его улыбкой, поцелуями и… продолжала работать в типографии.
И виной всему русские ссыльные. Берви-Флеровский — философ, писатель — сорокалетний младенец! Вместо того чтобы заниматься философией или стихи слагать, пишет он книги, за которые и выслали его к Белому морю. Там, в Москве, он написал книгу о «Положении рабочего класса в России». Казалось бы, человеку его возраста пора угомониться — ведь знает, что ссылка в Архангельск только цветочки, а он и здесь составил «Азбуку социальных наук» и читает ее молодым энтузиастам!
Чем этот Берви увлек его Ефрузину? Долговязый, со слезящимися глазами, с руками красными и узловатыми, как у крючника, а красавица Ефрузина без ума от него. Она забыла муки своих отцов, предала их мечты о свободном будущем — перешла к русским, в стан врагов.
Если бы ее прельстила блестящая жизнь — влюбилась бы в русского князя или просто в богатого русского помещика, — примирился бы с этим пан Винценты, но Ефрузина-работница — никак не укладывалось в его сознании.
Второй русский — Порфирий Иванович Войнаральский. Лицо одно из тех, на которое достаточно взглянуть, чтобы оно навсегда осталось в памяти. Широкий лоб, карие глаза, мягкие и вдумчивые, в которых часто вспыхивают искры сдержанного смеха. В Войнаральском было что-то такое, что внушало к нему доверие и уважение. А ведь лет ему было немного — едва 29.
И именно он, этот вежливый и остроумный Порфирий Иванович, тот самый, которому пан Суиинский нежно жал руку при каждой встрече, именно он лишил его дочери. Берви-Флеровский будоражил молодежь, будил что-то в них, а Порфирий Иванович Войнаральский — этот бывший мировой судья и богач — не будоражил и не будил, а в один из вечеров положил он пятьсот рублей на стол и сказал:
— Уезжайте, девушки, в Москву. Тут вы мохом обрастете. Я уже написал о вас одному хорошему человеку, господину Мышкину.
И девушки поехали в Москву — Ефрузина и четыре ее подруги: сестры Елена и Юлия Прушакевич, Лиза Ермолаева и Лариса Заруднева. Для охраны, а еще больше для благопристойности поехала вместе с ними тетушка Елены и Юлии, угловатая старая дева с плоской грудью и узкими бедрами; в ее движениях сквозило что-то решительное, мужское.
Надежная охрана!
9
В сентябрьское утро 1873 года, когда по Тверскому бульвару шумел ветер и звонницы Страстного монастыря отзывались мелодичным гудом, стояли в воротах дома № 24 пять девушек. Они были легко одеты: в круглых соломенных шляпках, в клетчатых юбках и тонких коротких пелеринках. Их подвела погода: когда они выходили из дома, сияло солнце.
На двери, обитой черной клеенкой, белела табличка: «Вход в типографию».
Девушки прислушивались: тишина, ни шума машин, ни шелеста человеческих голосов.
— Не рано ли мы пришли? — вслух подумала одна из девушек и, как бы наперекор своим мыслям, взялась за скобу и решительно распахнула дверь.
Остальные молча и настороженно последовали за ней.
Девушки сначала попали в полутемный коридор, а оттуда в небольшую светлую комнату, пустую, без мебели. Один только столик на толстых ножках стоял вдоль окна, а на нем, поверх синей бумаги, лежала верстатка; на стене висел большой треугольник; на подоконнике — две бутыли не то с чернилами, не то с краской.
Девушки переглянулись — в их взглядах недоумение, разочарование.
— А вывеска у этого господина Мышкина солидная, с золотом, — с издевкой сказала самая молодая из девушек — белокурая, с нежным цветом лица.
В коридоре послышались гулкие шаги, дверь распахнулась от толчка. Не вошел, а влетел грузный мужчина, с головой, курчавой, как у негра. Увидев девушек, он остановился и вежливо спросил: «Чем могу служить?», хотя по пятнам на его лице и злому взгляду можно было угадать безошибочно, что ему хочется ругаться.
— Мы наборщицы, — сказала высокая золотоволосая девушка. — Мы хотели предложить свои услуги.
— Вы? Наборщицы? Боже мой! Так вас сам Николай-угодник послал! Вы знаете, что такое понедельник? Нет, барышни, вы не знаете, что такое понедельник! Понедельник — это враг рабочего человека! Если он пьет во вторник, то в среду выходит на работу. А вот если рабочий человек пьет в воскресенье, то в понедельник у него ноги не ходят и голова не варит. А я вас спрашиваю: какой рабочий человек не пьет в воскресенье? Барышни! Что же мне делать? Хозяин требует работы, а какая может быть работа в понедельник, если все рабочие пили в воскресенье?
Этот монолог рассмешил и обрадовал девушек.
— Мы можем сейчас же приняться за работу.
— Где вы работали?
— В Архангельске.
— Где? В Архангельске? Это там, где белые медведи? Какие там типографии? Вы что: текстовики или акцидентщики?
— И текст набирали, и акцидентные работы выполняли.
— Все пять?
— Все.
Человек с курчавой головой устало опустился на табурет. Казалось, что он исчерпал себя длинным монологом. Наконец сказал:
— Наборщицы. Все пять. А зачем мне столько? Я вас спрашиваю, барышни, зачем мне столько? Ведь завтра все наши пьяницы явятся. Что прикажете: гнать их в шею? — Он поднялся и бодро закончил: — Одну из вас я оставлю!
— Нет, — решительно заявила золотоволосая, — или всех, или никого!
— Ультиматум! — рассмеялся курчавый, сделав ударение на втором «у».
— Нет, просьба: мы не хотим разлучаться, К тому же о нас знает господин Мышкин.
Девушки были красивые, вежливые — с такими приятно работать.
— Знаете что, барышни, пойдем к хозяину. Он у нас с головой, что-нибудь да придумает. Одну оставит, других где-нибудь пристроит.
Они поднялись на второй этаж. За столом сидел молодой человек, читал гранки.
— Ипполит Никитич, вот барышни из Архангельска!
Ипполит Никитич встал, стройный, крепкий. Под черными вьющимися волосами высокий белый лоб, тонкий нос. Бородка короткая, тщательно подстриженная. Отложной воротничок был подвязан ниточкой черного галстука.
— Наборщицы? — спросил он весело.
Он встретился с зелеными глазами золотоволосой девушки, в них светилось удивление и любопытство, глаза как-бы спрашивали: «А чем ты лучше других хозяйчиков?»
Мышкин видел, что перед ним барышни, решившие жить трудом, — таких было много в то время, но почему Войнаральский так горячо их рекомендует?
— Ипполит Никитич! — вмешался курчавый. — Одну мы оставим у себя, а остальных вы где-нибудь пристроите.
— Всех оставим у себя.
— Ипполит Никитич! Нам столько не нужно!
— Нужно, Николай Абрамович, — сказал, улыбаясь, Мышкин. — Больше книг будем печатать. — Он придвинул к столу стулья: — Садитесь, пожалуйста, и расскажите о себе, а вы, Николай Абрамович, занимайтесь, пожалуйста, своим делом.
Пан Винценты переоценивал внешние достоинства своей дочери: она не была «королевой», она не была той красавицей, что вызывает у встречных мужчин блеск в глазах; даже больше — белокурая Елена Прушакевич была красивее своей подруги.
Что же привлекало людей к Ефрузине? В первую очередь глаза. Они поминутно менялись: то они горячие, и из них струит не обещание счастья, а само счастье; то они как вода в роднике — холодные, строгие; то вдруг обретают фиалковый оттенок — шаловливые, зовущие к радости.
Ипполита Никитича и поразили глаза Ефрузины: они звали, укоряли, ласкали, но не поэтому он остался доволен первой беседой с девушками из Архангельска.
Вела беседу Ефрузина. Да, они дворянки. Хотят работать, зарабатывать, не зависеть от родителей. «Идейные соображения?» — «Нет, пожалуй, веяние времени». Читать? Да, они читали, но Архангельск глубокая провинция, хорошая книга редко туда попадает. «Что мы считаем хорошей книгой? Это дело вкуса. Лариса Заруднева, например, любит Тургенева, а вот Елена Прушакевич предпочитает статьи Елисеева». — «А вы?» — «Как бы вам на это ответить? Я люблю и Тургенева и Елисеева». — «А еще кого?» — «Это что, Ипполит Никитич, любопытство или вы всех своих наборщиков подвергаете такому экзамену?» — «Какой же это экзамен? Хочу выяснить, какую работу вам поручить». — «Любую, Ипполит Никитич, мы любую работу будем выполнять добросовестно».
Говорили о пустяках. Мышкин знал, кто эти девушки, знал, что привело их в Москву, но Ефрузина Супинская, самая серьезная в девичьей пятерке, ни словом, ни тоном не выдала истинной цели их приезда. Да, они хотят работать — вот в чем она убеждала Мышкина, а для кого и во имя чего, об этом даже намека не было в ее словах.
10
Усложнилась жизнь Ипполита Никитича. Типография оказалась первой ступенькой к той мечте, которая жила в нем много лет.
73-й и первая половина 74-го года были годами революционного половодья, когда народники, ломая все преграды, густыми потоками двинулись «в народ», то есть в деревню, к мужику, чтобы его «просветить», «готовить к всероссийскому восстанию». Пензенский кружок, с которым Мышкин был тесно связан, почти полностью разбрелся по деревням. Ближайшие друзья Войнаральского — бывший мировой судья Ковалик и бывшие офицеры Рогачев, Кравчинский, Шишко — уже отправились кто на Волгу, кто в Ярославскую губернию. На Волгу собирался и Порфирий Иванович. Члены трех московских кружков, с которыми Мышкин поддерживал постоянную связь, также разъехались кто куда. В типографию приезжали посланцы многих городов за книгами, за литературой…
Мышкин был подхвачен этим порывом, но в отличие от своих товарищей он не стремился «в народ», а все свои силы тратил на то, чтобы печатать больше и скорее. Он ездил по делам типографии в Пензу, Рязань, Смоленск и Калугу и, знакомясь с огромным кругом революционеров, присматриваясь к их деятельности, все больше и больше убеждался, что работа разрозненных кружков не даст ни скорых, ни обильных всходов. Каждый кружок действовал самостоятельно, лишь одно было у них общее: готовность принести себя в жертву во имя народного блага.
Мышкин считал себя членом социально-революционной партии, хотя такой партии тогда и не было, этим он хотел подчеркнуть, что назрела необходимость в создании партии.
Мышкин был недоволен также и тем, что ни в одном из кружков во всех городах, где он побывал, нет ни крестьян, ни рабочих, то есть нет тех людей, за чье благо кружки борются.
Усложнилась и личная жизнь Мышкина: он полюбил «девушку из Архангельска», Ефрузину Супинскую.
Несколько лет назад он также был влюблен. Первая юношеская любовь его подхватила, закружила, Под обаянием красивой девушки он тогда почти лишился воли. Даже на ум не приходило сомнение: а как ты, солдатский сын, будешь себя чувствовать, в чуждом мире? Эта мысль появилась потом, когда дверь в чужой мир захлопнулась. Но сейчас, когда Мышкин уже видел свой жизненный путь, все стало для него сложнее. Он спрашивал себя: имею ли я право на ее любовь? Свою дорогу я сам выбрал, все, что ждет меня впереди, — моя судьба, но честно ли увлечь на этот тернистый путь любимую девушку? Не честнее ли отстранить Фрузю и от тех небольших дел, которые она делает, оградить ее от опасностей, так щедро разбросанных на пути русского революционера? Не в ограждении ли дорогого существа, не в отказе ли от личного счастья должна проявиться любовь революционера?
Мышкин много разъезжал: он налаживал связь с иногородними кружками, создавал новые, готовил запасные склады для хранения литературы, но своим сотрудникам по типографии говорил, что разъезжает по делам службы в Окружном суде.
Вернется из поездки — прямо с вокзала в типографию. Займется недолго с Николаем Абрамовичем и… в наборную, к Фрузе. О чем они говорили? О людях, которых он видел, о книге, которую читал в пути, о работе типографии…
Шли дни, недели. Сквозь деловой тон Ипполита Никитича стали прорываться теплые нотки. Ефрузина понимала, что он хочет высказаться, раскрыться перед ней, но что-то удерживает его от решительного разговора.
В один из вечеров, когда они остались вдвоем в наборной и Ипполит Никитич, без связи с их разговором, вдруг стал рассказывать о своем детстве, Ефрузина убедилась, что этот человек ей близок, дорог и что волнение, которое охватывает ее при каждой встрече с ним, не что иное, как проявление любви, первой девичьей любви.
Ефрузина сначала сопротивлялась этому чувству, не давала ему проявиться: в сознании Ефрузины образ любимого человека жил слитно, неотрывно от образа соратника, товарища по борьбе. Но постепенно, от беседы к беседе, стал все явственнее прорываться второй облик Мышкина — облик соратника, товарища.
Однажды, когда он оборвал рассказ на полуслове, она не сдержалась, провела рукой по его мягким волосам:
— Почему вы не продолжаете?
Ипполит Никитич не ответил: говорить о главном, о своей любви, он не мог, а отделаться пустыми фразами не хотел. Да и вообще ему трудно говорить: хочется спрятать лицо в золотой кипени ее волос или долго-долго молча смотреть ей в глаза.
И Ефрузина, увлеченная тем же чувством, сама потянулась к Ипполиту Никитичу, припала к его плечу…
11
В Москву прилетели жаворонки и принесли с собой тепло.
Весна пришла и для Мышкина. Все заботы, разъезды, все тяготы, выпавшие на его долю в последние недели, вдруг повернулись к нему своей светлой стороной. Трудное, повседневное отступило, осталась лишь одна конечная цель. А конечная цель для Мышкина — революция, то яркое видение, которое неотступно стоит перед его мысленным взором. И в этом видении, в этом новом мире, населенном счастливыми людьми, немного возвышаясь над другими, точно на пригорке, стояла Ефрузина, озаренная солнцем, — она призывно улыбалась ему, протягивала к нему руки…
Одно это видение придавало Мышкину силу трудиться сверх меры и в месяцы делать работу, на которую надо затрачивать годы.
Было воскресенье. Ипполит и Ефрузина сидели на берегу реки. Апрельское тепло еще мешалось с утренней свежестью. От башен Новодевичьего монастыря тянулись к реке острые тени.
Ефрузина смотрела в воду: мелкая рыбешка, встревоженная чем-то, суетливо мечется из стороны в сторону.
Вот так же — суетливо и тревожно — на душе Ефрузины. Они вышли из дому на рассвете — им стало тесно среди стен, давил потолок, раздражали городские шумы, что врывались в распахнутое окно. Им захотелось в мир — широкий, свободный.
В их жизнь вошло что-то новое, и, хотя это новое не вклинилось чем-то чужеродным, а, наоборот, обогащало, делало их жизнь более яркой, все же Ефрузина чувствовала, что в сердце ее Ипполита закралась тревога.
Может быть, ей не следовало накануне начинать разговора о скучных делах?
Она заставила себя говорить. И Войнаральский и Ковалик жаловались ей, что типография дает мало книг, что именно сейчас, весной, надо готовиться к летней страде, сотни кружков отправляют своих членов в деревню, и их необходимо снабжать литературой. Неужели ее Ипполит остановится на пол пути?
— Ип, милый, книги нужны, много-много книг. Нужны листовки, песенники. Надо во что бы то ни стало расширить типографию!
Ефрузина не ошиблась: в сердце Мышкина действительно закралась тревога. Он шел по жизни твердым, но не поспешным шагом; завтрашний день он основательно подготавливал сегодня. Любовь не ускорила его шагов, наоборот, делала его более осмотрительным: он слишком любил Фрузю, чтобы рисковать ее счастьем!
— Народу надо дать короткую, ясную и занимательную книжку, а не научные трактаты, в которых он еще не может разобраться. Ип, милый, мы должны дать народу эти книжки!
Мышкин был удивлен, и не предложение Фрузи его удивило. Он подумал: неужто она не видит пропасти, к которой приближается? Он скрывал от нее свои далекие цели, считая, что этим оберегает их любовь, а она, оказывается, считает свою цель — служение революции — чем-то высшим, чем-то таким, чему должна подчиниться и любовь!
Да, Ипполита Никитича охватила тревога. Глядя в глаза Фрузи, которые в полумраке наборной отсвечивали лунным блеском, он почувствовал тревогу за ее счастье, за ее жизнь, словно в мгновенном озарении привиделась ему судьба этой удивительной девушки.
Но сказать ей об этом? Ипполит предложил пойти за город, в утреннюю свежесть. Они шли по тихим улицам ранней Москвы. Он вел ее под руку — бережно и крепко, точно боялся, что она сбежит от него.
И сейчас, на берегу Москвы-реки, он также не находил слов.
— Как тут хорошо, — сказала она дрогнувшим голосом.
— А ты хочешь всего этого лишиться.
— Лишиться? Почему? Это утро никогда не изгладится из моей памяти.
Она прижалась к его плечу, заглянула ему в глаза:
— Ведь ты всегда будешь со мной?
— Фрузя, нас могут разлучить…
— Не надо! Прошу тебя, не надо! Ты со мной, и мне не страшно ни за тебя, ни за себя. Ты умный, ты мудрый, ты сумеешь обойти любые опасности. И меня поведешь. С тобой ничего не страшно! Ил! Какое счастье любить, быть любимой и бороться за счастье других! В ненастный день грустно, и можем ли мы быть счастливыми, когда кругом ненастье?
Тревога ушла из сердца Ипполита Никитича:, с таким товарищем можно и море переплыть!
Только человек, безгранично верящий в дело, которое он делает, и к тому еще окрыленный любовью, может сделать то, что сделал Мышкин. Разговор на берегу Москвы-реки произошел 27 апреля, а 4 мая уже появилась у ворот дома № 5 по Арбату, в доме Орлова, новая вывеска:
ТИПОГРАФИЯ И. Н. МЫШКИНА.
Дом Орлова Мышкин выбрал не случайно. По фасаду, с улицы, дом небольшой, всего восемь окон в длину, зато во дворе, где и помещалась типография Мышкина, понастроено столько флигелей и народу в них столько проживает, что чужой человек, направляющийся в типографию, никому не бросится в глаза. Дом имеет запасный выход в Филипповский переулок, а для конспиративных дел это большое достоинство. К тому еще сам владелец дома, Орлов, действительно передовой человек — это он сдавал жене Чернышевского, Ольге Сократовне, помещение для устройства в нем «кооперативной пекарни».
Новую типографию Мышкин так распланировал, что из одной он получил две. Одна выполняла заказы управы и статистического бюро, в другой набиралась и печаталась революционная литература. В первой типографии хозяйничал курчавый Николай Абрамович, во второй — Ефрузина.
«Толстых» книг оставил Мышкин немного: два тома Лассаля, три книги Чернышевского, «Очерки фабричной жизни» Голицынского, «Книгу для чтения рабочим», «Государственность и анархия», «Историческое развитие Интернационала», «Исторические письма», «Сборник новых песен» и «Историю французского крестьянина» Эркмана-Шатриана, переработанную Мышкиным и названную им же «Историей одного из многострадальных». Зато очень расширил отдел, где печатались хлесткие брошюры по списку Ефрузины: «Сказка о четырех братьях», «Речь Лаврова цюрихским студентам», «Дедушка Егор», «Степан Разин», «Крестьянские выборы».
Когда типография заработала в полную свою мощь, выяснилось, что переплетное отделение не справляется с потоком готовых листов. Тогда решили тонкие книжки отправлять для брошюровки в Пензу, к Рогачеву, а для толстых, многолистных книг организовать «мастерскую» в Саратове, где работал крепкий революционный кружок. Для этой цели Войнаральский послал туда своего товарища по Пензе Алексея Кулябко и специалиста переплетного дела Пельконена. Посланцы сняли в Саратове на тихой Царицынской улице домик с просторным мезонином и открыли в нем «Башмачную мастерскую». Для работы в «мастерской» отправились сестры Юлия и Елена Прушакевич, Рогачев и Ковалик.
Дело быстро разрасталось: с почты везли в «башмачную» ящики, ящички, и каждый раз после получения из Москвы новой партии «товара» в витрине появлялись то узорчатые казанские сапожки, то мехом отороченные кавказские чувяки.
«Башмачная мастерская» приобрела широкую клиентуру — за «сапожками» и «чувяками» являлись не только местные товарищи, но приезжали и из дальних городов.
12
Войнаральский также жил в доме Орлова, но с Мышкиным и Ефрузиной встречался не часто. Каждое их свидание требовало уйму предосторожностей.
А 20 мая днем явился Порфирий Иванович в типографию будто за тем, чтобы заказать визитные карточки, и, улучив удобную минуту, шепнул Мышкину:
— Прошу вечером ко мне. Часов в семь.
С Мышкиным пошла и Ефрузина.
На столе — самовар, бутерброды; лампа под густым синим абажуром. Возле окна, в нише, Войнаральский что-то говорил своим гостям.
Увидев Мышкина, Порфирий Иванович пошел ему навстречу:
— Вы, Ипполит Никитич, точны, как всегда, а вы, крестница, как всегда, прекрасны.
— Случилось что? — обеспокоенно спросила Ефрузина.
— Ничего, дорогая, не случилось. Друзья приехали из Питера. Из тюрьмы хорошего человека хотят вызволить..
Мышкин понял, что до его прихода уже состоялся неприятный разговор. Сергей Кравчинский раздраженно ерошил свои черные курчавые волосы. Богатырь — голова в русых кудрях — Дмитрий Рогачев уселся чересчур решительно и хмуро принялся за бутерброды. Ковалик, этот живчик и балагур, сидел словно замороженный. Шишко — чистенький, аккуратненький — присел на краешек стула и, застенчиво улыбаясь, рассматривал свои ногти.
И действительно, как только расселись, Кравчинский вспылил:
— Вы беспечны, Порфирий Иванович! Раз идут аресты, то надо на время притаиться.
— Сергей, — сказал Войнаральский певуче, — не нужно прежде времени бить тревогу. За саратовскую «мастерскую» я спокоен: там Кулябко, на которого полагаюсь как на каменную гору, и, наконец, туда поехал Иван Селиванов — уж этот осторожный человек ничего не проморгает…
— Разве дело только в Саратове? — оборвал его Кравчинский. — Тревожный сигнал из Саратова только подтверждает, что жандармские мальбруки опять в поход собрались!
— И, по-моему, — вмешался Шишко, — прав Сергей Михайлович.
— Други мои, что-то сегодня нашло на вас, — все еще спокойно сказал Порфирий Иванович. — Ваши выводы не соответствуют фактам. Давайте разберемся. Я верю осторожному Ивану Войне, я верю, что за нашей «мастерской» в Саратове началась слежка, но Иван Война все же преувеличивает: от слежки до ареста проходит не один день.
— Вы слишком оптимистичны, — мягко, с едва заметным укором в голосе возразил Шишко.
— Почему вы так полагаете? — насторожился Войнаральский.
— Потому, что слишком много глаз привлекаем! Тюки из Москвы, тюки в Пензу и из Пензы, тюки в Саратов и из Саратова. Где-нибудь сорвется, и… катастрофа. Ведь жандармы на каблуки нам наступают. Сугубая осторожность нужна. А вы, Порфирий Иванович? Месяца два тому назад Мышкин убеждал вас, что полезнее для дела выпускать две-три книги с уверенностью, что они дойдут до народа, чем выпускать десяток с риском, что они попадут в лапы полиции. Вы отмахнулись от дельного совета! А ведь мы рискуем слишком многим.
— А вы слышали про революцию без риска? — язвительно спросил Ковалик, склонившись к Шишко.
— Но рисковать не значит поступать опрометчиво! — горячо ответила Ефрузина.
Войнаральский, сделав несколько глотков из своего стакана, начал с прежним добродушием;
— Нас за столом шестеро мужчин, из них три бывшие офицеры, один бывший унтер-офицер и двое штатских — это мы с Коваликом. И вот эти двое штатских, я и мой друг Ковалик, пытаемся быть храбрее «господ военных». Ничего еще не случилось, а вы, господа военные, уже готовите ретираду. Нужно ли это? Вы, други мои, переоцениваете умственные способности нашей полиции. Расскажу один случай, который убедит вас, что не так страшен черт, как его малюют. Я жил тогда в Петрозаводске. Находился там и Тельсиев, сосланный туда по нечаевскому делу. Приезжает однажды в Петрозаводск некий капитан Штурм, проездом в Финляндию, где ему поручили произвести какие-то геологические изыскания. Как полагается, капитан Штурм нанес визит губернатору, исправнику и остальным сильным мира сего. Капитан Штурм очаровал всех. Ему устраивали приемы, в его честь давались обеды, без него не начинался ни один бал. Пролетела шумная неделя, и капитан Штурм отбыл в Финляндию. Но в этот же день, други мои, исчез из Петрозаводска и политический ссыльный Тельсиев. Случайность? Совпадение? Во всяком случае, никому из власть имущих и в голову не пришло, чтобы милейший капитан Штурм имел отношение к исчезновению опасного государственного преступника. А что, други мои, оказалось? Капитан Штурм вовсе не был капитаном и вовсе не был Штурмом. Это был наш товарищ Дмитрий Клеменц, который приехал в Петрозаводск специально за тем, чтобы увезти Тельсиева. Вот вам, други, хваленая жандармская осведомленность. Смелость нужна и хладнокровие!
Рассказ не убедил слушателей. Кравчинский сказал:
— Не просто смелость нужна, а благоразумная смелость. План, который мы с вами тут разработали для освобождения Кропоткина, тоже смелый, но мы с вами учли все случайности.
Рогачев, более резкий на язык, пробасил:
— Дважды два все еще четыре!
А Шишко, играя ложечкой, поддержал:
— Когда идет дождь, то, выходя из дома, надо брать с собой зонтик.
— Сдаюсь! — Войнаральский поднял руки кверху. — Кстати, вы, Ипполит Никитич, даже рта не раскрыли! С кем вы? С господами военными или с нами, штатскими?
Мышкин ответил не сразу. Ефрузина заметила, что в его глазах появился беспокойный блеск, что его пальцы тянутся к ленточке галстука. Ип раздражен! Она прижалась к нему плечом, шепнула ему что-то на ухо, но Ипполит Никитич, ничего не слыша и ничего не видя, начал:
— С кем я? — И вдруг, окинув Войнаральского быстрым взглядом, резко спросил: — А разве это важно? Мы должны задать себе другой вопрос: кто мы?
— Любопытно, — сказал Ковалик, придвинувшись со своим стулом ближе к Войнаральскому.
— Не любопытно, а трагично! — подхватил Мышкин. — Мы, все здесь сидящие, делаем одно дело, но одна ли у нас цель? Вот вы, Порфирий Иванович, чуть не подняли на бунт целую деревню. Во имя чего? Народ хочет земли и воли. Вот цель, за которую он пойдет на бунт! А какую конечную цель вы преследуете? «Доброго» царя хотите или республику? Скажите это народу. Или вы, Леонид Эммануилович, — обратился он к Шишко, — все для мужика пишете, а про рабочих забыли? А вспомните, с каким сознательным единодушием бастовали рабочие Невской бумагопрядильной! А забастовка на Кренгольмской мануфактуре? Четыре тысячи рабочих решительно заявили: «Так дальше не пойдет!» И в этой забастовке уже стояли плечом к плечу две нации: русские и эстонцы! А вы все твердите: «мужик да община»! И вот, товарищи, я вас спрашиваю: кто мы? Мы все идем в одном ряду. Возможно, что наш путь лежит к эшафоту, так не время ли спросить самих себя: «Во имя какой конечной цели несешь ты свою голову на плаху?» Все мы числимся народниками, но мы все разные, подобно тому, как береза и ель числятся деревьями, а они даже не похожи друг на друга. Не пора ли сказать народу: мы за республику, мы за то, чтобы землю передать крестьянам, а орудия производства рабочим…
— Парижская коммуна? — спросил Ковалик.
— Да, Сергей Филиппович, я за Парижскую коммуну, только без ее ошибок! Мы должны повести дело так, чтобы сам народ воспользовался плодами своей победы. Мы должны повести дело так, чтобы одновременно двигать к цели и крестьян и рабочих!
— Рабочих горсточка, а мужиков миллионы, — отчеканивая каждый слог, заявил Шишко.
— Горсточка? — возмутился Мышкин. — Сорвите повязку с глаз! Из деревень тянется народ в город, и все на фабрики, на заводы. Их уже сотни тысяч, а завтра-послезавтра их будет миллион! С ними нам нужно работать, их надо просвещать и втягивать в борьбу! Вот из Цюриха приехали студентки. В Швейцарии они работали с Лавровым, а приехали в Москву, куда кинулись? Спросите Ефрузину Викентьевну, она встречается с ними.
— На фабрики! — подтвердила Фрузя.
— Слышите, товарищи? На фабрики! Они работают вместе с рабочими, живут жизнью рабочих и агитируют среди рабочих. А мы? Много ли в наших кружках рабочих? Мало, очень мало. И здесь, и в Пензе, и в Саратове, и в Рязани! Во всех кружках, куда я бы ни ездил, мало рабочих! А ведь законы общественного развития одинаковы как для России, так и для Западной Европы! Один мужик не сделает революцию! А мы, если желаем приблизить революцию, если мы действительно социалисты, то должны действовать так, как действуют социалисты на Западе! А ведь они уже кое-чего добились!
Дмитрий Рогачев, этот богатырь в русых кудрях, так стукнул по столу, что ложки звякнули в стаканах:
— Мышкин прав! Стократ прав! У нас концы с концами не сходятся. Наша теория отстает от практики… Хотя подчас мне кажется, что наша теория куда шире нашей практики. Мы проповедуем социализм, но наш социализм какой-то лубочный, яркий, с широкими мазками, а вот того, о чем говорит Мышкин, нет в нашем социализме, нет, товарищи! До прихода Мышкина я вам говорил, что завтра-послезавтра отправляюсь на Волгу и не только для того, чтобы толкать народ к действию, но и для того, чтобы себя проверить, чтобы разобраться в своих сомнениях. Товарищи, задумывались ли вы над тем, почему это народ не валит к нам валом? Ведь мы ему предлагаем хлеб, волю и человеческое достоинство! Ведь мы ему предлагаем все, чего он лишен! А вот Мышкин ответил на этот вопрос, он поставил все точки над «и»!
— Все ли? — спросил Войнаральский. — Мне кажется, что не все. Ипполит Никитич забыл, что Западная Европа опередила нас в общественном развитии на много десятков лет, и поэтому желание равняться по Западной Европе будет по меньшей мере… наивно.
— А я не предлагаю равняться, я предлагаю перенять у Западной Европы опыт…
Войнаральский поднялся:
— Разрешите мне закончить. Я не все еще сказал. Вы, друг мой, забыли, что Россия страна мужицкая, с вековыми традициями, с вековыми предрассудками, с вековым укладом, с тягой к общинному строю.
— Отрыжка славянофильства! — воскликнул Рогачев. — Правительство в шестьдесят первом году оставило общину с землей. Но теперь правительство стремится к уничтожению общины. Само правительство подчеркивает, что у нас нет никаких специфически славянских вековых укладов! Мы носим калоши, а не мокроступы!
— Мне кажется, — раздраженно сказал Кравчинский, — что весь спор затеян не ко времени. Сегодня не важно, «кто мы», а важно, что мы должны делать завтра. Для теоретических споров соберемся в другой раз.
— Не решив вопроса «кто мы?», трудно будет найти ответ на вопрос «что делать?», — жестко сказал Мышкин.
— Что ж, товарищи, — после общего молчания продолжал Мышкин, как-то сразу успокоившись, — будем считать мой вопрос «кто мы?» несвоевременным, вернее преждевременным, и приступим к делу, для которого собрались.
Оказались все же правы «господа военные», а не прекраснодушный Войнаральский.
Уже готовился первый массовый политический процесс. Начальник Московского жандармского управления генерал Слезкин делал свое дело с обычной для него гусарской лихостью и свойственной ему подлой беспринципностью. Он действовал по методу хищника-рыболова, который глушит гранатой тысячи рыб, дабы воспользоваться десятком. По его распоряжению жандармы таскали в кутузку любого юношу или девушку, если они чем-либо выделялись из общей среды или числились «на заметке» у полиции.
Вскоре оказалось под замком — в Киеве и Одессе, в Казани и Петербурге, в Ростове и Москве — около полутора тысяч человек. Жандармствующая прокуратура обставила следствие самыми возмутительными условиями. Арестованных заставляли выдавать своих товарищей: голодом, надеванием кандалов на голое тело, строгим одиночным заключением. Для опорочения действительных революционеров собирались сплетни и лживые доносы провокаторов.
Шпики Слезкина рыскали по городам и селам. Они хватали, арестовывали, и вскоре оказалось, что для одного процесса собрали слишком много обвиняемых. Поэтому, выделив «москвичей» для «процесса 50-ти», жандармы стали готовить «материал» для нового, еще большего процесса.
2 июня Ефрузина получила депешу от Елены Прушакевич из Саратова: «Потрудитесь передать Пудинову (то есть Мышкину), чтобы он приготовился к принятию наших давно ожидаемых знакомых, которые только что посетили нас в Саратове и, вероятно, посетят вас вскоре».
«Ожидаемые знакомые» — конечно, жандармы. Они произвели обыск в Саратове в «башмачной мастерской», нашли там листы отпечатанных книг: «История одного из многострадальных», «Историческое развитие Интернационала», два тома Лассаля, «Очерки фабричной жизни»; нашли сфальцованные брошюры «Сказки о четырех братьях», нашли листовки «Чтой-то, братцы» и бланки паспортов.
«Сапожников» арестовали.
Мышкин подготовился к «посещению»: все, что возможно было вывезти, вывезено, все, что можно было уничтожить, уничтожено.
6 июня жандармы явились в дом Орлова. Обыск они сделали поверхностный и… ничего не нашли. Но когда генерал Слезкин получил из Саратова более обстоятельный рапорт, он тут же направил на Арбат своих молодцов с приказом: «Взять!»
Арестовали всех, кто в то время находился в типографии.
Жандармский офицер закончил протокол и отдал команду своим подручным: «Ведите!» Тогда Ефрузина обратилась к стоявшему рядом с ней полицейскому чину:
— Принесите мне из моей комнаты белый зонтик. Он висит на вешалке.
— Зачем он вам?
— От солнца.
Полицейский хмыкнул и принес зонт. Ефрузина раскрыла его, как бы проверяя, в порядке ли он, потом закрыла и строго сказала:
— Я готова.
Вдруг она рассмеялась:
— А ведь вы правы! Зачем мне зонтик?
— То-то! — ухмыльнулся полицейский.
Ефрузина поставила зонт на подоконник.
Арестованных увели.
И белый зонт спас Ипполита Никитича Мышкина. Под вечер, приехав из Рязани, он вошел во двор дома Орлова и увидел в окне белый зонт. Сигнал: полиция, уходи!
Мышкин мгновенно ушел; на бульваре опустился на скамью.
Там он просидел всю ночь. То сердце рвалось из груди, причиняя ему неимоверную боль, то оно замирало, и Мышкин погружался в блаженное небытие, то нападало на него оцепенение, и мысли в голове лишь мелькали, не задевая сознания, то вдруг наступала ясность, и он получал возможность думать связно. И это были самые тяжелые минуты — Мышкин задыхался от тоски. Он, Ипполит Мышкин, взобрался на высокую гору: ведь; шагая рядом с Фрузей, ему казалось, что голова упирается в небо, и… в одно мгновение его столкнули с горы, обездолили, осиротили….
Перед глазами Мышкина прошла вся его короткая жизнь. По камешкам возводил он гору, чтобы на нее взобраться.
«Почему я ускорил шаг? Знал же я, что торопливость не кончится добром!»
Эта мысль блеснула и потухла, как огонек спички на ветру, но она ужаснула Ипполита Никитича: как может он думать о каком-то благополучии, когда Фрузя в тюрьме, Фрузя, которая даже з лапах жандармов помнила о нем, выставила в окно условный знак: «Скройся… Скройся…»
Бывали минуты, когда Мышкин срывался с места, хотел бежать в участок, в жандармское управление. Только огромным напряжением воли он заставлял себя оставаться на месте: ничто не спасет уже Фрузю.
Наступило утро. Озолотились деревья, появились люди, начали трезвонить колокола.
И Мышкина вдруг охватила надежда: все разрешится! И звон колоколов, и блеск в окнах домов, и пронизанные солнцем верхушки лип — все такое бодрое и привычное, все звало к жизни, к радости…
У Мышкина в кармане был подложный паспорт на имя Павловича, «надежный» паспорт: его сделал сам Порфирий Иванович Войнаральский — художник этого дела. Были у Мышкина и деньги — 426 рублей. Он занял номер в гостинице, помылся, почистился и отправился по полицейским участкам искать Фрузю.
И нашел ее в Пятницкой части. Толкаясь в участке меж людей, он услышал, что помощника пристава зовут «Виктор Александрович Артоболевский».
Знакомая фамилия и знакомое отчество! А вдруг это брат подполковника Алексея Александровича Артоболевского, его школьного учителя, переведенного недавно в Москву?
Через двадцать минут был уже Мышкин на квартире подполковника.
— Мышкин! Рад тебя видеть! — встретил его подполковник с протянутыми вперед руками. — Слышал про твои успехи! Капиталистом стал!
— Маленьким, Алексей Александрович.
— И Москва не в один год построена. Ты молодец. Я всегда говорил, что ты далеко пойдешь. Чем тебя поить: чаем или водкой?
— Спасибо, Алексей Александрович. Водки не потребляю, а чай только что пил. Я к вам, Алексей Александрович, с просьбой.
— Какой?
— Алексей Александрович, у вас есть брат Виктор?
— Есть брат Виктор. Служит в полиции. А тебе он зачем понадобился?
— Очень нужен, Алексей Александрович. Одна моя знакомая содержится у него в участке. Она без денег. О чем я прошу? Передать ей двести рублей.
— И только?
— Только всего, Алексей Александрович. И пусть Виктор Александрович не знает, кто деньги передает. А то еще проговорится моей знакомой, а от меня она денег не примет. Скажите своему брату, что деньги от господина Пудинова.
— Любовь без взаимности?
— К сожалению, да.
— Такого красавца да не любить!
— Бывает, Алексей Александрович.
— А кто этот господин Пудинов?
— Это и есть тот господин, которого моя знакомая любит.
— Твой соперник счастливый! Не знал, Мышкин, что ты такой рыцарь. Глупо, но… похвально. И я бы так поступил. А теперь, Мышкин, расскажи, как ты живешь.
— Живу хорошо, очень хорошо, и благодаря вам, Алексей Александрович. Ваша наука мне впрок пошла.
— Моя наука? К моей науке нужна была еще твоя голова и твое упорство. Вот что дало тебе хорошую жизнь. И я рад за тебя. От души рад за тебя, Мышкин.
Ипполит Никитич поднялся, достал из кармана две сторублевые кредитки, положил их на стол.
— Это срочно?
— В узилище без денег, сами понимаете, Алексей Александрович.
— Ты прав, Мышкин, я не подумал об этом. В два часа я буду у Виктора.
— И полагаете, что он вам не откажет?
— Виктор мне откажет? Нет, батенька, такого случая еще не бывало.
Виктор действительно не отказал брату. Ефрузина обрадовалась не деньгам, а тому, что эти деньги передал «господин Пудинов»: ее Ип на свободе!
Мышкин в тот же день уехал за границу.
14
В Женеве он сразу очутился среди политических эмигрантов. Интернационал к тому времени уже распался на два враждебных лагеря: социал-демократический и анархистский.
Русская колония, которая делилась на лавристов и бакунистов, также враждовала между собой.
В каждом из двух народнических течений Мышкин находил что-то созвучное своим мыслям, своим чаяниям, но полностью ни одно из этих течений его не удовлетворяло. Правда, в Москве он действовал как лаврист: он печатал книги, которые должны были подготовить народную массу к социальному перевороту. И все же связать свою революционную судьбу с лавристами ему мешала «философская осторожность» Лаврова.
В своей программе Лавров писал: «Лишь тогда, когда течение исторических событий укажет само минуту переворота и готовность к нему русского народа, можно считать себя в праве призвать народ к осуществлению этого переворота». Чересчур много «если»!
В бунтовской путь Бакунина он также не вполне верил. Из рассказов. Порфирия Ивановича Войнаральского, Ковалика и Дмитрия Рогачева — «ходивших в народ» — Мышкин понял, что день «всенародного восстания» не так близок, как кажется Бакунину. Да и основное утверждение Бакунина, что «свобода в государстве есть ложь», казалось Мышкину крайне спорным.
Было еще одно течение — якобинское, хотя и незначительное, но очень шумное. Возглавлял это течение нервный, весь дергающийся Ткачев. В этом течении Мышкин усмотрел много противоречий. Лозунг «Революционер не подготовляет, а делает революцию» казался Мышкину верным, действенным, но утверждение Ткачева о «необходимости изменения самой природы человека, его перевоспитание», по мысли Ипполита Никитича, уводило революционеров в область философии, в сторону от живой жизни.
В эмигрантских кругах многие знали Мышкина по Москве, Пензе, Рязани, многие слышали о нем, но не всем он был приятен. Эмигранты — почти сплошь интеллигенты, то есть люди, которые хотят «облагодетельствовать» народ, и вдруг является кантонист, вчерашний раб, и поучает их, интеллигентов, спорит, укоряет. Он зачеркивает все, что они считают незыблемым. Нет социализма в общине, уверяет он; после крестьянской реформы, говорит он, Россия вступила на путь капитализма; капиталистические отношения коснутся и деревни. Ересь! Он требует организации партии, и не просто партии, а партии с двумя программами: с программой максимум и программой минимум! Он требует немедленной перестройки всей революционной работы — для рабочих-де должны быть выработаны одни методы пропаганды, для деревни — другие! И какими доводами оперирует этот солдатский сын! Не из русского общинного уклада черпает он доказательства, а из практики западноевропейских социалистических партий, из протоколов I Интернационала; даже в поступках деятелей Парижской коммуны находит он ошибки! И он требует вождя — мыслителя и практика, который мог бы возглавить революционную борьбу в России! А Лавров? А Бакунин? Нет! В каждом из них Мышкин находит изъяны!
Да, многих раздражал Ипполит Мышкин, но многих убеждала его логика, его страстность.
Деятельная натура Мышкина не могла удовлетвориться одними диспутами. Не для них он приехал в Женеву! И не для того, чтобы любоваться снеговым куполом Монблана или разгуливать по прекрасным набережным бирюзового озера или вдоль быстрой Роны и бешеной Арвы, — нет, не для этого он приехал в Женеву!
Он стал посещать «вольную русскую типографию», помогая Лазарю Гольденбергу и Куприянову при печатании «Истории французского крестьянина», — конечно, за свой труд он денег не брал, — этой работой
Ипполит Никитич как бы продолжал свою московскую деятельность: ведь эту же книгу он печатал всего два месяца тому назад в своей московской типографии.
Потом, когда «вольная типография» закончила печатание «Истории», Мышкин и студент Донецкий пристроились к одному предпринимателю в качестве землекопов.
Мышкин был крепко скроен и вынослив, Донецкий же, близорукий и болезненный, выбивался из сил. Земляная пыль набивалась в глаза, ноздри, рот, а горное солнце невыносимо жгло.
Как-то в субботу Мышкин ушел с работы несколько раньше обыкновенного, договорившись с Донецким встретиться в кафе Грессо, где собирались русские эмигранты. Уже время близилось к закрытию кафе, а Донецкого все нет.
Мышкин бросился искать товарища, но нигде его не нашел: ни на месте работы, ни на квартире.
Тревожную ночь провел Ипполит Никитич. Он еле дождался утра, чтобы поднять на ноги всю колонию. В поиск включились и французы-эмигранты. Обошли знакомых, обошли все кофейни, столовые, библиотеки— без результата: пропал Донецкий.
Но каково было изумление Мышкина, когда он после долгих поисков вернулся в кафе Грессо и увидел там своего товарища!
— Где ты пропадал?
— В кутузке.
Мышкину не верилось: в Швейцарии, в вольной стране, да вдруг — кутузка!
— Как ты туда попал?
— Взяли меня за шиворот да поволокли в участок. Вот так, просто, как это делается у нас. В участке меня обыскали, забрали табак и спички и очень невежливо втолкнули в вонючую каморку.
— За что?
— Об этом я узнал только сегодня. Видишь ли, Ипполит, мы, иностранцы, оказывается, отбиваем работу у швейцарских граждан. И к тому же мы еще и политические! А швейцарская полиция, оказывается, не любит политических… Господин комиссар предложил мне уехать ко всем чертям.
— И ты уедешь?
— Когда честью просят…
— Вместе уедем! — загорелся Мышкин. — На Сен-Готард. Там прорывают тоннель, там и поработаем!
На следующий день они выехали из Женевы. До Люцерна по железной дороге, до Флюэлена — пароходом по Фирвальштетскому озеру, а дальше пешком, с узлами плечах.
Дорога шла вдоль реки Рейс. Со всех сторон нависали горы, — угрюмые, острые, голые.
— Отдохнем, — предложил Мышкин, а когда они устроились, он вдруг сказал: — Скучно здесь. Август месяц. У нас в это время солнце светит золотыми лучами. Осины и березы уже тронуты желтизной. Листья трепещут, и их сухой шелест сливается с треском кузнечиков. Тихо посвистывает синичка. Хорошо, покойно…
— Ты не влюблен?
Мышкин удивленно взглянул на своего спутника:
— Какая связь?
— Самая что ни на есть прямая. Только влюбленные да поэты видят эти золотые лучики.
Мышкин ответил серьезно:
— А ведь ты прав. Я жил в одном из самых поэтических городов России — в Пскове, а города не видел. Ходил по берегу Великой или Псковы и не видел серебристой глади рек, ходил по улицам и не видел ни чудесных ворот Мирожского монастыря, ни причудливой арки «солодежни». И знаешь, когда все это мне открылось? На двадцать шестом году жизни. Я поехал в Псков всего на один день. Я поехал к матушке, чтобы сказать ей, что я счастлив, и когда мы с ней, с моей старушкой, прошлись по Пскову, город вдруг раскрылся предо мной во всей своей чудесной красоте.
— Где она?
— Ты, Ипполит, зря обиделся, — сказал вдруг Донецкий, смотря себе под ноги. — И у меня осталась там девушка, которую я люблю и которая меня любит… Она в тюрьме…
— И моя Фрузя в тюрьме! — выкрикнул Мышкин, и в этом выкрике было столько боли, что вся фраза прозвучала как протяжный стон.
Они пришли в деревушку, разыскали отель.
Чистенькая комната, мягкая постель. Поужинали, легли. В раскрытое окно впархивали ночные шумы; порой слышались дальние взрывы: там рвали гору для тоннеля.
— Ипполит, едем в Россию.
— Что там будем делать?
— Бороться!
Мышкин приподнялся в постели:
— А кто возглавит борьбу? Донецкий! Ты никогда не задумывался над тем, что мы партизаним, что мы наступаем маленькими отрядами, и потому нас бьют. Ты никогда не задумывался над тем, что нам нужен единый центр, единое руководство и что во главе этого центра должен стоять человек, которому верит, которого уважает вся прогрессивная Россия?
— Где ты найдешь такого человека?
— Подумай.
— Думал, Ипполит. Все мы думаем об этом, а все же такого человека не находим.
— Есть.
— Кто?
— Чернышевский!
Донецкий, помолчав немного, сказал:
— Ты прав. Это глубокий мыслитель, ученый, едкий полемист, тонкий конспиратор и с характером. Он мог бы возглавить движение. Но, видишь ли, Ипполит, царское правительство так крепко упрятало Чернышевского, что оттуда никакая сила его не добудет.
«А ты знаешь, как Клеменц увез из Петрозаводска политического ссыльного Тельсиева?» — хотел спросить Мышкин. Но этот вопрос показался ему самому несерьезным. Он повернулся лицом к стенке, накрылся одеялом и раздраженно сказал:
— Давай спать.
Утром они отправились к Сен-Готарду, и там им заявили: «Своих рабочих больше, чем нужно»,
Донецкий поехал в Россию, а Мышкин вернулся в Женеву. Он также собирался на родину, но перед отъездом в Россию хотел поговорить с Бакуниным. Эта фигура его очень интересовала: Бакунин участвовал в революции 1848 года в Дрездене, за что был приговорен сакорнским правительством к смерти. Его не казнили потому, что австрийское правительство потребовало его выдачи и, в свою очередь, хотело его повесить за участие в пражском восстании. Бакунина не повесили и в Австрии, так как Николай I потребовал его выдачи. Царь продержал его несколько лет в Шлиссельбургской крепости и сослал в Сибирь, откуда Бакунин бежал за границу. Явившись в Европу, Бакунин принимает горячее участие в революционных делах. Мышкин слыхал о борьбе Бакунина с Марксом, и многое было ему неясно в этой борьбе.
В Женеве, еще до отъезда на Сен-Готард, Мышкин встретился с эмигрантом Дебагорием-Мокриевичем — тот был ярым поклонником Бакунина.
— Поедемте к нему в Локарно, — предложил однажды Дсбагорий, — сами убедитесь, что это за гигант.
— А вы бывали у него?
— Один раз… Было солнечное утро, и после яркого света снаружи меня поразила темнота в комнате Бакунина. И окна выходили в темноту — не то в сад, не то упирались в стену. В углу стояла низкая кровать, на которой лежал Бакунин. Он лежа пожал мне руку, сопя, приподнялся и стал медленно одеваться.
Глаза мои приспособились к темноте. Я увидел стол, заваленный газетами, простые деревянные полки, загроможденные книгами и бумагами, самовар на круглом столе, там же стаканы, табак, куски сахара, ложки — все вперемешку.
Бакунин необычайно высок и грузен. Огромная голова, высокий лоб, редкие полуседые волосы. Он одевался с трудом — задыхался и часто отдыхал.
Наконец мы вышли в сад, в беседку, где уже ждал нас завтрак.
Говорили о восстании в Барселоне.
— Сами революционеры виноваты в неудаче восстания, — решительно заявил Бакунин.
— В чем была их ошибка?
— Надо было сжечь правительственные здания! Это первый шаг в момент восстания, а они этого не сделали! — с жаром проговорил Бакунин. — Каждый народ в момент восстания раньше всего набрасывается на правительственные учреждения — канцелярии, суды, архивы. Народ инстинктивно понимает зло «бумажного царства» и стремится его уничтожить… Вспомните, товарищи, Пугачева. Но то, что знал Пугачев, того не знали барселонские повстанцы. А это меня удивляет. Ведь испанцы, как и итальянцы, прекрасные конспираторы. Это тебе не немцы, — добавил он с презрительной усмешкой. — Впрочем, такие же плохие конспираторы и русские! Болтуны!
Я сказал что-то в защиту русских, но меня прервал раздраженный Бакунин:
— Что русские! Всегда они отличались стадными свойствами! Теперь они все анархисты! На анархию мода пошла. А пройдет несколько лет — и, может быть, ни одного анархиста среди них не будет!..
Мышкин прислушивался к рассказу Дебагория-Мокриевича, и как ни пытался мысленно представить себе этого поседелого в боях гиганта во главе русского революционного движения — ему это не удалось: настойчиво маячила перед глазами брезгливая улыбка Бакунина. Он даже слышал брюзжащий тон старика, чувствующего близкий закат, раздражало Мышкина и барски-пренебрежительное неверие в стойкость русского характера,
«А Маркс иного мнееия о русских», — хотел сказать Мышкин, но не сказал. А от поездки в Локарно наотрез, отказался.
Дебагорий-Мокриевич удивился: Ипполит Никитич Мышкин как-то сразу порвал с эмигрантами. Дни напролет просиживал он в библиотеке, словно готовился к чему-то очень серьезному. И еще больше удивился Дебагорий-Мокриевич, когда Ипполит Мышкин, придя к нему однажды рано утром, предложил:
— Пойдем на кладбище.
Дебагорий-Мокриевич уважал Мышкина за ясный и смелый ум, за необычную, даже для того времени, начитанность, за мудрость не по возрасту, и вдруг — чудачество!
— Зачем тебе на кладбище?
— Собираюсь в путь. А перед отъездом хочу поклониться одному человеку.
— Кому?
— Пойдем, там увидишь.
Дебагорий-Мокриевич пошел из любопытства.
Среди пышных бюргерских надгробий затерялся простой, неотделанный гранитный камень. На нем надпись:
Серно-Соловьевичу,
политическому осужденному.
Возле этого камня остановился Ипполит Мышкин. Он снял шляпу, склонил голову. Так он простоял несколько минут, потом сказал решительно:
— Пойдем.
— Ты знал его? — спросил Дебагорий-Мокриевич, когда они оказались за оградой кладбища.
— Нет, но он мне близок.
— Чем? Тем, что он робких звал к единству? Или тем, что, работая в Интернационале, не переставал думать о своей несчастной родине? Объясни мне, Ипполит. Твой прощальный визит мне непонятен.
— Все не то, Владимира Александр Серно-Соловьевич помог мне понять и оценить Чернышевского.
Чем был для меня Чернышевский? Главным образом писателем. Его герои мне импонировали, я хотел быть похожим на них. Но Серно своими статьями раскрыл мне Чернышевского-революционера, неуклонно идущего к цели, человеку логической, сдержанной, строго продуманной мысли, человека, для которого существует один идеал — истина, человека сурового, но умеющего радоваться, как ребенок, всякому проявлению жизни в России, всякому поступку, выражавшему сознание, энергию, единственного у нас политического деятеля, который может возглавить революционное движение.
— Ты что-то, Ипполит, в последнее время часто говоришь о Чернышевском. Что это, тоска о прошлом?
— Наоборот, Владимир, по будущему.
— Опять не понимаю! Какое будущее может быть связано с человеком, крепко упрятанным под замок?
— Замок можно сбить!
Дебагорий-Мокриевич окинул Мышкина грустным взглядом.
— Не узнаю тебя, Ипполит. Ты — человек с трезвой головой, а фантазируешь как гимназист.
— И фантазия может иногда осуществиться.
— Не в России!
— Там что, особые люди?
— Особые законы.
— А ты, Владимир, когда создавал кружки на Украине, не знал, что в России особые законы?
Дебагорий-Мокриевич остановился.
— Скажи, Ипполит, что ты задумал?
— Узнаешь, когда выполню.
— Секрет? Как это на тебя не похоже.
— Ты прав, Владимир, я сам заметил, что стал на себя не похож. А ведь это, пожалуй, естественно: время меняет человека.
Дебагорий-Мокриевич знал: если Мышкин не хочет сказать, то из него ничего на вытянешь.
— Пойдем в кафе.
— Идем, — охотно согласился Ипполит Никитич. — Выпьем на прощание по чашке крепкого черного кофе.
— За мечту о будущем? — иронически спросил Дебагорий.
— Нет, Владимир, — серьезно ответил Мышкин. — Мы с тобой уже старики, нам мечтать не полагается, мы с тобой должны дело делать.
15
Мышкин добрался до Петербурга. В городе шли аресты, но Мышкин не входил в дела революционного подполья: получив на «явке» документы на имя Михаила Петровича Титова и немного денег, он тут же уехал в Москву.
В Москве он прожил несколько дней: хотел узнать, где Фрузя. Но безуспешно.
Дальше! Дальше!
Какой тяжелый крест взвалил Ипполит Мышкин на свои плечи! Добраться до Вилюйска и, подобно капитану Штурму, увезти с собой Чернышевского! И этот дерзкий подвиг хочет он совершить один, один против всей полицейско-жандармской своры!
Мы, люди второй половины XX века, и вообразить себе не можем, каких физических и нервных усилий стоило человеку семидесятых годов прошлого столетия добраться до Вилюйска, до географической точки, затерявшейся в сибирском первозданном лесном хаосе, и к тому же человеку, за которым охотится полиция!
Железная дорога доходила тогда только до Волги, а остальные тысячи верст? Через реки, горы, таежное бездорожье. В ямщицких кибитках с ночевками на заклопленных станциях; на баржах и лодках, где сами пассажиры грузили и гребли; пешком со случайными попутчиками, которые делали привалы на каждой речке и на каждой заимке.
Но никакие трудности не пугали Мышкина. Он проехал Нижний, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень…
Ипполит Никитич присматривался к людям, беседовал с ними, и после двух месяцев пути он понял, почему у Войнаральского, Рогачева и Ковалика так горят глаза, когда они рассказывают о своем «хождении в народ». В народе, с народом легче дышит грудь, яснее видят глаза, спокойнее работает сердце. Сколько горя разлито вокруг! Но народ знает, кто причина этому горю, народ верит, что скоро наступит перемена, и эта вера дает ему стойкость, дает ему силу выстоять в беде.
Позади Волга, Кама, Тобол, Иртыш. Позади остались и плоские берега Оби, поросшие редкой чахлой зеленью.
В Томске Ипполит Никитич задержался на две недели, дальше не было пути: на Ангаре шла шуга, говорили, что через пять-шесть дней она станет.
Из Томска он уже выехал в кошеве, в крытых санях. Приходилось все время лежать, катаясь из стороны в сторону на раскатах.
Между Ачинском и Красноярском пошаливали воровские шайки, но Мышкин, надеясь на свой револьвер, ехал и ночью.
От Красноярска дорога то поднималась в гору, то спускалась в равнину. То вдруг горы сменялись суровой, дремучей тайгой. Местами неожиданно выбегали навстречу тройке лесные прогалины, и среди снежных сугробов ютились одинокие заимки.
После Нижнеудинска опять загромоздились горы, обросшие густым лесом.
Показался Иркутск.
В пути Ипполит Никитич общался со многими людьми, но ни с одним из них он не был откровенен, даже с такими, в которых угадывал друзей. Ему, Ипполиту Никитичу, нужна была дружеская помощь, но какую помощь могут ему оказать случайные попутчики? И к тому еще, думал он, какой друг одобрит его дерзкий план?
Но однажды, когда они еще плыли по Оби, Мышкин увидел: на мешках, вытянувшись во весь свой длинный рост, лежит молодой человек и читает. Сначала Мышкина заинтересовала книжка: маленькая, в синем сафьяновом переплете, с золотым обрезом. Потом сам молодой человек: лицо бледное, тонкое, белокурая бородка, нос с горбинкой.
— Библию читаете? — спросил Мышкин, желая завязать разговор.
— Для меня это библия, — ответил молодой человек, присаживаясь.
— Можно ее посмотреть?
Мышкин раскрыл титульный лист и вдруг почувствовал такую слабость, что еле устоял на ногах. «Адам Мицкевич. «Дзяды», по-польски! Такая же книжка, только в другом переплете и без золотого обреза была у Фрузи!
Не отдавая себе отчета в своих поступках, Мышкин поднес книжку к губам, но в последнее мгновение он овладел собой и, возвращая поляку томик Мицкевича, немного суматошливо сказал:
— Кто бы мог подумать! В Сибири! На Оби! — напевным речитативом, подражая Фрузе, он прочел —
Ciemno wsiędsie, głucho wsiędzie… Co to będzie? Co to będzie? [1]Молодой человек испытующе взглянул на Мышкина: в тулупе, валенках и заячьей шапке, с бородкой, давно не стриженной, был он похож на приказчика или молодого купчика из небогатеньких.
— С поляками дела ведете?
— Нет, жена моя полька.
И томик Мицкевича сблизил случайных попутчиков.
До самого Томска длилась их беседа. Поляк был из ссыльных — человек несчастный, но не озлобленный. Он видел вещи такими, какие они есть. Россию он не любил, но о русских говорил тепло — в его несчастьях они неповинны; над русским народом, говорил он, как и над поляками, один и тот же кнут свищет: царь.
Приятным собеседником был поляк, начитанный, любознательный. Он рвался в широкий мир и был благодарен Мышкину за его рассказы о Москве, Петербурге, за его рассказы о Швейцарии.
Описывать города бесстрастно, мертво, как это делают в путеводителях, Мышкин не мог — все его описания, помимо воли самого рассказчика, приобретали яркую социальную окраску, и умный поляк скоро понял, Что перед ним один из тех людей, которые под личиной приказчика или купчика скрывают свои высокие цели. И Мышкин стал ему близок, дорог — ведь эти люди отдают свои силы, свою жизнь за то, чтобы добыть свободу и для него, поляка. Только скромность, а может быть и выработанная годами ссылки конспиративная чуткость, помешала молодому поляку задать последний вопрос: «Кто вы?»
Томск. Баржа подходит к причалу.
— Михаил Петрович, — обратился поляк к Мышкину, когда они сошли на берег, — у вас есть друзья в Иркутске?
— Ни души.
— Я счастлив, поверьте, Михаил Петрович, я счастлив, что могу оказать вам услугу. — Он вырвал листок из записной книжки, написал несколько слов. — Отдайте это письмецо, и вас примут как родного!
Они расцеловались, попрощались…
И вот сейчас, в Иркутске, Мышкин разыскал фортепьянного настройщика, поляка из ссыльных, Вацлава Рехневского и отдал ему письмецо.
Прочитав записку, Рехневский обрадовался:
— Пане добродзею! Я счастлив принять в моем доме друга пана Феликса!
Рехневский усадил Мышкина, смотрел на него восторженными глазами и говорил, захлебываясь, о своем друге пане Феликсе — какой он ученый, какой он благородный, какой он великий музыкант…
Пришла жена Рехневского, пришли его три сына, гимназисты, и всем им хозяин представил своего гостя с такой церемонностью, точно это был министр или по крайней мере иркутский генерал-губернатор.
— Пан Титов — друг пана Феликса, и, конечно, он осчастливит нас на все время своего пребывания в Иркутске!
Мышкину понравился фортепьянный мастер — человек, который сохранил чистоту сердца после многих лет мучений, понравилась его жена — рослая, высокогрудая, со строгим лицом иркутянка, чем-то напоминавшая Ипполиту Никитичу его мать, понравились и сыновья — курносые парнишки с горящими глазами, но поселиться у настройщика Мышкин не хотел. Добрый Рехневский был слишком общителен — его знал весь город, и он знал весь город, а дело, которое затеял Ипполит Никитич, требовало тишины и как можно меньше человеческих глаз.
Осторожно, со многими оговорками дал Мышкин понять своему радушному хозяину, что он приехал в Иркутск ради одного серьезного дела, которое требует сосредоточенности, что приятная, но большая семья Рехневского будет его отвлекать.
— Я устрою вас у моих стариков, — заявила жена Рехневского. — Они живут в маленьком домике за Ушаковкой. Там вам будет покойно.
И действительно, в домике за Ушаковкой было Мышкину уютно и покойно. Старики заботились о нем как о родном сыне и с удивительным тактом не интересовались его делами.
16
«Капитан Штурм» стал для Мышкина символом, но отнюдь не образцом для повтора. «Капитан Штурм» действовал в городе, где жили не только люди, могущие помешать увозу Тельсиева, но и люди, желающие способствовать этому увозу. А в Вилюйске одни тюремщики! Тельсиев жил в Петрозаводске на свободе, с ним можно было общаться, с ним можно было договариваться, а Чернышевский под замком: с ним не посоветуешься, с ним не договоришься.
В мышкинском плане увоза Чернышевского должна остаться идея, метод «капитана Штурма», но сам план должен быть разработан применительно к Вилюйску и к такой крупной фигуре, какой является Чернышевский даже для своих тюремщиков.
Кто может получить доступ в тюрьму к Чернышевскому? Кто может сказать вилюйскому тюремщику: «Отпустите со мной Чернышевского»? Только власть имущий или представитель власти имущего! Чернышевский находится во власти жандармов. Следовательно, самое высокое в Восточной Сибири жандармское управление — Иркутское — может послать в Вилюйск своего представителя с предписанием: «Выдать такому-то государственного преступника Чернышевского». Кого в таком случае послало бы Иркутское жандармское управление? Конечно, жандармского офицера.
Переодеться в форму жандармского офицера несложно: мундир, шашку, побрякушки можно приобрести, а унтер-офицер Мышкин сумеет носить военную форму с такой гвардейской лихостью, что провинциальные офицеры ему позавидуют. Но где достать удостоверение личности и предписание о выдаче Чернышевского? Только в Иркутском жандармском управлении! Документы должны быть подлинные, на подлинных бланках, с настоящими печатями и написаны должны быть документы тем канцелярским языком, в котором обороты, обращения и расстановка слов незыблемы, как в молитве.
Мышкин приступил к выполнению своего плана.
Начал он издалека, со знакомства с людьми, которые к его замыслу никакого отношения не имели: с инженерами, со строительными подрядчиками, со служащими городского архитектурного управления.
В этих кругах скоро оценили чертежно-топографические способности Мышкина — его завалили работой и даже приглашали на штатную должность.
«Михаил Петрович Титов» стал много зарабатывать, к нему привыкли, его считали своим.
К тому же Михаил Петрович оказался широкой натурой: с компанией в трактир пойдет — сам платит, к себе зазовет — угостит на славу.
Круг знакомств постепенно расширялся: уже попадались чиновники, гарнизонные писаря и даже офицеры.
Выл среди новых знакомых и старший писарь» жандармского управления Непейцин — высокий, сухой, со строгим взглядом пожилой человек, но в подпитии. — весельчак и циник.
Мышкин не пил, даже чувствовал отвращение к водке, но с пьянчужкой Непейциным он сразу «подружился». Провозился с ним всю масленицу — ходил с ним по трактирам, устраивал вечеринки у себя за Ушаковкой.
И Непейцин привязался к Мышкину: к концу масленицы он уже отказывался от приглашений в знакомые дома, если одновременно с ним не приглашали его дружка Титова.
От Непейцина шел какой-то сложный и неприятный запах: не то чеснока, не то гниющей картошки. Ипполита Никитича тошнило при встречах с «Вонючкой», как он про себя звал жандармского писаря, но если посмотреть со стороны, как они, подвыпившие (Мышкин после первой же рюмки прикидывался пьяным), обнимаются или песни орут, можно было подумать: настоящие друзья!
И вот однажды, когда Непейцин жаловался своему другу на «паршивую жизнь»: «И в рожу тебе плюют, и денег нет», Мышкин решился:
— Хочешь, Костя, заработать красненькую?
— Какой чудак откажется. Только за что, спрашивается?
— За пустяк. У нас в архитектурном управлении служит инженер Соколовский. На него донос подан. Старик он очень хороший, и мне его жалко: затаскают человека. Донос, наверно, чепуховый: ведь Соколовский — старик смирный, безобидный. Сними, Костя, копию с этого доноса, пусть старик знает, какие грехи ему приписывают.
Непейцин ничего не ответил — вечер они провели как всегда: «песни орали», говорили о пустяках. А через день пьянчужка принес копию с доноса.
Ипполит Никитич прочитал аккуратно переписанную копию, тут же разорвал ее и, передавая Непейцину десятирублевую кредитку, тепло сказал:
— Ну его с жалостью. Соколовский может еще шум поднять, начнут искать виновных и до тебя доберутся. Будут у тебя неприятности. А я, Костя, не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Ты мне друг! Ты мне дороже всяких там инженеров Соколовских!
Непейцин принял деньги, но поступок Мышкина его растрогал: в этот вечер он больше пил, больше плакался на «паршивую жизнь» и чаще, чем обычно, клялся: «За тя, друг Миша…»
Мышкин действовал осторожно: сначала он поручал своему «другу» пустяковые, безобидные дела и за эти пустяки платил выпивкой или мелочью; потом, когда он убедился, что «Вонючка» жаден не только к водке, но и к деньгам, Мышкин попросил принести несколько бланков жандармского управления непременно с печатями.
— Зачем тебе? — удивлялся Непейцин.
— На всякий случай. Знаешь ведь, Костя, все мы под богом ходим. Авось при нужде выручат.
Непейцин принес бланки, и больше, чем нужно было Мышкину: ведь за каждый бланк с печатью Ипполит Никитич платил ему по рублю.
Пьянчужка привык к новому источнику дохода и поэтому был крайне разочарован, когда его друг и от бланков стал отказываться и поручения перестал давать.
— Жадный стал ты, Миша, — жаловался он. — Зарабатываешь сотни, а для друга десятки жалко.
— Эх, Костя, не понимаешь ты меня! К чему мне твои бланки? — Он достал из ящика стола несколько бланков, разорвал их. — Вот твои бланки! На кой ляд они мне? Спросишь, а зачем я их у тебя брал? От доброты сердечной, от любви к тебе. Вижу, тебе трудно живется, давай, думаю, помогу другу. Человек ты благородный, подачки от меня не примешь, вот я и затеял всякие там поручения да бланки. Ну а теперь, Костя, что можно выдумать? Ничего не выдумаешь. Хочешь, я тебе трешку подарю?
— Мне подачка не нужна.
Мышкин налил водку в стакан Непейцина.
— Вот и я говорю, что ты человек благородный, что ты подачки не примешь. Но что можно… — Он вдруг обнял писаря и сказал обрадованно — Костя! Учи меня писарскому делу! Будет и тебе и мне польза! Сегодня у меня есть чертежная работа, а завтра может ее не быть! Правда, Костя? Тогда в писаря подамся! А за уроки я тебе платить буду! По целковому за урок!
И две недели Непейцин учил Ипполита Никитича писарскому делу: как писать предписание на арест, предписание на выдачу арестанта, предписание на перевод арестанта из одной тюрьмы в другую, объяснял, кто какую бумагу должен подписывать, кто кому подчинен.
Непейцин оказался докой в этом деле, а Мышкин — способным учеником. Оба они остались довольны: Мышкин потому, что получил, наконец, возможность замкнуть утомительно длинную цепь подготовительных работ, а пьянчужка Непейцин тем, что за каждый урок получал, кроме выпивки, еще и рубль серебром.
17
Если в последние месяцы иногда закрадывалось в сердце Мышкина сомнение: «Удастся ли?», то сегодня, садясь в кибитку, Ипполит Никитич был уверен в успехе. Он предусмотрел все: в кармане документы на подлинных бланках, дорогу он изучил по лучшим картам, в офицерском мундире будет себя чувствовать не хуже любого старослужащего, а со всякими там урядниками да исправниками он найдет нужный тон.
Тройка сытых и крепких лошадей вынеслась на тракт. Сияло солнце, в небе курлыкали журавли. На сердце радостно.
В Качуге Мышкин пересел на паузок, груженный мукой, солью, салом.
Они плыли по Лене: над рекой нависли высокие утесы и скалы из красного песчаника. По правую руку темнели лиственницы, пихты и кедры.
Минули Жигалово, Усть-Куту, и река Лена развернулась во всю свою ширь.
Народ на паузке попался неинтересный, но назойливо любопытный. Многих интересовал пассажир, который, лежа на мешках, пристально всматривается в берега, словно ищет что-то, и от поры до времени заполняет страницы своей записной книжки закорючками и загогулинками.
Одни подходили к Мышкину и спрашивали в лоб: «Откуда? Куда? Зачем?» Другие нудно рассказывали о своих делах, чтобы получить право на те же вопросы. Мышкин отвечал всем обстоятельно, хотя в ответах его все было выдумано.
Проехали около тысячи верст, проплыли мимо Киренска, прошли знаменитое скалистое ущелье с известковыми утесами.
Паузок пристал у селенья. Мышкин сошел на берег. За ночлег потребовали с него три рубля. Вместо чая предложили ему водку. Здесь край золотопромышленников, край скорой наживы и угарного пьянства.
Мышкин решил немедленно выбраться из этого вертепа!
До Олекмы около семисот верст; ждать попутчиков в поселке было накладно. Мышкин решил купить лодку и ехать один.
Это граничило с безумием: один в лодке на реке в полторы версты шириной; кругом безлюдье, царство комаров, мошкары. Если заболеет? Если «белые ночи» лишат его сна, как это бывало в свое время в Петербурге, и он выбьется из сил среди дикой природы?
Но Мышкин не думал об опасности: он чувствовал необычайный подъем, он считал себя у порога цели, и никакие силы не могли уже остановить его! Перед его глазами неотступно стоял Чернышевский — вот такой, какой виделся ему на эшафоте: мудрый и улыбающийся…
Светлой лентой извивалась река меж темных берегов. Стояла первозданная тишина, и лишь легкий шорох перелетающих с места на место комариных полчищ нарушал иногда эту тишину. Что-то загадочное, таинственное чувствовалось в бесконечном строе могучих деревьев, выстроившихся дозором по обоим берегам. В тихие вечера казалось Мышкину, будто он очутился в храме, суровом и мрачном, где подавляют высокие стены и торжественная тишина. Сильный аромат пихт, словно фимиам, стоит в воздухе; как бледные светильники, мерцают красные жарки и желтые лишаи. Только храм пуст и безмолвен, разве изредка печально затоскует вдали кукушка, точно там, в глубине храма, одинокий голос повторяет все одну и ту же наивную молитву.
Ночью приставал Мышкин к берегу. От зверя и мошкары он раскладывал огромный костер. Над лесом стелется багровое зарево; на реке пляшут огненные языки.
У Мышкина был запас муки, сала, сухарей, кирпичного чая, и из этих запасов он готовил себе несложную еду. Поест, вытянется у костра и думает.
Казалось бы, все уже обдумано, все взвешено, все проверено, а беспокойная мысль, пользуясь любым случаем, толкает Мышкина к началу: нужно ли было?
Ипполит Никитич уже давно убедил себя, что революционное движение в России терпит беды от многомыслия, от отсутствия единой сильной воли, от отсутствия человека, который мог бы направить в одно русло усилия таких смелых, но разных по темпераменту людей, как Войнаральский и Кравчинский, Рогачев и Ковалик, таких смелых, но разных по мироощущению деятелей: петербургских «чайковцев», украинских «бунтарей» или «цюрихцев», обосновавшихся в Москве. Мышкин считал, что перед русскими революционерами стоит одна задача: перестройка общества, но многомыслие усложняет эту задачу, приводит к излишним жертвам. Только острый ум великого человека может подавить многомыслие среди революционеров и из сплава всех течений создать теорию и практику для скорейшего достижения цели.
И этим великим человеком может быть один только Николай Гаврилович Чернышевский — человек сильной воли и острого ума! Другого нет! И не пытаться освободить Чернышевского из неволи равносильно отказу от торжества революции!
Вглядываясь в темноту, смотря на огненные языки на реке, Мышкин в тысячный раз проверял свой план и не находил в нем изъяна. Он мысленно советовался с Фрузей, с Войнаральским и Коваликом, с Кравчинским и Рогачевым, со всеми, кому он верил и доверял, и ни у кого из его воображаемых советчиков план увоза Чернышевского не вызывал возражений.
Белые ночи изнуряли, мошкара ела поедом, подавляло величие суровой природы, угнетала девственная тишина. Время как бы остановилось: вода, лес, небо; вода, лес, небо. Только по все усиливающейся усталости чувствовал Мышкин, что он движется — вперед, к цели.
Наконец-то причалил Мышкин к Олекминску. Здесь — кордон, заградительный пункт по вылавливанию «подозрительных лиц». Но личность и поведение «Титова» ни у кого из начальства не вызывали подозрений.
Отдохнув после изнурительного путешествия, Мышкин стал заниматься «торговыми делами». Встречался с прасолами, договорился с ними о покупке больших гуртов скота, надеясь через этих богатеев завязать связи с крупным золотопромышленником, тем самым, который был известен в революционных кругах как щедрый поклонник Чернышевского: это на его деньги Ольга Сократовна Чернышевская совершила свою первую поездку в Сибирь, к мужу.
Но щедрого золотопромышленника не оказалось в Олекминске.
Мышкин отправился в дальнейший путь.
Жгло июньское солнце, из леса несло палом, а Мышкин верхом на маленькой якутской лошадке весело рысил к Сунтарскому улусу.
18
В улус Мышкин прибыл под вечер, и, чтобы не попасться на глаза улусному начальству, он повернул к юрте, стоявшей особняком в перелеске.
Старик якут — сутулый, с ушедшей в плечи головой, с длинными волосами, что падали ему на плечи, — неохотно принял путника:
— Коровы нет, молока нет, чая нет, у Федотки Большакова корова есть, молоко есть, чай есть, поезжай к Федотке Большакову.
Ипполит Никитич ответил на это:
— Не нужен мне твой Федотка Большаков. У меня есть чай, у меня есть хлеб. Мы с тобой поужинаем, а утром я уеду.
Эти приветливые слова еще больше насторожили старика: путник со своим припасом редко встречается в Якутии. Он вскипятил воду, хозяйничал и исподлобья следил за гостем, добывающим из своего баула хлеб, чай, колбасу и даже сахар. Все это путник выложил на стол, но к еде не приступал: ждал хозяина. Кто он, этот странный гость? На беглого не похож: его слова, его движения уж очень спокойны. На начальство тоже не похож: не кричит, не лается и ничего не требует, наоборот, сам еду предлагает.
Они поужинали и легли спать, но оба не спали.
Ипполит Никитич был возбужден: он у цели! Как встретит его Чернышевский, как дать ему понять, что за ним приехал друг, а не жандарм, что его ждет свобода. а не новая тюрьма? А вдруг он болен или откажется ехать по какой-либо иной причине? Что тогда? Как поступить?
А якут не спал из-за страха перед необычным гостем: всю ночь он следил за ним.
Когда первые солнечные лучи проникли в юрту, старик тихонечко поднялся и выскользнул из юрты: он хотел бежать к улусному начальнику.
Но его остановил мягкий окрик:
— Ты куда, отец?
Якут вернулся:
— Водичку надо, дровишек надо….
— Подожди, оденусь и помогу тебе.
Гость оделся, и… старый якут обмер: перед ним офицер! На плечах — серебро, пуговицы сияют, на груди бренчит, сапоги звенят.
— Давай, отец, завтракать.
Хотя офицер был так же прост в обращении, как и накануне, но старику не лез кусок в рот: превращение подозрительного путника в блестящего офицера казалось ему колдовством.
И еще больше поверил якут в колдовство, когда офицер, накинув на блестящую форму серый плащ с черным воротником, протянул руку и тепло, как сын, отправляющийся в далекий путь, сказал:
— Прощай, отец. Живи счастливо. — И направился к двери.
— Ваше благородия, — еле пролепетал старик, показывая на продукты, оставшиеся на столе.
— Мне они не нужны, отец. Я прибуду на место, а там меня накормят.
Якут долго следил за отъезжающим офицером. Тот сидел в седле как батырь: свободно, ловко, с гордо откинутой головой.
Мышкин заехал в Сунтарскую инородную управу и там потребовал лошадей в Вилюйск, потребовал сухо, высокомерно, как человек, имеющий право распоряжаться казенным добром.
Вот он, Вилюйск! По названию — город, но в действительности даже не село, даже не деревня, это нечто пустынное и мелкое. Русские избы и якутские юрты, лачужки и хибарки, беспорядочно разбросанные, образовали четыре улицы: Малую, Глухую, Набережную и Загородную. Кругом серо и утомительно однообразно. Несколько в стороне, на песчаном бугре, — мрачный тюремный замок, окруженный высокими палями.
Там Чернышевский!
12 июля, жаркий день, а Мышкин кутается в плащ: его знобит, холодные волны перекатываются по спине, а лоб горит, и под фуражкой накапливается пот.
Конь рвется вперед, но Мышкин его сдерживает. Поворот, еще один поворот… Мышкин заставляет себя сидеть в седле прямо, с чуть выдвинутым вперед правым плечом. Ноги дрожат, ком перекатывается в горле, а глаза смотрят на пешеходов холодно, высокомерно.
Наконец — тюрьма! Забор, за забором дом с крутой тесовой крышей.
Там Чернышевский!
Мышкин подъехал к караулке, крикнул:
— Выходи, кто живой!
В окошке караулки показалась голова в казачьей фуражке:
— Чего изволите, ваше благородие?
— Зови начальника!
— Нету начальника.
— Зови помощника!
— Не приказано звать. И пущать никого не приказано. К господину исправнику езжайте. — И голова исчезла.
«Вот как стерегут Николая Гавриловича, — подумал Мышкин. — Жандармского офицера не пропускают к жандармскому унтеру!»
— А где унтер-офицер Фомин?
— К исправнику езжайте, — ответил голос из караулки.
Мышкин поднял коня в галоп. «Что ж, — подумал он, — поедем к исправнику».
А на душе все же неспокойно, во рту горько, перед глазами туман. Но возле дома исправника Мышкин овладел собой, и по ступенькам крыльца уже поднимался надменный жандармский офицер.
Строгим взглядом окинул он казака, отдававшего ему честь, и властным голосом спросил:
— У себя исправник?
— Так точно, ваше благородие! — И казак бросился открывать дверь.
Просторная комната. Из-за стола поднялся пожилой человек в расстегнутом мундире, толстый и безмятежный, с густыми бровями, густыми усами, с большими зрачками, плававшими, казалось, в молочной жиже. Он говорил медленно, слегка задыхаясь:
— Исполняющий должность помощника вилюйского окружного исправника Жирков.
— Поручик корпуса жандармов Мещеринов по секретному поручению, — сухо проговорил Мышкин.
— Чем могу служить, господин поручик?
Мышкин сел и, не торопясь, достал из кармана три документа.
Первый.
Телеграмма из Благовещенска от 3 июня за № 317: «Иркутское жандармское управление Вилюйскому исправнику. Предписываю оказать необходимое содействие поручику корпуса жандармов Мещеринову, командированному сопровождать Чернышевского в Благовещенск.
Барон Фредерикс Верно: Пекко».Второй.
«Препровождая при сем телеграмму, полученную в управлении на Ваше имя от генерал-губернатора Восточной Сибири, управление с своей стороны покорнейше просит Вас не отказать в содействии поручику Мещеринову по исполнению возложенного на него поручения.
4 июня 1875 г. № 419.
И. д. Начальник Управления Капитан Соколов Адъютант Управления Поручик Бурлей».Третий.
Предписание Иркутского губернского Жандармского управления от 4 июня 1875 г. за № 418 унтер-офицеру Аггею Фомину: «Предписываю исполнить в точности и без малейшего замедления все приказы поручика корпуса жандармов Мещеринова, относя щиеся до перевода посаженного в г. Вилюйске Николая Чернышевского во вновь назначенное местожительство.
И. д. Начальник Управления Капитан Соколов Адъютант Управления Поручик Бурлей».Жирков читал документы долго и внимательно, но, как показалось Ипполиту Никитичу, с какой-то нарочитой неторопливостью.
— Распорядитесь! — резко сказал Мышкин.
Толстый исправник достал из кармана носовой платок, вытер им лицо и рассмеялся:
— Ать-два — и распорядитесь. Торопыга вы, господин поручик. Легко сказать «распорядитесь». Ведь вы требуете Чернышевского, Чер-ны-шевского, господин поручик.
Мышкин вскочил на ноги: звякнули шпоры, звякнули наконечники аксельбантов.
— Господин исправник! — сказал он строгим, командирским голосом. — Вы службы не знаете или… пьяны! Приказы подписаны генерал-губернатором Восточной Сибири и жандармским управлением, а вы какую-то чушь несете! Извольте немедленно выполнять!
— Эх, душа моя, — ответил полицейский тем же веселым тоном. — «Извольте немедленно выполнять приказание!» Чье, уважаемый поручик? Генерал-губернатора Восточной Сибири и начальника жандармского управления? Маловато, душа моя, маловато. Они Чернышевским не распоряжаются. Имеется секретный циркулярец не допускать к Чернышевскому никого, никого, душа моя, даже самого господа бога, если у него не окажется разрешения от господина якутского губернатора. А его у вас нет. Вон оно, душа моя, как обстоит дело. А его сиятельство барон Фредерикс, а тем более начальник Иркутского жандармского управления должны были знать об этом циркулярчике. А то, душа моя, что получилось? Сколько верст вы отмахали, сколько лошадей вы загнали и… зря. зря. господин поручик Мещеринов! — Он поднялся, застегнул верхнюю пуговицу мундира, подошел к Мышкину. — Идемте, душа моя, ко мне в юрту, водочки выпьем, медвежатинки поедим, благоверная нам постельку приготовит, храповицкого зададим в два голоса, а мои орлы запросят Якутск…
Неужели все рухнуло? Эта мысль не вспыхнула в голове, а как бы свалилась на Мышкина с высоты: он еле удержался на ногах.
В самом начале разговора с толстым Жирковым ему почудилось, что полицейский говорит с наигранной веселостью, даже в его угодливости Мышкин уловил издевательские нотки. Но с издевкой полицейского справился бы Мышкин, он сумел бы внушить ему уважение к себе и к своим документам. А вот когда Жирков заговорил о секретном циркуляре, тут понял Ипполит Никитич, что почва ушла из-под его ног.
Тюремщики Чернышевского его перехитрили! Он обезвредил себя от всех нормальных препятствий, он предусмотрел все нормальные задержки и заминки, но предвидеть, что из-за Чернышевского правительство изменит установленный веками иерархический порядок — это не дано человеческому уму! Для входа в острог к Чернышевскому недостаточно разрешения начальника края и жандармского управления! Дьявольская осторожность! Или, вернее, животный страх перед Чернышевским!
Надо спасать то, что еще можно спасти: себя!
— Циркуляр, о котором вы говорите, уже отменен, — сказал он спокойно, — но вас, видать, еще не поставили в известность. Потрудитесь достать мне лошадей. Еду в Якутск!
Это предложение устраивало полицейского: он подозревал, что перед ним именно тот самозванец, о котором ему писали, но… вполне уверенным в этом все же не был: уж очень «жандармистый» вид у поручика Мещеринова! Арестуешь его, а потом хлопот не оберешься. Спокойнее будет переправить его под надежной охраной в Якутск, а там пусть разберутся.
— Пожалуйста, господин поручик. Лошадок я вам дам резвых, скоком домчат вас до Якутска. Бубякин! — позвал он.
В комнату вошел казак, тот самый, который встретил Мышкина на крыльце. Рыжий, волосатый, скуластый.
— Чего изволите?
— Маршинцев уехал в Сунтарское?
— Никак нет, здесь он.
— Хорошо. Пусть не ездит в Сунтарское. В Якутск поедет вместе с тобой. Вы будете сопровождать их благородие господина поручика Мещеринова.
— Мне и одного казака достаточно.
— Что вы, господин поручик! Вы нашего края не знаете. До Якутска семьсот верст, и каких верст — глухих, неспокойных. На хайлаков напоретесь — одним казаком не управитесь.
Мышкин горько улыбнулся: «Почетная свита или арестантская стража?»
«Хотя какая разница, — решил он, — ведь что-либо иное предпринять уже невозможно. Семьсот верст — длинный путь, вот в пути и подумаю».
Два-три современника, оставившие нам скупые воспоминания о Мышкине, утверждают, что Ипполит Никитич сам себя разоблачил перед вилюйским исправником и разоблачил себя тем, что аксельбанты были у него пропущены не через тот погон, какой полагается.
Эти современники измыслили красочную деталь, чтобы ею оправдать провал мышкинского плана. Они забыли о том, что Мышкин рос в военной семье, что он учился в двух военных училищах, что он служил в академии, где чуть ли не все офицеры носили аксельбанты.
Нет, не аксельбанты подвели Мышкина! Его подвел дьявольский режим, который III Отделение создало специально для Чернышевского.
Подвел Мышкина и донос. Какой-то негодяй сообщил жандармам из-за границы, что в Россию отправляется революционер для увоза Чернышевского из места ссылки. III Отделение подготовилось к встрече. На сотни верст вокруг Вилюйска были расставлены капканы, за новым человеком следили в тысячу глаз и о каждом его шаге сообщали в Вилюйск.
Накануне приезда Мышкина Жирков получил два письма: одно от письмоводителя Сунтарской инородной управы, другое от помощника исправника Поротова. Первый сообщал, что «г. Мещеринов прибыл в Сунтарскую инородную управу из Олекминска на лошадях наемных, не имея при себе ни казака и никакого человека, и из слов его можно заключить, что он был в Олекминске и его там никто не знал».
Поротов, который встретил Мышкина в десяти верстах от Верхневилюйской инородной управы, сообщил, что поручик Мещеринов расспрашивал его, «когда должна быть почта из Якутска в Вилюйск, и объяснил, что не знает о том, когда он возвратится и каким путем из Вилюйска, через Сунтар или Якутск, и, может быть, не один».
Все это показалось Жиркову подозрительным: не тот ли это революционер, которого ждут?
19
Пустынный унылый тракт: мхи, болота, комариные тучи.
Мышкин смотрел по сторонам и думал о своем, нерадостном. Что ждет его в Якутске? Губернатор задержит его под каким-нибудь благовидным предлогом и снесется с Иркутском…
Стоит ли пытаться спасать то, чего уже нельзя спасти? Не лучше ли отступиться сейчас, чтобы на досуге разработать новый план?
А можно ли отступиться? Не поздно ли? Может он свернуть с тракта, чтобы затеряться в бескрайных просторах? Сопровождают его казаки или они «везут» его, чтобы сдать в Якутске «под расписку»?
Четверо суток Мышкин присматривался к казакам: Они были вежливы, услужливы. На станциях заботились о чае, о ночлеге. Но три ночи подряд, когда Ипполит Никитич выходил во двор будто за надобностью, он наталкивался или на Маршинцева, или на Бубякина — они разгуливали по двору или сидели на ступеньках крыльца, и всегда при оружии.
Сомнения рассеялись: казаки стерегут его!
И Мышкин решил бежать.
Под вечер он пустил коня крупной рысью. Казаки едва поспевали за ним.
— Господин поручик! Потише! — требовал Бубякин.
Мышкин не сбавлял шага. Расстояние между ним и казаками все увеличивалось.
Бубякин поднял своего коня в галоп.
— Господин поручик!
Мышкин откинулся в седле и на ходу выстрелил в Бубякина. Раз, еще раз. Казак вскрикнул, схватился за ногу и повернул коня.
Но Маршинцев не отставал.
Тогда Мышкин на мгновение остановился, перезарядил револьвер и выпустил несколько пуль в сторону Маршинцева. Ни одна из них не задела казака, но он струсил и отстал.
Мышкин в тайге — густой и надежной. Проскакав больше часа, он слез с коня.
Баул был приторочен к седлу. Развязывать узлы Мышкин не мог: руки дрожали. Он перерезал ремни, снял баул и, прежде чем достать из него штатское платье, прилег и… уснул.
Сказалась усталость, накопленная в течение нескольких месяцев, сказалось нервное напряжение последних дней, сказалось потрясение в связи с неудачей.
Утром, проснувшись, Мышкин окаменел от неожиданности: конь, оторвав повод, ушел.
Наспех переодевшись, Ипполит Никитич бросился искать коня.
Весь день, он рыскал по тайге, посвистывал, звал, но тщетно: конь исчез. После стольких волнений, после невероятных нечеловеческих усилий, после того, как он благополучно ушел от казаков, оказаться пленником тайги!
Четыре дня Мышкин плутал по тайге. Бывали минуты, когда он валился на землю с твердым намерением: «Ни шагу дальше!» Но опять вскакивал и шел дальше, к Лене: там он добудет лодку…
Сквозь поредевшую тайгу блеснула излучина реки!
Точно пьяный, шатаясь, Мышкин добрел до берега. Упал на песок. Устало смотрел в небо, в холодное, бездонное. Широкая, как море, река мягко рокотала.
— Хайлак? — услышал Мышкин.
Он приподнял голову: рядом стоял человек в рвани, в опорках на босу ногу; череп желтый, голый, а лицо в серой, свалявшейся поросли.
— Не понимаю, о чем спрашиваешь.
— Ты хайлак или беглый?
— Хочу через Лену, — ответил Мышкин, не понимая, о чем спрашивает этот дикий человек.
— На крыльях, что ли? Или лодка припасена?
— Нет у меня лодки.
— Тогда пойдем пошарим.
— Отдохну немного.
«Дикий человек» присел, достал из-за пазухи краюху.
— Хочешь?
— Дай,
Они поели хлеба, запили водой из реки.
— Далеко собрался?
— В Якутск.
— В Якутск, — повторил «дикий человек», — а ты кто будешь? На хайлака не похож — жидкий, на беглого кандальника тоже не похож — лицо больно справное, а дышишь, точно псы за тобой гонятся.
— Угадал. Гонятся.
— Не отгадчик я. В тайге казаков встретил, якутов встретил. Какого-то офицера ищут.
— Меня ищут.
— Офицер? Ты?
— Никакой я не офицер. Форму только надел.
— Для доброго дела?
— И дела не сделал.
— Тогда уходи. В другой раз сделаешь.
— А как уйти?
— Я и говорю, пошарим, авось лодку раздобудем.
Мышкин поднялся:
— Идем!
Но идти им не пришлось: в лесу послышалось ржание лошадей, голоса людей.
— Ты грамотен? — спросил внезапно Мышкин.
— Да.
Мышкин вырвал листик из записной книжки, написал что-то.
— Пошли письмо по этому адресу. Только два слова: «Ипполит арестован».
Человек взял записку:
— Пошлю. А ты бросайся в воду, плыви.
— Сил нет. Выдохся. Четыре дня ничего не ел.
— Помогу.
— Далеко не уплывем. Слышишь? Их много. Уходи. Чтобы и тебя не прихватили.
Человек пожал Мышкину руку и исчез в зарослях.
Через несколько минут показались верховые. Они кричали, махали руками, но к Мышкину боялись приблизиться. Когда же он, желая покончить с дурацкой сценой, отбросил револьвер, верховые вмиг соскочили с лошадей, накинулись на него и стали вязать припасенными для этой цели веревками.
Тут прискакал казак Маршинцев.
— Вези меня в город! — проговорил Мышкин строго. — И немедленно развяжи руки!
Маршинцев сначала разразился упреками и руганью, потом, как бы укрощенный строгим взглядом Мышкина, сказал что-то якуту.
Тот развязал Мышкину руки.
После допроса на ямщицкой станции Мышкина отправили в Якутск, в тюрьму. Камера небольшая: оконце, кровать, — жить можно, хотя воздуха мало, а может быть, Мышкину только показалось: ведь последние месяцы он провел в лесах и на реках!
А вот кандалы, надетые на голое тело, действительно угнетали: больно и неудобно.
Любое несчастье осложняется последующим горьким раздумьем. Вспыхивают вопросы: «Если бы я этого не сделал? Если бы я так поступил?» Мышкина же не мучили сомнения. Во время следствия он открыто заявил, что «сочувствовать Чернышевскому он считает обязанностью всякого порядочного человека», а его освобождение — своим святым долгом революционера.
Мышкина не мучили сомнения: он поступал так, как должен был поступать!
Попытка спасти Чернышевского не удалась — все это уже в прошлом, теперь надо думать о будущем. С 20 июля, со дня ареста, Мышкин настаивал на допросах, что он «Михаил Петрович Титов», сын священника из Вологды, а 10 августа он неожиданно для прокурора назвал себя своим настоящим именем.
Почему он это сделал? Мышкин понял, что за «действия» Титова будут его судить сибирские жандармы, а «дело о типографии Мышкина» будет слушаться в Москве. Там, в судебных заседаниях, он сможет заявить во всеуслышание, за что борются революционеры, там, на гласном суде, расскажет он народу, какой подлый режим создали жандармы для Чернышевского!
И расчет Мышкина оправдался. Якутские жандармы снеслись с Иркутском, Иркутск с Петербургом, и оттуда последовало распоряжение: «Государственного преступника Мышкина немедленно препроводить в Петербург».
Для якутских жандармов Мышкин сразу стал «фигурой»: с него сняли ручные кандалы, перевели в светлую камеру, начали лучше кормить, и сам губернатор разрешил Мышкину написать письмо своему брату.
Этим разрешением Ипполит Никитич воспользовался тут же, в тюремной канцелярии:
«Григорий!
Вот уже более года, как я не писал тебе ни единой строки. Ты, вероятно, думал, что я, убравшись подобру-поздорову из России, поселился навсегда за границей, и, конечно, весьма удивился, получив от меня письмо с пометкою из Якутска. Да, я давно уже в России, и вот ровно месяц, как очутился в месте, где люди, аки птицы небесные, не имеют надобности заботиться о завтрашнем дне, ибо казна питает их, и откуда для меня «одна дорога торная» открыта… сам догадаешься куда. Попросту сказать, я арестован; с 22 июля содержусь в якутской тюрьме, в секретной одиночной камере, облачен в серый арестантский халат с бубновым тузом на спине и закован в кандалы. Судьба, как видно, подшутила надо мною: я, враг всяких привилегий, очутился в привилегированном положении: кроме меня, нет в тюрьме никого в кандалах, я один кандальник. Но ты не поддавайся тяжелому впечатлению, которое могут произвести только что написанные мною строки. Ведь я знал, на что иду, я давно уже примирился с мыслию о неизбежности того положения, в каком я нахожусь в настоящее время и какое еще ждет меня впереди. Поэтому я хладнокровно переношу свое тюремное заключение и, надеюсь, не менее хладнокровно отправлюсь в путь по той длинной-длинной, давно уже проторенной дорожке, по которой ежегодно шествуют тысячи бедного русского люда. Я желал бы также, чтобы и ты и в особенности маменька не представляли себе моего положения в слишком мрачном свете. Стоит только сравнить мое настоящее не с моим же прошлым, а с судьбою большинства российских граждан, чтобы убедиться, что я не имею никакого особенного права слишком хныкать, слишком жаловаться на свою долю. Не знаю, что будет дальше, а теперь у меня есть квартира, теплая одежда, кусок хлеба, порция горячих щей и даже несколько старых №№ журналов министерства юстиции. А велико ли количество россиян, которые могут похвастаться лучшею материальною обстановкою; и, напротив, сколько есть людей, у которых не только щей, но и хлеба-то порядочного не всегда найдется. Ты спросишь: а лишение свободы, а нравственные страдания? Но и вне тюремной ограды закон отмежевал для свободы такой незначительный надел, лишение которого не может составлять слишком существенной потери. А что касается до иных нравственных страданий, то хотя я и желал бы поговорить с тобой об этом вполне откровенно, не становясь на ходули и не сгибаясь под тяжестью того или другого давления, но ты знаешь, что полная откровенность не всегда возможна в присутствии совершенно посторонних лиц.
Тебя, конечно, интересует вопрос: каким образом я очутился в якутской тюрьме. Но я сомневаюсь, чтобы следственная комиссия, с разрешения которой я пишу настоящее письмо, дозволила мне отвечать на этот вопрос, и потому я обойду его лучше молчанием.
По окончании следствия по преступлению, совершенному мною в Якутской области, я буду отправлен в Иркутск, но где именно будут судить меня: в Питере или в Сибири — не знаю. Постарайся подготовить маменьку, чтобы судебный приговор, который будет произведен надо мною, не произвел на нее слишком тяжелого впечатления. О настоящем же моем положении лучше до поры до времени вовсе не говорить ей; пусть лучше думает, что я еще благодушествую в какой-либо неизвестной стране…
Твой брат
И. Мышкин».
Но губернатор обманул Мышкина: письмо никуда не ушло!
20
Авдотья Терентьевна чувствовала себя несчастной не потому, что с Ипполитом приключилась беда, а потому, что не знала, какая беда и как этой беде помочь. У нее делали обыски, ее вызывали в полицию, но никто не говорил ей, что с Ипполитом. Неизвестность угнетала.
Наконец письмецо! Всего четыре слова: «Ипполит арестован», и подпись: «Таежный бродяга».
Ее Ипполит арестован? За что? Не вор же он! Не убийца! Григорий говорит: «За политику». Чепуха! Что он, Ипполит, враг себе, чтобы против царя бунтовать? Чего бы он хотел добиться бунтом? Ведь всего уже достиг: дело у него прибыльное, жена красавица, от людей ему почет. Не станет ее Ипполит рисковать добром, чтобы приобрести лихо! Тут какая-то ошибка вышла!
И Авдотья Терентьевна решила немедленно отправиться в Петербург, к самым важным генералам: она им расскажет о своем Ипполите, и они поймут, что вышла ошибка.
Авдотья Терентьевна собрала 23 рубля, все, что могла достать, и направилась в столицу. Там она заехала к Дорофеичу, дружку ее. второго мужа, тоже полковому фельдшеру, и по его совету в первый же день отправилась в III Отделение.
После томительного ожидания в приемной, когда окна уже заволакивались предзакатной серостью, к Авдотье Терентьевне подошел усатый жандарм и твердо сказал:
— Поручик ушли, пожалуйте завтра.
А завтра пришлось ждать опять, до самого вечера, когда солдат с тряпкой и метлой принялся за уборку.
— Чего ждешь-то? — обратился он к Авдотье Терентьевне.
— Генерала жду.
— Ишь, чего захотела, генерала. Ты бы сначала с господином поручиком поговорила.
— А где он, этот господин поручик?
— Ушли уже. Время, вишь, позднее. Приходи завтра и прямо к господину поручику просись.
Авдотья Терентьевна дала солдату гривенник поблагодарила его за совет и отправилась домой.
В третий раз она пришла к Цепному мосту чуть ли не на рассвете. При ней швейцар раскрыл ворота, при ней начали съезжаться служащие; она первая зашла в приемную.
Усатый жандарм — Авдотья Терентьевна уже знала, что его зовут Семеновым, — еще в фуражке и шинели, проходя через приемную, удивленно спросил:
— Зачем пожаловала?
— Генерала хочу видеть! — решительно заявила Авдотья Терентьевна.
— Кого?
— Генерала! Вот кого! И ты на меня не смотри телячьими глазами. Мой муж тоже унтер-офицер и не меньше твоего царю-батюшке служил!
В ее словах было столько злобы и какой-то угрожающей силы, что жандарм почувствовал себя неловко.
— А дело у тебя какое? — спросил он.
— Сына арестовали! Понимаешь, сына! А он ни телом, ни духом не грешен!
— Подожди.
Семенов исчез за дверью.
После долгого ожидания появился в приемной офицер:
— Это у вас сына арестовали?
— Да, моего сына арестовали.
— И что вам тут нужно?
— Нужно видеть генерала.
— Зачем?
— Чтобы объяснить ему.
— Вы можете объяснить мне.
— Нет, — твердо сказала Авдотья Терентьевна, — я объясню генералу!
Офицер поглядел на Авдотью Терентьевну сверху вниз, пожал плечами и ушел.
Опять потянулось время. Авдотья Терентьевна заглянула в комнату, где сидели офицеры. Увидев женщину, один из них крикнул:
— Семенов! Ты чего смотришь?
Семенов подошел к Авдотье Терентьевне, сказал внушительно:
— Сидите смирно.
Немного погодя вошел в приемную другой офицер:
— Вы непременно хотите видеть генерала?
— Да!
— Но вы можете мне сказать, я доложу генералу.
— Нет! — не сказала, а крикнула Авдотья Терентьевна. — Я сама доложу генералу!
До этой минуты она подавляла в себе желание кричать, требовать, но вдруг раскрылось перед Авдотьей Терентьевной, что эти лощеные офицерики издеваются над нею, над ее материнским горем, что они хотят ее спровадить, не допустить до генерала, зная, что стоит ей рассказать ему о своем Ипполите, как «ошибка» тут же разъяснится и ей вернут сына.
— Я сама доложу генералу! — повторила она с настойчивостью убежденного в своем праве человека.
И этот офицер поглядел на нее сверху вниз, и этот офицер пожал плечами и ушел.
В приемной стали скапливаться люди. Рабочий день был в разгаре. К одним выходили офицеры, других куда-то вызывали, а Авдотья Терентьевна все сидела да сидела: ее никуда не вызывали, никто к ней не подходил.
Авдотья Терентьевна была подавлена, уничтожена. Сердцем матери она верила, что от ее настойчивости зависит судьба сына — увидит генерала, поговорит с ним, и ее Ипполит спасен, но как прорваться к нему?
— Пожалуйте, госпожа Мышкина, — вдруг услыхала она шепот за своей спиной.
Авдотья Терентьевна вскочила, засуетилась и последовала за своим поводырем.
Прошли две комнаты. В третьей за огромным письменным столом сидел седой с густыми бровями генерал.
— Что вам нужно? — спросил он строго.
— Сына, моего сына арестовали.
— Арестовали, значит так нужно было.
— Но мой Ипполит не вор, не убийца и не бунтовщик против своего государя…
— Вы не знаете своего сына.
— Я, мать, не знаю своего сына? Ваше превосходительство, разрешите мне его увидеть, поговорить с ним!
— Нельзя.
— Матери нельзя увидеть свое дитя? У вас, верно, никогда не было матери!
— Поручик, проводите мадам Мышкину.
Офицер взял Авдотью Терентьевну под локоть и вывел из кабинета.
Все надежды рухнули. В сердце вскипела ненависть. Авдотья Терентьевна закричала в исступлении, доведенная издевательством и людской черствостью чуть ли не до потери рассудка:
— Будьте прокляты, прокляты! Берите меня, арестуйте, наденьте кандалы! Я должна быть с сыном! Слышите, проклятые? Пустите меня к нему! Куда вы его запрятали? Где он? — в ее крике было нечто до того хватающее за сердце, было такое нечеловеческое горе, что даже жандармы, обступившие ее, не решились притронуться к ней.
Из-за двери послышался голос:
— Семенов! Выведи ее вон!
И у жандармского унтера сердце, видимо, дрогнуло, проняла его эта материнская скорбь: он подошел к Авдотье Терентьевне и почти нежно сказал:
— Не тревожьтесь так. Что хорошего? И впрямь ведь арестуют. Сынку не поможете, а на себя беду накличете. Уходите лучше, мамаша.
Авдотья Терентьевна заболела. Дорофеич поставил диагноз: «помрачение умов», и велел жене поить гостью липовым чаем с медом.
Лекарство, как видно, помогло: через две недели Авдотья Терентьевна выздоровела и поехала в Новгород, к сыну Григорию.
А в Новгороде новая беда: Григория арестовали.
Несчастья, как осы, налетают роем.
21
Мышкина повезли в Петербург. 14 февраля 1876 года он уже находился в Петропавловской крепости.
— Разденься!
Мышкин начал снимать с себя платье; жандармы подбирали и откладывали все в сторону. Потом обыскали Мышкина, затем обрядили его в арестантское.
Офицер подал жандармам знак «уходите» и сам тоже направился к двери, но вдруг обернулся и угрожающе сказал:
— Главное дело, ни слова, ни полслова. Кто ты, как тебя зовут, знать мне нет надобности. Вот и все. Я здесь смотритель. Со всякими своими желаниями должен обращаться ко мне. Законно — исполню, нелепо — так и скажу. Свистать, петь, говорить нельзя. Лампу тушить нельзя. Смотрителя звать ни в каком случае. Стуков чтобы не было никаких! — И его мощная рука, вооруженная ключом, сделала по воз духу энергичное и выразительное движение.
Мышкин стал вертеть головой во все стороны.
— Ты чего ищешь?
— Ищу, кому это все говорит смотритель, — ответил Мышкин спокойным голосом, подтягивая штаны. — Я подследственный, я сдан сюда на хранение, как сдают летом шубу в ломбард, и с директора ломбарда, то бишь со смотрителя тюрьмы, крепко взыщется, если с меня хотя бы один волос с головы упадет. Вот о чем забыл смотритель.
Жандарм рванулся к Мышкину и занес руку с ключом, но Мышкин даже не вздрогнул: он прямо смотрел в глаза смотрителя и даже чуть-чуть улыбался.
Это уж было слишком! Гремя шпорами, жандарм выбежал из камеры.
Вскоре он вернулся, подал Мышкину лист бумаги:
— Читай правила!
Мышкин читал параграф за параграфом. Все запрещается: свидания, переписка, чтение книг, курение, расходование собственных денег, а наказания — от наложения кандалов и карцера до пятисот розог и четырех тысяч шпицрутенов.
— Прекрасные правила, — сказал Мышкин, — очень хорошо составлены. Но смотритель забыл, что эти прекрасные правила не имеют отношения ко мне. Тут сказано «ссыльно-каторжные, временно оставленные в Трубецком бастионе», а я не ссыльно-каторжный, я подследственный.
— Ты у меня… — Жандарм не знал, чем закончить эту фразу. Он вырвал правила из рук Мышкина и вышел из камеры.
— В оба гляди! — сказал он часовому, закрывая дверь.
«Первая атака отбита, — подумал Мышкин, — но сколько таких атак впереди?»
Наутро Мышкин проснулся от стука при открывании двери. В камеру вошел смотритель с двумя унтерами и двумя жандармами. Не снимая фуражки, смотритель уставил на Мышкина свои стеклянные глаза, следя за каждым его движением.
Мышкин одевался.
— Как здесь насчет чаю? — спросил он.
Смотритель указал на стол, где лежал хлеб, оловянная тарелка с кашей-размазней и кружка с водой. Отчеканивая каждое слово, он сказал:
— Два с половиной фунта хлеба, щи, каша, вода. Больше ничего не полагается.
— Спасибо и на этом, — язвительно проговорил Мышкин.
Он умылся и, принимая из рук унтера полотенце, улыбнулся. Мышкину пришла в голову дерзкая мысль: а нет ли среди этих унтеров человека, которого можно будет использовать для связи с городом, с товарищами на воле?
Ободренный этой мыслью, Ипполит Никитич принялся за размазню. Увы, размазня была отвратительна на вкус, напоминала застывший клейстер.
Мышкин вспомнил изречение Гуфелянда: «Держи голову в холоде, брюхо в голоде, а ноги в тепле». «Но как быть, — подумал он, — когда голову ломит от холода, брюхо щемит от голода, а ноги преют в суконных портянках? Видимо, ученый гигиенист Гуфелянд, изрекая истины, не думал о том, что и в Петропавловской крепости живут люди!»
Унтеры убрали таз с водой, полотенце, посуду. Смотритель, стоявший все время напряженно, как злобный пес, ждущий сигнала хозяина «пиль», повернулся. За ним последовала вся жандармская орава.
После завтрака Мышкин отправился «на прогулку» по камере: из угла в угол.
Послышался легкий стук в стену.
— Кто вы… кто вы… — выстукивала барабанная дробь.
Хорошо, что Мышкин изучил в Якутске тюремную азбуку! Он простучал в ответ:
— Я Мышкин, а вы?
— Костюрин.
Завязалась беседа, нервная, торопливая, чтобы успеть сказать как можно больше до того, как перестук будет услышан кем-нибудь из охраны. После первых приветственных фраз, после пожеланий бодрости и здоровья Костюрин простучал:
— Наши войска перешли турецкую границу. Объявлена война за свободу болгар.
Мышкин ответил:
— А мы будем воевать с царем за русскую свободу.
Костюрин простучал быстро:
— Россия охвачена энтузиазмом. Народная совесть за войну. Молодежь идет в волонтеры. Пахнет свободой.
— Где? Нас душили и душат. Вы увлеклись.
Сосед замолчал.
Прошло лето, на дворе уже осень.
Через своего соседа Костюрина Ипполит Никитич завязал деятельный перестук со всей тюрьмой. Мышкин доказывал товарищам, что на воле осталось достаточно людей, чтобы продолжать революционное дело, что революцию, как смерч, как землетрясение, приостановить нельзя.
Одни соглашались с Мышкиным, другие спорили. С этими товарищами Мышкин возился, как нянька с капризными ребятами: убеждал, доказывал, уговаривал…
Тянется время. Вечный сумрак.
Все чаще и чаще стали раздаваться по ночам внезапные крики, вслед за криками — короткая возня, и слышно было, как что-то тяжелое проносят по коридору.
Бьют кого? Сошел кто с ума?
У Мышкина появилась обостренная, жгучая боязнь за жизнь всех своих невидимых друзей. В каждом шорохе, в каждом необычном звуке чудилось ему насилие.
Сама смерть не казалась страшной, однако какой смысл умирать ему или товарищам, если они своей смертью не облегчат участи других мучеников?
Не умирать надо, а бороться, бороться со своими мучителями!
Мышкин убедился, что большинство тюремщиков — мерзавцы, но в то же время и трусы: они донимают своими придирками только людей с подорванным здоровьем, с пониженной стойкостью. Тогда решил Ипполит Никитич подставить себя под подлый огонь смотрителя, чтобы тем самым отвлечь его от своих ослабленных товарищей.
Он стал изводить унтеров и жандармов колкими насмешками, а смотрителя доводил до бешенства.
Тот являлся ежедневно в сопровождении своей оравы. Мышкин как сидел спиной к двери, так и оставался сидеть.
— Встать!
Мышкин поворачивался и, улыбаясь, говорил приветливым голосом:
— А, директор ломбарда сегодня не в духе.
— Молчать!
— Вещи, сданные в ломбард на хранение, действительно молчат, но люди, сданные на хранение в тюрьму, обладают умением говорить. Это умение дано им от бога, и никакой тюремный смотритель не в силах спорить с богом.
— Немедленно упрячу…
— В карцер? Пожалуйста, господин директор ломбарда! Место знакомое, обжитое… Нашли чем пугать. Кстати, как бы мне там не простудиться, ведь за это взыщется с директора ломбарда.
Это повторялось изо дня в день, и смотритель всю свою злобу, всю черствость своего холодного сердца сберегал для ежедневных встреч с дерзким, неукротимым Мышкиным. Сажал его в карцер и выпускал, то топал на него ногами, то льстил ему, дошло даже до того, что стал ему говорить «вы», но… Мышкин был неистощим в своих издевательских выдумках.
Он стал писать пространные заявления — то сатирические, то негодующие — коменданту крепости и обер-прокурору сената. На успех своих заявлений он сам не рассчитывал: Мышкин развлекался самим процессом поддразнивания сатрапов, которых он презирал, и развлекал товарищей по горькой судьбе, которым посылал копии своих заявлений. Прокурора сената он просил указать ту статью закона, которая определяет размеры письменного заявления заключенного, так как комендант крепости поставил ему на вид, что он, Мышкин, пишет «слишком много и долго». Совсем иронически звучит заявление Мышкина к обер-прокурору сената, что-де в Петропавловской крепости «извращают христианское учение, ибо плох тот рай, в который гонят на цепи с жандармами». И каждое свое заявление он заканчивал: «Требую прокурора!»
Через три месяца явился прокурор. Он явился в сопровождении смотрителя, жандармов, надзирателей. Прокурор был осанистый, важный. Несколько минут он задержался возле двери, ожидая поклона, но узник не только не поклонился, но даже не повернул головы в его сторону.
— Господин Мышкин, что вы имеете сказать представителю правосудия?
Мышкин повернулся и ответил твердо:
— У меня к представителю правосудия одно заявление и одна просьба.
— Какое заявление? — насторожился прокурор, сразу почувствовав, что перед ним сильный враг.
— Вот какое, господин прокурор. Мы, я и мои товарищи, не каторжники, а только люди, находящиеся под следствием. Мы даже не привлечены к суду…
— Но, несомненно, будете, — вставил прокурор.
— Даже если будем, — еще жестче продолжал Мышкин, — то до приговора не должны нести наказания. А между тем нас держат как осужденных уже на каторгу.
— Заключение в крепость, — заторопился прокурор, стремясь как можно скорее закончить опасный разговор, — есть мера пресечения, а всякая мера пресечения ограничивает права.
— Но это не значит, чтобы нас морили голодом, развивали чахотку. При том еще, что это за мера пресечения, которая длится вот уже второй год? Это равносильно наказанию.
— Следствие, господин Мышкин, почти закончено. В скором времени вам пришлют обвинительный акт. А какая у вас еще просьба?
— Просьба незначительная: разъясните, пожалуйста, своим коллегам, что по законам Российской империи мы, я и мои товарищи, не лишены ни гражданских, ни просто прав человека.
Прокурор вспыхнул:
— Мои коллеги не нуждаются в разъяснениях! Они свои обязанности хорошо знают!
— Тогда простите, господин прокурор, — склонив голову, вежливо сказал Мышкин. — Простите меня за то, что я жандарма принял за представителя правосудия.
— Что?! — взревел прокурор.
— Именно то, что вы слышали. — И повернулся к прокурору спиной.
…В летний день уже 1877 года смотритель вошел в камеру и, прежде чем Мышкин успел произнести свое ироническое приветствие, сказал:
— Надо идти в канцелярию.
Он это оказал таким тоном, словно в канцелярии Мышкина ждет что-то очень приятное. Мышкин вмиг собрался.
Во дворике он сначала замедлил шаг, потом остановился; четыре чахлых деревца, поникшие травинки, забор… Это уже стало его миром, и сердце защемило: опять куда-то переводят…
— Надо поскорее, — напомнил смотритель, — там ждут.
Слышен мягкий шорох Невы, бойкие гудки пароходов, гул города.
— Надо поскорее!
Смотритель увел Мышкина в канцелярию.
Серые своды, длинные столы — на них сплошными грудами лежали синие папки.
За столами четыре человека с изможденными лицами, горящими глазами.
«Товарищи», — понял Мышкин.
В комнате стояли часовые; в сторонке, стараясь не попадаться на глаза, жандармский офицер.
— Садитесь, — предложил офицер. — Читайте обвинительный акт. — Он указал на груды папок. — Найдите свое дело.
— Здравствуйте, товарищи! — громко сказал Ипполит Никитич, приветствуя сидящих за столом. — Я — Мышкин.
Пошли рукопожатия, объятия, взволнованные слова,
— Прошу заключенных не разговаривать, — сухо заметил жандармский офицер.
Но Мышкин продолжал говорить что-то теплое, дружеское: ведь эти люди ему дороги, он с ними давно знаком, хотя видит их впервые.
— Прошу прекратить!
— Вот я пожал руку товарищам и прекращаю, — бодро ответил Мышкин.
Он сел, потянулся к папкам и выбрал из общей груды объемистую тетрадь: «Особое присутствие правительственного сената. Предварительное следствие по делу о домашнем учителе [2] Ипполите Мышкине и других по Москве, произведенное Членом Московской судебной палаты Крахт, Высочайше назначенного для произведения следствия по государственным преступлениям, 1874 г.».
Мышкин подумал: «Для того чтобы заполнить такую тетрадь, нужно было три года…»
Он углубился в изучение дела.
В канцелярии стояла тишина, лишь изредка шелестели переворачиваемые страницы…
Вдруг — звон шпор, легкие шаги.
Мышкин обернулся.
— Фрузя! — воскликнул он, стремительно бросившись к девушке…
Это произошло так неожиданно, что и смотритель и жандармский офицер, растерявшись, обалдело смотрели на взволнованную пару.
— Фрузя? Ты в Петропавловке?
— Уже второй месяц…
— И я, осел, не знал этого…
Смотритель взял за руку Мышкина, жандарм — Фрузю, и вежливо оттянули их друг от друга.
— Господа, — сказал жандармский офицер. — Буду вынужден прекратить групповую читку.
— Это моя жена! — воскликнул Ипполит Никитич. — Понимаете человеческий язык? Это моя жена!
— Понимаю, господин Мышкин. Но мы с вами находимся в тюрьме, а не в гостиной.
— Ип, милый, не стоит спорить.
— Ты права, Фрузя. Им чужд человеческий язык. Они действуют по инструкции.
— Именно, господин Мышкин, по инструкции. Прошу вас садиться и знакомиться с делом. В вашем распоряжении немного времени.
Мышкин и Фрузя сели, но ни она, ни он дела не читали: они смотрели друг другу в глаза. О чем они думали? Пожалуй, об одном и том же: как ты изменился, но ты и такой мне дорог.
— Время истекло! — заявил жандармский офицер.
Звякнули ружья часовых.
— Увидимся в суде, Фрузя.
— Увидимся, Ип. Теперь у меня хватит сил ждать… Даже годы!
Мышкин сделал шаг в сторону Фрузи, но его задержал смотритель.
— Пошли! Время истекло!
Его вывели из канцелярии первым: он обернулся и крикнул:
— Фрузя! До скорого свидания!
— До скорого, Ип!
22
Жандармы и министерство юстиции из полутора тысяч арестованных отобрали 268 человек и, продержав их по тюремным одиночкам больше трех лет, завершили свое гнусное дело «Большим процессом» — процесс этот вошел в историю под названием «процесса 193-х».
А куда девались 75 человек? Ведь жандармы отобрали для вящей своей славы 268 юношей и девушек.
75 из отобранных умерли, покончили самоубийством или сошли с ума, не выдержав каторжного режима, созданного для них просвещенным министром графом Паленом.
«Большой процесс» даже для того сурового времени был подлым: все обвинительное заключение было основано на явной лжи и на подтасовках.
Но… разве министра Палена или жандарма Потапова интересовала истина? Достаточно препроводить две сотни молодых людей в суд, а уж там, в суде, холопствующие сенаторы найдут статьи для отправки на каторгу невиновных!
Правда, холопствующим сенаторам на сей раз пришлось очень туго: из 193 обвиняемых они были вынуждены оправдать 94!
Юношей и девушек, намеченных к «убою», жандармы собрали в одном месте: в петербургском «Доме предварительного заключения», что на Шпалерной улице. Туда свезли молодежь со всех концов России — из 37 губерний.
17 октября перевели туда и Мышкина.
Первого, кого он встретил, поднимаясь по железной лестнице в свою камеру, был студент Донецкий — близорукий приятель по Женеве.
— И вы тут? — удивился он.
— Я всегда там, где мои друзья, — ответил Мышкин, пожимая протянутую руку.
— Откуда?
— Из Петропавловки.
— Вот куда залетели!
— А вы думали.
— Господа, — поторапливал надзиратель, — успеете наговориться.
Мышкин взобрался на четвертый этаж, вошел в камеру — слышит, сосед стучит.
— Мышкин, приветствую. Откройте окно, вам хотят передать записку.
Мышкин распахнул окно, тут же с пятого этажа спустили ему записку на веревочке:
«Ип, милый, мы опять вместе. Если ты не очень устал, просись сейчас на прогулку. Буду ждать тебя у забора. Ип, милый, осень, а день какой чудесный!»
Мышкин потребовал смотрителя.
— Знаю зачем, — сказал он, не дожидаясь даже первого слова Мышкина. — Хотите на прогулку.
— Откуда знаете?
— Нашему брату положено все знать. — Он вызвал надзирателя. — Проводите господина Мышкина на прогулку. Полчаса разрешаю.
У Мышкина потекли слезы из глаз: как все это не похоже на Петропавловку!
Смотритель понял состояние заключенного.
— Туда, знаешь, — повернулся он к надзирателю, — к забору поведешь господина Мышкина, а сам уходи в сторону.
«Свидание» с Фрузей все же было испорчено, и испортили его друзья. Не успел Ипполит Никитич сказать Фрузе и частицы того, что теснилось в его сердце, как с одной стороны забора налетели мужчины, с другой — женщины, и все наперебой, вразрез друг другу заговорили о процессе. «Свидание» превратилось в многолюдное совещание. Посыпались предложения, делались торжественные заявления, вспыхивали споры.
Споры, видимо, велись уже давно: одни были за то, чтобы не подчиняться суду, чтобы вслух заявить: «Считаем царский суд гнусной комедией», другие — за подчинение суду.
Мышкин сразу вступил в спор:
— Товарищи, я тоже признаю, что никакие доводы и доказательства не проймут царских чиновников. Но поскольку суд все же состоится, мы должны воспользоваться им, чтобы через головы судей поговорить со своим народом. Мы не должны на суде ни оправдываться, ни защищаться, но мы должны оказать своему народу, за что мы боремся и с каким подлым, развращенным режимом мы боремся. Мы должны подбросить в костер революции свежую охапку хвороста. — Вдруг Мышкин перешел на шепот. — Товарищи, у меня к вам огромная просьба: доверьте мне произнести на суде краткую речь…
— Этих патентованных трусов, карьеристов и негодяев ничем не удивишь, — сказал Войнаральский.
— Верно, Порфирий Иванович, но я буду говорить не для них, а для народа, для пользы нашего дела.
— Пусть говорит Мышкин! — предложил Ковалик.
— А я ему набросок своей речи дам, — восторженно откликнулся незнакомый Мышкину молодой голос.
— Значит, согласны? — спросил Ипполит Никитич.
Его голос дрожал, в глазах всплеск радости, как у человека, который, наконец-то достиг давно желанного.
И молодежь, стоявшая по обеим сторонам забора, поняла, что именно он, Мышкин, сумеет донести до суда всю их боль, все их чаяния, все, что они передумали и перечувствовали в мрачных одиночках.
— Пусть говорит Мышкин!
Доверие товарищей растрогало Мышкина: он хотел поблагодарить их, сказать им, что речь уже давно сложилась у него в уме, он хотел тут же прочесть начало своей речи, но горло словно веревкой перетянуто.
Пришла на помощь Фрузя:
— Ипполит, напишите свою речь и передайте ее…
— Ковалику! — подхватил Войнаральский.
— Муравскому! Отцу Митрофану! — предложила одна из девушек.
— Рогачеву! — воскликнул Ковалик.
Послышался мощный бас Рогачева:
— Я предлагаю такую очередность. Мышкин передаст свою речь Муравскому, или, как его тут называют, «отцу Митрофану». Он автор «Безвыходного Положения», и его замечания будут ценны для Мышкина. Затем Муравский передаст речь со своими замечаниями по цепочке остальным.
На этом закончилось тюремное собрание.
Мышкину дали бумагу, карандаши, и он приступил к работе. Правда, отвлекали стуки справа и слева, и на эти стуки надо было отвечать. Весь корпус принимал участие в составлении речи: каждый вносил в нее что-то свое. Получил Мышкин и труд Муравского, его «Безвыходное Положение». Это была толстая, хорошо сброшюрованная тетрадь. Убедительно и остроумно Муравский доказывал, что прокурор Желиховский, автор обвинительного акта, шулер, что все его обвинение основано на лжи и клевете.
Работа Муравского привела Мышкина в восторг. Каждая строка «Безвыходного Положения», каждая фраза восстанавливали правду относительно событий и лиц, и это было очень важно, ибо Мышкин все же боялся, что личные испытания могут толкнуть его на путь преувеличений.
18 октября 1877 года повели 193 человека в суд. Чуть ли не целый дивизион жандармов с шашками наголо окружил измученных, изнуренных юношей и девушек, из которых многие передвигались на костылях, многие еле ноги волочили, многие кашляли надрывно. Но все были возбуждены, взволнованы.
Приветственные оклики, объятия, всхлипывания, слезы…
Странное шествие докатилось до здания суда и бурным потоком хлынуло в зал заседаний.
Суетятся приставы, нервничают жандармы, покрикивает толстый полковник.
Наконец разместили обвиняемых. 37 женщин усадили на скамьях для адвокатов; Мышкина, Войнаральского, Рогачева, Ковалика и Муравского устроили на особом возвышении, окруженном перилами, — эту клетку тут же прозвали «Голгофой»; остальные — на скамьях, предназначенных для публики.
— Суд идет! Встать!
Сияют звезды на шитых золотом мундирах, сверкают муаровые ленты, бренчат ордена. Сенаторы опустились в кресла, настороженно осмотрелись.
Кресла — глубокие, мягкие, а господам сенаторам неуютно. Совсем недавно они судили в этом же зале 50 человек, и один из них, бородатый мужик Петр Алексеев, занес над ними свой увесистый кулак и предрек им близкую кончину… «Ярмо деспотизма разлетится в прах…»
А эти подсудимые? Что готовят они? Сколько среди них Алексеевых? Неведомое беспокоит, угнетает, страх заползает в сердце… Потому-то так вежлив Ренненкампф, этот мордастый первоприсутствующий сенатор!
Первоприсутствующий приступил к опросу подсудимых о звании, вероисповедании, занятиях, летах…
— Ваше вероисповедание, обвиняемый Мышкин?
Прозвенел гибкий, бархатистый голос Мышкина:
— Я крещен без моего ведома по обрядам православной церкви.
На опросы ушло все утро. Председатель был сдержан, терпелив, а обвиняемые отвечали кратко, сухо.
Мышкин неотрывно следил за поведением судей, он видел, что они растеряны.
— Смотрите, — обратился он к Войнаральскому и Ковалику, — эти гордые павлины растеряли перья.
Скандал вспыхнул неожиданно. Когда формальный опрос был закончен, подсудимые потребовали перенести судебное заседание в более просторное помещение.
— Здесь нет публики! Вы устроили закрытое заседание! Вы лишаете, нас гласности! Отказываемся приходить на ваш Шемякин суд! — выкрикивал Рогачев.
— Удалить его! — распорядился первоприсутствующий.
Но, когда пристав хотел привести в исполнение это приказание, понеслись возгласы:
— Пусть выводят всех!
— Все разделяют это мнение!
Стоял шум, рокот сотен голосов.
И этот шум помог Ренненкампфу выйти из неловкого положения: удалить всех он не мог и не мог также оставить свой приказ невыполненным.
— Объявляю заседание закрытым!
Опять жандармы с шашками наголо, опять кольцо, и обвиняемых повели в… столовую.
Столы, накрытые белыми скатертями; салфетки, сложенные в виде митры католического епископа.
Мышкин уселся рядом с Фрузей. Она в белой блузке. Два золотых локона выбились из прически.
— Ип, какая роскошь!
— Улыбка палача.
— Но я благодарна палачу за эту улыбку! Я с тобой, близко-близко! Ип, милый, сколько раз я мечтала о таком счастье! Помню, однажды в камере было сумрачно, за окном лил дождь, на душе было очень скверно, и вдруг… ты зашел в камеру, взял меня за руку. Ип, это не была галлюцинация, я ощущала тепло твоей руки, я слышала твое дыхание, я видела, как блестят твои глаза… Милый, мне было так хорошо, как… тогда… помнишь…. на берегу Москвы-реки… в то утро…
— Господа! — раздался взволнованный голос у двери, — принес вам неприятную новость!
Это был один из адвокатов.
Все вскочили с мест.
— Какая еще новость?!
— Сенаторы решили разбить всех обвиняемых на группы и каждую группу судить отдельно. Они утверждают, что судить всех скопом невозможно. Что вас слишком много для нормального процесса.
— Новая гнусность! — воскликнул Войнаральский.
— Ведь все привлечены по одному делу! — возвысил голос Мышкин. — Такое решение несогласно даже с их собственными законами!
Поднялся шум.
С. М. Кравчинский.
Д. М. Рогачев.
С. Ф. Ковалик.
П. И. Войнаральский.
Второй день процесса. Подсудимые сидят мрачные, озлобленные. Прокурор — маленький, юркий, ехидный — приступил к чтению обвинительного акта. Одна ложь подгоняет другую. Часто, когда от прокурорского вымысла било в нос, как от навозной кучи, слышались выкрики из зала:
— Это позор для суда!
— Прокурор бесстыдно лжет!
Подсудимые вскоре потеряли всяческий интерес к обвинительному акту. Они стали меняться местами, перелезать через скамьи. Начавшие разговаривать вполголоса мало-помалу перешли на громкий говор, и зал превратился в громадный улей.
Пискливый голос прокурора утопал в общем шуме, а звонок председателя выбивался из сил, но никто не обращал на него внимания. В зале гудело: тут два товарища горячо заканчивали теоретический спор, начатый ими еще перестукиванием в крепости; там жених и невеста уславливались, как им быть после приговора, который, несомненно, разлучит их на долгие годы; здесь друзья юности спешили передать друг другу пережитое ими за годы одиночества. Бледные, исхудалые «кандидаты на смерть» грустно смотрели на тех, кто был еще в состоянии радоваться.
Чтение обвинительного акта закончено. Встал председатель, злой и суматошливый. Его бульдожье лицо поминутно менялось: то оно белое, то багровое. Он зачитал постановление суда: разделить всех подсудимых на семнадцать групп для отдельного суда над каждой группой.
Поднялся шум:
— Не имеете права!
— Произвол!
Нарастала буря. И, как удар раскатистого грома, голос Мышкина покрыл собой весь хор негодующих:
— Позор и стыд! Вы лицемерно взываете к правосудию, кричите о законности. Мы ясно и откровенно не признаем ваших законов, но вы, обвиняя нас в их нарушении, творите беззакония на каждом шагу!
С грозной отвагой глядя на врагов своих, отчеканивая каждое слово, бывший кантонист Мышкин бросал сенаторам в лицо одно обвинение за другим.
Все поднялись с мест, и зал точно сотрясался от взрыва негодования. Люди, просидевшие в одиночках по 3–4 года, ругали, поносили сановных судей.
Сенаторы почувствовали себя беспомощными: на них обрушился шквал. Они, сенаторы, знали, что творят неправое дело, но… такова воля царя!
И судьи сбежали, трусливо втягивая головы в плечи.
Но грозный голос Мышкина преследовал их:
— Вы позорно составили обвинительный акт, в котором нет ни смысла, ни правды, в котором вы хотите перед лицом населения выставить нас мальчишками, недоучками, людьми без принципов, без совести, без мысли! Наглость лжи и трусости — вот характеристика ваших действий!
Ворвались в зал жандармы. Они разъединили обвиняемых, сбили их в мелкие группы и среди общего шума и криков выталкивали в коридор.
23
Тюрьма бурлит: идет перестук, «веревочная почта» работает всю ночь, из раскрытых форточек слышатся целые речи.
«Протестовать! Протестовать!» — это слово бежит с этажа на этаж, из камеры в камеру.
Первая группа не пошла на суд — их потащили силой, но и там, в зале суда, они вели себя так дерзко, что первоприсутствующий был вынужден отправить их обратно в тюрьму.
То же случилось и со второй группой, третьей, четвертой…
Двадцатого ноября наступила очередь московской группы, двенадцатой по порядку.
— Иду на суд, — заявил Мышкин смотрителю, явившемуся к нему в камеру с четырьмя надзирателями, чтобы силой отправить его в зал заседаний.
— Вот не ожидал, — искренне обрадовался смотритель. — И в самом деле, господин Мышкин, какой смысл вам бунтовать: плетью обуха не перешибешь.
— Вы правы, господин смотритель, плетью обуха не перешибешь, но зато можно этот самый обух вырвать из рук палача!
— Уж вы скажете, господин Мышкин. Палач — он не всегда палач, бывают палачи и по принуждению.
— Это еще хуже! — оборвал его Мышкин. — Идемте, господин смотритель. О палачах поговорим с вами в другой раз.
Вся двенадцатая группа явилась на суд. Торжественный стол с красным сукном и золотыми кистями, судьи в бриллиантовых звездах. На «Голгофе» — Мышкин, Войнаральский, Рогачев, Ковалик; на скамьях — человек тридцать.
— Подсудимый Мышкин! Вы обвиняетесь в том, что принимали участие в противозаконном обществе, имевшем целью ниспровержение и изменение порядка государственного устройства. Признаете ли вы себя виновным?
Много лет ждал Мышкин этой минуты! Все тюрьмы, все тюремщики промелькнули перед ним, ожили мысли, продуманные им в гробовой тишине Петропавловки.
Но Мышкин не дал горечи подступить к горлу, он не дал сердцу захлебнуться в боли — поднялся, строго посмотрел на раззолоченных сенаторов и отчетливым голосом произнес:
— Я признаю себя членом не сообщества, а социально-революционной партии… Основная задача социально-революционной партии — установить на развалинах теперешнего государственно-буржуазного порядка такой общественный строй, который удовлетворял бы требованиям народа в том виде, как они выразились в крупных и мелких движениях народных… Осуществлен он может быть только путем социальной революции…
Судьи переглянулись: неужели и этот занесет кулак?
Ренненкампф перехватил улыбку более опытного сенатора Петерса, поднял руку и мягким голосом сказал:
— То, что относится к вопросу о вашей виновности, вы уже достаточно выяснили. Остальное вы можете сказать впоследствии.
Наступила тишина. Все головы обернулись к Мышкину. Он стоял на «Голгофе» прямо, четко, как часовой на посту. Бледное лицо, шапка черных волос, высокий лоб, глаза смотрят сурово и смело. Он было рванулся вперед, но тут же сам себя одернул, мысленно сказав себе: «Я должен быть так же спокоен, как этот мордастый сенатор».
Не повышая голоса, Мышкин сказал:
— Я полагаю, что для суда весьма важно знать, как мы относимся к революции. Ближайшая наша задача заключается не в том, чтобы вызвать, создать революцию, а в том, чтобы только гарантировать успешный исход ее, потому что не нужно быть пророком, чтобы при нынешнем отчаянно бедственном положении народа предвидеть как неизбежный результат этого положения всеобщее народное восстание. Ввиду неизбежности этого восстания нужно только позаботиться, чтобы оно было возможно более продуктивно для народа, а главное — предостеречь его от всех фокусов, которыми западноевропейская буржуазия обманывала тамошнюю народную массу и одна извлекла для себя выгоды из народной крови, пролитой на баррикадах…
Сенаторы опять переглянулись: перед ними стоял бледный, изнуренный, но сильный человек. Он говорил спокойно, убежденно, не разрешая себе ни единого резкого выпада против суда. Остановить его, оборвать не было причины.
— Первое движение интеллигенции в начале шестидесятых годов было отголоском того сильного народного волнения, которое было во время крестьянской реформы вследствие того, что народ не удовлетворялся этим мнимым своим освобождением. В наши дни обеднение народа, истощаемого непомерными платежами и поборами, дошло до того, что нужно быть совершенно глухим, чтобы не слышать громкого ропота народа. Этот ропот и вызвал движение семьдесят третьего — семьдесят пятого годов… Движения интеллигенции не созданы искусственно, а составляют только отголоски народных волнений…
Ренненкампфа возмущало спокойствие Мышкина. Казаться несправедливым он не хотел, но повода для «зажатия Мышкину рта» также не находил. А он видел, как солдаты охраны жадно слушают оратора.
И Ренненкампф решился:
— Я вам задал вопрос о том, признаете ли вы себя виновным. Вы себя признали принадлежащим к незаконному обществу. Я не вижу, что может еще остаться для выслушивания суду по этому вопросу.
— Я не сказал, что признаю себя виновным, и не мог сказать этого, потому что, напротив, считал и считаю своею обязанностью, долгом чести стоять в рядах социально-революционной партии! — Мышкин впервые повысил голое.
В зале стало так тихо, что слышно было шамканье престарелого Лукьянова — волостного старшины, представляющего «народ» в судебной коллегии.
— Ну да, — уже раздраженно промолвил Ренненкампф, — вы признали себя членом партии и достаточно разъяснили свое преступление.
— Но для суда необходимо еще знать причины! — оборвал его Мышкин. — Возникновение социально-революционной партии совершилось благодаря: во-первых, влиянию на интеллигенцию передовой западноевропейской социалистической мысли и крупнейшего практического применения этой мысли — образования Международного общества рабочих, и, во-вторых, благодаря уничтожению крепостного права, потому что после крестьянской реформы в среде неподатных классов образовалась целая фракция, испытавшая на самой себе всю силу гнета государственного экономического строя, готовая откликнуться на зов народа и послужившая ядром социально-революционной партии. Фракция эта — умственный пролетариат. Кроме того, крестьянская реформа оказала три важные услуги социально-революционному делу. Первое — с девятнадцатого февраля 1861 года начинается развитие капиталистического производства с его неизбежным спутником — борьбой между капиталом и трудом. Второе — крестьянская реформа, вместе с другими реформами, послужила для нас наглядным доказательством… полной несостоятельности политических реформ в деле коренного улучшения народного быта… Народ доведен до отчаянно бедственного положения, до небывалых хронических голодовок… Третье — крестьянин, освобожденный от помещика, стал лицом к лицу с представителями губернской власти, увидел, что ему нечего надеяться на эту власть, нечего ждать от нее, увидел, что он жестоко обманывался, веря в царскую правду…
Председатель, нервно постукивая пальцами по столу, промычал:
— Вы достаточно уже выяснили свою мысль!
При ветре трава клонится к земле, молодое деревцо качается, а кряжистый дуб и не шелохнется. Таким кряжистым дубом стоял сейчас Мышкин перед своими судьями. Он видел злобу в их глазах, он слышал их змеиное шипение, но все это действовало на него, как ветер на ствол дуба.
Мышкин не получил «слова», он вырвал у суда право говорить, и этим добытым в бою правом он хотел воспользоваться до конца. Пусть шипят сенаторы, пусть бросают злобные взгляды, а он выскажет все, что созрело в месяцы странствий по сибирским рекам, в бессонные тюремные ночи, в спорах с товарищами, а зачастую в спорах и с самим собой.
— Мне необходимо выяснить эту сторону вопроса, почему я, сын крепостной крестьянки и солдата, видевший собственными глазами уничтожение крепостного права, не только не благословляю правительство, совершившее эту реформу, но стою в рядах отъявленных врагов его. Когда крестьяне увидели, что их наделяют песками да болотами, да такими клочками земли, на которых немыслимо ведение хозяйства, а между тем за эти клочки наложили громаднейшие платежи, превышающие в несколько раз доходность наделов… Рядом с этим крестьяне, превратившиеся в орудие капиталистического производства, поняли всю прелесть так называемого свободного договора между голодным тружеником и сытым капиталистом… Поняли также, что в спорах между капиталистом и рабочим правительство всегда становится на сторону первого… Поняли это и не могли не отнестись с еще большей ненавистью к угнетающей их государственной власти…
— Я не могу позволить вам порицать правительство!
Мышкин улыбнулся:
— Господин первоприсутствующий! Человек, совершающий политическое преступление, самим этим фактом порицает уже правительство. Если мое мнение ошибочно, то оно повредит только мне. А если в нем есть правда, то тем менее оснований зажимать мне рот.
— Я не зажимаю вам рот, я говорю только, что не могу допустить порицать правительство.
— Не должно быть такой власти, которая принуждала бы под страхом наказания лгать, лицемерить.
— Вас и теперь никто не принуждает лгать, лицемерить!
— По вашим законам…
Ренненкампф вскочил, зарычал:
— Вы не можете порицать законов!
На эту злобную реплику Мышкин спокойно ответил:
— В желанном нам строе не должно быть такой силы, которая бы заставила людей насильно, под конвоем жандармов, шествовать в христианский или иной рай.
— Я не могу дозволить таких выражений! Я не могу дозволить!
Мышкин несколько наклонился вперед — в облике и в позе его достоинство:
— Я высказываю свои убеждения.
— Нам нет дела до ваших убеждений!
— А за что же я сижу, как не за убеждения?
— Не за убеждения, а за действия!
— За действия, которые служат только выражением моих убеждений, — вежливо, склонив при этом голову, ответил Мышкин.
И это еще больше разъярило сенатора Ренненкампфа: он решил прекратить выступление Мышкина, выступление, которое превратилось в поединок между ним и подсудимым, а по выражению лиц адвокатов и своих товарищей по судейской коллегии Ренненкампф видел, что поединок закончился не в его пользу.
— Вы признаете себя виновным?
— Могу ли я говорить о причинах преступления? — ответил Мышкин вопросом на вопрос.
— После! Я спрашиваю: вы признаете себя виновным?
— Я не буду отвечать ни на какие ваши вопросы, прежде чем успею дать необходимые разъяснения. — Суровым стало лицо Мышкина, гневом зажглись глаза, на лице застыла судорога негодования.
— Так, садитесь! Вызвать свидетеля Николая Абрамовича Гольдмана!
В зал ввели свидетеля Гольдмана. Высокий, грузный, он шел неуклюже, точно со спутанными ногами. В глазах — недоумение, любопытство, страх. Проходя мимо Ефрузины Супинской, он на мгновение остановился, и лицо его озарилось улыбкой.
— Скажите, свидетель Гольдман…
Маленький и юркий, как болонка, прокурор забросал Гольдмана ехидными вопросами: почему он так защищает обвиняемого Мышкина? Не родственник он ему? Если обвиняемый Мышкин не родственник, то не родня ли свидетелю еврей Гольдман, часовщик на Лиговке? А Ренненкампф уставился на робкого Гольдмана, как бульдог, готовый в любую минуту вцепиться ему в горло.
Бедный Николай Абрамович! Как он изменился! Побелел, исхудал, руки дрожат. Говорит тихим и хриплым голосом. Он смотрит на прокурора, как замухрышка-мальчонка смотрит на великовозрастного драчуна. Отвечает на вопросы несмело: боится подвоха, как бы не повредить Ипполиту Никитичу.
Мышкин решил выручить свидетеля. Он поднялся и решительным голосом сказал:
— Прошу сообщить мне о тех наиболее важных частях судебного следствия, которые имеют непосредственное отношение ко мне… Я настаиваю потому, что мне ясна лживость прокурорских выводов.
Ренненкампф крикнул:
— Прошу не употреблять подобных оскорбительных выражений!
Крик сенатора не смущает Мышкина.
— Значит, прокурору можно говорить и писать что ему угодно, а мы все должны молчать. — Он повернулся к своим товарищам по «Голгофе», повел плечами и, снова повернувшись к суду, продолжал: — Перехожу к другому предмету. Хочу заявить о тех незаконных, насильственных мерах, которые были приняты против меня во время предварительного ареста. После первого же допроса я… был закован сначала в ножные кандалы, а спустя некоторое время еще и в наручники. Одновременно с этим я был лишен права пользоваться не только чаем, но даже просто кипяченой водой.
— Ваше заявление совершенно голословно!
— О заковке в кандалы имеется протокол в деле. До какой мелочности доходит мстительность властей по отношению к политическому преступнику, в котором они видят личного врага, лучше всего доказывает следующий, правда мелкий, но очень характерный факт. Когда я унизился до ничтожной просьбы о дозволении носить под кандалами чулки, потому что на ногах образовались язвы от кандалов, то даже на эту ничтожную просьбу я получил отказ…
— Особому присутствию не подлежит рассмотрение действий лиц, принимавших эти меры!
Мышкин в первый раз разрешил себе резкий жест: он стукнул кулаком по барьеру и сказал возмущенно:
— Итак, нас могут пытать, мучить, а мы не только не можем искать правды, — конечно, я не настолько наивен, чтобы ожидать правды от суда и различных властей, — но нас лишают даже возможности довести до сведения общества, что на Руси обращаются с политическими преступниками хуже, чем турки с христианами!.. Можно ли удивляться, что в нашей среде оказался такой громадный процент смертности и сумасшествия! — И сразу погрустнел его голос: — Да, многие, очень многие из наших товарищей сошли в могилу, не дождавшись суда.
— Теперь не время и незачем заявлять об этом.
Сказав это, Ренненкамлф поднялся: он хотел выйти из зала, чтобы не слышать дерзостей Мышкина, чтобы не видеть его презрительной улыбки.
Преседательство перенял сенатор Петерс. Голый череп, острый длинный нос, выдвинутая нижняя челюсть, большие, лошадиные желтые зубы и пустые глаза. Петерс в отличие от Ренненкампфа не чувствовал личной злобы к обвиняемым, он даже не видел в них живых людей — для него это были субъекты, которые дают возможность ему, сенатору Петерсу, доказать царю свое холопское усердие. Он, сенатор Петерс, должен осудить этих субъектов, ибо такова воля царя, и важно ли, что говорят или будут говорить эти субъекты? Разве мужику Петру Алексееву помог занесенный кулак? Пусть… пусть…
Но Ренненкампф не успел выйти из зала: Мышкин обратился к нему, именно к нему:
— Господин первоприсутствующий! Неужели мы ценой продолжительной каторги, которая ждет нас, не купили себе даже право заявить на суде о тех насилиях, физических и нравственных, которым подвергли нас? На каждом слове об этом нам зажимают рот.
— И тем не менее вы высказали все, что хотели, — отрывисто ответил Ренненкампф, направляясь к двери.
— Нет! Это еще не все! Если позволите…
Ренненкампф повернулся. Петерс, взяв в руки колокольчик, сухо промолвил:
— Нет, теперь этого не могу дозволить.
Мышкин быстрым взглядом окинул товарищей, сидящих на скамьях сбоку от него, встретился глазами с Фрузей, задержался на мгновение и, выпрямившись, вскинув голову, оказал властным голосом человека, привыкшего отдавать приказания:
— Теперь я могу, я имею право сказать, что это не суд, а простая комедия или нечто худшее, более отвратительное, позорное, более позорное…
Петерс сразу взволновался: вот он — новый Петр Алексеев! И, вспомнив свой позор на «процессе 50-ти», истошно заорал:
— Уведите его! Уведите!
К Мышкину бросился жандармский офицер, но подсудимый Рабинович загородил собой дорогу на «Голгофу». Завязалась борьба. Одолев Рабиновича и оттолкнув подоспевшего на помощь Рабиновичу подсудимого Стопани, офицер ворвался в клетку, одной рукой прижал к себе Мышкина, другой стал зажимать ему рот. Мышкин изворачивался, отталкивал от себя жандармскую руку и продолжал все громче и громче начатую им фразу:
— …более позорное, чем дом терпимости: там женщина из-за нужды торгует своим телом, а здесь сенаторы из подлости, из холопства, из-за чинов и крупных окладов торгуют чужой жизнью, истиной и справедливостью, торгуют всем, что есть наиболее дорогого для человечества!
На помощь офицеру бросились жандармы. Началось побоище. Мышкина скрутили, смяли, потащили из зала. Вслед за ним волокли Рабиновича, Стопани…
Поднялся шум, раздавались стоны, слышался истерический хохот.
Старушка одна, из публики, забралась на скамью и кричала:
— Варвары! Что вы делаете? Живодеры проклятые!
Со всех сторон неслось:
— Мерзавцы!
— Негодяи! Холопы!
— Это не суд!
Защитники, приставы, публика, жандармы — все двигалось, волновалось.
В бой вступали даже те из подсудимых, что еле на ногах держались, — они хотели опять стоять плечом к плечу со своими товарищами по борьбе.
Но жандармов было чересчур много: бунт обвиняемых был подавлен, задушен.
Их выволокли из зала, окружили кольцом…
Судьи сбежали.
Сенатор Петерс опять оскандалился: и на этот раз, как после речи Петра Алексеева, он забыл объявить заседание закрытым.
В этот же день перевели Мышкина в Петропавловскую крепость: для него суд кончился, хотя Особое присутствие заседало до 23 января 1878 года.
24
В речь на суде Мышкин вложил всю свою ненависть, все свое презрение к существующему порядку; он сознательно останавливался на мелких подлостях царских приспешников, чтобы показать народу, с каким врагом борются русские революционеры.
Суд ушел в прошлое, уже стал историей. А каково будущее?
Прошлым был Мышкин недоволен: зачастую чувства довлели над разумом и не только у него, но и у всех его товарищей. Они боролись во имя «неосмысленной ненависти к существующему порядку и неосмысленной любви к народу». Надо покончить с «неосмысленностью»! Надо трезво, последовательно идти к большой цели, не давая себя увлечь эффектными фейерверками.
На суде Мышкин узнал от Сони Перовской (также привлеченной по «делу 193-х», но до суда отданной родственникам «на поруки»), что некоторые его товарищи создали, наконец, организацию — разветвленную, гибкую, со строго продуманной системой конспирации, с тайной типографией. Сообщение обрадовало Мышкина, однако его смущало, что товарищи из новой организации слишком много говорят о выстреле Веры Засулич. «Как бы они, — подумал Мышкин. — не увлеклись выстрелами!»
…В первую же ночь Мышкин убедился, что не его одного водворили обратно в Петропавловскую крепость. Рядом в камере — Рогачев, дальше — Войнаральский, Ковалик, Муравский…
— Я буду вкладывать записки, — простучал Мышкин Рогачеву, — в мякиш черного хлеба и прикреплять к водосточной трубе, мимо которой ходим на прогулку.
Завязалась переписка. Мышкин издевался над теми, которые наивно верили, что «сам народ создаст после революции лучшую форму правления».
В одной записке он писал:
«Революционеры должны теперь же выработать форму правления! Я не верю, чтобы весь народ, как единый человек, был проникнут одним ясно осознанным идеалом. Я не верю, чтобы масса русского народа в настоящую минуту обладала несравненно большим политическим смыслом и умением противостоять влиянию мнимых друзей, чем у французов в 1789, 1830, 1848 и в 1871 годах. Я знаю, что из среды одного и того же народа могут выходить и вандейцы, и жирондисты, и поклонники Марата, и национальная гвардия Коммуны, и версальские войска».
В другой записке:
«Предположим, что совершается революция. Польша отделяется и организует республику. Финляндия провозглашает свою независимость. Остзейские бароны умоляют Бисмарка принять их под свое покровительство. «Хохлы» стараются порвать связь с «москалями». В Петербурге либералы созывают земский собор и толкуют, кому вручить конституционную корону. Жандармы и попы и словом и оружием пропагандируют безусловную покорность «предержащим властям». Ну, а мы что будем делать?
Мы должны заняться политической борьбой. Мы знаем, что хотя Парижский отдел Интернационала и исключал сначала из своей программы всякое участие в политической борьбе, но лишь только разразилась революция, члены его волей-неволей должны были примкнуть к одной из политических партий.
Мне кажется, что первоначальное игнорирование политических вопросов и было причиной того, что у французских членов Интернационала, разошедшихся в этом отношении с Марксом, не оказалось определенной программы деятельности при начале последнего переворота во Франции».
Он выступал и против Бакунина: революция не рождается из пепла, ее надо подготовить, и подготовкой должна руководить партия с четкой политической программой, вернее, с двумя программами: максимум и минимум…
Поднялась буря! Бакунинцы и лавристы вступили в яростный спор. На стороне Мышкина оказался один Рогачев. Они возражали страстно: перестуком, записками.
Сколько труда вложил Мышкин в этот спор! Не все его записки доходили до адресатов: тюремщики, словно гончие, шли по его пятам, и не одна искусно заделанная в мякиш записка попадала в лапы жандармов. Приходилось Мышкину стукам дублировать записку: он Рогачеву, тот Ковалику и так далее.
«Наиболее пригодной формой представляется мне федерация областей с возможно полной самостоятельностью городских и сельских общин. В случае революции первым шагом должно быть разложение государства на составляющие его области и предоставление каждой области самостоятельного устройства своих дел. Они должны быть связаны обязательствами помогать друг другу».
Передав «по сухому телеграфу» эту «записку», Мышкин, не дожидаясь ответа от товарищей, дополнял, разъяснял, что при полной самостоятельности областей у них должен быть единый центральный орган для руководства внешней политикой, обороной, путями сообщения, телеграфом и почтой.
Мышкина поддерживал Рогачев. Его записки были категоричны и так же хорошо аргументированы, как и записки Мышкина.
«Пора нам понять, что крестьянская реформа — это переход от рабского строя к капиталистическому. Я так же, как и Мышкин, убежден, что в недалеком будущем у нас образуется пролетариат. Мы в России повторим то, что совершается на Западе. Я не согласен с теми, кто говорит, что теперь возможно какое-нибудь крупное движение среди народа, не согласен потому, что у народа нет такой силы, около которой он мог бы сгруппироваться. Давайте организуем народную партию, партию, которая работала бы среди фабричных и среди сельских. Я согласен с Мышкиным и в том, что наши книжки неудовлетворительны, потому что народу не нужны книжки, в которых говорится о его нужде и о каких-то давно прошедших восстаниях, народу нужны книжки, в которых описывался бы подлый наш строй и давались бы программы, с чего начать и чего требовать».
Тянулись дни, недели…
В последних числах января нового, 1878 года сенаторы собрали обвиняемых по «процессу 193-х» для объявления им приговора. Друзья встретились вновь! Объятия, взволнованные речи.
Чиновник читал:
«По указу его императорского величества, Правительственный Сенат в Особом присутствии для суждения дел о государственных преступлениях…»
Рядом с Мышкиным стояла Фрузя — тонкая, гибкая, она прижималась к нему плечом.
— Ип, как я горжусь тобой!
Мышкин смотрел на багровые пятна, что рдели на ее щеках, и его сердце сжималось от боли. Вместо слов — тех значительных слов, что остаются в памяти на всю жизнь, из его груди вырвался протяжный стон.
— Ип, милый, где бы ты ни был и что бы с тобой ни случилось, никогда не забывай, что у тебя есть преданный и любящий друг.
К ним подошла Софья Перовская. Ее за недостатком улик оправдали по процессу.
— Ипполит, какие поручения? На волю и для вас лично.
— Матери напишите, что я здоров. А мне лично ничего не нужно: меня благодарное правительство взяло на свое полное иждивение.
А чиновник все читал, читал…
Мышкина приговорили к ссылке «в каторжные работы в крепостях на десять лет», Ефрузину Супинскую «сослать на жилье в отдаленных губерниях на четыре года…».
Мышкин почувствовал, как задрожало плечо Фрузи, как вся она, словно отяжелев вдруг, повисла на его руке. Он обнял ее за талию, привлек к себе:
— Фрузя, жена, когда тебе будет очень плохо, позови меня, и я приду, приду сквозь стены, сквозь решетки… приду…
— Ип, не о себе я… Как ты? Десять лет… — Она вскинула голову, улыбаясь, заглянула ему в глаза — Я приеду к тебе! Четыре года не очень большой срок. Освобожусь и… сейчас же к тебе! Ты жди меня. Вместе нам будет хорошо. Правда, Ип? Нам хорошо будет вместе?
В это мгновение они оба увидели серебристую гладь Москвы-реки, острую тень от монастырской башни, в лицо дохнуло свежестью летнего утра, и им действительно стало хорошо…
Приговор вынесен.
В зале — ни выкрика, ни стона: могильная тишина.
Все, что есть высокого и благородного в природе человека, казалось, было сосредоточено в этой горсточке молодежи. Преданные своей идее, они хотели принести себя в жертву целиком, без остатка. Они ничего не искали для себя. Социализм был их верой, народ — их божеством. Они шли на муки с полным спокойствием. Они искренне верили, что самоотверженность, доходящая до полного самоотречения, способна сделать массы восприимчивыми к освободительным идеям, способна разбудить дремлющие силы народа и поднять его на борьбу с царем.
Они, революционеры семидесятых годов, плохо разбирались в законах общественного развития: они не учитывали расстановки классовых сил в стране. Веря в громадные потенциальные силы крестьянства, они не понимали, что эти силы могут полностью проявиться лишь в союзе с нарастающим и изо дня в день крепнущим рабочим классом.
И эту горсточку героической молодежи смяли, уничтожили, столкнули с исторической арены, а на их место уже выдвигалась более активная фигура террориста.
В этом же январе 1878 года Вера Засулич стреляла в петербургского градоначальника Трепова.
25
После объявления приговора Мышкина отвезли обратно в крепость. Он был приятно удивлен: камера с изразцовой печью, с большим окном. Кровать с волосяным матрацем, покрытым тонкой простыней и одеялом, с подушкой в белой наволочке. Стол с лампочкой, деревянный со спинкой стул. Нательное белье дали чистое, тонкое; халат точно по мерке сшит; теплые туфли.
Мышкин переоделся, бросился на кровать и мгновенно уснул.
Настало утро. Явился смотритель с двумя жандармами и двумя унтерами. Они принесли таз, мыло, воду, полотенце.
Потом завтрак: чай, белая булка…
Мысли кружились вокруг одной точки, и кружились так стремительно, что не давали Мышкину сосредоточиться на одном, на самом важном, хотя, если бы сейчас спросили Ипполита Никитича, что он считает «самым важным», он не мог бы ответить. Чересчур много навалилось на его человеческий мозг! Все кончилось, а в разгоряченном сознании цепко держится мысль: «Нет, это не конец… надо еще что-то предпринять… надо сделать что-то такое, чтобы по-своему повернуть приговор…»
Куда повернуть? В любую сторону! Даже к могиле! Но тот короткий путь, от камеры до могилы, должен быть прожит с достоинством! Приговор лишил его любви, свободы, света, воздуха, но судьи не могут отнять у него гордости борца. Эту гордость надо давать чувствовать тюремщикам…
«Надо ли? — возникло тут же сомнение. — Ведь десять лет не такой уж большой срок. Фрузя освободится через четыре года, приедет к нему на каторгу, а вдвоем они уж найдут выход… Убегут! Опять — свобода, работа…»
«Но десять лет? Ничего, что десять лет! Он все стерпит: голод, холод, спертый воздух. А если тюремщики захотят склонить долу его голову? Если захотят его сделать безответным, как раба? Стерпит ли он? Нет! Но враги не заметят его боли — он сбежит прежде, чем палачи восторжествуют над ним. Он найдет возможность вырваться из тюрьмы — во всяком случае, будет беспрерывно пытаться!»
Принесли обед: щи с мясом, жаркое, сладкое. Дали салфетку и серебряную ложку.
Обед был такой обильный, что Мышкин не мог его одолеть.
— Прошу сохранить жаркое на ужин, — обратился он к смотрителю, не глядя на него.
— Хорошо, — серьезно ответил тот, — будем давать на ужин.
Смотритель держался скромно, жандармы были услужливы. На сердце Мышкина стало покойнее.
Отдыхая после обильного обеда, он думал о Фрузе, о матери, о том, какие книги выписать из библиотеки.
Бодро он встретил следующий день. Умылся и не успел еще хорошо утереться, вдруг слышит резкий окрик:
— Раздеться!
Оглядывается: жандармы уносят тонкое постельное белье; на кровати лежит куча старого, серого хлама.
«Нашли чем огорчить», — пришла мысль.
Мышкин разделся. Жандармы подхватили снятую одежду.
— Кончился ломбард! — решительно заявил смотритель и, описав ключом в воздухе что-то похожее на вопросительный знак, звякнул шпорами и вышел из камеры. За ним — жандармы, унтеры.
Ипполит Никитич принялся осматривать новое приданое — настоящее каторжное тряпье: дерюга-рубаха, грязные порты с разрезами для кандалов, серые штаны, холщовая куртка.
Кончилось облачение, Мышкин идет к столу.
Кружка чистой воды, краюха плохого ржаного хлеба…
Случайность? Или издевательство?
Раздраженный, уже не в силах сосредоточиться на чем-либо, ждал Мышкин обеда.
Несут. Оловянная миска с чем-то мутным, в тарелке каша-размазня без масла. Деревянная ложка.
«Это система, давление на психику, — убедил себя Ипполит Никитич, — не стоит обращать на это внимание».
— Дайте книгу! — сказал он грубо.
— Не полагается, — с ехидной улыбкой промолвил смотритель. — Особенно таким, как ты.
— Ну и шут с тобой!
Мышкин принялся за обед.
И в тюрьме было тихо.
«Что делают товарищи? — подумал Ипполит Никитич. — Глядят в ночное небо?»
…Звезды меркли, потянуло предрассветным холодом. Внизу, под окном, прошла смена, послышалось бряцанье ружей…
Опять все стихло.
Мышкин отошел от окна, прилег, впал в полузабытье.
Ипполита Никитича Мышкина правительство решило отправить в селение Печенеги Харьковской губернии, в строгую, мертвую Ново-Белгородскую каторжную тюрьму.
26
Софья Перовская была оправдана по суду. Жандармам не удалось добыть улик для ее осуждения. Но, зная подлые повадки царских судей, Софья Львовна скрылась немедленно после вынесения приговора и занялась подготовкой к освобождению Мышкина.
Для Софьи Перовской Мышкин был не только ярким выразителем дорогих ей идей, это был друг, какие бывали в то время только в революционных кружках, поглощавших человека целиком, со всеми его симпатиями и помыслами, где чувство дружбы являлось воплощением не только сердечного влечения, но и идейного созвучья.
Перовская организовала наблюдение за Петропавловской крепостью, в которой содержался Мышкин, и за дорогой, по которой его повезут, и за вокзалом, с которого его должны будут отправить в Ново-Белгородскую тюрьму. Она составила несколько боевых групп с таким расчетом, чтобы каждая группа могла справиться с конвоем.
Но проведали жандармы о затеянном или только догадывались о нем — как бы то ни было, жандармы произвели несколько фальшивых маневров, ввели боевиков в заблуждение и вопреки обычаю посадили Мышкина в поезд не на «арестантской платформе», а на товарной станции.
Софья Перовская — эта маленькая, грациозная, всегда сдержанная и хорошо воспитанная девушка — впервые в своей жизни разразилась бранью, жестокой и несправедливой, по адресу своих помощников. Но, успокоившись, она с прежней неутомимостью принялась за подготовку к освобождению Войнаральского, Ковалика и Рогачева или того из них, кого удастся еще захватить.
Ковалик и Рогачев уже были пропущены, удалось проследить путь одного только Порфирия Ивановича Войнаральского.
Повозка с арестантом, сопровождаемая двумя жандармами, была остановлена землевольцем Баранниковым, переодетым офицером, едущим из Харькова в своей кибитке. Двое его спутников, едущих верхом, приблизились к повозке, в которой жандармы везли Войнаральского. Один из верховых первым же выстрелом из револьвера уложил жандарма. Испугавшиеся выстрела лошади понеслись во весь опор. Верховые боевики поскакали за ними. Кибитка с Баранниковым мчалась следом.
Почти до самой ямщицкой станции гнались боевики за повозкой и остановились только тогда, когда их дрянные клячи окончательно выбились из сил.
Жандармы с Войнаральским ускакали.
Авдотья Терентьевна опять в Петербурге. На этот раз она не станет просить генералов или министров — до самого царя-батюшки доберется, а он посочувствует, поймет, что творится на душе несчастной матери, ведь он отец своему народу.
Фельдшер Федотыч разыскал пьянчужку Никифорова, отставного чиновника, великого мастака по «слезным» прошениям.
Целый рубль отдала ему Авдотья Терентьевна, зато написал же он!
«Ваше Императорское Величество, Всемилостивейший Государь!
Сын мой, Ипполит Мышкин, приговором Особым присутствием Правительствующего Сената осужден к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы в крепостях на десять лет.
Продолжительное предварительное заключение сына моего под стражею разрушительно отразилось на его здоровье, и дальнейшее заключение неминуемо сведет его в преждевременную могилу.
Великий государь! Терзаясь страдальческой жизнью моего сына, я беру на себя смелость припасть к стопам Вашего величества и со слезами умолять о пощаде, о милости, о замене каторжных работ поселением и в разрешении сыну моему вступить в законный брак с его невестою, девицею Ефросиниею Супинской, осужденною по этому же делу.
Милосердный монарх! Ваше неисчерпаемое милосердие дает мне смелость питать надежду, что ради меня, престарелой матери и Вашей верноподданной, Вы услышите мою мольбу, сжалитесь над моими слезами и окажете мне Ваше неизреченное милосердие и не допустите погибнуть прежде времени несчастному страдальцу.
Всеподданная вдова фельдшера Авдотья Терентьева Соколова (бывшая Мышкина).
Прошение это набело писал Николай Степанов Никифоров».
Царь Александр II проявил свое «неизреченное милосердие». На полях материнской просьбы он сделал надпись:
«Узнать, что за человек этот Никифоров, который написал ей прошение».
Ни боевики Софьи Перовской, ни слезы Авдотьи Терентьевны не смогли вырвать Мышкина из лап палачей.
27
Грацилевский — смотритель Ново-Белгородской каторжной центральной тюрьмы — был приятно поражен: «страшный» Мышкин, о котором его предупредили специальным секретным письмом, оказался совсем нестрашным.
Грацилевский человек опытный, с наметанным глазом. При первой же встрече он безошибочно определяет характер вновь прибывшего политического арестанта.
При «приемке» сталкиваются две враждебные стихии: благородство и хамство. Юноша, мечтавший осчастливить человечество, попадает в окружение людей, которым по инструкции полагается быть грубыми, даже жестокими… Юноша лишился всего: свободы, любви, мечты, у него осталось лишь одно — человеческое достоинство, и именно это человеческое достоинство норовят унизить тюремщики. Хамоватые окрики, презрительное «ты», понукания и тычки — все это рассчитано на взрыв, на бунт уязвленной гордости, чтобы этим бунтом оправдать более жестокие поступки.
А «страшный» Мышкин не взрывался, не бунтовал. Он решил, что в тюрьме нужно или, сохраняя полное хладнокровие, спокойно покоряться своей участи, или же, если вступать в борьбу, то только с тем, чтобы не оставаться в живых. Ничем, убедился он, нельзя так порадовать тюремщиков, как доставить им случай надругаться над тобой, и ничто не может так сильно злить их, как ясность духа и спокойствие, которых не могут сломить все измышленные ими пытки.
Мышкин сам выложил из карманов все, вплоть до носового платка, поднял руки кверху и вежливо предложил: «Обыщите».
Когда же надзиратель, совсем без нужды, лишь затем, чтобы подчеркнуть бесправность каторжника, зачастил: «Повернись направо», «Повернись налево», Мышкин в отличие от остальных арестантов не только не протестовал против нарочитой грубости, а выполнял все распоряжения с солдатской четкостью. Только в глазах его, чуть-чуть сощуренных, и в уголках крепко сжатых губ по временам появлялась такая презрительная ухмылка, что смотритель Грацилевский, безмолвно наблюдавший эту сцену, счел нужным одернуть слишком ретивого надзирателя:
— Чего возишься? Кончай обыск!
Мышкин действительно заставил себя быть «нестрашным». Он знал, что в каждой тюрьме своя система унижений, но чтобы успешно бороться с этой системой, нужно в первую очередь видеть ее в действии.
Хотя не только это интересовало сейчас Ипполита Никитича: он хотел поскорее, без осложнений, без инцидентов очутиться в камере, на месте своего «постоянного жительства».
В Петербурге его переводили из тюрьмы в тюрьму, всюду он был «временным жильцом», и как человек, переехавший в гостиницу на несколько часов, не распаковывает своих чемоданов, так и Ипполит Никитич, кочуя с места на место, не считал нужным вырабатывать «план дальнейших действий». Он знал: жить — значит бороться, а бороться можно только на свободе. Десять лет каторги — это вечность. Надо эту «вечность» сократить до минимума.
Следовательно — побег! Скорее в камеру, чтобы осмотреться, прикинуть, взвесить…
Камера смутила Мышкина: сумрак, малюсенькое оконце где-то под потолком; кровать без тюфяка, без подушки; жестяная кружка на столике, и… тишина, глухая, пустая, без единого шороха.
Время идет, тянутся дни, похожие один на другой.
Вечер. Тишина. Вдруг из 7-й камеры раздается громкий голос, резко отчеканивающий каждый слог:
— Я тре-бу-ю фи-зи-чес-ко-го труда! Я тре-бу-ю фи-зи-чес-ко-го тру-да!
Надзиратель подбегает к двери.
— Чего орешь? Замолчи, не то я на тебя наручни надену!
Мышкин не обращает внимания на угрозу:
— Я тре-бу-ю фи-зи-чес-ко-го тру-да! Я тре-бу-ю…
Утром после завтрака голос Мышкина опять взбудоражил тюрьму:
— Я тре-бу-ю…
В коридоре беготня, шум, борьба — Мышкина волокут в карцер.
Это был погреб со сводчатым потолком. При запертых дверях в нем водворялась абсолютная темнота: не оставалось ни одной светлой точки, на которой мог бы остановиться глаз. Ни сидеть, ни лежать не было на чем. Стоять также нельзя было: холод и сырость были настолько велики, что Мышкин принужден был непрерывно двигаться, ощупывая каждый свой шаг, чтобы не разбить голову об низкие каменные своды.
Мышкина ведут из карцера. Он не идет, а висит на руках у надзирателей. Голова поникла; глаза закрыты.
— Хорошо, — сказал он, чтобы прекратить шум. — Я распоряжусь.
В этот же день было разрешено «политическим» пилить и колоть дрова на свежем воздухе!
Потекли дни, недели, месяцы — пустые, мертвые, и в эту мертвую пустоту лишь изредка врывались шумы живой жизни… Где-то слышалось перестукивание, кто-то меряет шагами свою келью, и кандалы лязгают, лязгают, вот раздается в одной из камер протяжный стон…
Но были и шумы, которые до слез угнетали Мышкина. Студент Боголюбов, тот, кто на тюремном дворе не снял шапки перед петербургским градоначальником Треповым, за что обиженный сатрап приказал его высечь, а скромная провинциальная девушка Вера Засулич, возмущенная бесчеловечностью Трепова, поехала в Петербург специально для того, чтобы всадить две пули в генеральскую грудь, — этот Боголюбов не выдержал мертвой пустоты Ново-Белгородской тюрьмы: его разум помутился.
Сумасшествие Боголюбова сказалось в том, что он беспрерывно говорил, шагал по своей камере днем, вышагивал ночи напролет и говорил, говорил, а кандалы, точно живые собеседники, на разные голоса поддерживали безумолчный «разговор» сумасшедшего: то они грохотали, как бы угрожая кому-то, то тоненько вызванивали, как бы жалуясь кому-то, то суматошливо лязгали, как бы возмущаясь чем-то…
Смеркается. Сумерки становятся все гуще. Гулявшие возвратились в свои камеры.
Заиграйте, гусли-мысли, Я вам песенку спою, —слышится вдруг нежный запев. Но с каждой строчкой, с каждым слогом тон песни становился страстней:
Я вам песенку спою Про женитьбу про свою…В голосе уже слышались подавленные рыдания, слышатся слезы:
Как женила молодца Чужедальня сторона…И стон переходит в вопль, в настоящее рыдание. Узник плачет о гибнущей молодости, о пропадающей жизни, об угасающем рассудке.
— Эх! Варвары! За что вы меня мучаете?
Острую боль вызывают эти рыдания в сердце Мышкина. Его душой овладевает отчаяние при мелькнувшей мысли: а ведь каждого из нас ждет такое будущее. Вот Бочаров из 4-й камеры, юноша-студент, был на Казанской площади во время демонстрации. Дни напролет сидит он за столом и мутным взором смотрит в пространство. Или Соколовский, поляк, кричит, буянит, бьет табуреткой в дверь. Или Донецкий, хилый юноша, с которым Мышкин сдружился в Женеве. Вчера ночью он простучал Мышкину целое послание:
«Я открыл, что я центр мира. Все важнейшие мировые события связаны невидимой нитью с моим существованием. Я родился 29 числа, по моим вычислениям, мир сотворен 29-го, Уложение Алексея Михайловича издано 29-го, Жуковский родился 29-го, Пушкин умер 29-го, начало осады Троицкой лавры 29-го, взятие Варны 29-го, усекновение главы Иоанна Предтечи 29-го…»
Больно было Мышкину и за Льва Дмоховского, за юношу с восторженными глазами, немного рассеянного, немного суматошливого, но с таким чистым сердцем, что после разговора с ним жизнь казалась не такой уж горькой. Лев Дмоховский был ученым-астрономом, и не видеть неба с его звездными мирами было для него горше средневековой пытки. И он, этот благородный юноша, захандрил, затосковал, и даже заботы матери и сестры — поселившихся за воротами тюрьмы, чтобы быть рядом со своим любимцем, — не могли вырвать молодого ученого из умственной дремы.
Основной вопрос Мышкин решил: он нашел выход из безвыходного положения, он нашел способ выбраться из тюрьмы, он изобрел, именно изобрел, путь к свободе. Но, увы, только для себя одного, и это мучило Ипполита Никитича.
Ночью на жестком ложе он вел мысленный спор с самим собой:
«Я выйду на свободу… буду бороться, со мной будет Фрузя, а мои товарищи по борьбе будут в это время томиться здесь, в этих гробах, где самые сильные уже начинают сдавать. Имею ли я моральное право воспользоваться своим случайным преимуществом, которое принесет свободу только одному мне?
В борьбе мы стояли плечом к плечу, перед царскими судьями мы были едины, а в беде я их брошу? Ведь товарищи на воле голов своих не пожалели, чтобы освободить нас из лап жандармов, а я, когда представилась возможность бежать из тюрьмы, поспешил воспользоваться этой возможностью, бросив товарищей. И каких товарищей! Долгушин, Дмоховский, Петр Алексеев, Зданович — ведь каждый из них, не раздумывая, пошел бы на смерть только для того, чтобы хоть чуточку облегчить участь любого из нас! А я, Ипполит Мышкин, для которого все мученики этой тюрьмы дороже, чем кровные братья, радуюсь близкой своей свободе, как молодой бычок радуется первой травке, хотя знаю, что мои друзья еще долгие годы — пока не сойдут с ума или не умрут от чахотки — будут лязгать кандалами в этих тесных гробах…
Но будет ли легче Долгушину, Дмоховскому, Петру Алексееву, Здановичу, Донецкому или Боголюбову, если и у меня помутится разум? Ведь тот способ, который я изобрел для побега, годится только для меня, никто другой не сможет им воспользоваться.
Беда в том, что я не могу раскрыть товарищам своего секрета, ибо тайное может стать явным. Но скажи я Долгушину или Петру Алексееву: «Я могу выйти на свободу, но не выйду отсюда потому, что всех вас вывести не могу, а один уходить не хочу». И Долгушин, и Петр Алексеев, и любой из товарищей скажет: «Уходи один, на воле нужны борцы, и нам ты больше пользы принесешь, находясь на свободе, чем мучаясь здесь вместе с нами».
Споры закончились тем, чем должны были кончиться, — торжеством логики. В самом деле, какой чистоплюй мог осудить Мышкина за то, что он воспользовался ему одному представившейся возможностью вырваться из страшной каторжной тюрьмы?
Но судьба Боголюбова, Бочарова, Донецкого, Соколовского волновала, угнетала, мучила… Несчастным юношам Мышкин уже ничем не мог помочь — все свои помыслы он направил на поиски средства, могущего отвлечь здоровых от мрачных мыслей: ведь даже «крепчайший» Дмитрий Рогачев уже перестал отвечать на перестук, ушел в себя. Отсутствие свежего воздуха, расслабленный организм, развинченные нервы, расшатанная душевная деятельность — все это преддверие сумасшествия.
И Мышкин нашел средство!
Несмотря на жестокую изоляцию, арестованные находились в постоянном общении друг с другом. Ближние перестукивались, дальние — переписывались. Записки клали в условленные места в уборной или заделывали в корешки книг. Тема — новости дня, стихи, эпизоды из прошлой жизни. Эти темы отвлекали, но не волновали, они не требовали душевной собранности, они, эти темы, словно лучи осеннего солнца, сияли, но не согревали. После перестука или после прочтения записки арестант возвращался к своим мыслям, к своей созерцательной жизни, одурманенной мечтаниями.
Ипполит Никитич предложил завязать переписку дискуссионного характера: о путях революции.
Разгорелись страсти — участники дискуссии почувствовали себя бойцами на линии огня; каждый вносил в спор весь свой опыт, весь жар нерастраченного сердца, все свои мысли и все свои мечты. Дискуссия влила новое содержание в тюремную жизнь — каждый готовил свое письмо с таким напряжением духовных сил, словно оно должно стать историческим документом. Отослав послание, узник не переставал думать о нем — появлялись разъяснения, дополнения, уточнения.
Первая тема, которую предложил Мышкин, вызвала жестокий спор. Мышкин предложил обосновать — философски и политически — такие понятия, как власть «милостью божьей», «волей народа» и «по захвату». В ответах на эти вопросы сказался не только темперамент и личный революционный опыт каждого из участников дискуссии, но и их социальные устремления. Так, Петр Алексеев и Зданович, одинаково ратуя за власть «волей народа», вкладывали в это понятие различное содержание. Петр Алексеев считал, что власть «волей народа» означает: народ управляет, а Зданович доказывал, что от «имени» народа должны управлять люди образованные, умные, честные…
Эта дискуссия, как лакмусовая бумажка, безошибочно определяла мировоззрение каждого из участников. Все они считали себя народниками, но среди них уже выявлялись такие теоретические разногласия которые на воле привели бы к жестокой борьбе. На одном полюсе спора стояли Мышкин и Рогачев, на другом — Зданович, Петр Алексеев и Джабадари, причем Петр Алексеев ближе к Мышкину и Рогачеву, а Джабадари почти впритык к Здановичу. Мышкин и Рогачев считали, что крестьянская реформа 61-го года означала переход «от рабского строя к капиталистическому», что «в недалеком будущем община уничтожится и у нас образуется пролетариат — одним словом, мы повторим то же, что совершается теперь в западноевропейских государствах».
Мышкин и Рогачев считали, что главная цель революционеров — это организация народной партии с программами минимум и максимум и что деятельность революционеров среди народа должна распадаться на деятельности среди фабричных и сельских. У фабричных, утверждал Мышкин, имеется в руках острое оружие — стачка. Мышкин ратовал еще за республику, так как только республика «поможет нам достичь конечной цели».
Капитализм в России, программы максимум и минимум, республика — все это казалось народникам Здановичу и Джабадари таким далеким от их скромных помыслов, что, не находя веских аргументов для отпора, они обвиняли Мышкина в «насиловании истории».
Но свою цель Мышкин достиг: дискуссия как бы сорвала тюремные запоры, заключенные шагнули в широкий мир идей, в тот чудесный мир, где физические неудобства только оттеняют величие человеческого гения.
Что «изобрел» Мышкин для своего побега из тюрьмы?
В первые же дни он заметил: в камере, чуть вправо от двери, шатается одна половица. Мгновенно созрела мысль: подкоп во двор, там низенький забор…
Но работать в камере под неусыпным глазом надзирателя, поминутно заглядывающего через «волчок», невозможно. Надо, чтобы надзиратель свыкся с мыслью, что Мышкин трудится где-то сбоку, вне поля его зрения.
И тут «изобрел» Мышкин действенное средство. Он обратился к новому смотрителю Копнину с просьбой разрешить ему, как топографу и чертежнику, изготовлять географические карты и наклеивать их на холст. Копнин отнесся к просьбе сочувственно. Камера Мышкина наполнилась калькой, бумагой, холстом, линейками, карандашами, красками, кистями. Рисовал Мышкин почему-то лежа на полу — говорил, что так ему более удобно, что и на воле он так работал. Карты Мышкина имели успех, их охотно покупали школы и земские учреждения. Из отрезков холста и надерганных из него ниток он сшил себе «вольный» летний костюм и спрятал его в подполье.
Всю зиму и первые два весенних месяца работал Ипполит Никитич. Шаг, еще шаг — свобода все ближе, ближе. Правда, с каждым шагом становилось все труднее: землю он выносил в шапке, ползком и прятал эту землю в параше, которую сам же выносил по утрам. Чем дальше удалялся от камеры конец подкопа, тем меньше земли он успевал выгрести за ночь.
Но и эти трудности уже позади — подкоп почти готов! Несколько шагов вверх — и свобода!
Ночь. Мерно похрапывает в коридоре дежурный.
Мышкин делает, как обычно, из своего платья подобие чучела, накрывает его одеялом, а сам, приподняв половицу, опускается под пол. Обломком гвоздя, а то и голыми пальцами ковыряет он последние вершки мерзлой земли. Спину ломит, пот градом катится по лицу. Как крот роется он в темноте…
И докопался до верхнего слоя, влажного, разогретого первым дыханием весны…
— Завтра… Послезавтра… — шепчут его губы.
Он возвращается в камеру, валится на койку, засыпает.
28
Проснулся Ипполит Никитич свежий, бодрый Подошел к окну, задрал голову вверх: с правого угла рамы выглянул клочок неба, синего, высокого.
Повернулся ключ в замке, тяжело раскрылась дверь, и в камеру вошел надзиратель. Подозрительным взглядом охватил он камеру и буркнул:
— Выноси парашу.
Мышкин вспыхнул: с его языка готово было сорваться дерзкое слово — ведь ему уже давно не говорили «ты»!
Но Мышкин ничего не сказал: он подошел вплотную к надзирателю, посмотрел ему в глаза и, укоризненно качнув головой, спокойно взялся за ушко параши.
Мышкин понял, что в тюрьме что-то произошло. Работая без устали под землей, он сам себя выключил в последние недели из общей жизни — не перестукивался, не писал и не получал записок.
Надзиратель пропустил вперед Мышкина, запер дверь и опять буркнул:
— Неси!
Мышкин отнес парашу в уборную.
Записку он заметил сразу: она была приклеена к трубе комком черного хлеба. Только наметанный глаз мог найти этот комок в изобилии ржавых пятен.
Мгновение — и записка в руках Ипполита Никитича.
— Живее! — поторапливал надзиратель.
Параша опорожнена, прополоскана, вымыта.
Мышкин вернулся в камеру.
Надзиратель запер дверь.
В записке несколько слов:
«Сегодня начинаем голодовку насмерть».
Мышкин обмер: сегодня? Сегодня, когда он даже не обрадовался клочку синего неба, зная, что через двадцать-тридцать часов будет сиять над его головой весь небосвод? Сегодня, когда перед ним раскрылась возможность вступить в жизнь, предлагают ему начать голодовку насмерть? Сегодня, когда в нем уже зреют планы борьбы за широкие цели, снизиться до мелкой войны с тюремщиками?
Мышкин лег на койку. Он лежал разбитый, надломленный, с тяжелой головой, а там, где полагается быть сердцу, лежал камень. Ум бодрствовал, но жизнь в теле едва теплилась.
Принесли завтрак: Мышкин не притронулся к нему.
Ипполит Никитич не принимал участия в решении вопроса о голодовке, но… вопрос все же решен. Спорить с товарищами уже поздно, а идти против них невозможно.
Принесли обед — Мышкин к нему не притронулся.
Мысли разорваны. Это даже не мысли, а какие-то клочки мыслей: тусклые, серые. Словно снежинки, кружатся они в голове.
Мышкину грезилось: он стоит у выхода из подкопа, в лицо дует свежий ночной ветерок; надо сделать последний шаг, а кто-то вцепился в его ногу и не дает ему уйти из тюрьмы…
Прошли первые дни голодовки. Исчезло ощущение голода. Во рту пересохло, да и вкус отвратительный, тошнотворный.
Мышкин лежал с открытыми глазами. Перед ним проходили странные люди: высокие и худые, как столбы, или маленькие и пухленькие, как котята. Одни подпрыгивали в воздухе, другие вертелись волчком, а когда подходили вплотную к койке, все они превращались в медные самовары.
Седьмой день. Из мрака выступают, как всегда, странные фигуры. Они колышутся в воздухе, подвигаются к койке.
Мышкин ясно видит: похоронная процессия. Впереди поп, седой, с окладистой бородой и смешной маленькой косичкой; за ним — два дьячка, народ. Процессия торжественно проходит…
На какое-то мгновение вернулось сознание, и Мышкин узнает смотрителя тюрьмы, врача, двух надзирателей. Они тормошили его, вливали в него что-то горячее…
Из Петербурга приказали «оборвать голодовку», а режим немного ослабить.
Долго и трудно поправлялся Ипполит Никитич Мышкин, а когда окреп настолько, что мог уже выходить на прогулку, опять приступил к «подземным работам».
Страстная пятница. После обеда спустился Мышкин в свое подземелье, чтобы к спрятанным там запасам прибавить розанчик и кусок колбасы, полученные сегодня от неожиданно расщедрившейся казны.
Ходивший по коридору дежурный случайно заглянул в камеру как раз в тот момент, когда Мышкин вылезал из-под пола: видна была одна голова. Волосы всклокочены, лицо грязное, глаза горящие. Надзиратель испугался: ему почудилось, что из-под пола лезет какая-то нежить. Он вскрикнул. Поднялся переполох. Прибежал смотритель.
Мышкина перевели в карцер.
Надежда на свободу исчезла.
«Нет, — все же решил Мышкин, — это еще не конец, выход должен быть найден!»
В темноте, в вони, в холодном карцере усиленно работает мозг.
«Убьют, задушат… Надо умереть так, чтобы и смертью своей принести пользу товарищам…»
Мышкин нашел способ умереть «с пользой для товарищей». Он нанесет оскорбление начальнику тюрьмы, а после пощечины «подобреет» подлец!
Когда Ипполита Никитича снова вернули в камеру, он вдруг обернулся верующим христианином. В камере и на прогулке он распевал псалмы, с надзирателями говорил елейным голосом, стал усердно посещать тюремную церковь.
Наступил какой-то царский день. Мышкин направился в церковь: по его расчетам, сегодня там обязательно будет начальник тюрьмы Копнин и можно будет привести в исполнение задуманное.
Мышкин не ошибся. В парадном мундире, при орденах слушает Копнин обедню, солидно крестится. Перед многолетием Копнин подошел к кресту. Следом за начальником идет Мышкин.
Копнин перекрестился с достоинством, приложился к кресту. Но не успел он выпрямиться, как Мышкин отпускает ему звонкую пощечину.
— Вот тебе, подлец! — прозвучал на всю церковь торжествующий голос Мышкина.
Копнин взвыл. Набалдашником палки бьет он по бритой голове Мышкина, ругаясь при этом похабными словами. Наскочившие надзиратели помогают своему начальнику — и перед алтарем бога всепрощения и любви началось зверское избиение.
Мышкин в обмороке. Его сразил первый удар тяжелым набалдашником. А Копнин и его подручные бьют, бьют — кулаками, ногами, ножнами шашек.
Окровавленного, потерявшего сознание Мышкина волокут за ноги в контору, а оттуда — в карцер.
Мышкин не добился своей цели.
Шел 1880 год, знаменательный год, который по революционному накалу был схож с 1860. Россия бурлила. Усилилась стачечная борьба; возникли первые рабочие союзы, активизировались земские деятели; террористические акты следовали один за другим. Надвигалась революция! Александр II передал власть в руки Лорис-Меликову, все достоинство которого состояло в том, что он умел «ловко обманывать». Бойкие газетчики завопили о «медовом месяце либерализма», о «весне». Добившись роли диктатора, Лорис сумел так ловко вести свою хитрую политику, что одной рукой принимал щедро сыпавшиеся на него либеральные венки, а другой — сеял гнет и притеснения, особенно там, где его подлые дела оставались тайными для света.
Эта «весна» и сказалась на Мышкине. Диктатор Лорис-Меликов, страшась за свою шкуру, не решился предать военному суду известного революционера: за Мышкина отомстит не одна Вера Засулич! И трусливый диктатор, который «лисьим хвостом прикрывал волчью свою морду», приказал объявить поступок Мышкина «выпадом отчаявшегося в жизни человека», и его, Мышкина, не наказывая, перевели в Ново-Борисоглебокую центральную тюрьму, туда, где содержались Войнаральский и Ковалик.
29
В октябре 1880 года шла в Мариинском театре опера «Майская ночь», дирижировал новой оперой автор, Римский-Корсаков. В зале — весь сановный Петербург: ждали царя. Но Александр II не «соизволили прибыть».
Белые хаты залиты лунным светом. Из-за плетней проглядывают любопытные подсолнечники. Сцена кажется бездонной: песчаная дорога уходит вдаль, к самому небу. Всюду цветы. Все благоухает, дрожит от счастья, а влюбленный Левко тоскует:
Спи, моя красавица…Публика в зале замерла: со сцены струит летняя истома, трепетная тишина и предчувствие трагедии, простой, будничной, одной из тех, что всегда отдается болью в человеческих сердцах.
Министр внутренних дел Лорис-Меликов взбешен: царь не поверил ему, не приехал — струсил или перестал доверять своему министру «охранных дел»? Раздражают Лориса и звуки, льющиеся со сцены: они вызывают в нем что-то жаркое, сладкое и влекущее, как аромат экзотического цветка. Ощущение чего-то пережитого в прошлом, чего-то сладостного, острого и жгучего перехватывает горло. А за креслом Меликова сидит профессор Доброславин, из тюремного ведомства, и бубнит, бубнит.
Лорис-Меликов повернулся и сказал возмущенно:
— Уже решили: их увезут из централок и задержат в Мценске!
— Условия, ваше высокопревосходительство, условия надо было бы изменить. Трупы, а не люди.
— Уже решили: будем менять условия!
— Тридцать копеек, ваше высокопревосходительство, на тридцать копеек в день не раскормишь их, не поставишь на ноги.
— Уже решили: шестьдесят копеек! И перестаньте бубнить.
В промозглое серое утро вывели Мышкина из камеры. Лязгая кандалами и покачиваясь от слабости, шел он по затихшему коридору.
Надзиратель распахнул последнюю, наружную дверь.
Мышкин выглянул в мир, в вольный мир и… увидел столб с качающимся на нем трупом.
Обман зрения! Это только дерево. Черное дерево. Голый осенний скелет дерева!
Мценская пересыльная тюрьма. Все необычно. Камеры без запоров, надзиратели без оружия, смотритель — сама вежливость, и, если бы не караулы у ворот да парные наряды вокруг забора, можно было подумать, что тюрьма превращена в гостиницу.
В Мценск были свезены полутрупы, живые мощи, но условия, созданные для них внутри тюрьмы, быстро вернули мучеников к жизни — и убитая зноем земля оживает после первого обильного дождя.
Пришел в себя и Мышкин. В первое время был он излишне возбужден, нервно-взвинчен, и его язвительные реплики раздражали слушателей, независимо от того, какие идеи он отстаивал. А впоследствии, когда товарищи узнали, почему Мышкин нервничает, дискуссии приняли более спокойный и деловой характер, хотя все, что высказывал Мышкин, опять же независимо от формы способно было вызвать бурю в душе любого народника.
Мышкин резко осуждал тактику революционеров, тактику, которая привела к изоляции революционных групп от общества. Он требовал коренной перестройки: не отрываться от общества, а, наоборот, слиться с ним, стать его активными членами, воспользоваться возможностью легально работать в рядах общества, принимать участие в земской деятельности, баллотируясь в земские, служа в управах…
Эти свои мысли Мышкин более подробно изложил на каторге в подпольном журнале «Кара».
Мышкин требовал, чтобы революционеры не чуждались и государственной службы, занимали в ней самые разнообразные должности, и тем, уверял он, они могут больше содействовать революции. Если такому земцу или чиновнику, утверждал Мышкин, пришлось бы пострадать, то есть попасть в ссылку или на виселицу, то и тогда это пошло бы на пользу дела.
— Арест, а тем более казнь такого человека взбудоражили бы все местное общество. А теперь что? Арестовали какого-то Мышкина. Кто и что, кроме его родных и товарищей по делу, о нем знает? Никто и ничего!
Могли ли народники понять, а тем более согласиться с Мышкиным? У людей, для которых высшая форма революционной деятельности умещалась в расплывчатом лозунге «Все через народ», кружилась голова от смелого полета мышкинских идей.
Кроме того, среди заключенных уже находились и террористы — люди, мечтавшие бомбой и кинжалом ускорить ход истории.
А Мышкин все больше и больше нервничал.
В первый же день, устроившись в своей камере, он написал письмо матери. О себе сообщил немного: здоров, люблю, жду, но все письмо было пронизано тревогой: где Фрузя, что с ней, почему не откликается?
30
Не зная, что заключенные содержатся во втором дворе, Авдотья Терентьевна пристально всматривалась в окна флигеля, надеясь увидеть сына. Но окрик солдата: «Не останавливаться!» — заставил ее направиться к двери, на которой белела надпись: «Контора».
Контора переполнена: тут были хорошо одетые господа и дамы и такие, как Авдотья Терентьевна, серые старушки и мужчины в ситцевых рубахах, много молодежи.
Все с узелками, пакетами, цветами.
Непривычная обстановка и душевная тревога так подействовали на Авдотью Терентьевну, что она заплакала и опустилась на ближайшую скамью.
Молодежь тотчас окружила ее:
— Верно, впервые! К дочери? Сыну?
В эту минуту выкрикнул надзиратель:
— Кто к Мышкину?
— Я… Я… — растерянно проговорила Авдотья Терентьевна, обессилев внезапно настолько, что не могла подняться со скамьи.
По конторе прошел сначала шепот, потом не меньше десятка юношей и девушек обступили Авдотью Терентьевну. Одни приподняли ее, другие совали ей в руки цветы, узелки со снедью; одна девушка — рыженькая, в очках — вытирала пахучим платком влажное от слез лицо Авдотьи Терентьевны, а высокий студент в крылатке сказал громоподобным голосом: «Передайте сыну привет и восхищение от всей мыслящей России!»
Трогательная забота чужих людей удивила Авдотью Терентьевну: она не понимала, чем вызван этот взрыв сердечной теплоты к ее сыну. Она не знала, что речь на суде ее Ипполита вихрем пронеслась по России, она не знала, что слова ее сына стали программой для тысяч юношей и девушек, решивших посвятить себя народному делу, она не знала, что после 1878 года жандармы находили речь Мышкина почти при всех обысках, она не знала, что смелое выступление ее сына встретило горячий отклик в самых широких массах…
Мышкин произнес свою речь в годы революционного подъема, когда вся честная Россия живо откликалась на каждое смелое слово. В те годы поведение подсудимого на суде имело такое же общественное значение, а часто даже и несравненно большее, чем сама его деятельность.
Обо всем этом не знала и не догадывалась Авдотья Терентьевна.
— Пожалуйте на свидание!
Авдотья Терентьевна, нагруженная пакетами, свертками и цветами, последовала за надзирателем.
Загремели замки, застучали засовы.
Авдотью Терентьевну ввели в просторную и светлую комнату. У стола сидел офицер. Немного поодаль— круглый столик и два мягких кресла.
— Кладите все на стол, — предложил. офицер.
Авдотья Терентьевна положила на стол цветы, пакеты, свертки и недоуменно взглянула на офицера. Он разворачивал свертки, открывал пакеты и даже заглядывал внутрь цветов…
Откуда-то сверху послышались шаги… Ближе, ближе…
Авдотья Терентьевна рванулась вперед, но, когда дверь распахнулась и показалось бледное, одутловатое лицо Ипполита, она, словно пригвожденная к полу, не смогла двинуться с места.
— Мама!
Авдотья Терентьевна уронила на пол сумку, обняла сына и долго, не выпуская из объятий, смотрела в его лицо.
Офицер, стараясь ступать бесшумно, подобрал сумку, положил ее на столик.
— Сыночек…
Много вопросов хотел Ипполит Никитич задать своей матери, первому родному человеку за многие годы неволи, но все вопросы улетучились. В объятиях матери к нему вдруг вернулось ощущение свободы, той полной свободы, когда небо, птицы, люди — все кажется естественным. Он ощутил во рту вкус щей, которые мать только что достала из печи, он слышал терпкий запах свежевыстиранного белья… Ему было радостно, и не той внезапной радостью, что иногда беспричинно налетает на человека и беспричинно же отлетает, — ему было радостно, как в далеком детстве, когда, вдоволь наигравшись, он засыпал под материнскую сказку. Все отступило: тюрьмы, кандалы, он вернулся к истокам счастья — тихого, ласкового и такого безмятежного, что сердце замирает от умиления.
— Время истекает, — мягко напомнил офицер.
Авдотья Терентьевна заторопилась. Она говорила быстро, захлебываясь и бодро. О том, что она здорова, что Григорий по-прежнему служит в кондукторах…
Ипполит Никитич вырвался из сладкого забытья и стал прислушиваться к стремительной речи матери.
Он ждал, когда же мать дойдет до самого главного, до того, что его угнетало, что делало его несчастнейшим среди несчастных…
— Свидание кончилось, — тихо заявил офицер.
Авдотья Терентьевна засуетилась:
— Сыночек, я послезавтра опять приду. Мне разрешили свидания три раза в неделю. Послезавтра опять приду. Ты мне только скажи, чего бы ты хотел…
— Ничего мне не надо.
— Свидание кончилось.
Авдотья Терентьевна обняла сына; целовала в губы, глаза. И эти порывистые ласки болью отозвались в сердце Мышкина: почему она уходит, ничего не сказав о самом важном?
— Что с Фрузей?!
— С Фрузиночкой? — спросила она удивленно. — Ничего не знаю, сыночек, ничего не знаю… Послезавтра опять приду, авось что-нибудь узнаю, тогда поговорим, сыночек… — Спотыкаясь, пошла она к двери, обернулась, показала улыбающееся лицо и… исчезла.
Авдотья Терентьевна действительно не знала, что с Фрузей.
Ипполит Никитич опустился на стул. Подозрение перешло в уверенность: с Фрузей приключилась беда!
Мать знает и не решилась сказать!
— Не огорчайтесь, господин Мышкин, — сказал офицер участливо. — Все утрясется.
Смысл слов не дошел до сознания Мышкина, он поднялся и неуверенными шагами направился к двери.
В коридоре нагнал его Петр Алексеев — этот деятельный и всегда бодрый крепыш был взволнован.
— Слышал, Мышкин? Царя убили.
Это сообщение сразу вывело Мышкина из оцепенения.
— Когда?
— Вчера. Бомбой его разорвало. И зря! Мышкин! Ведь зря!
Мышкин почему-то рассердился:
— Тебе Александра жаль?! — И сразу же успокоился. — Пойми, Алексеев, не в Александре дело. Одного подлеца заменит другой. Но сколько хороших людей погибнет из-за подлеца Александра? А разве мы так богаты, чтобы тратить на мерзавцев свои лучшие силы?
— Ты что, мне лекцию читаешь?! — оборвал его Алексеев. — Не выслушал меня до конца и туда же с лекцией!
— А ты что хотел сказать?
— Хотел тебе сказать, что убийство это бесполезно, не нужно, ошибочно и принесет прямой вред социальной революции. Царь-то в народе еще помазанник божий, его трогать не надо было. Надо сначала убедить народ, что царь-то подлец, что не божий он помазанник, а главный палач для трудового люда, вот тогда сам народ с ним расправился бы… А ты мне про хороших людей….
И, видимо обиженный, повернулся и отошел упрямым, гулким шагом.
Петр Алексеев принадлежал к числу тех революционных народников, которые призывали народ к социальной революции. В отличие от большинства своих товарищей по борьбе Алексеев расширил понятие «народ», включив в него, а подчас и ставя на первое место, рабочий класс. Террористы же, правильно считал Петр Алексеев, не расширяют, а суживают революционное предполье, замыкаются в рамках небольшой группки.
Петр Алексеев не понимал тогда, что какая-то часть народников, разочаровавшись в прежних методах борьбы или, вернее, убедившись, что нельзя поднять крестьянство на социальную революцию, отбросила половину лозунга «Все через народ», удовлетворившись более расплывчатой, зато более емкой частью: «Все для народа» — через борьбу одиночек, сплоченных железной дисциплиной.
31
«Что с Фрузей?»
Фрузе повезло: ее выслали в Архангельскую губернию, в край ее детства, и в провожатые дали ей пожилого жандармского унтера — человека грузного, со скуластым лицом и добрыми глазами. В конторе тюрьмы, прежде чем расписаться «в приеме арестованной», он спросил Фрузю:
— Теплая одежонка имеется? Тулупчик, валенки, платок?
— Валенок нет, — ответила Фрузя немного растерянно: она не ждала от жандарма такой заботы.
— Не приму арестованную, ваше благородие, — ворчливо заявил он смотрителю. — Ей не к теплому морю ехать. У нас тут солнце, а там, ваше благородие, вихрит.
Смотритель попытался окриком обуздать ворчуна, но тот, выслушав начальственную отповедь, спокойно ответил:
— Так точно, ваше благородие, мое дело принять арестованного, а не рассуждать. Я и не рассуждаю, ваше благородие, только арестованную не приму. С ней может беда приключиться, а отвечать-то мне, ваше благородие. И в инструкции сказано без теплой одежонки зимой не возить.
И не принял! Смотрителю пришлось добыть для Фрузи валенки.
Выехали из Петербурга на рассвете. День был серый, холодный, но сквозь туман уже поблескивало солнце. Жандармский унтер, сидевший по левую руку Фрузи, напряженно смотрел вперед, точно в снежном безбрежье привиделась ему какая-то опасность. Сани шли легко, без раскатов и не увязая в твердом насте.
На станциях жандарм первым выскакивал из саней и помогал Фрузе выбраться из соломенного кокона.
— Идите, барышня, в горницу, а я насчет лошадок распоряжусь. Только вы того, не рассупонивайтесь: сейчас, дальше поедем.
…Три недели они добирались до Онеги.
Фрузя вышла из саней. Кругом хмуро, сумрачно. Несколько десятков домиков затерялись в холодном просторе. На Онежской губе дыбятся льды.
Фрузя вошла в избу, и тут ей впервые стало грустно — то ли оттого, что ее измотала трудная дорога, то ли оттого, что завтра сани могут повернуть на восток, и через несколько дней она очутится в Архангельске. Дома!
— Убиваться, барышня, нечего, — ворчливо сказал жандармский унтер, ставя на пол Фрузин чемодан. — Мы тут дня два-три пробудем, пакет насчет дальнейшего пути получить мне надобно. Вот и отдохнете. — Он подошел к Фрузе и как-то по-хорошему добавил: — А вдруг, барышня, вас тут оставят? Городок дрянь, все же лучше, чем на погосте.
Фрузя улыбалась сквозь слезы: ее трогала ласка, что слышалась в его грубоватых словах.
…Жандармский унтер получил пакет в полицейском участке: дальнейший путь не к Архангельску, а на запад — в тундру, к Попову-погосту.
Ехали вдоль Онежской губы. Чахлые кривые деревья росли отдельными небольшими островками. Печальный вид у этих деревьев! Верхушки сухие, без сучьев, и только у основания, почти над самой землей, сучья разрастаются широким зонтом.
Снег все больше чернел; сани шли со скрипом, со скрежетом; лошади еле тянули от погоста к погосту. Днем припекало солнце, ночью вихрило.
Жандарм с каждым днем делался все мрачнее. На станках, где перепрягали лошадей, он беспричинно ругал смотрителей, ямщиков колотил в спину, даже с Фрузей он стал жестче: уже не уговаривал, а приказывал.
Но беда пришла не оттуда, откуда ждал ее жандармский унтер. Фрузя простудилась. Под тулупом ей было жарко, скинув тулуп — мерзла. Тело горело, а во рту было сухо, холодно. Хотелось все время пить.
Жандарм видел, что с Фрузей неладно, но вместо того чтобы дать ей передохнуть на одном из станков, он стал еще пуще погонять.
Недалеко от Попова-погоста Фрузя вдруг выскочила на ходу из саней. Жандарм перехватил ее, опять уложил и велел ямщику свернуть с дороги к одинокой избушке.
Хозяин сидел за чашкой похлебки. При виде жандарма он испугался, руки у него задрожали, ложка запрыгала.
Жандарм огляделся: ни кровати, ни лавки.
Он положил Фрузю на стол. Ее лицо розово блестело. Золотистая прядь прилипла к мокрому лбу.
Глаза были прикрыты, а на веках крохотные капельки. Изо рта била горячая струя.
— Пить… Пить…
Хозяин был колченогий; неуклюже передвигаясь, он вышел из избы и вскоре вернулся с ковшом — в воде плавали льдинки.
— Сгружать? — спросил ямщик, остановившись в дверях.
— Солому неси! Всю солому! — приказал жандарм.
Фрузю не раздели. В тулупе, в головном платке, в валенках, ее уложили в углу на влажную солому.
Сначала Фрузя металась, срывала с себя головной платок, пыталась вскочить на ноги, потом как-то сразу затихла. Лежала, запрокинув назад голову, и жадно ловила воздух широко раскрытым ртом.
— Фершела бы, — тихо подсказал хозяин.
— А есть он тут?
— Не туточка, а в Большом Камне.
— Далеко?
— Верст восемьдесят, почитай, будет.
— Выпряги лошадей и скачи верхом за ним.
— Ой ли, поедет ли? Я ему не указ.
— Скажи, жандарм требует по государственному делу. И чтобы канцелярию прихватил, кажись, протокол придется составить.
Колченогий хозяин выбежал из избы, выпряг лошадей, одну взял в повод, на вторую вскочил и умчался.
Фельдшер приехал к полудню следующего дня, но лечить ему никого не пришлось: Фрузя умерла ночью, умерла тихо, не приходя в сознание.
32
1 марта 1881 года бомба народовольца Гриневицкого разорвала на куски царя Александра II. Правительство испугалось, растерялось, начало искать связи с революционным подпольем, чтобы договориться о перемирии. Но… вслед за бомбой Гриневицкого не последовали выступления народных масс — революционный прибой конца семидесятых годов заметно убывал, и правительство, осмелев, перешло в наступление.
В мае 1881 года повезли Мышкина и его товарищей в Сибирь. От Мценска до Нижнего — поездом, от Нижнего — в барже.
Железная решетка, поднимавшаяся по сторонам от бортов, придавала барже вид клетки. Арестанты назвали ее «курятником». Название — удачное: баржа, битком набитая арестантами, действительно напоминала собой курятник, в котором везут кур на базар.
Прошли Волгу. Безлюдные берега Камы, гористые, поросшие щетинистыми деревьями, казались Мышкину такими заманчивыми, знакомыми — сколько воспоминаний будили они!
Пермь… Екатеринбург…
Из Екатеринбурга — на лошадях. Ехали в открытых кибитках, запряженных тройкой почтовых лошадей, под конвоем жандарма и солдата: жандарм сидел сбоку, солдат — на передке с ямщиком.
Перевалили Уральский хребет. Глядя на низменность, стлавшуюся впереди, Мышкин вспоминал Вилюйск, дорогу в Якутск и… опять замечтался о свободе.
Тройки бежали одна за другой; ехали безостановочно, задерживаясь только по нескольку минут на станциях для перепряжки лошадей. Езда утомляла и «пассажиров» и конвойных.
Мышкин решился. После полуночи, когда «партия» выехала с одной станции, он растянулся на дне кибитки и притворился спящим. Жандарм улегся рядом с ним, и вскоре послышалось его мерное похрапывание. Этой удобной минутой хотел воспользоваться Ипполит Никитич.
Приподняв голову, он всмотрелся в темноту: дорога шла по низкому, а судя по толчкам, по топкому месту. Колеса подпрыгивали. Вдоль дороги — редкий кустарник. Конвойный солдат, сидевший на облучке, дремал: голова его качается при каждом толчке. Бодрствовал один ямщик, да и тот словно спросонья понукал свою тройку.
Более подходящей минуты для побега и придумать трудно! Выпрыгнуть из кибитки и скрыться в кустарнике.
Мышкин придвинулся к краю…
Но мысль забежала вперед: «Убегу в кусты раньше, чем жандарм успеет очнуться от сна, но я-то ведь знаю, что значит сибирская облава… К тому же под Вилюйском был на мне офицерский мундир — якутам он внушал страх, а сейчас арестантский халат…»
Жандарм тихо похрапывает, лежа на дне кибитки; солдат покачивается на облучке, и… Мышкин, вопреки всем сомнениям, решил все же бежать. Время теплое — халат можно бросить, в одном белье не простудился. Но арестантская шапка, сшитая на манер клина? А если бросить и шапку, любой мальчишка узнает колодника: половина головы бритая!
Не попробовать ли овладеть жандармской фуражкой?
Мышкин принялся шарить рукой возле головы спящего, нащупал фуражку и тотчас спрятал ее себе за пазуху.
Легкость, с которой он добыл фуражку, поощрила его сделать еще одну попытку: добыть револьвер. Рука Мышкина двигалась осторожно, расстегнула уже кожаную кобуру…
Потревожил ли Ипполит Никитич жандарма, или по другой какой причине, только вдруг он заворочался, потом приподнялся, уселся…
И Мышкин был рад этому исходу: «Далеко не убежал бы, — подумал он, — а бежать надо наверняка! Чтобы больше не попасться».
Красноярск. Остановка в тюрьме. Шумная молодежь снует по коридорам. В камерах разговоры, споры, смех… Молодые, разгоряченные лица совсем не гармонируют ни с серыми арестантскими халатами, болтающимися на их плечах, ни с железными решетками на окнах…
И опять в путь.
Со дня на день делалось холоднее: по ночам заморозки, по утрам — иней на деревьях.
А партия все шла… Звенели кандалы, скрипели телеги, на которых лежали больные. Тут слышится песня или острота, вызвавшая взрыв хохота, там ведется спор между «террористом» и «антитеррористом», а рядом, с телеги, слышится стон Льва Дмоховского.
Он лежит на спине, смотрит в небо и тихо, сдержанно стонет.
Рядом с телегой шагает его сестра, рослая девушка, которая стойко переносит тяготы добровольного каторжного пути. Она, точно наседка, отдавала все свое тепло единственному птенцу, хотя птенец этот, брат ее Левушка, старше своей покровительницы, но такой хрупкий и беззащитный, что ему, словно былинке, дуновение ветерка кажется ураганом…
Два месяца двигалась партия до Иркутска.
В иркутской тюрьме было холодно, тесно, сыро. Люди зябли, задыхались.
На третий день умер Лев Дмоховский. Его отпевали в тюремной часовне. Вокруг гроба — друзья по Ново-Белгородской каторге, по трудному колесному пути.
В длинном, не по росту, гробу, сколоченном из шершавых горбылей, лежал юноша с восковым лицом. Глаза были полузакрыты. Казалось, юноша устал, смертельно устал, и он вздремнул, только вздремнул.
Мышкина поразила эта смерть. Он подошел к гробу, посмотрел в мертвое лицо товарища. Мышкину больно: вот он, путь русского революционера. Гроб из шершавых горбылей, три свечки и равнодушные морды тюремщиков. Товарищи, не таясь, плачут. «Неужели они не видят, — подумал Мышкин, — что из таких смертей рождается жизнь?» И он решил сказать об этом. Начал он тихим, прерывистым голосом. Он говорил о юноше, который глазом ученого проникал в звездные миры и с бесстрашием революционера вмешивался в судьбы людей на своей планете. И тут, на грешной земле, и там, в заоблачных мирах, он искал гармонии…
— Этого благородного юношу, эту чистую, светлую душу замучили, задушили…
Голос Мышкина возвысился до крика: его слова загудели в тиши часовни, как всполох набатного колокола:
— Но на почве, удобренной кровью таких борцов, как ты, дорогой товарищ, расцветет дерево свободы!
Тюремный поп — огромный детина с большой черной окладистой бородой — взмахнул кадилом и рыком прорычал:
— Врешь! Не расцветет!
И за эту краткую речь, за этот крик, вырвавшийся из наболевшей души, Мышкину надбавили еще пять лет к его десятилетнему каторжному сроку!
Вот она, наконец, Карийская каторга — тюрьма среди сопок и лесов.
Камер в тюрьме было всего пять: «волость», «харчевка», «якутка», «дворянка» и «синедрион», — так прозвали камеры политические ссыльные. Мышкин попал в «синедрион», к Войнаральскому и Рогачеву.
Камеры перенаселены. Разговоры обычные: о прошлом; и споры обычные: о путях революции.
Работать политических не заставляли; в душных камерах они предавались своим думам, своим тягостным переживаниям.
В тюрьме было много ярких, талантливых людей, но и среди них выделялись, как старые сосны в мелколесье, две фигуры: Мышкин и Петр Алексеев. Мышкин сразу «врос» в каторжную жизнь, взвихрил все вокруг себя, устраивал диспуты, вызывал на споры — он словно камень, брошенный в тихую заводь, вызвал бурное движение вод. А Петр Алексеев хотя и не был зачинщиком споров и диспутов, зато каждому опору или диспуту умел придавать деловое направление. Своим авторитетом он охлаждал страсти, особенно у той части «террористической молодежи», для которой революция была не повседневной и длительной «работой», а вспышкой, взрывом.
После одного из таких споров, когда Петр Алексеев трогательно и проникновенно говорил о благородной роли интеллигенции в русском революционном движении и этим своим выступлением сгладил острые углы теоретических расхождений, Мышкин, очутившись наедине с Алексеевым, недовольно сказал:
— Странно, Петр. Ты мужик, ты рабочий, а вся твоя деятельность слилась с борьбой интеллигенции.
— А с тобой как получилось? Твои дружки Войнаральский, Ковалик или Рогачев, они что, кантонисты? И тебе пришлось связаться с интеллигентами. И ничего тут странного нет: рабочий класс еще не почувствовал свои силы.
— Это, Петр, верно. И частично в этом виноваты народники. Как они относились к рабочим? С одной стороны, не отводили им самостоятельной политической роли, а с другой — считали нужным привлекать их к работе. Сколько раз я говорил об этом Войнаральскому и Ковалику, Кравчинскому и Шишко.
— Опять прибедняешься, Ипполит. Нас с тобой рабочие поддержали. Не сотни тысяч, так тысячи. И вообще, Ипполит, у истории свои сроки. Сколько рабочих было на «процессе пятидесяти»? Горсточка.
А когда мы с тобой по тюрьмам мыкались, в Петербурге организовался чисто рабочий союз. С программой, со своей рабочей газетой. Чуешь? Ты, Ипполит, торопыга: вчера бросил зерно в землю, а сегодня уже ждешь урожая. Так не бывает.
В одном из писем брат Григорий сообщил: «Фрузя умерла», но где и когда она умерла, ни слова, и как Ипполит Никитич ни добивался подробностей, ответа на свои вопросы не получил.
Мышкин тосковал.
В женской тюрьме пребывала Софья Александровна Лешерн. Она принадлежала к той плеяде борцов, для которых все вопросы мироздания сосредоточены в одном — в революционной деятельности.
Софье Александровне было лет под сорок, она была участницей кружковой работы в Петербурге, ходила с котомкой за плечами по Поволжью, при аресте оказала вооруженное сопротивление, была приговорена к смертной казни, замененной вечной каторгой.
Мышкин знал Софью Лешерн по «процессу 193-х», и ему она запомнилась не своими смелыми суждениями, не своими боевыми подвигами, а только тем, что v нее глаза фиалковые, а пальцы — тонкие и беспокойные, как у Фрузи. И Софье Александровне, женщине, похожей на его Фрузю, он захотел рассказать о своем недолгом счастье.
На первое его письмо Лешерн ответила со сдержанностью хорошо воспитанного человека, который не ставит знака равенства между случайной откровенностью и полным доверием. Однако при всей сдержанности было ее письмо насыщено такой нежностью и товарищеской заинтересованностью, что Мышкин сразу почувствовал в Лешерн чуткого друга.
Завязалась переписка. Вновь ожило прошлое. Мышкин писал обо всем: о своем детстве, о матери, о своей любви, которая, словно луна на чистом небе, окрашивает все в тихий трепетный свет…
Зазеленели луга, на сопках зацвел багульник. Голубое небо было пронизано солнечными лучами.
Тюрьма радостно загудела; на лицах появились улыбки, на дворе зазвучали песни, кухня превратилась в настоящий клуб.
Арестанты собирались кучками, группами, и в каждой группе — один разговор: о побеге. Одна из этих групп уже много месяцев рыла подкоп: они готовились к побегу основательно, с дотошностью людей, наивно верующих, что можно предусмотреть решительно все.
В свой план они посвятили Мышкина. Он внимательно выслушал и равнодушно сказал:
— Да, товарищи, подкоп всегда считался классическим способом побега. Желаю вам удачи.
— А вы, Мышкин?
— Для меня этот классический способ устарел. Долго, товарищи, и, увы, классический способ не всегда самый надежный.
— А какой способ вы предлагаете?
— Или пан, или пропал!
— Непонятно!
— А я вам, товарищи, объясню…
Мышкин с первого дня присматривался к тюремному распорядку. Высидеть на каторге 15 лет он не собирался: во что бы то ни стало бежать!
И он нашел в тюрьме уязвимое место! Мастерские помещались за оградой тюрьмы, в деревянной избе, не обнесенной ни палями, ни какой-либо другой загородкой. Работали в мастерских только днем, а на ночь изба запиралась.
Мышкин зачастил в мастерские. Днем, во время работы, снаружи у двери стоял часовой. Арестант, желавший отправиться в мастерские, подходил к запертым воротам тюрьмы и «ревел» часовому:
— Конвойного в мастерскую!
Часовой, в свою очередь, «ревел» эту фразу в сторону караулки, находящейся поблизости. Оттуда выходил казак, провожал заключенного в мастерскую и возвращался в караулку. Уйти из мастерской можно было также в любое время, стоило только попросить часового у дверей «взреветь» конвойному.
Арестованные часто пользовались правом ходить взад-вперед, и часовые почти весь день «ревели».
По окончании работ часовой, отправив всех арестантов, заглядывал в мастерские и, убедившись, что все ушли, запирал избу на замок. После этого мастерские на всю ночь оставались без всякого надзора.
План побега был ясен.
— Просто и гениально! — похвалил Рогачев. — Ипполит, вы удивительный человек!
— Потому-то и упрятали меня за решетку: чтобы смотрели на меня и удивлялись, — мрачно отшучивался Мышкин.
— Давайте не отвлекаться, — предложил Войнаральский. — План Ипполита Никитича настолько прост, что его даже обсуждать не стоит. Его надо принять. Никто не возражает? Никто. Тогда вот что, други мои. План Ипполита Никитича не требует никаких подготовительных работ. Его можно привести в исполнение хоть завтра. Но… Это вечное «но». Всем сразу бежать нельзя. Придется отправлять попарно.
Кого выберем в первую пару?
— Мышкина!
— Мышкина! Он автор плана, ему и честь!
Войнаральский поднял руку:
— Други мои! Вы забыли, что вы в тюрьме, а не в университете на сходке. Прошу соблюдать тишину. Дмитрий! — обратился он к Рогачеву. — Достань лист бумаги, нарежь лоскутки и раздай товарищам, пусть каждый напишет две фамилии, и мы установим очередность побега по количеству голосов.
В первую пару попали Мышкин и медник Коля Хрущев — коренастый юноша с вьющимися светло-каштановыми волосами и синими глубокими глазами. Его любили за веселый нрав, за умелые руки, за преданность революционному делу.
— Итак, — сказал Рогачев, когда была названа первая пара, — бежать вам завтра.
— А вы успеете пропилить отверстие в потолке? — спросил Мышкин. — И не услышит часовой звука пилы?
— Не услышит! — решительно заявил Рогачев. — Мы наладим такой концерт, что чертям будет тошно! Это дело я беру на себя!
На другой день было шумно и весело в мастерских. Работали на всех станках.
— Наяривай вовсю, — распоряжался Рогачев. — Пилите, рубите, строгайте! А вы, кузнецы, бей, не жалей лаптей!
И, установив ритмичный шум в мастерской, Рогачев полез на печку с ножовкой в руке.
Потолка у избы не было — крыша служила потолком.
Поставив на всякий случай дозорного возле двери, Рогачев приступил к делу. Напевая в полный голос свою любимую песню «Куплю Дуне новый сарафан», он пропилил отверстие в потолке-крыше и выпиленный четырехугольник обратно приладил на место…
А в это время Мышкин и Хрущев собирались в дорогу. Все политические принимали в этом живое участие. Приносили деньги, вещи, продукты, помогали укладывать, упаковывать. С увлечением школьников они готовили чучела людей. Эти чучела должны будут изображать спящих на нарах Мышкина и Хрущева. Одни заключенные поздно вставали, другие рано ложились спать, так что на утренней и вечерней поверках тюремщики привыкли всегда видеть спящих.
Общее одобрение вызвало чучело «шахматиста» — его соорудил Михаил Попов. Сдержанный Войнаральский хохотал до икоты.
В дальнем углу камеры сидит за столом человек, повернувшись спиной к двери. На голове — шапка с опущенными наушниками, на плечах — халат. Перед ним — шахматная доска с расставленными на ней фигурами. Видно, что человек задумался над каким-то ходом. Против этого «шахматиста» сидит живой партнер, тоже углубленный в игру, сидит лицом к двери. Подле стоят два товарища, наблюдающие за игрой. Ни одному казаку и в голову не придет, что за шахматной доской сидит чучело!
Смеялись, дурачились и весело снаряжали товарищей в дорогу. Войнаральский принес четыре рубашки и заставил Мышкина и Хрущева тут же надеть их одну поверх другой.
— Ехать вам, други мои, не одну неделю, а прачечных в тайге не построили.
Попов принес несколько носовых платков.
— В тайге сыро, — сказал он, — еще, чего доброго, насморк схватите.
Костюрин, бывший сосед Мышкина по Петропавловской крепости, положил в карман Мышкина маленький томик Некрасова:
— Простите, Ипполит, вашего Маркса у меня нет, удовлетворитесь Некрасовым. На привалах пригодится.
А молоденький студент Чернавский робко протянул Мышкину небольшой медальон и, зардевшись, тихо сказал…
— Пожалуйста, Ипполит Никитич, примите… на счастье… Это мне… мать подарила.
Мышкин обнял юношу, поцеловал его в губы.
— Спасибо, дорогой!
Поступок Чернавского всех растрогал.
— Однако к делу! — нарочито сухо, чтобы скрыть волнение, заметил Войнаральский. — Уже поздно. Надо, други, подумать о том, как запутать караульных. Ведь в мастерскую и из мастерской пускают по счету.
Хрущев весело ответил:
— Эка невидаль! По счету принимают! А мы их счета путать не будем!
— А как ты в мастерскую попадешь? — удивился Мышкин. — По воздуху, что ли?
— Зачем по воздуху? Мы с тобой не великаны. Посмотри! — Он указал на кровать. — Легко уместимся в ящиках!
— Вон ты какой! — обрадовался Мышкин. — С тобой не пропадешь!
Затея Хрущева была проста и «гениальна», как и план Мышкина. В деревянных кроватях во всю их длину помещались внизу меж ножек деревянные же ящики для вещей.
Предложение Хрущева одобрили и остальные товарищи. Войнаральский тут же вытащил два ящика.
— Вы готовы? — спросил он.
— Готовы!
— Прощайтесь, други, и полезайте в ящики.
Прощание получилось грустное: рукопожатия были крепкие, а в глазах у всех стояли слезы.
И когда Мышкин уже лежал в ящике, к нему склонился Петр Алексеев:
— Ипполит, послушайся меня. Доберешься до Швейцарии, сиди там, не езди в Россию. С кружками в России управятся и без тебя, а ты теорией занимайся. Запутались мы в трех соснах. Нужно ясное слово. А ты, Ипполит, можешь это ясное слово сказать. — Он пожал обе руки Мышкина и выпрямился. — А теперь, товарищи, понесем их!
Хлопнули крышки.
Мышкина и Хрущева понесли в мастерские.
— Чего кровати тащите? — услышал Мышкин окрик часового.
— В починку несем!
Ящик покачивается. Пахнет смолистой сосной.
«Как в гробу… Как в гробу», — пришла мысль, но эта мысль не огорчала, а, наоборот, веселила Мышкина.
Вдруг он услышал грохот и лязг железа, визг пил и рубанков, и из хаоса звуков выделялся залихватский голос Рогачева:
Куплю Дуне новый сарафан…В мастерской, выбравшись из ящиков, Мышкин и Хрущев тотчас же ушли за печку и улеглись на поделочных досках.
— С приездом, Ипполит Никитич, — смеясь, проговорил Хрущев.
— Поезд еще не отошел, а ты уже «с приездом», — в тон ему ответил Мышкин.
— Лиха беда начало, а там уж будет от нас зависеть.
— И от случая, — нахмурился Мышкин и замолк.
Постепенно жизнь замирала в мастерской. То один, то другой забегал за печку, наспех пожимал руки: «Ни пуха ни пера». Попрощался и Рогачев. Загремел железный болт, прозвенела пружина замка.
Стало совсем тихо, лишь изредка доносились мерные шаги часового.
Мышкин и Хрущев лежали затаив дыхание: ждали темноты. Шепотком обменивались короткими фразами: они изучали маршрут часового.
— До пáлей он делает тридцать шагов…
— И пятьдесят шагов вдоль пáлeй…
— Может, через окно, а? — предложил Хрущев.
— С крыши вернее. Часовой видит только переднюю стену, когда идет вправо или влево. Но задней стены, где нет окон, не видит. Вылезем через потолок, ляжем на крышу, скатимся к задней стене и… в тайгу.
Солнце ушло за горизонт, потухли последние багряные отсветы на полу. В мастерскую влилась тьма. Четче стали звуки.
Мышкину привиделась камера, чучело на кровати, чучело за шахматным столиком… Там идет сейчас проверка! Сошло ли все благополучно? Обманулись ли казаки? Или уже загудела тюрьма? Бегут за смотрителем? Снаряжают поиск?
С громким говором и шутками вышли тюремщики на двор. Загремела цепь калитки.
— Все благополучно, — радостно прошептал Хрущев. — Надзиратели идут домой.
Мышкин вздохнул долгим прерывистым вздохом.
Даже в минуты величайшего напряжения Мышкин не мог отделаться от какой-то тяжести — она давила на сердце и угнетала. Мышкин рвался на свободу, он высматривал щель, через которую можно было бы вырваться из тюрьмы, однако прошлые неудачи, словно тень, волочились за ним. Неудача под Вилюйском, неудачный подкоп в Ново-Белгородской тюрьме — все это жило в подсознании и всплывало всякий раз, когда Мышкин обдумывал план нового побега. Он верил в себя, но эта вера уже была затуманена страхом перед всесильным случаем.
И сейчас, слыша веселую болтовню надзирателей, он не мог отделаться от тягостной мысли: сойдет ли все благополучно?
Шаги затихли. Часовой ушел за пали по другую сторону тюрьмы.
— Пора, — шепнул он Хрущеву.
Мышкин осторожно вынул пропиленный в потолке четырехугольник и высунул голову. Пахнуло в лицо ночной свежестью, блеснули звезды.
Они вылезли на крышу, распластались на ней и замерли.
Шаги часового приближались.
Вот часовой прошел между мастерской и палями. Идет обычным, мерным шагом: ничего подозрительного не обнаружил.
Шаги удалились.
— Спускайся.
Хрущев скатился с крыши. Он уже на земле, протягивает руки, подхватывает падающего Мышкина.
Они поползли, как ящерицы, вжимаясь в землю всем телом.
Сердце билось сильней, дыхания не хватало, а они ползли и ползли…
Мышкин шел впереди. Он смотрел на подернутые золотом сосны, на разлапистые ели, прятавшие в пазах слитки зимнего серебра, смотрел на березы, что опускают к земле свои длинные ветви, точно собираются переходить на другое место, и ловил себя на том, что все это не вызывает в нем того трепетного волнения, которое охватывало его в тюрьме, когда он мысленно рисовал себе первые минуты на воле.
И это противоречие в своих ощущениях беспокоило Ипполита Никитича, он задумался над тем, что ему мешает наслаждаться своей свободой. Он шагал, прислушиваясь к разнообразным шумам весенней тайги, и доискался причины своего неожиданного бесчувствия.
«Нет, — подсказала ему мысль, — ты еще не свободен. Это только начало, а каков будет конец?»
Мышкин быстро проходил мимо берез, елей и сосен, не останавливаясь, не отдаваясь настоящему, — все его помыслы были устремлены в будущее, в то будущее, которое сулило полную волю и борьбу за эту волю.
Наступили сумерки. Беглецы вышли к деревне.
— Пойдем к той избенке, — предложил Хрущев, — вишь, как она набок кренится. Бедняки там живут. А в бедной избушке хозяева добрее.
Ипполит Никитич согласился. Зашли. Хозяин, старик лет 70, встретил их настороженным взглядом. Мышкин и Хрущев перекрестились, как того требовал сибирский обычай, поздоровались.
— Здравствуйте, парни, — строго ответил старик.
— Нельзя ли хлеба купить?
— Можно.
— А ночевать, дедушка, не пустишь?
— Нет, парни, нельзя. Бумаги, поди, нету? Строгости у нас теперича; коли пустишь кого без пачпорта — штраф.
— Ты что, дедушка, — с обидой в голосе ответил Мышкин, — за бродяг нас считаешь?
— А то нет?
Мышкин достал из кармана свой паспорт:
— Глянь!
Старик взял паспорт, повертел его в руке, не раскрывая, вернул его Мышкину и, лукаво улыбаясь, сказал добродушно:
— Пачпорт, бог его знает, может, и хороший, ан лицо выдает: желтое оно у вас да томное, из-под замка, видать, вырвались. Уж вы, парни, того, хлебушка возьмите, да в баньке ночуйте. И вам будет тепло, сегодня баньку топил, и мне бесхлопотно.
Хрущев хотел вступить в спор, но Ипполит Никитич его удержал:
— Пойдем, дружище, зачем дедушку беспокоить.
Взяли краюху хлеба, уплатили и пошли в баньку.
Небо было безоблачно; светились звезды. Тихо, так тихо, что слышен был скрип двери в какой-то дальней избе.
Беглецы разделись, поели и, забравшись на верхнюю полку, улеглись.
— Как, по-твоему, — опросил Хрущев, — хватились уже нас?
— Это не имеет для нас никакого значения. Нам надо поскорее добраться до Шилки, там купим лодку и… вниз до Албазина.
Хрущев сиял: о чем бы ни говорил, улыбка не сходила с лица. Он пьянел от свободы.
— Ипполит, поверишь, голова все время кружится. Вот ты говоришь, купим лодку, пойдем до Албазина, а мне слышится: «Сядем в поезд, поедем в Москву». Ипполит, так хочется домой, одним глазом только посмотреть на мать, на невесту…
Растревожил Мышкина этот разговор.
— Давай спать, завтра поговорим.
День еще не начинался, когда Мышкин проснулся от холода. Баня остыла.
— Вставай! В путь пора!
Они быстро оделись и направились в тайгу.
Добрались до Шилки. План, который они разработали, заключался в том, чтобы под видом золотоискателей, едущих по Амуру в Албазин, проплыть на лодке до Благовещенска, оттуда на пароходе в Хабаровск. Из Хабаровска опять же на пароходе до Владивостока, а там рукой подать — Америка. Мышкин достаточно владел английским языком, чтобы в Америке заработать себе на пропитание, а про Хрущева и говорить нечего: золотые руки всюду работу найдут!
К вечеру они зашли в большую казачью станицу. Впервые за много лет они ходили свободными среди свободных людей, но оба они — и Мышкин и Хрущев — не чувствовали радости. Казаки смотрели на них недоверчивыми, а то и враждебными глазами.
— Ипполит, давай обратный ход, лучше в поле заночуем.
— И мне они не нравятся. Но лодку купить надо.
На них налетел дородный казак, бородатый, с глазами узкими и косыми, как у монгола. Атаман станицы.
— Расейские будете? — спросил он сурово.
— Да, из России.
— Куда едете-то?
— В Албазин, на прииск.
— А паспорт есть?
— А как же.
— Ну-ка, покажь.
Долго разглядывал атаман паспорта на имя Казанова и Миронова, потом отдал их обратно и, испытующе оглядев чужаков, все еще строго спросил:
— По контракту едете?
— Никак нет, — по-солдатски отчеканил Мышкин, — так что приятели там, и письмо приславши. Езжайте, пишут…
Атаману понравился молодецкий вид Мышкина.
— Что ж, — сказал он доброжелательно, — поезжайте, место хорошее, давай бог…
«Благосклонность» атамана сказалась тут же: «чужаков» пригласили в дом, накормили, напоили, продали за божескую цену хорошую лодку, снабдили продуктами на неделю.
Наутро хозяин с сыновьями проводили путешественников, посоветовали, где и как ехать, оттолкнули лодку и, сняв шапки, пожелали:
— Давай бог! Давай бог!
Хрущев сиял. Он радовался, ликовал: свобода… свобода.
В сердце же Мышкина угнездилась тревога: почему он захватил из тюрьмы только по одному паспорту? В случае розыска станичный атаман наведет на их след!
Однако о своих сомнениях Мышкин не сказал Хрущеву: ему жаль было замутить его непосредственное, почти детское упоение свободой.
34
Плыли по Шилке, потом по Амуру. Горы, поросшие лесом, медленно уходили назад. Тихо кругом, и тишина эта успокаивала, убаюкивала, хотя в ней и не было той торжественности, которая так радовала Мышкина во время плавания по Лене. Людей и поселков не было видно: вода, горы, леса да луга.
После Албазина стали попадаться деревни, на реке стали все чаще встречаться лодки, плоты, пароходы.
Плыли без весел, вниз по течению. На корме — Мышкин, на скамье против него — Хрущев. Мышкин смотрел в воду, лицо мрачное.
— О чем задумался, Ипполит?
— Чепуха какая-то, Николай. Я хотел вспомнить, что я делал, о чем думал, с кем говорил в последний день, в день побега, и… не могу вспомнить. Пустота, понимаешь, Николай, пустота.
— И это тебя огорчает?
— Больше, чем огорчает. Память — это высшее благо человека, и вдруг я лишаюсь этого блага.
— Брось, Ипполит! Ничего ты не лишаешься! Денек был очень хлопотливый, ярмарка какая-то. И ничего примечательного тогда не было. Ходили, носили всякую чепуху, и уложили нас в ящики. Вспоминать-то и нечего! Лучше поговорим о будущем! Вот мы с тобой во Владивосток приедем и сейчас же в порт. Кораблей там, говорят, до черта. Выберем кораблик средненький, не очень нарядный и не слишком грязный. Ты сейчас к капитану: «Ай-ду-ю-ду!» Он тебе: «Ай-ду-ю-ду!» — и… поплывем мы с тобой в Америку! — Вдруг он рассмеялся, по-детски захлебываясь: — Умора! Колька Хрущев по океану плывет! У нас в деревне и паршивенькой речушки не было, а Кольке Хрущеву океан подавай! — И так же неожиданно перешел на серьезный тон: — Понимаешь, Ипполит, на воле я убеждал товарищей по кружку, что скоро наступит время, когда мы, россияне, будем жить по-человечески. А частенько брало сомнение: скоро ли? Ведь кругом стена! Пока мы эту стену разрушим! А может, и не мы ее разрушим, а только наши внуки или правнуки? И вот попал я в тюрьму, пожил вот с такими, как ты, и понял: еще Колька Хрущев будет по океану плавать! Не внуки его или правнуки, а он сам, Колька Хрущев, будет еще жить по-человечески!
— Верно, Николай. Именно мы, а не наши внуки или правнуки должны разрушить эту стену. Только… Вот ты, я и все наши народники, за что мы воевали? Вспомнишь и диву даешься: какая была у нас цель? «Все для народа и все через народ». Что это? Акафист. Всё! Значит, и обманы Нечаева, и бомбы террористов — все для народа! Вот мой друг Кравчинский заколол на улице кинжалом самого главного жандарма Мезенцова. Какую пользу принес он этим народу? Вместо Мезенцова назначили другого жандарма. Или такая чистая душа, как Соня Перовская, или такой умнейший человек, как Желябов, за что они погибли? Какую пользу принесли они народу своей смертью? Цифру переменили: вместо Александр два появился Александр три… Ты не подумай, Коля, что я порицаю Перовскую или Желябова. Я преклоняюсь перед ними. Но… после цареубийства революционная волна пошла на убыль. Видишь, Коля, акафист не помог, не помогли и бомбы. Знаешь, что мне сказал на прощание Петр Алексеев? «Народ ждет ясного слова». А знаешь, Коля, какого ясного слова? Партия! Вот слово, которое нужно Петру Алексееву, нужно тебе, мне. Партия с такой программой, за которую любой рабочий, любой мужик-немироед, любой честный интеллигент пошли бы на плаху…
— Ну вот и договорились, — просто, буднично сказал Хрущев. — Давай не задержимся в Америке, скорее вернемся в Россию. Ты будешь партию собирать, а я, вот тебе моя голова, сотни рабочих к партии привлеку.
И Петр Алексеев и Ипполит Мышкин чувствовали потребность в такой партии, но, увы, «ясного слова» ни тот, ни другой сказать еще не могли, «…в общем потоке народничества пролетарски-демократическая струя не могла выделиться. Выделение ее- стало возможно лишь после того, как идейно определилось направление русского марксизма (группа «Освобождение труда», 1883 г.) и началось непрерывное рабочее движение в связи с социал-демократией…»[3]
В Благовещенске беглецы пересели на пароход.
Все сходило гладко, никто ими не интересовался, но в сердце Мышкина притаилась тревога. Он понимал, что в тюрьме уже давно их хватились, что уже полетели во все стороны розыскные листы, что решающим является теперь, кто раньше дойдет до Владивостока: они или листы.
Но своими сомнениями Мышкин не делился с Николаем: ему не хотелось тревожить покой этого чудесного парня, который уже видел себя в Москве, в гуще рабочей массы. Плыли меж берегов, поросших лесом и густым острецом, проплывали мимо богатых деревень с каменными церквами, проплывали мимо одиноких хижин, проплывали мимо плотов, на которых бегали голые детишки.
Пароход хлопал плицами по воде, часто гудел — низко, тоскливо, словно жаловался на что-то.
Миновали Хабаровск. Пароход поднялся, вверх по Уссури.
Мышкин беседовал с попутчиками: он выпытывал, как живут, чем зарабатывают на хлеб.
Хрущев не принимал участия в этих беседах — прислушивался и восхищался умением своего товарища незаметно переводить любой разговор на «высокую политику».
Однажды он спросил Мышкина:
— К чему ты такие беседы ведешь?
— Какие такие?
— Все вглубь да вглубь. Будто что-то проверяешь.
Мышкин похлопал Хрущева по колену:
— Молодец, Коля. Умеешь слушать и умеешь делать выводы. Да, я проверяю, что ждет завтра тебя, меня и всех наших товарищей.
— Это что? — удивился Хрущев. — Вроде на кофейной гуще гадаешь?
— Вроде, — улыбнулся Мышкин. — Только не на кофейной гуще. Ты вот — деревенский, у вас в деревне, поди, астрономов не было, а погоду на завтрашний день мужики безошибочно угадывали. Посмотрят, как солнце садится, высоко или низко порхают ласточки на закате, и заявят: «Завтра ведро», или: «Завтра дождь». И в большой политике можно по мелочам угадывать погоду на завтра. Можно было предвидеть реформы шестьдесят первого года? Можно было. По каким приметам? В деревнях бунты, в городах волнения, на заводах брожение. Тут не надо было быть астрономом, чтобы предсказать бурю. А любое правительство бури боится и… отпускает гайку. Облегчение дает народу. Надолго? Нет, Коля, не надолго. Уляжется буря, правительство сейчас же гайку обратно. В шестьдесят первом отпустили, а уже в шестьдесят четвертом снова завинтили. Надолго? Нет, Коля. К концу семидесятых годов опять волнения в деревнях, опять студенческие беспорядки, стачки на заводах. За эти годы, Николай, прибавилось еще и кое-что новое: в Одессе и Петербурге появились рабочие союзы; рабочие вместе со студентами устроили манифестацию перед Казанским собором; рабочие послали в Париж адрес в связи с празднованием годовщины Парижской коммуны; два больших политических процесса: 50-ти и 193-х… Опять поднялась революционная волна, опять, значит, приближается буря. Что делает правительство? То же самое, что сделало в шестьдесят первом году: отпускает гайку, обманывает народ посулами. Прошла гроза — опять аресты, тюрьмы, каторжные приговоры. Надолго? Вот это, Коля, я и проверяю. Проверяю, идет ли третья волна. И знай, Николай, если третья волна подымется, то уж никакие лисицы Лорис-Меликовы не спасут царизм: грянет революция!
— И к какому выводу ты пришел? — сдержанно спросил Хрущев. — На что указывают приметы? На ведро или дождь?
— Не вижу третьей волны. — И, сказав это, Ипполит Никитич медленным шагом направился на нос парохода.
Растительность на берегах стала богаче, красочнее. Среди садов мелькали белые куртки корейцев.
Но все, что видел Мышкин, просеивалось в его сознании, как песок сквозь сито. Чем ближе к Владивостоку, тем гуще становилась тень от прошлых неудач. Тревожила и история со станичным атаманом: он узнает нас по приметам розыскного листа и направит поиск во Владивосток!
И Мышкин решил сойти с парохода в Раздольной, верст шестьдесят не доезжая Владивостока.
— Лишняя осторожность не помешает, — согласился Хрущев, не понимая, что для них это не «лишняя осторожность», а единственный путь к спасению.
В Раздольной они наняли лошадей и поздно вечером приехали во Владивосток.
Остановились в плохоньком трактире, заночевали, а на другой день, позавтракав, пошли к Золотому Рогу.
На рейде много кораблей. Флаги — разноцветные, с крестами и с полосами. На берегу толчея: грузят на корабли, выгружают с кораблей, возят тюки из города, отвозят тюки в город. Грохочут цепи, гудят гудки, скрежещут лебедки. Около кабаков шумят пьяные матросы; китайцы стоят кучками и многозначительно молчат. Таможенные стражники и городовые шныряют во все стороны — прислушиваются, присматриваются.
Разговорившись с пожилым матросом, Мышкин узнал, что завтра в полдень уходит в Америку японский грузовой пароход.
— Берет пассажиров, — заверил матрос. — Для богатых у него кают нет, а вот для таких, как вы, найдется уголок.
И из сердца Мышкина ушла тревога: они заночуют у себя в трактире, притаятся, а завтра…
Хрущев купил два апельсина.
— Сроду не ел, — оправдывался он перед Мышкиным за трату из общего капитала. — Хочу попробовать, что это за фрукт. — Один апельсин он протянул Мышкину. — Получай свою долю.
Мышкин улыбнулся: ребенок.
— Можешь и мою долю съесть, я не люблю апельсинов. Вот приедем в Америку, я тебя там ананасом попотчую, вот это фрукт!
— Неужели вкуснее апельсина?
— Во сто крат!
— Чудеса!
Они вышли из бухты и переулками, где меньше народу, вернулись в трактир.
Мышкин распахнул дверь… и знакомое чувство опасности холодом влилось в сердце. Перехватило дыхание, потемнело в глазах: на стуле, поставив шашку между ног, сидел жандарм.
— Пожалуйте в управление, — сказал он, поднявшись.
Случилось то, чего Мышкин опасался: их опередили розыскные листы! Их ждали, за ними следили!
Вышли на улицу.
Мышкин заметил: шпики и городовые уже обхватили дом полукольцом.
Бежать было бесполезно, бессмысленно.
Шпиков и городовых увидел и Хрущев. Он взял
Мышкина под руку, прижался к нему плечом и от всего сердца, с радостной дрожью в голосе сказал:
— А все же, Ипполит, больше месяца подышали мы с тобой свежим воздухом.
35
В тяжелых кандалах — ножных и ручных — прибыл Мышкин обратно на Кару.
Его поразила тюрьма: охрана усилена, камеры перегорожены, всюду замки, запоры; товарищи угнетены, подавлены. Когда он вошел в камеру, его поразило: заключенные вповалку лежали на голых нарах. Один из них бился в припадке падучей, другие, хотя и здоровые, но до такой степени исхудали и пожелтели, что были похожи на мертвецов.
— Из-за меня, — сказал Мышкин.
Но товарищи, особенно Рогачев и молоденький Чернавский, его разубеждали:
— Не из-за вас, Ипполит Никитич. Это после одиннадцатого мая. Восемь человек бежало благополучно, а вот пятая пара нарвалась на часового… Все из-за Минакова, уж очень он горячий человек…
Мышкин ушел в себя. Бежать не удалось. Однако значит ли это, что он должен примириться со своим положением? Все в нем возмущалось, бунтовало.
А жизнь в тюрьме все усложнялась: тюремщики злобствовали. Выносить такой гнет, гнить заживо, без надежды увидеть свет было бы противоестественно: все думали о протесте, дело было лишь в том, в какую форму облечь этот протест и каким образом придать ему массовый характер.
Объявили голодовку.
На шестой день тюрьма представляла мрачное зрелище. На голых нарах лежали люди. Одни лежали молчаливые, неподвижные, с руками, сложенными на груди, с ногами, свисающими с досок под тяжестью кандалов, другие ворочались с боку на бок и глухо стонали. Глаза одних холодно блестели, как светляки темной ночью, потускневшие зрачки других, казалось, угасли навеки. Некоторые совсем обессилели, трупной синевой отливали их лица, другие же, побеждая усилием воли собственную слабость, старались словами утешения подбодрить менее стойких.
Произвело ли это зрелище впечатление на смотрителя тюрьмы, или он опасался выговора «за недосмотр», но на шестой день голодовки он предложил заключенным выбрать из своей среды двух делегатов с целью выяснить причины, вызвавшие голодовку. Выбрали Мышкина и Ковалика.
Шатаясь от слабости и зловеще бренча кандалами, направились два скелета к смотрителю тюрьмы. Говорить пришлось одному Мышкину: у Ковалика язык от голода одеревенел. Смотритель выслушал Мышкина и обещал доложить обо всем губернатору.
Прошел день, два — никаких результатов. Тогда Мышкин, почти не владея рукой, заставил себя написать:
«Господину коменданту тюрьмы государственных преступников
Государственного преступника Ипполита Мышкина от лица 54 человек, голодающих восьмые сутки в тюрьме.
Заявление
К тем стеснениям, каким мы подвергались и прежде, вроде, например, запрещения переписки с самыми близкими родными и высылки отсюда матери одного из нас за то только, что она, поддавшись вполне естественному чувству, послала через подлежащих властей, а не каким-либо запретным путем, письмо, написанное одним из заключенных, после 11 мая, ознаменованного беспримерно вызывающим и невыносимым отношением к нам местного начальства и казаков и избиением некоторых из нас, привлеченных за это же избиение к судебной ответственности, начали совершаться все новые и новые стеснения и оскорбления: нам брили головы, несмотря на то, что на многих из нас, особенно страдающих нервным расстройством и головною болью, операция эта действует очень вредно и предохраняющим от побегов средством она служить не может (Павел Иванов бежал из Красноярска с бритою головою); некоторых из нас заковали в наручники, чему не подвергался до сих пор никто из нас в тех местах, где мы содержались на каторжном положении; нам приходится подвергаться массе мелочных придирок и оскорблений; несмотря на словесное предоставление нам права улучшать пищу на собственные средства, в действительности это право оказывается совершенно фиктивным: мы просим купить масла, и нам три недели не покупают его, просим о покупке самой дешевой ягоды (голубицы), и нам отказывают в ней, как в роскоши, хотя эта ягода требовалась как противоцинготное средство; даже ложки и перец покупаются только после многократных, в течение 8—10 дней, напоминаний и просьб; одного из нас (Богданова) сажают в карцер и потом выпускают с объяснением, что он попал туда «по недоразумению», какой-то мелкий чиновник наговорил напраслину, а подобающие администраторы не потрудились немедленно проверить степень справедливости наговора и поторопились упрятать в кутузку оговоренного; мужья лишены свиданий с женами, приехавшими за ними с разрешения высших властей и подвергшимися этому запрещению без всякого повода с их стороны; мы, удаленные от родных, от всех близких нам людей на много тысяч верст, лишены права переписки с отцом, матерью, братом, сестрою, хотя этим правом пользовались те из нас и тогда, когда содержались в централках. Значит, это запрещение проистекает не от закона, а от произвола неизвестных нам начальствующих лиц; нас не водят на прогулки и весь день безвыходно держат в недостаточно просторных, зараженных разными испарениями комнатах; отсюда развитие цынготной болезни, причем нам не дают ни казенных противоцынготных средств, ни позволяют покупать на наш собственный счет; совершенное игнорирование наших просьб вроде приведенного факта о покупке припасов и подобных многочисленных однородных случаев привело нас, наконец, к тому, что в последнее время мы стали уклоняться от всякого обращения к ближайшим начальствующим лицам с просьбою об удовлетворении наших текущих, обыденных потребностей. И, наконец, после 11 мая, одно из самых первых мест принадлежит лишению нас права какого бы то ни было физического или умственного труда, лишению возможности иметь какие бы то ни было книги, и таким образом мы обречены на убийственное изо дня в день, с утра до вечера безделье, представляющее одно из самых гибельных условий, разрушающих здоровье и умственные способности. Многим краткосрочным из нас давно уже окончились присужденные им сроки каторги, и тем не менее их продолжают держать в тюрьме.
Насколько нам известно, все наши вещи, книги и вновь получаемые посылки сложены в беспорядочную кучу в сыром амбаре и подвергаются скорому гниению, так что от них скоро, вероятно, останется одна гниль. Указываем на то, как на одну из мелочей, характеризующих отношение к нам и к нашим вещам. И все это держится в амбаре на основании будто бы постановления следователя о секвестре нашего имущества с распространением его даже на посылки, присылаемые нам родными после первых чисел мая.
Заявление это написано мною, Мышкиным, а не другим кем-либо собственно потому, что я принадлежу к числу тех немногих лиц, которые, несмотря на недельный голод, сохранили еще некоторые мысли; остальные же голодающие товарищи, из которых одни проголодали уже семь, а другие даже восемь дней, уже совершенно ослабели; написано это заявление не раньше, а лишь после такого продолжительного голода (он начался для одних 12-го, для других 13-го июля) собственно потому, что лишь сегодня мы получили возможность изложить мотивы, принудившие нас к отказу от пищи.
Ипполит Мышкин».
Июля, 19 дня, 1882 г.
Петр Алексеев.
Ипполит Мышкин.
Петропавловская крепость.
Карийская мужская тюрьма.
Шлиссельбург. Старая тюрьма.
Тринадцать дней продолжалась голодовка.
Как и предполагал Мышкин, заключенным вернули книги, чуть улучшили пищу, но какое это имеет значение для людей, мечтающих о борьбе за большую правду, а не о лишней крупинке в супе?
Об этом Мышкин и сказал товарищам:
— Нас будут душить постепенно, будут годами стягивать петлю, пока всех не передушат. Поймите, друзья, когда вы убедились, что нет никакого выхода, нужно бороться с самой безвыходностью. Мы должны быть морально неуязвимы для врагов. Несмотря ни на что мы должны иметь волю к победе, и мы победим!
И опять, как и в Ново-Белгородской тюрьме, вокруг Мышкина забурлила жизнь: пошли споры, диспуты, на лицах уже виделись улыбки, с губ уже срывались шутки.
Мышкин возобновил переписку с Софьей Лешерн. От ее записок веяло чистотой, доверием. Ипполит Никитич стал писать ей о самом сокровенном, о том, о чем он не говорил даже своим ближайшим друзьям.
«Как бы я хотел снова произнести речь, но такую, которую слышал бы весь мир, чтобы весь мир содрогнулся от тех ужасов, которые я расскажу! Ценой жизни я готов это сделать… Я показал бы им всех запытанных, замученных, сведенных с ума, я показал бы им прикованных к тачке: безумного Щедрина, Попко и Фомичева. О, как все это ужасно! Тем более ужасно для меня! Ведь они платят нечеловеческими муками за наш неудавшийся побег, за мой побег».
Стояло знойное душное лето, но записки Софьи Лешерн врывались в камеру Мышкина, словно порывы горного ветра. На каждую записку, самую коротенькую, он отвечал большим письмом, и каждое письмо было тематически законченное. Он писал о своей матери — от детских своих лет до последнего свидания в Мценской тюрьме, он писал о Фрузе — от их первой беседы в типографии до той душевной боли, которая послышалась ему в ее прощальных словах; он писал о своих муках, о своем желании во что бы то ни стало вырваться из мертвого круга и опять стать в ряды живых борцов; и если, писал Мышкин в этом письме, я не найду выхода из мертвого круга, то изобрету что-то такое, чтобы и смерть моя пошла на пользу нашему общему делу. И плакать по этому поводу не стоит! «Если не мы, то младшие поколения выполнят наши задачи! Наш долг передать им свой опыт, воспитать их борцами!»
И в этот же знойный июль 1883 года Ипполита Никитича Мышкина вызвали в контору, заковали, усадили в повозку и увезли в Иркутск, а оттуда в Петербург, в более надежную тюрьму.
Опять Петропавловская крепость. Но на этот раз не Трубецкой бастион, а мертвый, гиблый Алексеевский равелин.
— Разденься! — услышал Мышкин резкий голос.
Перед Мышкиным стоял жандармский офицер — коренастый, с молодецки выпяченной грудью и широкими ручищами. Донельзя было противно его бритое, мясистое лицо, толстые губы и выражение тупого самодовольства. Личность, которая может оскорбить, истязать, тиранить, может свести с ума, загнать в могилу.
— Разденься, говорю!
Мышкин понял, что перед ним наглый, бесчувственный, жестокий жандармский ротмистр Соколов, известный среди политических под кличкой «Ирод».
Мышкин невольно опустил руки. Ему стало ясно, что наступил предел его странствований. Теперь-то уж ничего худшего с ним не случится! Но… это худое было так скверно, что всякое утешение потеряло свою ценность.
«А ведь не один я в равелине, — подумал Мышкин, — сообща найдем управу и на иродов».
Эта мысль его успокоила.
— Надеюсь, не будем ссориться, — тоном выговора промолвил Ирод.
— Поведение заключенного зависит от такта смотрителя, — смело, даже дерзко промолвил Мышкин.
— Такта еще захотел! Я тебе такой такт пропишу…
Столько злорадства, столько бульдожьей свирепости было отображено на лице Ирода, что старенький капитан Домашнев, ведающий жандармами, счел нужным вмешаться.
— Чего вы, ротмистр, расстраиваетесь? Пусть разденут заключенного.
К Мышкину кинулись жандармы: стали раздевать, обыскивать, обряжать в арестантское.
36
Мышкин долго не мог заснуть. Может, оттого, что было еще рано, может, оттого, что было холодно, а более всего от тревожных мыслей.
Алексеевский равелин! Он не успел не только испытать, но даже познакомиться со всеми его прелестями, однако и того, что он уже испытал, было вполне достаточно, чтобы чувствовать ужас при одной мысли, что впереди ждут годы, долгие годы — четверть века (за побег ему еще надбавили 10 лет) — таких страданий и унижений. Так не лучше ли предупредить неизбежную развязку и избавиться от бесполезных страданий?
Но, подумал он тут же, имеет ли он право так распоряжаться своей жизнью? Принадлежит ли ока только ему одному?
Утро. Щелкнул ключ, дверь распахнулась, в камеру вошла целая толпа. Один взял лампу, другой переменил ведро, третий поставил на стол кружку с водой, четвертый положил кусок черного хлеба.
Завтрак окончен. Орава ушла. Мышкин сел на кровать, окинул взором все окружающее. Сумрак. Перед окном возвышается стена. В камере сыро, на стенах пятна.
Тихой чередой потекли мысли. В этой камере или в камере рядом, такой же мрачной и грязной, сидел Чернышевский! За таким же столиком писал он свой роман «Что делать?». Он не видел пятен на стенах.
«Золотистым отливом сияет нива; покрыто цветами поле, развертываются сотни, тысячи цветов на кустарнике, опоясывающем поле, зеленеет и шепчет подымающийся за кустарником лес…»
Вот что видел Чернышевский в этой грязной камере!
Шаги и звякание шпор в коридоре. Мышкин понял: водят на прогулку — то легкая женская поступь, то твердые мужские шаги.
Народу немного: ведь во всем равелине всего 14 камер, но сколько людей тут перебывало? Сколько глаз поднималось к этому запыленному своду? Сколько взоров блуждало по этим угрюмым стенам? Сколько было в этих камерах продумано, выстрадано? Сколько здесь загублено молодых сил, сколько жизней разбито?
На прогулку Мышкина не взяли.
Наступило время обеда. В двери раскрылась форточка. Дали миску щей и немного гречневой каши-размазни.
Когда затихло в коридоре, Мышкин лег на кровать и ногой постучал соседу справа:
3—2, 6–1, 5–4, 2–5, 2–4, 3–3.
Это означало: Мышкин.
Раздался в ответ тихий, едва уловимый стук:
2—5, 3–4, 3–1, 3–4, 1–5, 2–5, 2–1, 1–3, 2–4, 5–3.
«Колодкевич», — обрадовался Мышкин.
Одиночество отступило: рядом друг, товарищ по борьбе. Они проговорили до ужина, до того часа, когда в коридоре начали грохотать солдатские шаги.
Перед сном Мышкин остановился возле другой стенки, стоял недвижимо, словно задумавшись, а ногой тихо выстукивал:
— Я — Мышкин.
— Я — Арончик, — ответила ему стена.
Тоже народоволец!
— Жить можно! — проговорил Мышкин, укладываясь спать.
Просыпается Ипполит Никитич, смотрит на пол и диву дается: весь он покрыт серебряным налетом.
Встал, потрогал — пленка легко снимается.
На другой день то же: за ночь образовалась такая плесень, что получился сплошной белесый ковер.
Сырость увеличивалась с наступлением дождливой погоды. Соль таяла, спички сырели, матрац прогнил…
В камере холодно. Сначала Мышкин отогревался беспрерывной ходьбой, но постепенно приходилось ему сокращать «прогулки»: уставал и на подошвах стала ощущаться боль.
«Надо чаще отдыхать», — решил Ипполит Никитич.
Новая беда! Посидит на стуле — ноги отекают. Лучше лежать. Лег, не помогает — под лодыжками появились опухоли.
Пошел пятый месяц. Ни прогулок, ни книг. Когда при утренней уборке отворялась дверь и через коридорное окно виднелось небо, облака, иногда птицы, свободно порхающие в синеве, — так манило, так тянуло на свежий воздух…
Наконец повели на первую прогулку.
— Ходить можно прямо, — указал Ирод на дорожку, имевшую вид траншеи, проложенной в снегу.
Было еще темно, и Мышкин спугнул ворону, примостившуюся на ночлег в густых ветвях липы. С глухим карканьем, тяжело хлопая широкими крыльями, взлетела потревоженная птица, стряхивая с ветвей хлопья снега.
Мышкин не питал особой любви к вороньему роду, но тут он почувствовал, что к его сердцу прихлынуло что-то теплое: не потому ли, что на вороне не было голубого жандармского мундира?
Проводив ворону завистливым взглядом, Мышкин стал оглядываться: снег, узкая дорожка, высокая стена.
Мышкин хотел пройтись, но и пяти шагов не осилил: голова кружилась, сделалось дурно, а ноги словно из ваты — подгибались.
— Набегался? — издевательски спросил Ирод.
Мышкин не ответил, вернулся в камеру и лег на койку.
Чтобы отвлечься от грустных мыслей, он вздумал заняться гимнастикой: стал подбрасывать кверху ноги. Раз, два… и чуть не закричал от боли. Глянул под колено — чернота.
Болезнь с каждым днем все усиливалась. От лодыжек опухоль поднялась до колен. Ноги превратились в два обрубка; цвет их менялся от красного к серому. Боль в икрах была ужасна…
Но Мышкин заставлял себя ходить. Походит несколько минут и как сноп валится на койку. Сознания он не терял, однако впадал в сумеречное состояние: ему казалось, что не он страдает, а Фрузя, что она смотрит на него умоляющими глазами: «Ип, помоги…»
На соборной колокольне начинается перезвон колоколов, и Мышкин открывает глаза. Он встает, но ходить не может…
Надо! Надо! Обойдет раз-другой вокруг койки, держась за нее…
И вот тогда, когда он, словно ребенок, неуверенно ходил вокруг койки, сосед справа простучал:
— Знаете, Ипполит, о чем я все утро думаю? О картине.
Превозмогая боль, Мышкин простучал ногой:
— О какой картине?
— В Москве, на выставке, я видел удивительную картину. Стрельцов ведут на казнь. Картина меня поразила. На ней ничего страшного не было: художник не показал, как вешают стрельцов, а показал только людей, которых собираются вешать.
Мышкин простучал:
— Предчувствие большой человеческой трагедии производит более сильное впечатление, чем показ самой трагедии. Подробнее поговорим ночью: я устал.
«Какой умный и… странный человек этот Колодкевич, — подумал Мышкин. — С утра до темна ходит он по камере, постукивая костылем, кашляет и думает, думает… Несколько ночей подряд урывками, таясь от унтеров, он рассказывал о себе, о пережитом… Тяжелая ему досталась доля…»
Ночью Колодкевич предложил:
— Давайте продолжим разговор о картине.
Но Мышкин не ответил: он был не в силах шевельнуть ногой.
Мышкин слабел день ото дня, ноги распухли, из язв сочилась вонючая бурая гадость. Несколько зубов вывалилось, остальные расшатались. Глаза болят, слезятся, словно в них дунули табачную пыль. Мышкин чувствовал, что он с каждым днем разрушается не только физически, но и духовно. Его ум, точно придавленный тяжестью, работает вяло, скоро утомляется.
«Неужели конец? — спрашивал себя Мышкин. — И какой будничный! Добро бы на баррикаде, в опьянении борьбы, или на эшафоте на глазах друзей и врагов, но здесь, в четырех стенах…»
Однажды послышалось ему: скрипнула дверь, в камере раздались легкие осторожные шаги. Но он не мог преодолеть дремоты и раскрыть глаза. Шаги замерли у койки, и Мышкин почувствовал на своем лице чье-то горячее дыхание: кто-то над ним наклонился, и к его лбу прикоснулись теплые губы.
Он раскрыл глаза и увидел Фрузю. Одета она была в дорожное платье, с сумочкой через плечо. Она стояла на коленях, нагнувшись над ним, и шептала, улыбаясь сквозь слезы:
— Иппушка, как ты похудел…
Что это? Сновидение? Нет! Она здесь, она с ним. Нгг ее губах — улыбка, а на длинных ресницах — слезы.
Мышкин встрепенулся и протянул руки: пустота…
37
По коридору разнесся топот ног, загремел замок, щелкнул ключ, дверь отворилась.
Сначала два жандарма, за ними Ирод с двумя унтерами, позади всех доктор — высокий худощавый старик с длинной седой бородой и с очками на носу. Заложив одну руку за борт пальто и опираясь другой на палку, он вошел в камеру, не снимая фуражки, сделал несколько шагов и вдруг обратился к Ироду:
— А еще жив!
Ирод ухмыльнулся.
— Ну что, братец, плохи дела? — обратился доктор к Мышкину.
Мышкин молча взглянул на старика и, не отвечая на вопрос, закрыл глаза. Деревянные лица унтеров, змеиный взгляд Ирода и его тупая морда, доктор, неприязненно смотревший из-под нависших серых бровей, — все они произвели на Мышкина тяжелое впечатление: его сердце болезненно сжалось.
Доктор опустился на табурет, распахнул пальто и, положив часы на стол, стал щупать пульс больного.
— Плохо, плохо, — пробормотал он. — А ну, покажи-ка ноги.
— Да оставьте вы меня, — раздраженно сказал Мышкин.
— Капризничать нечего, — наставительно заметил Ирод, — ведь это о тебе же заботятся.
У Мышкина не было охоты, а может быть, и сил ответить Ироду.
— А ну-ка, покажи рот! — приказал доктор.
Не открывая глаз, Мышкин молча раскрыл рот.
Доктор покачал головой и, помолчав несколько мгновений, встал, застегнул пальто и процедил сквозь зубы:
— Ну, братец, недолго протянешь. Что делать, — , добавил он, снимая очки и протирая их платком, — ведь когда-нибудь надо же умирать. Ну, — обратился он к Ироду, — нам еще в десятый номер.
Взявши палку, доктор кашлянул и направился к выходу. Вдруг повернулся:
— Да, вот что, дайте ему молочка, побалуйте его перед смертью.
Все вышли, дверь захлопнулась.
Мышкин остался лежать с закрытыми глазами. В последние дни он часто думал о смерти, но ужаса смерти не ощущал. Смерть — это покой, отдохновение. Он, правда, не закончил, не завершил дела своей жизни, но разве можно его упрекать за это? Как сказал Коля Хрущев? Кругом стена. Да, стена… Один солдат выбыл из строя, другой станет на его место…
Стену разрушат… Непременно разрушат. Не может стена загородить дорогу новой жизни…
Но хотелось бы умереть на открытом воздухе, под шелест листьев и щебетанье птиц, смотря в ясное солнечное небо!
Последние слова доктора, сказанные не без ехидства, спасли Мышкина.
С цингой дело улучшилось, появилась новая беда. Стоило Мышкину встать на ноги или начать ходить, как в подошву вонзались сотни гвоздей. Выносить такую боль у Ипполита Никитича уже не хватало сил, но он заставил себя ходить… ходить.
Беседы с Колодкевичем его утомляли. Колодкевич как бы ушел из реального мира. Он говорил только о совести, о долге, о гартмановской философии бессознательного.
«Неужели у этого сильного человека туманится ум?»
Мышкин, превозмогая боль в ноге, выстукивал соседу рассказы из своей жизни: как он ездил в Вилюйск, как они с Колей Хрущевым пробирались во Владивосток. Ему, Мышкину, хотелось кричать от боли, а он вел рассказ в шутливом тоне, чтобы развлечь, чтобы отвлечь Колодкевича от грустных мыслей.
И это ему часто удавалось.
Сосед слева, Арончик, радовал Мышкина своей детской непосредственностью: он чем-то напоминал ему Колю Хрущева.
Особенно трогателен был один из рассказов Арончика: семья снаряжает его в дальний путь, в Петербург. На Гомельском вокзале, когда обо всем уже было уговорено, матушка Арончика вдруг забеспокоилась: «А калошки ты не забыл взять с собой? Не дай бог, можешь еще простудиться! В Петербурге ведь сыро!»
— Смешно, Мышкин, правда? Мне уже тогда грозил арест, а дорогая моя матушка беспокоилась, захватил ли я калошки.
Теплое отношение студента Арончика к своей матери вызывало встречную теплоту со стороны Мышкина. Устав от беседы с Колодкевичем, он отдыхал в перестуке с Арончиком.
Мышкин стал выходить на прогулку. Он физически окреп, и вместе со здоровьем вернулась неугомонность, жажда деятельности. Он стал писать записки и прикреплять их ниточкой к лопате — заключенные пользовались ею для отгребания снега на прогулках.
Опять разгорелся спор. Многие упрекали Мышкина в… донкихотстве. Он-де собирает полки для будущих атак и не желает видеть, что мы заживо гнием в своих гробах. Вместо того чтобы разрабатывать партийные программы для завтрашнего дня, он подумал бы о сегодняшнем.
Михаил Попов, товарищ по Каре, прислал Мышкину записку:
«Надо решиться. Надо протестовать. Товарищи предлагают начать голодовку».
Мышкин ответил Попову:
«Дорогой друг, протест голодовкой вроде протеста некрасовского «Якова верного, холопа примерного»: казнись, мол, моими страданиями! Нашим палачам и особенно здесь, в равелине, наша тихая и спокойная смерть будет только на руку. Они со строгим соблюдением тайны в этом застенке могут с удобствами выдать нашу гибель за смерть от естественных причин.
Нет, я согласен голодать, но вместе с тем будем бросать чем попало в наших палачей, будем кричать, бить стекла — кратко, делать все возможное в этой обстановке, чтобы наш протест стал известен вне стен этого застенка. Пусть нас перебьют! Во всяком случае, такой протест тем удобен, что не останется без следа для жизни, перебьют нас или уступят нам, то есть дадут нам книги, свидания с товарищами и переписку с родными».
В знойный июльский день Мышкин лежал на койке и мысленно видел себя в маленькой швейцарской гостинице: окно распахнуто, горный живительный воздух вливается в комнату щедрой струей…
Вдруг — стук. Мышкин подошел к стене.
— Ты не Мышкин, — выстукивал Арончик, — ты червонный валет. Богданович шпион. Он хочет выведать у меня мои тайны. А я не Арончик, я английский лорд. Не желаю водить знакомство с такими субъектами. Больше вам писать не буду.
Мышкин пытался успокоить товарища, находил для этого трогательные слова, но безуспешно.
Арончик сошел с ума.
Стена слева замолкла.
А через несколько дней приключилась беда и в камере справа. Ночью услышал Мышкин возню в камере Колодкевича: входили, выходили, громко разговаривали. Вдруг все оборвалось — установилась мертвая тишина.
Утром зашел Ирод, и Мышкина поразило: почему этот изверг упорно избегает мышкинского взгляда? И почему в глазах этого тупого палача нет-нет да появляется какой-то проблеск человеческих чувств?
— Умер Колодкевич? — тихо спросил Мышкин.
Ирод не ответил, он отвернулся и загремел ключами.
Мышкин понял:
— Палачи!
Ирод торопливо вышел из камеры.
Ипполит Никитич не хотел верить в смерть Колодкевича. То он прикладывал ухо к стене в надежде уловить хоть какой-нибудь звук, хоть какой-нибудь шорох, то начинал звать его стуком, просить его, если он не в силах встать, постучать костылем в пол.
Несколько дней Мышкин ходил точно в чаду, не будучи в состоянии думать о чем-нибудь, кроме Колодкевича. Он вспоминал их разговоры, споры, манеру Колодкевича стучать, его кашель, стук его костылей…
Заглохла и правая стена.
И это было трагично. За окрик «палачи!» Ирод лишил Мышкина прогулок. Вечная тишина, вечные сумерки, вечно один и тот же злобствующий Ирод и его унтеры.
День за днем одно и то же и в том же убийственно-монотонном порядке. Одиночество. Молчание: стучать некому, говорить не с кем.
Охватывало отчаяние.
Однажды Мышкин заметил: под крышкой стола поселился паук крестовик. В сознании Мышкина паук всегда увязывался с понятием «кровопийца». Первое движение — выбросить его в парашу, но, видя, как паук трудится, Мышкин стал заинтересованно следить за его работой.
И это стало «занятием». Из вечера в вечер наблюдал Мышкин за работой своего «сожителя». Он наблюдал, как паук останавливается в раздумье, как он проверяет, хорошо ли прикреплена нить, как он для пробы встряхивает всю сеть, как он переделывает какую-нибудь клетку.
Неужели и в таком жалком существе, думал Мышкин, горит творческая искорка?
Размеры, форма, рисунок паутины были всегда разнообразны. Только одно было общее во всех его произведениях: он начинал работу с прикрепления к полу толстой нити, а затем двух, уже менее толстых, — к перекладинам, соединяющим ножки стола.
Паук работал быстро, безостановочно, но иногда он уничтожал всю сотканную ткань и начинал работу сначала, видимо оставшись недовольным проделанной работой…
Ирод, заглянув как-то в «волчок», увидел радостно-возбужденное лицо Мышкина.
Что это? Мышкин сидит на корточках, смотрит в пустоту и… радуется чему-то!
Ирод вошел в камеру, опустился на пол рядом с Мышкиным.
Мышкин не слышал, как звякнул ключ в замке, не слышал шагов Ирода.
Мелькнула в воздухе рука, и… ткань разорвана, паук раздавлен.
Мышкин вскочил:
— Мерзавец!
Эту ночь и последующие три дня Мышкин провел в карцере.
В темноте, задыхаясь от вони, он вспоминал прочитанные когда-то стихи:
Мне не спалось… И на заре Я на кладбищенской горе Стоял над свежею могилой. И из тумана предо мной Мелькнул мне образ дорогой — Да, незабвенный образ, милый… В черном платьице, стройная, тонкая, С огоньком в умных, ясных глазах… Вот она! Вот и речь ее звонкая И какая-то думка в бровях… Мелькнул тот образ и — исчез…Когда стихи уже сложились, когда Мышкин трижды прочитал их вслух, он приложился головой к сырой и холодной стене и виноватым голосом спросил:
— Фрузя, разве не лучше в могиле?
38
Измотанный нервным напряжением и бессонными ночами в карцере, Мышкин лег спать 4 августа 1884 года раньше обыкновенного. Однако выспаться не успел.
— Встань и оденься, — услышал он ночью мерзкий голос Ирода.
Куранты Петропавловского собора пробили три четверти второго.
— Никуда не пойду ночью!
Мышкин видел за спиной Ирода двух унтеров, он знал, что его заставят подчиниться приказу, но не протестовать против ночного вторжения Мышкин не мог.
— Царева тюрьма, — сказал он, — а хуже кабака, по ночам всякая сволочь шляется. Спать человеку не дают.
— Я сказал, встать и одеться, — угрожающе повторил Ирод.
— А я не встану и не оденусь. Неси меня, мерзавец, на руках, если я тебе ночью понадобился!
По знаку Ирода на Мышкина набросились унтеры, стащили его с койки и силком одели. Потом поволокли в контору. Там Мышкина заковали в кандалы и бегом погнали к воротам равелина. Там, уже ждала карета.
На козлах, кроме кучера, сидел жандарм. От ворот, уходя в темноту, стеной стояла шеренга голубых мундиров.
Мышкина втолкнули в карету. Там уже находились два жандарма. Они схватили Мышкина за руки и сжали точно в тисках.
В карету влез Ирод:
— Пошел!
Карета покатилась.
За крепостной стеной было совершенно темно. Мышкин не мог разобрать, куда они едут. В тумане мерцали уличные фонари.
Карета остановилась. Первым вышел из нее Ирод, потом жандармы, подтягивая за собой Мышкина.
Блеснула Нева — синяя, с редкими огоньками. На том берегу высились здания, темные, мрачные. Только Зимний дворец сиял всеми своими окнами.
Баржа. Мышкина волокут по сходням.
На палубе стоял жандарм. Он схватил Мышкина в обхват и отнес его в крохотную каюту. Поставив Мышкина на пол, жандарм одернул на себе белую рубаху, подкрутил усы и ушел. Закрылась дверь, звякнул засов, и Мышкин остался один.
В передней стене было прорезано окошко, против него стоял часовой с саблей наголо.
Мимо окошка вели других заключенных: девять раз слышал Мышкин кандальный звон.
«Куда?»— спрашивал себя Мышкин.
На рассвете провели мимо мышкинского чулана последнего кандальника, и все затихло. Слышался только сдержанный шепот жандармов, звяканье шпор, грузные шаги Ирода.
На Неве началась речная жизнь: то свист парохода, то всплески весел, то переклик с баржи на баржу.
«Куда нас повезут? В Сибирь или в Свеаборг? Туда, где Николай I прятал политических заключенных? А вдруг в Шлиссельбург?»
Мышкин решил наблюдать: поедут они по течению реки или против?
Наконец тронулись.
Поехали против течения.
Мышкин высунулся в окошко, чтобы обезопасить себя от часового, и ногой простучал вправо и влево:
— Везут в Шлиссельбург. Везут в Шлиссельбург.
Баржа остановилась. На палубе и в коридоре началась суетня. Скрежет засова, скрип двери и… кандальный звон.
— Одного вывели, — считал Мышкин.
Скрежет засова, скрип двери и… кандальный звон.
— Второго вывели.
Скрежет засова, скрип двери, и… вдруг крик:
— Я английский лорд! Не желаю водить знакомство с такими субъектами!
«Бедный Арончик», — подумал Мышкин, и тут же наперерез этой мысли вынырнула другая: «Не счастливый ли Арончик? Ведь он не сознает, какие ужасы ждут его в Шлиссельбурге».
Скрежет засова, распахнулась дверь, и Мышкина вывели на палубу.
Прямо перед пристанью высилась мрачная башня. Над воротами, широко распластав крылья, чернел двуглавый орел. Под ним надпись: «Государева».
Мышкин глубоко вдыхал свежий воздух. Он на мгновение забыл, где он: смотрел вдаль, на спокойную гладь Ладожского озера, на берег, поросший густой зеленью, на белые дымки, что столбиками поднимались к небу из дымоходов.
— Смотри, смотри, — услышал он шипящий голос Ирода, — не скоро вновь увидишь небо.
Мышкин понял: Ирод будет и тут его начальством.
— Сгинь, негодяй! — сказал он нарочито громко, чтобы и жандармы слышали.
— Отвести! — коротко распорядился Ирод.
Жандармы подхватили Мышкина, потащили.
Огромные крепостные стены, круглые и квадратные башни бастионов, красные крыши. Стены высились почти у самой воды.
Пройдя несколько метров, жандармы ввели Мышкина в ворота башни. Мышкин увидел деревянные створки, вделанные в каменную арку, и раскрашенные, точно верстовые столбы, в черную и белую краски.
Дальше — двор, кордегардия и опять маленький дворик. Двухэтажное здание одиноко стоит среди крутых крепостных стен.
Мышкина поволокли в подъезд этого здания. Там уже ждал его Ирод с ключами в руках. На толстых губах злорадная улыбка.
— Ну теперь ты ко мне навеки. Отсюда, брат, не выходят.
Мышкин подошел к Ироду, посмотрел ему в глаза и пренебрежительно, точно лакею, сказал:
— Распорядись, чтобы мне есть дали, я проголодался.
Ирод зашипел, зазвенел ключами.
— Ведите! — раскричался он вдруг.
Мышкина повели по чугунной лестнице.
Длинный коридор, еле освещенный керосиновыми лампами. По углам жандармы. Одна за другой тянутся глубокие темные ниши плотно запертых дверей с огромными засовами и замками. Тишина.
Ирод раскрыл дверь, на которой было написано: № 30.
Пропуская мимо себя Мышкина, Ирод шепотом сказал:
— Ты меня будешь помнить.
— И ты меня не забудешь, — спокойно, но с угрозой в голосе ответил Мышкин.
Дверь захлопнулась.
Стол, табурет, умывальник, параша и железная койка. Окно высоко, с матовыми стеклами.
— Навечно, — сказал Мышкин.
Он сел на койку. В голове ясно. Это конец. Круг замкнулся. Прав Ирод: отсюда не выходят, отсюда только выносят.
А Нечаев? Ведь он и в Алексеевском равелине сумел найти друзей среди надзирателей. Если попытаться? К тому же нет такой тюрьмы, откуда нельзя бежать. Надо только найти уязвимое место. Времени у меня достаточно… Когда-нибудь дадут мне прогулку — осмотрюсь, авось и уязвимое место обнаружу…
Мышкин вздрогнул: чутким слухом тюремного ветерана уловил он тихий стук: «Кто? Кто?»
Он подошел к стене, ответил:
— Мышкин.
Стена ответила:
— Попов.
— Давай говорить по ночам. Научись стучать ногой…
Потянулись тусклые дни и ночи. Отлетело лето, ушла грустная осень, наступила зима. Сквозь слепое окно вливался в камеру Лиловатый, трупный свет.
Стояла гнетущая тишина. Чувство общности, которое устанавливалось по ночам во время «беседы» с Поповым, сменялось днем тягостным одиночеством.
Мышкин искал спасения в чтении, но — безуспешно. Устает голова, рябит в глазах. Он пускался шагать по камере. Нет! Не шагать, а бегать как зверь в клетке.
Уходили дни, недели, а с ними капля по капле — и силы, телесные и душевные.
Мышкин стал замечать, что с ним творится что-то неладное. Он читает много, с интересом, а в голове ничего не остается, точно прочитанное просеивалось через решето. Однажды он даже не мог вспомнить название книги, которую только что прочитал.
— Врешь! — сказал Мышкин вслух. — Меня не одолеешь! Не одолеешь!
Он тут же постучал Попову:
— Родионыч, надо что-то предпринять. Голодовку, бунт, тюрьму поджечь. Что хочешь, лишь бы бороться, лишь бы дать знать на волю, что мы не умерли, что мы не покорились.
— Нас уничтожат.
— Пусть, но мы погибнем в борьбе, умрем как революционеры в бою с врагом.
Все же мы уляжемся в могилы С надеждой на будущность земли, С сознанием, что есть в народе силы Создать все то, чего мы не могли.Родионыч, постучи Поливанову, Морозову, скажи им, без борьбы мы трупы.
— Ипполит, дума…
Стук вдруг оборвался.
Мышкин услышал топот бежавших унтеров, услышал, как раскрылась дверь в камере Попова, услышал рев Ирода:
— Опять стучишь!
Мышкин прильнул к глазку. Попова волокут по коридору.
— Кнутом отстегаю! — надрывается Ирод.
— Я стучал! Я стучал! — воскликнул Мышкин. — Ирод! Мерзавец! Ко мне ты не смеешь! Я стучал! Меня ты боишься! Трус!
Ирод не обращал внимания на выкрики Мышкина.
Попова уволокли.
Мышкин забегал по камере из угла в угол:
— За кнуты уже взялись… За кнуты…
Гадко. Мерзко. И никакой помощи извне! Не поднимается третья волна… Неужели там, на воле, в огромной стране, все замерло — иссякла, обмелела революционная река?
Ночью, лежа на койке с открытыми глазами, Мышкин в тысячный раз видел одну и ту же картину художника Верещагина: на вершине утеса, в снежную бурю, стоит часовой. Он ждет смены. Но смена медлит, не приходит, а снежный буран крутит, вьет и понемногу накрывает часового… по колени… по грудь… с головой. И только штык виднеется из-под сугроба…
«Ведь это нас изобразил художник, — убеждал себя Мышкин. — Тюремные ужасы, словно снегом, покрывают наши надежды. Мы ждем смены, ждем новых товарищей, новых бойцов, ждем весточки, что за мертвыми стенами Шлиссельбурга идут революционные бои! Нет тщетны наши ожидания. Тишина. Одиночество».
И Мышкин решил подтолкнуть устоявшуюся на воле жизнь, разбудить молодежь, взбудоражить ее. Ведь процессы 50-ти и 193-х вызвали на линию огня тысячи чистых сердец! Почему не создать третий процесс, процесс Мышкина, чтобы и он, мышкинский процесс, призвал новую молодежь на борьбу с вековечной несправедливостью?
Эта мысль так овладела Ипполитом Никитичем, что он, как и в Ново-Белгородской тюрьме в пору подкопа, всю силу своего ума отдал разработке деталей для подготовки будущего процесса.
И в бессонные ночи ему уже виделся суд, скамьи, полные народа… Он, Мышкин, произносит речь. Всплывают ужасы Ново-Белгородской тюрьмы, из гроба встает чудесный юноша-ученый Лев Дмоховский, слышны истошные крики поляка Соколовского, мечется по камере Боголюбов; словно у позорного столба, высится топорная фигура Ирода.
— Посмотрите, — говорит Мышкин, указывая пальцем на Ирода, — это человекоподобное животное является олицетворением царской власти. Это он умертвил Колодкевича, это он довел до сумасшествия Арончика…
И в этих условиях, когда нервы Мышкина были напряжены до предела, когда «тюрьма была мертва, как могила, мертва день и ночь», когда узник в своей одиночке с матовыми стеклами видел одно только белесое пятно вместо неба, когда даже прогулочный дворик был так устроен, чтобы солнечный луч не мог проникнуть за высокие стены, когда участились обыски и Ирод отбирал даже щепочку, служившую зубочисткой, когда за перестук, — а ведь перестукивание единственный способ поделиться мыслью с товарищем, единственная возможность ощущать себя в кругу живых людей, — когда за этот перестук Ирод уже стал таскать в карцер и угрожать кнутом, в этих условиях потряс тюрьму случай с Минаковьм.
Егор Минаков, студент, товарищ Мышкина по каторге, был сильный, волевой человек. Первые дни в Шлиссельбурге он шагал по камере и во весь голос пел одну и ту же песню:
Я вынести могу разлуку, Грусть по родному очагу, Я вынести могу и муку — Жить в вечной праздной тишине, Но прозябать с живой душой, Колодой гнить, упавшей в ил, Имея ум, расти травой, — Нет, это выше моих сил!Надоело ли Минакову пение или по другой причине, но он неожиданно заявил Ироду, что объявит голодовку, если ему не дадут книг для чтения и если ему не разрешат курить.
Восемь дней голодал Минаков, а Ирод не дал ему ни книг, ни табаку.
Тогда Егор Минаков решил «допеть свою песню до конца». 24 августа он ударил по лицу тюремного доктора, а утром 21 сентября раздался в коридоре возглас Минакова:
— Прощайте, товарищи! Меня ведут казнить!
Тюрьма молчала: узники в своих камерах не поверили в возможность такого злодеяния.
Прошло почти три месяца после казни Минакова: тюрьма жила кошмарами этой преждевременной смерти. Никто из узников не мог простить себе того, что не ответил Минакову на его прощальный крик. Тяжело быть свидетелем расставания человека с жизнью, но еще тяжелей и страшней быть пассивным, замурованным в каменном мешке слушателем такого расставания.
Больше всех переживал Мышкин. Не дружба связывала его с Егором Минаковым — их связывала тягостная цепь мучений, которая тянулась за ними после неудачного побега с Карийской каторги. Но Егор Минаков был товарищ верный, надежный, и он ушел из жизни, чтобы не прозябать с живой душой, и ушел без дружеского «прощай!».
Однако, думал Мышкин, смерть Егора не принесла облегчения ни одному из его товарищей. Минаков ушел, а тюрьма с ее ужасами осталась. А разве смерть не может стать оружием в руках революционера? Разве нельзя своей смертью, словно внезапным выстрелом, отогнать волков от добычи?
Мышкина вернул к действительности грубый окрик надзирателя:
— Лампа коптит!
Мысли Мышкина получили иное направление. Сколько жандармов, надзирателей! И где только набрали такую сволочь? У всех выражение глубокой злобы, ненависти. Почему? Может ли человек по долгу службы так сильно ненавидеть своего ближнего, да еще за 15–20 рублей в месяц? В их взгляде личное ожесточение, как будто именно он, Мышкин, причинил им нечто такое, что до гроба забыть нельзя. С такими и Нечаев не смог бы договориться!
«Только суд, — возвращался Мышкин к заветной своей мысли. — Только на суде можно рассказать обо всех этих мерзавцах, и только рассказ об ужасах, которые они творят, всколыхнет мыслящую Россию».
Будет суд! И на этом суде Мышкин произнесет свою последнюю речь!
Его уничтожат: палачи не прощают тому, кто на них пальцем показывает, но весть о его гибели набатом пронесется по России, разбудит спящих, приободрит колеблющихся, ускорит сбор боевых когорт. И палачи в страхе перед новым революционным взрывом хоть на время перестанут терзать свои жертвы.
В томике Некрасова, в том томике, который Костюрин подарил ему в день побега с Кары, Мышкина поразили две строчки:
Жить для себя возможно только в мире, Но умереть возможно для других.Его, Мышкина, лишили «мира», хотя и в «мире» он не мог бы жить только для себя, зато умереть для других он сможет!
План Мышкина был сложен по замыслу, но прост по выполнению. Каждый шаг узника был регламентирован, его мир был ограничен стенами и крепко огражден замками, и в этом тесном мире узник видел только своих тюремщиков. Они были свирепы, как одичалые псы, но… в намордниках — на самую обидную брань узника они отвечали злобным молчанием. Один только Ирод, с вечной наглой ухмылкой на толстых губах, считал себя неуязвимым, ибо покушение на его особу каралось смертью, словно покушение на царя. Вот это и решил Мышкин использовать: покушение на Ирода даст ему возможность произнести на суде последнюю речь.
А если палачи скроют от общества суд над Мышкиным? Осудят за закрытой дверью и повесят в сером рассвете — принесет ли его «тихая» смерть пользу общему делу? Принесет! Мир ничего не знает об узниках Шлиссельбурга: ни им, ни они не имеют права писать. Живые трупы! Но ему, Мышкину, перед казнью обязаны разрешить послать прощальное письмо матери! И живой голос шлиссельбургских мертвецов вырвется в мир!
25 декабря — рождество, праздник любви и всепрощения!
Идут к его камере, защелкали запоры. Раскрылась дверь. Перед Мышкиным выросла грузная фигура Ирода.
Мышкин вскочил с табурета, схватил со стола тяжелую медную тарелку и бросил ее в мерзкую, ненавистную, самодовольную рожу «царского двойника»!
— Палач! — крикнул он вслед. Все горести, все страдания слились воедино в этом единственном слове.
На Мышкина бросился Ирод, нанося удары ключами. За ним — дежурные унтеры. Они били по лицу, по голове, а когда Мышкин упал на пол, топтали его ногами.
— Разбойники! Душегубы!
Загомонила тюрьма. Из всех камер несутся крики, визги, истерические вопли:
— Подлецы! Изверги!
И тюремный грохот испугал Ирода. Он кивнул жандармам.
Ушли.
Лязгнули запоры.
Мышкин остался на полу без сознания.
Из его раскрытого рта текла алая струйка.
Палачи устроили суд, но не такой, какой виделся Мышкину.
В самой крепости, в мрачном каземате, ночью собралось пять тюремщиков, они задали Мышкину несколько вопросов и… вынесли приговор:
«Подсудимого Мышкина за преступление его, на основании пункта «б» 2-й части 98 ст. и 279 ст. XII С. В. П. 1869 года, § 5, высочайше утвержденного 19 июля 1884 года Положения о Шлиссельбургской тюрьме, как лишенного уже всех прав состояния, подвергнуть смертной казни расстрелянием…»
После «суда» Мышкина перевели в другую камеру. Он бросился на койку и до крови закусил губу от бессильного гнева. Враги не дали ему говорить с народом через их головы.
Давила тоска.
Ничего неожиданного, внезапного не случилось: он знал, что его умертвят, но… так подло, так трусливо, не дав ему высказать всего, что огнем горит в сердце!
В новой камере было окно с незакрашенными стеклами. Мышкин подошел к окну. На синевато-зеленом небе трепещут крупные звезды. Крепостная стена покрыта инеем, а в инее также мерцают крохотные звездочки. На земле синеватый снег.
Как падение небольшого камня иногда вызывает губительный обвал в горах, так одно-единственное слово «мамаша», возникшее перед главами, вызвало наплыв таких жгучих чувств, что у Мышкина закружилась голова и он был принужден лечь на койку.
На него обрушилось все прошлое, вся прожитая в муках жизнь. Он корчился от боли, словно бесчисленные палачи — и в школе кантонистов, и по разным тюрьмам — все еще секли его и били. Ему было горько от сознания, что навсегда лишился того упоительного счастья, которое ощущал в Мценской тюрьме при первом свидании с матерью. Его душили слезы, когда он опять, как это было в Петропавловке во время болезни, вдруг услышал шепот Фрузи: «Иппушка, как ты похудел».
Но Мышкин заставил себя взяться за перо. Ему горько, невыносимо тяжело, но и ей, дорогой старушке, будет нелегко. Нужно хоть словом умерить ее горе.
«Мамаша,
Вы мне дороже всех людей на свете. Простите за великое горе, причиненное Вам, так как знаю всем сердцем своим, как любим Вами. Смерть для меня теперь большое облегчение, ибо не могу я больше так страдать и мучиться, как это было до сих пор. Гибнем мы все тут за правое, за святое дело…
Дорогая моя, был я на исповеди и приобщался. Происходило это в тюремной церкви. Все сделал по-Вашему. Умираю спокойно, единственно, о чем жалею, что не могу Вас прижать к своей груди, целовать Ваши руки, Ваше лицо…
Мамаша, все мы должны умереть, разница только в сроках. Когда же становится жить невозможно, то смерть — спасение и благо. Ради Вас я не наложил на себя руки сам, как это сделали некоторые из замученных. У меня же сами мучители отнимают жизнь, и я рад этому — это лучше, чем медленно задыхаться в их когтях. Да и не страшно это: один момент, и все кончено.
Мамочка дорогая, горько Вам, тяжело Вам будет, но верьте, что для меня легче умереть, чем гнить здесь долгие годы. Прощайте, мысленно обнимаю и целую Вас, дорогая моя. Умру я с мыслью о Вас…
Ипполит».
Мышкин вскочил, схватил себя за голову.
— Что я напирал? Если письмо попадет в руки мыслящему человеку? «Мышкин был на исповеди!» У кого причащался? У тюремщика в рясе! У попа, который в иркутской тюрьме замахнулся на него кадилом и рыкнул: «Врешь! Не расцветет!» Товарищи! Это очень сложно, сложнее, чем многим кажется.
Он опять взялся за перо.
«Дорогой брат Григорий!
Пишу последнее, предсмертное письмо. Прощай, дорогой брат, но знай, что я ни на шаг не отступил от своего пути. Были моменты, когда я слабел духом и делал ошибки, но я стократ искупил это непрерывной борьбой и страданиями, доводившими меня почти до безумия. Теперь, если я остался виновен перед товарищами, страдавшими вместе со мной, смертной казнью искуплю все эти невольные мои прегрешения.
Я чист перед собой и людьми, я всю жизнь отдал на борьбу за счастье трудового угнетенного народа, из которого мы сами с тобой вышли. Верю, новые поколения выполнят то, за что мы безуспешно боролись и гибли.
Дорогой брат, пусть тебя не смущает то, что я пишу матери. Да, я исповедовался и причащался, но своих взглядов на вещи я не изменил. Почему же я это сделал? По следующим причинам: 1) Ты знаешь, как я люблю мать, а она взяла с меня слово, чтоб перед смертью я причастился. Разве я мог отказать ей? 2) Не сделать этого, а написать ей, что сделал, я тоже не мог. Нельзя лгать перед смертью, лгать притом матери. 3) Для меня все это пустая комедия, а мать легче помирится с ужасной для нее утратой, если будет знать, что я умер «как христианин».
Верю, что ты поймешь меня, поймут и другие, когда узнают всё. Ах, как бы я хотел обнять всех вас, моих дорогих: тебя, маму и Володю. Прощай. Помоги матери перенести горе.
Ипполит Мышкин».
Два письма! Они уйдут в живую жизнь…
«А дела? Неужели они хоть чуточку не приблизили к цели будущие поколения? Неужели меня, мертвого, народ не поставит в свои ряды, когда он выйдет на улицу в праздник победы?»
Меркла ночь, уже стала прорваться предрассветная серость. А Мышкин все шагал по камере, говорил сам с собой.
Вдруг — грохот в коридоре.
Шаги приближаются к его камере.
Мышкин понял, угадал. Он схватил перо, обмакнул его в чернильницу и написал на крышке стола:
«26 января я, Мышкин, казнен».
Дверь растворилась. В камеру вошел Ирод; вслед за ним — четыре солдата с винтовками в руках.
Мышкин выпрямился и, окинув Ирода быстрым, раздраженным взглядом (так смотрят на лужу, в которую нечаянно ступила нога в начищенном ботинке), молча направился к выходу.
Установилась традиция: палач, делая свое грязное дело, не смеет улыбаться. По отношению же к Мышкину царские палачи не посчитались с этой традицией. Министр внутренних дел, направляя в Новгородское жандармское управление прощальное письмо Мышкина к матери, написал: «Объявить ей осторожно о последовавшей смерти ее сына».
Какая заботливость о несчастной матери! Господин министр предлагает «осторожно» осведомить ее о казни того самого сына, которого подручные этого самого господина министра, с его ведома и по его указке, убивали изо дня в день в Ново-Белгородской тюрьме, на Карийской каторге, в Алексеевском равелине, в каменных мешках Шлиссельбурга. Как отвратительна эта улыбка палача!
Мы, потомки, можем ответить на последний вопрос Ипполита Мышкина: он, мертвый, стоит в наших рядах!
Владимир Ильич Ленин в своей книге «Что делать?» дал высокую оценку деятельности Мышкина. Ленин писал, что «…кружку корифеев, вроде Алексеева и Мышкина, Халтурина и Желябова, доступны политические задачи в самом действительном, в самом практическом смысле этого слова, доступны именно потому и постольку, поскольку их горячая проповедь встречает отклик в стихийно пробуждающейся массе, поскольку их кипучая энергия подхватывается и поддерживается энергией революционного класса».
Москва, 1958 г.
ПРИМЕЧАНИЯ
Алексеев Петр Алексеевич (1849–1891) — революционный народник, рабочий, занимавший, по словам В. И. Ленина, «виднейшее место» среди революционных деятелей 70-х годов. На суде («процесс 50-ти») произнес речь, в которой говорил о неизбежности гибели самодержавия. Был приговорен к 10 годам каторги, которую отбывал в Ново-Белгородской центральной каторжной тюрьме и на Каре. В 1884 году отправлен на поселение в Якутскую губернию, где был убит в 1891 году.
Арончик Айзик Борисович (1859–1888) — студент, осужден по «процессу 20-ти» на бессрочную каторгу. Умер в Шлиссельбургской крепости 2 апреля 1888 года.
Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) — один из идеологов анархизма. В 1868 году вступил в I Интернационал, под флагом Женевской секции создал тайную анархистскую организацию и с ее помощью пытался встать во главе «Международного товарищества рабочих». Был разоблачен Марксом и Энгельсом и в 1872 году исключен из Интернационала.
Баранников Алексей Иванович (1858–1883) по «процессу 20-ти» приговорен к повешению, замененному бессрочной каторгой. Умер в Алексеевской равелине.
Берви-Флеровский Василий Васильевич (1829–1918) — народник, публицист. В 1871 году составил «Азбуку социальных наук», весьма популярную среди революционной молодежи того времени. К. Маркс высоко ценил труд Б.-Ф. «Положение рабочего класса в России».
Войнаральский Порфирий Иванович (1844–1898) — видный революционный народник. В 1861 году, будучи студентам Московского университета, участвовал в студенческом движений, был арестован и выслан в Архангельскую губернию. По возвращении из ссылки был мировым судьей и председателем съезда мировых судей. Один из первых народников-пропагандистов. Свое крупное состояние отдал на нужды народнической организации. Арестован в 1874 году и по «процессу 193-х» приговорен к 10 годам каторги, которую отбывал в Ново-Белгородской каторжной тюрьме и на Каре.
Гриневицкий Игнатий Иоахимович (1856–1881) — народоволец. 1 марта 1881 года бросил бомбу, убившую царя Александра II и смертельно ранившую его самого.
Джабадари Иван Спиридонович (1852–1913) — народник, член группы «кавказцев», судился по «процессу 50-ти».
Долгушин Александр Васильевич (1848–1885) — народник, основатель революционного кружка в Петербурге и организатор тайной типографии. В кружке «долгушинцев» зародилась идея «хождения в народ». В 1874 году Долгушин был приговорен к 10 годам каторги, которую отбывал в Ново-Белгородской каторжной тюрьме, затем в Сибири. Долгушину набавили 15 лет каторги за пощечину, данную им в 1881 году смотрителю красноярской тюрьмы. Отбывал наказание на Каре. В 1884 году перевезен в Шлиссельбургскую крепость, где и умер 30 июня 1885 года. Автор брошюры «Заживо погребенные».
Зданович Георгий Феликсович (1855–1917) — народник, член группы «кавказцев», судился по «процессу 50-ти».
Каракозов Дмитрий Владимирович (1810–1866) — член кружка «ишутинцев». 4 апреля 1866 года совершил неудавшееся покушение на Александра II. Казнен.
Ковалик Сергей Филиппович (1846–1926) — народник, бакунист. Окончил физико-математический факультет. С 1871 года вел пропаганду среди крестьян. В 1872 году был избран мировым судьей. Один из первых организаторов народнических кружков и активный участник «хождения в народ». В 1874 году арестован и по «процессу 193-х» приговорен к 10 годам каторги, которую отбывал сначала в Ново-Борисоглебской каторжной тюрьме, потом на Каре. В годы советской власти преподавал математику в Минском политехникуме.
Колодкевич Николай Николаевич (1850–1884) — студент, активный народоволец. Судился по «процессу 20-ти», был приговорен к повешению, замененному бессрочной каторгой. Умер в Алекееевском равелине в 1884 году.
Кравчинский Сергей Михайлович (1851–1895) — народоволец, публицист, писатель (литературный псевдоним — Степняк). 4 августа 1878 года убил (кинжалом) шефа жандармов Мезенцова и скрылся за границу. Автор революционных брошюр, романов и очерков.
Лавров Петр Лаврович (1823–1900) — социолог и публицист, один из идеологов народничества. В отличие от Бакунина в своих произведениях («Исторические письма» и др.) призывая революционную молодежь «не бунтовать народ, а учить», готовить кадры для революции в будущем. Редактируемый им журнал «Вперед!» выходил в 1873–1877 годах в Цюрихе и Лондоне.
Лешерн фон-Герцфельд Софья Александровна (1840–1898) — народница-пропагандистка. Арестована в 1874 году и по «процессу 193-х» была приговорена к ссылке. По ходатайству фрейлины императрицы ссылка была отменена. Лешерн, очутившись на свободе, примкнула к группе южных «бунтарей». Арестована в 1879 году в Киеве и при аресте оказала вооруженное сопротивление. Приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Отбывала на Каре. Умерла в Забайкальской области.
Минаков Егор Иванович (1854–1884) — студент, вел пропаганду среди рабочих. Арестован в 1879 году за покушение на убийство шпиона. Осужден на 20 лет каторги. С пути на каторгу бежал, был пойман и приговорен к бессрочной каторге. В мае 1882 года пытался бежать с Кары. В 1883 году был переведен в Петропавловскую крепость, оттуда в августе 1884 года в Шлиссельбург, где и расстрелян 21 сентября 1884 года за «оскорбление действием» тюремного врача Заркевича.
Морозов Николай Александрович (1854–1946) — народоволец, ученый. В 1882 году по «процессу 20-ти» был приговорен к бессрочной каторге. Просидел в Шлиссельбургской крепости 21 год и освобожден оттуда революцией 1905 года. Написал воспоминания «Повести моей жизни» и много научных трудов.
Муравский Митрофан Данилович («Дед», «Отец Митрофан») (1837–1879) — студент, за участие в студенческих беспорядках был арестован в 1862 году и просидел в Петропавловской крепости 2 года. В 1863 году его судили вторично и приговорили к 8 годам каторги, которую отбывал в Александровском заводе. По окончании срока каторги выслан в Оренбург, где примкнул к кружку народников-пропагандистов. Ходил в народ. Третий раз арестован в Челябинске в 1875 году. Судился по «процессу 193-х». Приговорен к 10 годам каторги. Умер в Харьковском централе.
Нечаев Сергей Геннадиевич (1847–1882) — революционер-заговорщик. В 1869 году создал в Москве заговорщическую группу «Народная расправа». Пропагандировал авантюристические методы борьбы и беспринципный терроризм. Был арестован в 1872 году в Швейцарии по настоянию царского правительства и выслан в Россию. Осужден царским судом на 20 лет каторги. Находясь в Петропавловской крепости, сумел распропагандировать несколько человек из охраны и с их помощью да при содействии товарищей с воли разработал остроумный план побега. План не был осуществлен из-за предательства Мирского — авантюриста, псевдореволюционера. Нечаев умер в Петропавловской крепости.
Попов Михаил Родионович (1851–1909) — судился по «процессу 21-го», был приговорен к расстрелу, замененному бессрочной каторгой. Отбывал каторгу на Каре, оттуда в сентябре 1882 года перевезен в Петропавловскую крепость, а 4 августа 1884 года — в Шлиссельбург. Освобожден революцией 28 октября 1905 года.
«Процесс 20-ти» — процесс двадцати народовольцев — рассматривался Особым присутствием сената с 9 по 15 февраля 1882 года. Этот процесс дал наибольшее число заключенных в Алексеевский равелин, откуда оставшиеся в живых были в 1884 году переведены в Шлиссельбургскую крепость. Подсудимых обвинили в разнообразных политических преступлениях, в том числе и в ряде террористических актов.
Прыжов Иван Гаврилович (1827–1885) — студент, член общества «Народная расправа», основанного Нечаевым. Привлекался по нечаевскому делу и был приговорен к 12 годам каторги. Автор «Истории кабаков в России», «Нищие на св. Руси» и др.
Рогачев Дмитрий Михайлович (1851–1884) — артиллерийский офицер, народник-пропагандист. В 1873 году поступил на Путиловский завод с целью революционной пропаганды. Ходил в народ. Был арестован в Тверской губернии, но бежал и вторично арестован в 1876 году в Петербурге. По «процессу 193-х» приговорен к 10 годам каторги. Умер на Каре.
Успенский Петр Гаврилович (1847–1881) — студент, член общества «Народная расправа». Привлекался по нечаевскому делу и был приговорен к 15 годам каторги. Был убит на Каре 27 декабря 1881 года товарищами, ошибочно заподозрившими его в предательстве.
Шишко Леонид Эммануилович (1852–1910) «по процессу 193-х» был осужден на каторгу. В 1890 году бежал за границу. Автор листовки «Чтой-то, братцы» и работ по истории народничества.
Хрущев Николай Егорович, он же Троицкий (1852— после 1906) — рабочий-медник, арестован в Киеве в 1879 году. Военный суд приговорил его к 12 годам каторги за революционную работу среди рабочих и солдат. За побег с Кары ему набавили еще 12 лет.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИППОЛИТА МЫШКИНА
1848 — Ипполит Мышкин родился в Пскове. Отец — унтер-офицер, мать — крепостная крестьянка.
1855 — Семилетнего Ипполита отдают в Псковскую школу кантонистов.
1860—Ипполит оканчивает школу кантонистов. Его направляют в Петербург, в школу колонновожатых.
1864 — Мышкин заканчивает школу.
1864–1868 — Служба в геодезическом отделении Академии Генерального штаба (Петербург).
1868 — Назначение в Москву на должность «правительственного стенографа» при Окружном суде.
1872 — Ипполит Мышкин организует типографию на Тверском бульваре.
1873, сентябрь — Мышкин знакомится с Ефрузиной Викентьевной Супинской.
1874, 4 мая — Мышкин открывает типографию на Арбате.
1874 — Организация «Башмачной мастерской» в Саратове.
1874, 31 мая — Обыск в «Башмачной мастерской» и арест всех там работающих.
1874, 6 июня — Первый обыск в типографии Мышкина.
1874, 9 июня — Второй обыск в типографии Мышкина и арест всех там работающих.
1874, 15 июля — Ипполит Мышкин уезжает за границу.
1874, осень — Мышкин возвращается в Россию, задавшись целью освободить Чернышевского из Вилюйского заточения.
1874, зима — Мышкин живет и работает в Иркутске, готовясь к поездке в Вилюйск.
1875, весна — Мышкин отправляется в Вилюйск.
1875, 12 июля — Мышкин прибыл в Вилюйск.
1875, 20 июля — Арест Мышкина и отправка его в Якутск.
1875, 22 декабря — Отправка Мышкина в Петербург (через Иркутск).
1876, 14 февраля — Заключение Мышкина в Петропавловскую крепость.
1877, июль — Первая встреча Мышкина с Супинской в канцелярии Петропавловской крепости.
1877, 17 октября — Мышкина переводят из Петропавловской крепости в Дом предварительного заключения.
1877, 17 октября — Вторая встреча Мышкина с Супинской во дворе тюрьмы.
1877, 18 октября — Первый день «процесса 193-х».
1877, 20 ноября — Речь Мышкина на суде.
1877, 20 ноября — Мышкина переводят в Петропавловскую крепость.
1878, 23 января — Окончание «процесса 193-х».
1878, 28 января — Сбор обвиняемых по «процессу 193-х» для объявления им приговора. Третье и последнее свидание Мышкина с Супинской.
1878, 15 апреля — Отправка Мышкина в Ново-Белгородскую центральную каторжную тюрьму. Неудавшаяся попытка Софьи Перовской освободить Мышкина.
1880, апрель — Неудавшийся побег Мышкина из Ново-Белгородской каторжной тюрьмы.
1880, май — Мышкин дает пощечину начальнику Ново-Белгородской каторжной тюрьмы.
1880, ноябрь — Мышкина переводят в Мценскую пересыльную тюрьму.
1881, 2 марта — Свидание Мышкина с матерью.
1881, май — Мышкина отправляют в Сибирь, в каторжную тюрьму на Каре.
1881, сентябрь — Остановка в Иркутске. Мышкин произносит речь в часовне иркутской тюрьмы перед открытым гробом умершего товарища Льва Дмоховского.
1882, апрель — Прибытие на Кару.
1882, апрель — Мышкину прибавляют еще пять лет каторги за речь у гроба Дмоховского. Мышкин узнает о смерти Супинской.
1882, 6 мая — Мышкин бежит с каторги.
1882, начало июня — Арест Мышкина во Владивостоке.
1882, конец июня — Возвращение Мышкина на каторгу.
1883, июль — Мышкина переводят в Петербург, в Петропавловскую крепость.
1883, август — Мышкину прибавляют еще десять лет за побег с Кары.
1884, 4 августа — Мышкина переводят в Шлиссельбургскую крепость.
1884, 25 декабря — Мышкин бросает медную тарелку в лицо смотрителя тюрьмы.
1885, 19 января — Тайный суд над Мышкиным.
1885, 26 января — Казнь Мышкина во дворе Шлиссельбургской крепости.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
В. И. Ленин, Сочинения: т. 4, Насущные задачи нашего движения, стр. 346.
т. 5, «Что делать?», стр. 416.
т. 20, «Из прошлого рабочей печати в России», стр. 224.
М. Александров, Арест Мышкина. «Былое», № 10, 1906. Б. Базилевский, Революционная журналистика 70-х годов. СПБ, 1906.
В. Богучарский, Активное народничество 70-х годов. М., 1912.
Е. Брешковская, Из моих воспоминаний. СПБ, 1906.
Н. Виташевский, В Мценской гостинице. «Былое», № 4, 1907.
Н. Виташевский, Централка. «Былое», № 7, 1906.
Л. Волькенштейн, 13 лет в Шлиссельбургской крепости. М., 1905.
М. Гернет. История царской тюрьмы, т. 3. «Государственные преступления в России в XIX веке», т. 2, под ред. Б. Базилевского, 1877.
В л. Дебагорий-Мокриевич, Воспоминания. СПБ, 1906.
A. Долгушин, Заживо погребенные. Петроград, 1920. «Инструкция для заключенных в Шлиссельбургской тюрьме».
«Былое», № 3, 1906.
B. Каллаш, Речи и биографии. М., 1907.
C. Кеннан, Сибирь и ссылка. СПБ, 1906.
С. Ковалик, Революционное движение семидесятых годов и процесс 193-х. М., 1928.
Е. Колосов, Государева тюрьма — Шлиссельбург. П., 1924.
П. Лавров, Народники-пропагандисты 1873–1878 гг. Л., 1925.
М. Новорусский, В Шлиссельбурге. «Былое», № 10, 1906.
В. Панкратов, Жизнь в Шлиссельбургской крепости. 1924.
Г. Плеханов, Сочинения, т. 3. М. — Л., 1928.
П. Поливанов, Воспоминания. М., 1926.
М. Попов, Борьба за право умереть. М., 1931.
М. Попов, К биографии Ипполита Никитича Мышкина. Ростов-Дон, 1906.
«Письма И. Н. Мышкина из Якутской тюрьмы к брату». «Красный архив», т. 5, 1924.
«Рабочее движение в России в XIX веке». Сборник документов и материалов под ред. А. М. Панкратовой.
И. Романов, Н. Г. Чернышевский в Вилюйском заточении. Якутск, 1957.
А. Свитыч, В каменном мешке. СПБ, 1906.
С. Степняк, Подпольная Россия. СПБ, 1906.
A. Тун, История революционного движения в России. Издание «Земля и воля».
М. Тригони, Алексеевский равелин. М., 1924.
Н. Тютчев, Революционное движение 1870–1880 гг. М., 1925.
B. Фигнер, Сочинения, т. 2. М., 1933.
М. Фроленко, Воспоминания об Алексеевском равелине. «Былое», № 2, 1906.
Н. Флеровский, Положение рабочего класса в России. М., 1925.
«Хроника социалистического движения в России». М., 1907.
Н. Чарушин, О далеком прошлом. М., 1926.
Чернавский, Ипполит Никитич Мышкин. «Каторга и ссылка», № 12, 1924.
П. Якубович, Шлиссельбургские мученики. СПБ, 1906. ЦГИАМ III отд. 3 эксп., 1874 г. Дело № 144 (Записки И. Н. Мышкина. Публикуются впервые).
ОБ АВТОРЕ
Леон Исаакович Островер родился в 1890 году в Плоцке. После окончания классической гимназии поступил на философский факультет Краковского университета, который окончил в 1909 году, затем переехал в Берлин, где в 1914 году получил диплом врача.
Первую мировую войну Л. Островер провел в действующей армии в качестве полкового врача. В годы Великой Отечественной войны автор служил в Советской Армии в должности начальника госпиталя.
Первая его книга — «В серой шинели» — вышла в 1926 году. В последующие годы появились романы: «Когда река меняет русло», «Конец Княжеострова», «Караван входит в город», «На берегу Двины», «На большой волне» и другие.
Писатель много работает над революционной тематикой. Им написаны рассказы о рабочих, борцах за свободу, — «Буревестники», повести «Николай Щорс», «Песня не сдается». Многие произведения Л. Островера переведены на языки народов СССР и стран народной демократии.
В серии «Жизнь замечательных людей» в 1957 году была издана книга Л. Островера «Петр Алексеев».
Примечания
1
Глушь повсюду, тьма ложится. Что-то будет, что случится? (Перев, Л. Мартынова.) (обратно)2
Звание «домашний учитель» присваивалось лицам, окончившим специализированное училище.
(обратно)3
В. И. Ленин, Соч., т. 20, стр. 224.
(обратно)
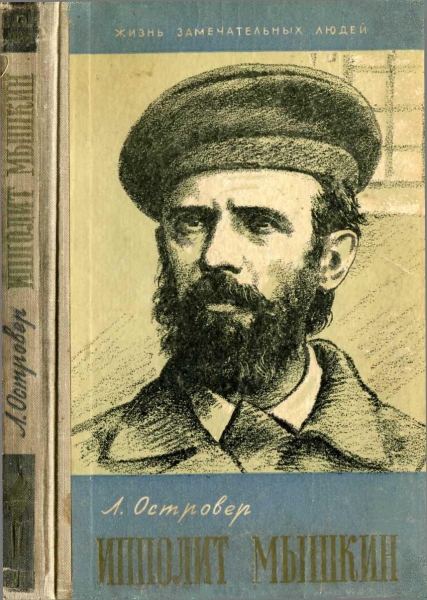


Комментарии к книге «Ипполит Мышкин», Леон Исаакович Островер
Всего 0 комментариев