Грачев Федор Федорович
Записки военного врача
В госпитале
венадцатого сентября сорок первого года дороги войны привели меня в Военно-санитарное управление Ленинградского фронта. У дверей кабинета начальника отдела кадров толпились врачи.
С поля боя в Ленинград непрерывно поступали раненые, но эвакуация в глубь страны прекратилась. Захватив станцию Мга, войска противника перерезали последнюю железную дорогу, связывавшую Ленинград со страной. Военный совет фронта постановил организовать дополнительную сеть военных госпиталей почти на двадцать тысяч коек. Срок выполнения приказа — шесть дней. Вот почему у начальника отдела кадров толпились сейчас врачи различных специальностей. Они ждали назначений в госпитали.
Военно-санитарное управление фронта я покинул с предписанием «явиться в эвакуационный госпиталь, где начальником товарищ С. А. Ягунов».
Я шел по Невскому. На проспекте прохожих больше, чем всегда. Это и понятно. В Ленинграде скопилось много беженцев. Из Прибалтики, Пскова, Луги, с Карельского перешейка, из пригородных районов. Все прохожие с противогазами. Много военных.
Город под угрозой уличных боев: Гитлеровцы в Гатчине, Пушкине, Красном Селе, у Колпина, Петергофа. Идут упорные бои за Пулковскую высоту — ключевую позицию ленинградской обороны.
Время от времени патрули останавливают прохожих, проверяют документы. У домов — дежурные с красными повязками на рукавах.
Сады, парки, скверы изрезаны щелями. Памятники укрыты песком, обшиты тесом. Витрины магазинов — тоже. Стены домов заполнены воззваниями и плакатами. Они лаконичны и мужественны: «Ни шагу назад!», «Отстоим Ленинград!». Особенно запомнились два плаката, очень зримые, неотделимые от тех грозных и героических дней. Это клич, призыв, глубоко страстный и требовательно суровый. Первый плакат, олицетворяющий самое дорогое для каждого, — «Родина-мать зовет!». На втором — чеканная графика, лаконичная композиция. Боец в пилотке вытянул правую руку. Указывает пальцем на тебя, обращается с вопросом: «Ты записался добровольцем?»
Ответ дан. На битву поднялись и стар и млад. Сотни тысяч рабочих и служащих в ополчении, на огненном рубеже, где решается судьба Ленинграда.
Слышен гул артиллерийской канонады. Бои на ближних подступах — гитлеровцы продолжают наступление на Ленинград.
Мне надо на Васильевский. Зимний дворец и здание Главного штаба камуфлированы. На крыше Главного штаба стоят зенитные пулеметы.
У гранитных берегов Невы — корабли Краснознаменного Балтийского флота. От воздушного наблюдения они замаскированы окраской и сливаются с фоном зданий набережной.
Справа от Дворцового моста — теплоход «Андрей Жданов». Ох как екнуло сердце! До войны плавал на нем. Очень хочется забежать, увидеть друзей. Но увы! В предписании сказано: «Явиться в госпиталь в двенадцать ноль-ноль». Нельзя опоздать ни на минуту.
Под мостом — темно-зеленые воды трудолюбивой Невы. Ветер по-осеннему резок. Низкие тучи. Накрапывает нудный, мелкий дождь. Сыро. День пасмурный, хмурый. Прохладно, тоскливо…
У главного подъезда университета много студентов. Блестит мокрый асфальт, золотится набережная опавшими листьями. Я свернул направо. Дойдя до конца Менделеевской линии, увидел большое голубоватое трехэтажное здание — исторический факультет Ленинградского университета. Из здания выносили шкафы, столы, книги. Худощавый, лет за пятьдесят мужчина в синем комбинезоне и парусиновом переднике тащил кипу книг. Я подошел к нему:
— Где можно видеть начальника госпиталя?
— Госпиталя еще нет, а Ягунов — вон там. Усатый.
У настежь открытой двери — широкоплечий военный невысокого роста, с паяльной лампой в руках. Он в сером запыленном макинтоше и — слегка сдвинутой на затылок пилотке. Округлое, одутловатое лицо, мясистый, приплюснутый нос, пушистые усы.
Рядом с Ягуновым седой человек. Хмурый и флегматичный, как мне показалось.
Начальник пробежал глазами предписание:
— Очень хорошо! Комиссар, нашего полку прибыло. — Он повернулся к соседу.
— Вижу.
— Зарегистрируйтесь в пятой аудитории, у начальника медицинской части профессора Долина. И немедленно прокаливать кровати! — Ягунов протянул мне паяльную лампу.
— А как это делать? — растерянно спросил я. — Мне не приходилось…
Ягунов резко прервал:
— Вас когда-нибудь кусали клопы?
— Случалось.
— Какие были эмоции?
— Неважные…
— Оч-чень хорошо! В восемнадцать ноль-ноль, — посмотрел на часы Ягунов, — доложите о результатах. Ясно?
— Вполне.
— Действуйте!
Так, с паяльной лампой в руках я поднялся на третий этаж. С трудом отыскал пятую аудиторию. В дверях меня встретил странный для этой обстановки человек. В сером клетчатом костюме, коричневых крагах, начищенных до блеска, он напоминал иностранного туриста.
— Вам кого? — строго спросил незнакомец, поблескивая очками.
— Приказано зарегистрироваться у начальника медицинской части профессора Долина.
— Долин — я. — Он покосился на мою паяльную дампу и быстро прочел предписание. — Хорошо. Вы зачисляетесь ординатором пятого медицинского отделения. Как только закончите войну с клопами — сразу на отделение! Работы — уйма! Кратенько, в двух словах, наша задача состоит в том, чтобы…
Это «кратенько, в двух словах» продолжалось минут десять. Потом со студентами и женщинами из соседних домов я пошел прокаливать кровати.
В самый разгар работы что-то случилось с моей паяльной лампой. Она перестала действовать. Многие смотрели, крутили, вертели, но безуспешно.
— Спуститесь во двор, — посоветовал мне кто-то, — там есть слесарь, кажется Голубев.
Голубевым оказался тот самый человек, которого я встретил недавно около госпиталя с кипой книг.
— Тебе что? — грубовато спросил он.
— Да вот… лампа…
— Дай-ка сюда, посмотрим…
Через пять минут все было в порядке.
— Лучше прежнего будет работать. Ручаюсь! — сказал Голубев.
— Вы кем здесь?
— Дворником. Голубев моя фамилия. Семен Ильич. А зовут попросту — Семеныч. Здесь и живу. А тебе как фамилия? Чего будешь делать?
— Грачев. Доктор Грачев…
— Ну вот, значит, будем знакомы…
Ровно в восемнадцать ноль-ноль я отправился докладывать Ягунову о выполнении приказа. Я долго блуждал по бесконечным коридорам трехэтажного здания, пока не выяснил, что начальник в кабинете бывшей поликлиники университета.
К кабинету с надписью «Невропатолог» путь мне преградил сухощавый, подвижной брюнет, на вид лет сорока пяти.
Тщательно выбритое лицо, безупречно отглаженная гимнастерка, новый ремень, подчеркнутая выправка — все это придавало ему некоторую щеголеватость.
— Начальника госпиталя? А вы кто?
— Ординатор пятого медицинского отделения Грачев.
— Савицкий, Петр Устинович, — представился брюнет. — Секретарь начальника. Проходите… — Он резко закашлялся.
— Простудились?
— Нет. Пневмоторакс. Поддуваюсь…
У Ягунова сидел комиссар Луканин. Начальник выслушал мой рапорт о прокаливании кроватей, кивнул и неожиданно просто, как-то по-домашнему, произнес:
— Садитесь. Вам полезно послушать наш разговор. Значит, так, Федор Георгиевич, Голубева надо иметь в виду, знаю его. Он мужичонка по-житейски хитроватый, хозяйственный. Такие — всё в дом. Что у нас дальше?..
— В первую очередь — кадры, всё будет зависеть от людей… — Луканин говорил спокойно, чуть глуховатым голосом, не торопясь, будто прислушиваясь к своим словам. Ягунов, наоборот, говорил быстро, порывисто, короткими фразами, жестикулируя.
Начальник и комиссар решали уравнение со многими неизвестными. Внимательно слушая их, я начал понимать, что значит создать за несколько дней большой госпиталь. Койки, тумбочки, хирургический инструмент, миски, ложки, чашки, котлы, кипятильники и сотни разных мелочей. Как все это достать и разместить?
— Да-а, — Ягунов склонился над планом здания. — Госпиталь у нас будет большой. В первом этаже — подсобные службы. Во втором и третьем — раненые. Библиотека нужна. Клуб. Музыкальные инструменты…
— С музыкой подождем, — тихо возразил Луканин. — Начнем с кроватей для раненых…
В дверях появился Савицкий:
— К вам, товарищ комиссар, двое из университета, а секретарь райсовета — к начальнику.
В кабинет вошли мужчина и женщина. Отрекомендовались: секретарь парткома университета Леуский и секретарь комитета комсомола Храпунова, студентка пятого курса истфака. Они обещали сегодня перенести из общежитий сто кроватей.
— Для переноски выделено пятьдесят студентов…
Вошел секретарь исполкома Василеостровского райсовета Кривитский. Он сообщил, что райсовет доставит завтра сто пятьдесят кроватей.
— А нельзя ли, дорогие товарищи, округлить? — спросил Ягунов.
— Двести? — Кривитский задумался. — Округлим!
И опять Савицкий:
— Две женщины. Из университета. Очень просят принять.
Когда женщины приблизились к столу, я понял — одна из них слепая.
— Аспирант географического факультета, — тихо сказала слепая. — Золотницкая Розалия Львовна. Могу быть полезна в госпитале.
— Вы сможете вести лекционную работу для раненых? — спросил Луканин.
— Благодарю!
— А я сестра Золотницкой, — сказала вторая. — И тоже прошу принять на работу. Студентка института иностранных языков. Донор.
— Вы справитесь с обязанностями сестры-хозяйки в приемном покое госпиталя? — Ягунов вопросительно посмотрел на студентку.
— Постараюсь!
Женщин сменил начальник медицинской части. Профессор Долин пространно, неторопливо докладывал, сколько прибыло врачей и сестер, откуда они, их стаж, специальность…
А Ягунов в это время то говорил по телефону, то перебирал какие-то бумаги на столе. На его лице заметно раздражение многословием начмеда. И он слушал Долина как бы вполуха.
Наконец Ягунов нажал звонок на столе.
— Мельника ко мне! — буркнул он вошедшему Савицкому.
Через несколько минут на пороге стоял высокий, костистый мужчина.
— Вы меня звали?
— Не звал, а приказал явиться! — уточнил Ягунов. — Как с посудой?
— Бегаю по всему городу!
— Ну и что же?
— Голова кругом идет, — уклончиво ответил Мельник. — Феноменальные трудности! Ведь столько всего надо! Я думаю…
— Потрясающий результат! — прервал Ягунов. Его усы бабочкой вздернулись вверх. — Всё?
Мельник молчал.
— Если не ошибаюсь, до войны вы работали фотографом?
— Фоторепортером газеты.
— Это и видно! — вскочил, побагровев, Ягунов. Он был в гневе. Взгляд серых, слегка навыкате глаз сверлил Мельника. Черты округлого лица стали острее, резче. Человек стал совершенно иным. Перевоплощение произошло мгновенно.
— Феноменальные трудности! Слышите, Федор Георгиевич? А? Ну, с чем вы пришли ко мне, товарищ начальник пищеблока? — все более и более раздражался Ягунов. — С фотографией ваших трудностей? Я о них и сам знаю. Я спрашиваю, каков результат вашей работы. А результат — нуль. Колыхание воздуха! И только!
Создавалось впечатление: сейчас начальник пищеблока будет нокаутирован! Но до этого не дошло. Выручил Луканин.
— На централизованное снабжение нам полностью надеяться нельзя, — очень спокойно сказал комиссар. — Город окружен, товарищ Мельник, и госпиталей создается много. На самолетах посуду вряд ли станут сейчас доставлять в Ленинград. Вот что, завтра утром все мы отправимся в ближайшие дома. Не сомневаюсь, население нам поможет.
— Обязательно поможет, — согласился сразу же остывший Ягунов.
Обо мне словно забыли, точно меня в кабинете и нет.
В это время дверь широко распахнулась. Вошел высокий и статный мужчина. От его крупной, плечистой фигуры веяло здоровьем и силой. Он был в коричневом кожаном реглане, с одной «шпалой» в петлицах.
— Удачный день! — радостно воскликнул вошедший.
— С добычей, Иван Алексеевич? — встрепенулся Ягунов.
— Да. Привез две трехтонки кроватей.
— Две трехтонки? — Глаза Ягунова сияли. — Две трехтонки! Вот здорово!
— Завтра еще обещают… И вот накладная — на базу управления по сбору подарков для армии. Белье, свитера, простыни, обувь, — докладывал пришедший, покачиваясь на широко расставленных ногах с пятки на носок и с носка на пятку.
— Вот это работа! — воскликнул Ягунов.
Иван Алексеевич продолжал рассказывать, какое оборудование, медицинский инструментарий, медикаменты и перевязочный материал будет получен в горздравотделе, Военно-санитарном управлении фронта и других местах.
— Похвально! Прекрасно, друг сердечный! — то и дело восклицал Ягунов.
И опять метаморфоза в облике начальника госпиталя. Взгляд приветливый, весь он как бы излучает добродушие, признательность и уважение.
По тону обращения и жестам можно предположить — Ягунов хорошо знает, кого слушает, с кем имеет дело.
— Ваня! Нажимай, друже! Надо уложиться в пять дней.
— Это не доблесть, — заметил Луканин. — Нам надо опередить время!
— Тем более, — согласился Ягунов.
И только сейчас он вспомнил о моем присутствии.
— Вы, кажется, судовой врач?
— Да.
— Хорошо!
А что хорошо — неизвестно.
Кабинет мы покинули вместе с Мельником.
— Да, да! — тяжко вздохнул начальник пищеблока. — Пришло времечко!
— Кто это — Иван Алексеевич?
— Зыков. Начальник материального обеспечения госпиталя. До войны был заместителем управляющего Ленинградской конторой Главсахара.
— Вы знаете Ягунова?
— Очень хорошо! Профессор. Гинеколог из соседнего института…
— Характерец!
— О да! Порох! — улыбнулся Мельник. — Но это не страшно. Взорвется — огонь, дым. Потом — ничего. Отходчив…
Во дворе госпиталя нас остановила женщина:
— Помогите мне найти начальника госпиталя. Я председатель месткома университета Топорова. Мы собрали для госпиталя столовую и чайную посуду, ложки.
— Посуда, ложки! — Начальник пищеблока просиял. — Простите, ваше имя-отчество?
— Александра Георгиевна.
— И много собрали, Александра Георгиевна?
— Тарелок, чашек — триста. Ложек — пятьсот.
— Спасибо!
— Есть и аптечная посуда. Возьмете?
— Обязательно, Александра Георгиевна. Пойдемте к начальнику госпиталя…
Я поднялся на третий этаж, где разместилось пятое медицинское отделение. В коридоре встретился с мужчиной в штатском. Высокий, худощавый, в пенсне, он был похож на земского врача.
— Простите, вы не знаете, где начальник отделения? — спросил он меня.
— Не знаю. Вы по какому вопросу?
— Назначен политруком отделения. Скридулий Константин Григорьевич.
— Вам следует обратиться к Долину, он в первом этаже.
Скридулий направился к Долину, а я заглянул в одну из палат, на двери которой висела табличка: «Кабинет истории нового времени». Там застал начальника отделения хирурга Валентину Николаевну Горохову.
— Здесь будет командирская палата, — торопливо сказала она. — Нужны еще койки. Пойду искать Зыкова…
Оставшись один, я сразу почувствовал страшную усталость. Лег на койку, подложив под голову противогаз. Но заснуть не удалось. Из коридора доносились шумные голоса:
— Надя! Неси горячую воду!
— Евгения Степановна, где мыло?
— Да не так надо мыть, маменькины дочки! Ты с какого факультета?
— С философского.
— Спиноза! Смотри! Смотри, как моют полы!
Выйдя в коридор, я наткнулся на женщину в синем халате с засученными рукавами.
— К кому обратиться? — энергично подступила она ко мне. — В моей бригаде не хватает тряпок.
Я провел бригадиршу к Зыкову. По дороге она представилась: Евгения Степановна Колпакчи, профессор Ленинградского университета.
Зыков выслушал Евгению Степановну и написал на листке блокнота: «Тов. Голубеву С. И. Выдайте тряпок профессору Колпакчи».
Чудо свершилось!
ыйдя от Зыкова, я вспомнил предложение комиссара — обратиться завтра к населению ближайших домов с просьбой помочь госпиталю посудой и бельем. «А что, если пойти сегодня, сейчас?» Доложил об этом Ягунову. Получил разрешение.
Минут через десять, миновав мост, я уже был в домовой конторе на Мытнинской набережной. В комнате, пропитанной табачным дымом, за столом сидели три женщины.
— Сколько надо белья и посуды? — спросила одна из них. Она оказалась управдомом.
— Чем больше, тем лучше!
Управдом взяла лист бумаги и размашисто написала: «Михайлова Л. П. Пять глубоких тарелок, пять мелких. Пять столовых и чайных ложек. Пять стаканов». Потом подумала и добавила: «Две простыни, две подушки, две наволочки».
Подписавшись, передала список соседке по столу:
— Продолжай, Дарья Васильевна.
Та придвинула к себе список. Прибавилось еще полдюжины глубоких тарелок, столько же вилок и ножей. Седеющая женщина поправила синий кашемировый платок, повязанный по-монашески, и спросила меня:
— Алюминиевую посуду берете?
— Еще лучше фаянсовой!
— Стулья понадобятся?
— Очень!
— Тумбочка есть у меня. Только старенькая…
— Спасибо. Все пригодится!
Дарья Васильевна подписалась. Округло и наклонно, как пишут школьники: «Д. В. Петрова».
Лист обошел всех женщин.
— Вот и начало, — просмотрела список Михайлова. — Когда это нужно?
— Дорог каждый час.
От обхода квартир женщины меня отстранили.
— Сами сделаем лучше.
— Спасибо!
— А санитарки вам требуются? — спросила Дарья Васильевна.
— Конечно.
— Я бы пошла. Да ведь не возьмут…
— Почему?
— Годы не те: к шестому десятку…
— Да вы еще хоть куда!
— Я в Мечниковской работала, — пояснила Петрова. — Кому писать заявление?
Я ответил.
— Ягунову! — радостно воскликнула Дарья Васильевна. — Алексеичу! Знаю! Серьезный профессор…
Прежде чем вернуться в госпиталь, решил заглянуть на теплоход «Андрей Жданов». Он стоял у Дворцового моста — рукой подать.
Темнота осенняя. Где-то далеко полыхает багровое зарево пожара. В небе блуждают лучи прожекторов.
— Стой! Кто идет?
Конус света, вырвавшись из темноты, ослепил лицо, скользнул по шинели.
— Предъявите документы!..
Свет карманного фонарика уткнулся в пропуск.
— Где пожар? — спросил я.
— Отсюда не видно…
На теплоходе меня встретил старший штурман Константин Владимирович Коваленко. Он рассказал о трагическом переходе судов из Таллина в конце августа. На борту «Андрея Жданова» находилось восемьсот шестьдесят тяжелораненых. В пути на этот плавучий госпиталь напали одиннадцать немецких самолетов. Благодаря искусным маневрам командира теплоход избежал прямых попаданий. От осколков бомб судно получило тридцать восемь пробоин в корпус. Два матроса погибли. Раненые были доставлены в Ленинград.
В настоящее время ждановцы перевозят в Ленинград раненых из Кронштадта, куда их морским путем эвакуируют из Прибалтики и с отдаленных морских баз. С побережья — от Урицка до Петергофа — гитлеровцы просматривают корабельный фарватер, бьют прямой наводкой. Каждый рейс теплохода в Кронштадт и обратно может стать последним. Но Константин Владимирович вспоминает об этих рейсах как о чем-то заурядном…
— Вот так, — говорит мне Коваленко, прощаясь у трапа.
Сказано лишь два слова. Но каждый из нас понимает подтекст этих, казалось бы, пустых слов…
На другой день в госпиталь пришло много женщин с узлами, корзинками, мешками, чемоданами. Они несли простыни, наволочки, подушки, одеяла, носки, рубашки. Вилки, ножи, тарелки, стаканы, чашки…
Сдав все это, женщины уходили и вновь возвращались со стульями, тумбочками, табуретками. Одна старушка принесла даже медный самовар, начищенный до ослепительного блеска. Самовар принимать отказывались.
— Да что вы, родимые! — настаивала старушка. — Чай-то будет вкуснее. Не то что на примусе! Не самовар, а голубь! Поставишь на стол — воркует! Возьмите, сделайте милость!
Просьбу уважили.
Народ шел весь день. Оказывается, начальник госпиталя, комиссар и начальник пищеблока рано утром побывали во многих домах и просили помочь новому госпиталю.
Среди женщин я увидел свою вчерашнюю знакомую — Дарью Васильевну Петрову.
— Ну как? Подали заявление?
— Да. Принял. В пятое отделение.
— Значит, вместе будем работать…
— Все обошлось хорошо! — хвалилась Петрова, не обращая внимания на мою реплику. — Это потому, что, как только увидала профессора Ягунова, сразу в ноги ему посмотрела. Верная примета! — судачила Дарья Васильевна.
А вечером в госпитале снова появился Кривитский. На машинах доставлено двести кроватей. Округлил!
— И еще мы привезем мороженицы. Сорок штук, — добавил Кривитский. — На резиновом ходу.
— Мороженицы? — Ягунов вопросительно посмотрел на секретаря райсовета.
— По-моему, в них можно развозить пищу в палаты. Коридоры-то у вас длинные.
— А ведь это идея, Федор Георгиевич! — обрадовался Ягунов. — Сейчас же вызову Мельника и задам ему хорошую баню!
— За что? — спросил Луканин, прислушиваясь к военной сводке Советского Информбюро.
— Не додумался до морожениц!
— А нам такое пришло в голову?
В радиопередаче наступила пауза. Голос диктора как бы осекся.
— Внимание! Внимание! — послышалось из репродуктора.
Началась очередная воздушная тревога. В этот день их было одиннадцать!
Наше здание — это бывший Гостиный двор, построенный в начале прошлого века. Огромный четырехугольный корпус, как и полагается Гостиному двору, опоясан открытой сводчатой галереей.
Перед войной помимо истфака здесь размещались географический, философский, экономический факультеты университета и поликлиника. И вот в таком огромном здании надо было развернуть большой эвакуационный госпиталь. В пять дней! Казалось, это выходит за пределы реальных возможностей.
Все работали круглосуточно. Днем и ночью. Сон накоротке, еда на скорую руку. Время отсчитывалось по числу прокаленных кроватей, вымытых полов, стен, окон (а их — триста пятьдесят три), оборудованных палат, перевязочных и операционные.
Пятое медицинское отделение, куда я назначен ординатором, — это пока что широкий, длинный и просторный коридор, по сторонам которого аудитории и учебные кабинеты.
Врачи нашего отделения разместились в будущей ординаторской, на двери которой надпись: «Кабинет Древнего Египта».
Поставили носилки и поздно вечером стали располагаться кто как мог. Нас было шесть человек.
— Куда же запропастилась Надежда Алексеевна? — беспокоилась начальник отделения Горохова.
— Она у Долина, — ответил политрук Скридулий.
— Странный человек наш начмед, — заметила, укладываясь на носилки, Надежда Никитична Наумченко. — Прихожу к нему, докладываю, что назначена в госпиталь. Он спрашивает: «А почему у вас руки трясутся?» Говорю: «По дороге под обстрел попала». А он мне: «Пустяки! Это у вас утрированный оборонительный рефлекс страха, который нужно научиться подавлять. Так и знайте, что страх порождает эгоцентрическое поведение». И прочел мне чуть ли не лекцию об условных и безусловных рефлексах…
— Что здесь удивительного? — отозвалась старший ординатор Кувшинова. — Ведь профессор Долин — физиолог, ученик самого Павлова.
— Ничего, Надежда Никитична, научимся и страх подавлять, — сказал Скридулий.
В ординаторскую вбежала взволнованная Надежда Алексеевна Введенская.
— Горюшко горькое! — схватилась она за голову. — Ягунов назначил меня врачом по питанию. Ну что я понимаю в этом деле?..
Легли вздремнуть. Под голову — противогаз, вместо одеяла — шинель. Но спать почти не пришлось. Несколько раз ночную тишину нарушали сирены и выстрелы зениток. Вражеская авиация пыталась прорваться в город.
На третий день, когда уже были оборудованы почти все медицинские отделения, начался массированный — артиллерийский обстрел района. Позади госпиталя, в Тифлисском переулке, разорвался снаряд. С надсадным звоном полетели стекла окон. Пыль от штукатурки толстым слоем оседала на полу, на койках.
Почти сразу же меня вызвал Ягунов:
— Вы судовой врач?
— Так точно.
— Народ в пароходстве знаете?
— Конечно!
— Достаньте в Лесном порту фанеры.
— Надо поговорить…
— Разговаривать некогда. Фанера нужна!
— Слушаюсь!
— Получите командировочное удостоверение. И — одна нога здесь, другая там!
Отправился по назначению.
Вот и Ленинградский порт. Совсем недавно здесь возле пароходов суетились скромные труженики-буксиры, к причалам тянулись железнодорожные составы. Крики неугомонных чаек, шум землечерпалок и грохот лебедок сливались с короткими свистками буксиров, маневрирующих паровозов, с мелкой дробью пневматических молотков.
Сейчас порт замер, притих. У причалов — закамуфлированные пароходы. Поникли железные аисты — ажурные портальные краны, как бы стыдясь своего бездействия.
Склады закрыты. В Гутуевском Ковше стоит красавец турбоэлектроход «Балтика». До войны он ходил в Лондон. Мне было известно, что при эвакуации из Таллина турбоэлектроход доставил в Ленинград две тысячи четыреста раненых.
В Морском канале — знакомые военные корабли Краснознаменного Балтийского флота. Порт стал их огневым рубежом.
Мне налево — в Лесной порт. Вдруг грохнул разрыв снаряда. Второй… Третий… На Южной дамбе порта взметнулись столбы дыма. С кораблей сразу ответили. Началась огненная дуэль с фашистами. Наши корабли ведут огонь главным калибром.
Пришлось переждать в здании портового элеватора. Здесь узнаю: в ночь на 12 сентября на территорию порта сброшено много фугасных и более двух тысяч зажигательных бомб. Вспыхнул огромный пожар. Полыхали склады порта, институт инженеров водного транспорта…
Возвращаясь в госпиталь с нарядом на фанеру, зашел домой. На улице Союза печатников, где я жил до войны, — баррикады из железа, бетона и камня. В квартире, кроме пожилой соседки Веры Матвеевны Нипоркиной, никого нет.
— А вы почему не эвакуировались?
— Мне и здесь дел много. Была на оборонных работах. Дежурю на крыше… Помогаю строить пулеметное гнездо…
Хотелось скорее сообщить в госпиталь, что наряд на фанеру получен, пусть пришлют грузовик к моему дому, и я сразу поеду за фанерой. Но телефон оказался выключен.
— До конца войны, — сказала Вера Матвеевна.
Окна госпиталя залатаны фанерой. Осталось немного и про запас. Щедро дали фанеры в Лесном порту.
Вечером в этот день личный состав госпиталя был вызван в главную аудиторию, бывший лекторий для студентов, — самое большое помещение в центральной части здания.
На большой черной доске здесь еще сохранилась надпись: «Сбор всех добровольцев во дворе».
В этой аудитории, расположенной амфитеатром, собрались и опытные, квалифицированные хирурги, и врачи всех специальностей. Они мало что знали о специфике военно-медицинской службы, военно-полевой хирургии, о работе во фронтовом госпитале.
Собрание открыл Ягунов. Он сразу же напомнил основное положение Н. И. Пирогова: война — «травматическая эпидемия». Ни одна страна в мирное время не может иметь столько хирургов, сколько нужно для войны, тем более для такой чудовищной, какой является современная. Самой жестокой и тяжелой. Значит, мы должны учиться, и быстро учиться в процессе работы.
Ягунов подчеркнул, что все мы пришли из разных больниц, клиник, институтов, сторонниками различных школ и направлений своих шефов, со своим опытом, установками и традициями. Но всех объединял один принцип: лечение больных на месте, от поступления и до выздоровления. Это отвечало потребностям мирного времени. Однако теперь от такой практики мы вынуждены отказаться.
— Я обращаю ваше внимание на мои слова — лечение на месте. Так было. А в чем заключается хирургия военного времени? В преемственной последовательности. От переднего края войск и до фронтового госпиталя раненые и больные проходят ряд медицинских учреждений. Каждое из них принимает раненых «на себя». Выясняет характер и тяжесть ранения и оказывает лишь ту помощь, которая необходима сейчас же, которая диктуется боевой обстановкой. А потом — направление «от себя», дальше, на следующий этап. Более точно: этапное лечение с эвакуацией по назначению.
Задача нашего фронтового госпиталя — лечить легкораненых до полного восстановления боеспособности, а тяжелораненых — до транспортабельности, с последующей эвакуацией для лечения в глубокий тыл. Такова схема, разумеется, в кратких чертах.
Потом Ягунов сообщил, что уже подготовлено десять медицинских отделений. Штат пока укомплектован для шести, и завтра мы должны начать работу.
— Слов нет, нам будет трудно! — громко сказал Ягунов. — Могут возникнуть много неожиданных трудностей. Ведь отсюда до врага — двенадцать километров… В этих условиях, как никогда, требуются дисциплина, самообладание!
Ягунов говорил повелительно, короткими фразами. Ходил перед столом то в одну, то в другую сторону, как вахтенный штурман на мостике. На поворотах останавливался, словно заканчивая свою мысль.
Это был разговор прямой, убедительный, правдивый. С каждым, как бы один на один, и со всеми вместе.
Он сразу подкупил аудиторию. Интонации Ягунова возникали мгновенно. Фразы, мимика, улыбка сопровождались выразительными жестами.
— Я был на фронте. В первую мировую войну. И был ранен. Знаю — тяжко солдату, когда у него разорвано тело.
Позади слышу тихие реплики:
— Кажется, нам повезло с начальником!
— Он знает, о чем говорит…
— И кому говорит…
После Ягунова выступил начальник медицинской части профессор Долин. Он не спеша поднялся на кафедру, скрипя коричневыми крагами. В очках, в сером спортивном костюме.
Привычным профессорским жестом обхватил края кафедры. Выдержав паузу, изложил ближайшие неотложные задачи и степень готовности нового госпиталя: на втором этаже оборудованы большая сортировочно-перевязочная на девять столов, рентгеновский кабинет, комната для проявления снимков.
Оперировать хирурги будут в двух операционных. Готова и гипсовальная. Здесь во время приема будет происходить внутригоспитальная сортировка раненых на медицинские отделения, в зависимости от характера ранения и уточнения диагноза.
Довольно скоро начмед отправился в «дальнее плавание». Последовательный ученик академика И. П. Павлова, он увлекся доказательством тезиса, что «физиология и медицина неотделимы» и что «физиология является законным советчиком во многих областях медицины».
— Опасаюсь, как бы наука не заслонила практики в работе госпиталя, — шепнул мой сосед, начальник девятого медицинского отделения хирург Коптев.
Я кивнул головой.
А Долин говорил и говорил. Ягунов постучал карандашом по графину с водой.
В ответ профессор показал два пальца — «две минуты». Жест ораторов, так хорошо знакомый и давно надоевший на совещаниях и конференциях, когда выступающие мучительно не могут «закруглиться».
Последним очень кратко выступил Луканин. Внимательно всматриваясь в аудиторию, комиссар сказал, что учеба — дело наживное. При желании можно много сделать. Надежный залог успеха в лечении будет зависеть от того, насколько каждый врач проникнется высокой мерой личной ответственности, своим гражданским долгом в стремлении помочь раненым.
Обращаясь к медицинским сестрам и санитаркам, Луканин сказал, что их отношение к раненым, уход за ними после операций имеют в некоторых случаях решающее значение.
— Плохой уход, товарищи, может загубить бойца, свести на нет всю огромную работу врачей. А теперь наберитесь сил, отдохните! — закончил комиссар. — Политрукам медицинских отделений явиться ко мне!
Итак, госпиталь создан. На день раньше положенного срока.
Комиссар был прав — опередили время.
— Кто бы мог подумать? Это просто чудо! — восхищались многие врачи.
Никакого чуда, конечно, не было. Народ пришел на помощь. Рабочие заводов, домохозяйки, учащиеся школ, студенты и преподаватели университета, депутаты районного исполкома, райком партии. Организовать госпиталь помогали свыше двухсот человек.
Принять раненых!
акой приказ был получен утром 17 сентября из фронтового эвакопункта. На фронте — кровопролитные бои.
К госпиталю одна за другой подходят санитарные машины.
Кровь… Стоны…
Первая история болезни. Командир роты 463-го стрелкового полка лейтенант Николай Федорович Белянкин. Тридцать восемь лет. Осколочное ранение правой поясничной области.
Заполняю историю болезни очередного раненого. На носилках краснофлотец Максим Александрович Кожевников. Боец морской пехоты. Голова забинтована по самые брови. Белизна повязки резко оттеняет бронзовый загар лица.
— Не найдется ли курева, товарищ военврач? — спросил Кожевников.
Я вынул портсигар. Раненый осторожно, двумя пальцами, взял «беломорину».
— Где вас поцарапало?
— С Пулковских высот мы…
— Ну, как там?
— Тяжело… Но устояли, будут помнить! Вот отремонтируемся, еще добавим!
— Доктор, — говорит сосед Кожевникова, — Максим — мой корешок. С одного корабля. Просим поместить нас в одну палату.
Раненые, раненые, раненые…
— А у вас что? — спрашиваю бойца с забинтованной головой.
— У меня — пустяки.
«Пустяки» — ранение в нижнюю челюсть…
На носилках лежит солдат. Он молчит. Не произносит ни одного слова.
— Кто вы?
Раненый только шевелит губами. Беспомощный, ничего не выражающий мутный взгляд. Он не слышит и не говорит. Целы руки, ноги. Но тяжелая контузия. Теперь он — глухой и немой.
Ему дают лист бумаги с вопросом: «Ваша фамилия?» Контуженый с большим трудом выводит карандашом частокол из палочек. Он разучился писать.
Заполняю историю болезни еще одного раненого. Поначалу он показался мне подростком. Измученное, бледное лицо, окровавленная повязка на шее. Глаза — молящие о помощи. Взгляд такой, что просто сердце разрывается. Но это не подросток, а девушка. Каротина Мария Федоровна. Двадцать три года. Медицинская сестра Кронштадтского морского госпиталя. Пострадала при бомбежке госпиталя.
Каротину немедленно несут в операционную, к профессору Бушу, у нее осколочное ранение, проникающее в пищевод.
Что означало для нас — принять раненого?
Из приемного покоя на носилках на второй этаж — три лестничных марша. Туда и обратно — шестьдесят шесть ступенек. А на третий этаж? Еще больше! Потом, по длинному коридору, сто метров — в сортировочно-перевязочную. Проделав раз тридцать без передышки такой маршрут, носильщики обессилели. На смену штатным санитарам пришли работники всех отделов и служб госпиталя. Потом явились политруки во главе с комиссаром Луканиным. Их сменили палатные медицинские сестры, санитарки, врачи.
А раненые все прибывали и прибывали.
Увидев около госпиталя много санитарных машин, на помощь устремились студенты и служащие университета. С носилками им приходилось иметь дело впервые.
Я работал в паре с помощником начальника продовольственного отдела Всеволодом Ангеловичем Сулимо-Самуйло, художником по профессии.
У нас подкашивались ноги, кружилась голова.
Несем раненого, но уже не вдвоем, а вчетвером: с помощью санитарки Дарьи Васильевны Петровой и медицинской сестры Евгении Михайловны Виленкиной. Раненый очень высок, плечист, могучего телосложения. Отдыхая на площадке лестницы, узнаем: его зовут Григорий Степанович Махиня. Он пулеметчик. У него осколочное ранение обоих бедер.
В этот день госпиталь принял двести раненых.
Когда мы вместе с хирургом Коптевым работали в сортировочно-перевязочной, вошла медицинская сестра Евгения Михайловна Виленкина.
— В этом помещении, — сказала она нам, — была наша аудитория. Я работала здесь доцентом кафедры политической экономии. Еще первого сентября я читала лекцию студентам исторического факультета. А теперь — здесь мой пост…
Коммунистка Виленкина в войну с белофиннами работала перевязочной сестрой в госпитале. Теперь ее знания проверил очень опытный старший хирург Шафер. Экзамен она выдержала отлично, хотя и не имела медицинского образования. Ее муж, Евсей Миронович Зеликин, доцент кафедры философии, ушел добровольцем в народное ополчение, воевал в части, которой командовал полковник Красновидов, начальник военной кафедры университета.
Девятнадцатого сентября в госпиталь поступило более четырехсот раненых. Прием происходил беспрерывно почти сутки. Работа врачей очень затруднялась воздушными тревогами. Их было шесть.
Около полуночи Долина срочно вызвали в Институт экспериментальной медицины. На утренней врачебной конференции мы его не увидели и начали тревожиться. Появился он в полдень и рассказал, что с ним случилось.
Возвращался утром из института. В сером клетчатом спортивном костюме, светлом берете, коричневых крагах, начищенных до блеска. На Большом проспекте Долина остановил какой-то мужчина:
— Вы кто?
— Врач…
— А ну пройдемте!..
— В чем дело?
— Скоро узнаешь! Иди вперед!
Человек довел его до ближайшего патруля.
— Вот, товарищи, проверьте документы. Явное дело — шпион!
Документов у Долина не оказалось. Второпях забыл в другом пиджаке. Его повели в милицию. По дороге оба патрульных держали руки на кобуре пистолетов, и косо посматривая на костюм сопровождаемого. Встречные прохожие оглядывались на «шпиона». Позади себя он слышал весьма нелестные реплики.
И вот Долин доставлен «по назначению». Личность начали выяснять только днем. Конечно, сразу же все стало на свое место.
— Костюм, товарищ профессор, необходимо сменить, — улыбаясь, посоветовал Долину начальник 48-го отделения милиции. — Обязательно! А чтобы вас снова не задержали, отправлю вас на милицейской машине…
В этот же день Долин облачился в военную форму. И профессор прямо-таки преобразился. Военный костюм так пришелся ему по плечу, будто он не первый день в армии.
Впечатление не обмануло. Вскоре нам стала известна биография Александра Осиповича.
Он родился в бедной, многодетной семье, в Бессарабии. С двенадцати лет работал в типографии, в аптеке. Днем — работа, ночью — книги. Экстерном добыт аттестат зрелости и одновременно — звание аптекарского ученика.
После Долин — фармацевт в Николаеве. Здесь его застала Октябрьская революция. И мирный, такой тихий и молчаливый провизор неожиданно для всех бросает аптеку и идет добровольцем в Красную гвардию.
— От красногвардейца до комиссара Высшей артиллерийской школы командного состава Красной Армии — таков путь двадцатитрехлетнего Долина.
Наступил мир, и коммунист Долин — студент медицинского факультета Московского университета. На четвертом курсе — встреча со своим бывшим командиром, легендарным Г. И. Котовским, на съезде воинов-бессарабцев.
Университет окончен. Аспирантура. Научная деятельность. Позднее он в Ленинграде. Руководство лабораторией в нервной клинике физиологического отдела Всесоюзного института экспериментальной медицины.
Ознакомившись с работами Долина, академик Павлов представляет его к ученой степени доктора медицинских наук без защиты диссертации.
И вот — новая война. Профессор отказывается от эвакуации в тыл, остается в осажденном Ленинграде и вступает в армию народного ополчения. Но теперь Долин не «человек с ружьем», а ученый-физиолог, начальник медицинской части крупного военного госпиталя.
Третья палата
о время моего обхода в палату на костылях вошел раненый. Под распахнутым халатом виднелась матросская тельняшка.
— Принимайте новосела! — представила сопровождавшая его Дарья Васильевна.
— Пехота, здрасьте! — сказал он. — Ну как жизнь, кашка!
В скуластом лице, в ясных, слегка прищуренных глазах, во всем облике этого крепыша была какая-то особая удаль. Ловко орудуя костылями, он подошел к свободной койке.
— Не слышу ответа! — окинул он взглядом палату. — Что же мне, ушами хлопать? Или здесь глухонемые?
— Как тебя величать, мы не знаем, — ехидно отозвался минометчик Пряхин, — но такой новосел нашему забору двоюродный плетень…
Поведение прибывшего раненого, его тон были явно неуместны. Я хотел было сделать ему замечание, но меня опередил Павлов.
— Вот что… морская душа, — сказал он, — такой гусь — не к нашему берегу.
— А ты кто такой?
— Староста палаты. Павлов моя фамилия.
— Ну и что с того? — пренебрежительно бросил краснофлотец.
— Ненько моя! Да звидкиля ты такой взявся? — подал голос Григорий Махиня. — У нас своего начальства до биса!
— Закрой иллюминатор, браток! — усмехнулся новичок. — Я двугривенный пальцами сминаю!
— Ой, диду, щоб на тебе щастье напало! — отозвался Махиня. — Чи ты бачив оци штуковины? На них можно покластись! Будьте певни! Я этим кулаком фрица на тот свет отправил!
— Без пересадки?
— Прямехонько!
— Цэ дило! — с восхищением заметил матрос. — А тютюн ма?
— Имеется! — Махиня подал матросу пачку «Севера». — Цыхарки вищого сорту… — Говор у Григория Махини мягкий, движения неторопливы. Григорий Степанович — великан. Могучего, кряжистого телосложения. Ростом — выше двух метров. Вес — сто десять килограммов. «Центнер с гаком», как выражается он сам.
Григорий Степанович, конечно, знал свою силу, и когда я с ним здоровался, он брал мою руку так осторожно, что я не чувствовал его пожатия.
Махиня — пулеметчик из народного ополчения. Поступил в госпиталь после одного из ожесточенных сражений на Пулковских высотах.
Гитлеровцы во что бы то ни стало хотели там овладеть деревней Кокорево, а затем прорваться к Пулковской обсерватории. Бой возник яростный. Враг лез напролом, бросался в атаку за атакой. На четвертой атаке у Махини кончились патроны. Когда дело дошло до рукопашной, Махиня прикладом винтовки, как дубиной, молотил фашистов, пока сам не был тяжело ранен.
В палате его в шутку звали Малюткой. Для этого «малютки», до пояса окутанного гипсом, с трудом подобрали койку.
Сорокалетний Махиня покорял своей скромностью и даже застенчивостью. За ним закрепилась репутация добродушного и отзывчивого человека. Гладко выбритая голова, голубизна глаз, спокойный и глуховатый голос с украинским «га» — все это в сочетании с могучей фигурой придавало ему некоторое сходство с одним из запорожцев на знаменитой картине Репина.
Неизвестно, чем кончился бы разговор Махини с морячком, но тут в палату вошла медицинская сестра Клавдия Лобанова. В руках шприц.
— Григорий Степанович, приготовьтесь!
— Черноглазая, в какое место колоть будешь? — озорно спросил морячок.
— Не в то, в которое бы вам следовало!
— А мне и туда вжаривали! Вот такой иглой! — развел руками матрос.
— Тогда в язык надо…
— Ой, сестрица! — взмолился Махиня, подобрав одеяло до подбородка. — Пуще смерти боюсь!
— И не стыдно! — увещевала Лобанова. — Такой большой — нате вам! А ну, давайте-ка!.. Ну, что? Ведь не больно?
— Солнышко ты мое, Клавдюша! — На лице Махини радостная, почти детская улыбка. — Не больно! Чаровница!
Бойкого на язык моряка звали Владимиром Вернигорой. Старшина первой статьи, боец морской пехоты, он был тяжело ранен в кровопролитных сражениях на Приморском плацдарме. К нам был переведен из другого, пострадавшего от бомбежки госпиталя.
Вернигоре надо идти на соллюкс, а он упрямится.
— И слышать не хочет, — доложила мне Лобанова.
Пришлось пойти в палату.
— …но зато под Петергофом мы из них такой лучины нащипали, не забудут! — рассказывал Вернигора раненым. — Дали жару!..
— Товарищ Вернигора, на соллюкс!
— Сейчас, доктор! Сейчас! — засуетился краснофлотец, заметно волнуясь.
Это и понятно. Бинты и марля присыхали, а для физиотерапевтической процедуры их надо снимать, что причиняло раненым большую боль.
И каждый раз, когда для такой процедуры в палату за кем-нибудь приходила медицинская сестра, раненые сочувственно смотрели товарищу вслед, словно провожая его на подвиг.
Зная нервозность матроса, я пошел вместе с ним на процедуру.
— Здравствуйте, товарищ! — приветливо обратилась к Вернигоре начальник физиотерапевтического отделения врач Руновская.
— Добрый день, Анна Федоровна!
— Опять будете авралить?
— Да как не авралить? Боюсь! Честное слово! Ох как боюсь!..
— Постараемся, товарищ старшина, чтобы не было больно.
— Ложусь в дрейф! — Вернигора крепко обхватил кушетку руками. — А вдруг и на этот раз не выдержу и начну ругаться? — приподнял голову матрос.
— «Вдруг» исключается. Разве вы не давали мне слово? А?
— Был такой разговор. Ну хорошо, начинайте! Полный вперед! — скомандовал Вернигора.
А сам побледнел. На лице бисеринки пота… Глаза сузились и потемнели. Матрос страдал молча.
Здесь я позволю себе забежать вперед и сказать, что боли раненых при снятии повязок во время физиотерапевтических процедур волновали врачей. Как уменьшить число перевязок? Задумались над этим, и в конце концов решение было найдено: стали воздействовать процедурами не на рану, а на здоровый соседний участок. Повязка при таком способе не снималась, рана излишне не травмировалась. Кроме того, значительно сокращалось расходование перевязочного материала.
Проводив Вернигору в палату, я пошел в ординаторскую и там увидел незнакомого военного врача третьего ранга. В его стройной фигуре с широко развернутыми плечами угадывался хороший спортсмен.
Черные и очень густые брови, сдвинутые у переносицы, тонкие, сжатые губы придавали лицу врача спокойное и, пожалуй, суровое выражение.
— Муратов Петр Матвеевич. Назначен начальником вашего отделения, — сказала мне Горохова.
Познакомившись с врачами, Муратов сразу приступил к делу: вместе с нами начал обход палат всего отделения.
Вернулись мы в ординаторскую часа через два. Муратов был чем-то недоволен.
— Давайте условимся называть раненых по имени-отчеству или по фамилии, а не словами — «больной»: «больной», «больной» — такой унылый рефрен не способствует выздоровлению…
Потом он выбрал из папок ординаторов с десяток историй болезней и стал проверять их, делая какие-то пометки в блокноте.
— Надежда Никитична! — обратился Муратов к Наумченко. — Прошу вас, подойдите ко мне. Садитесь. Почитайте вслух вот эту запись в истории болезни, сделанную вами в приемном покое.
Наумченко начала читать, а когда закончила, Петр Матвеевич спросил:
— Знаете, сколько на это потребовалось времени?
— Нет.
— Вы затратили две минуты.
— Но я же обязана делать эти записи? — недоумевала Наумченко.
— Но вы очень многословны: где ранен, бытовые условия части, санитарное состояние района. В медицинской документации надо фиксировать только то, что касается правильной диагностики и лечения. Я бы записал значительно короче, секунд на тридцать.
— Секундная экономия, — не сдавалась Наумченко.
— А если вам придется работать в такой обстановке, где дорог каждый миг? Что тогда? Сколько раненых принял наш госпиталь в первый день?
— Двести.
— Вот и помножьте двести на тридцать секунд. Экономия — час сорок минут. Можно это время использовать на помощь другим раненым?
— Можно.
Муратов взял другую историю болезни.
— Вот и вы, товарищ Грачев…
«Дошла очередь и до меня», — подумал я. Но в это время в репродукторе раздался ровный, но обеспокоенный голос:
— Внимание! Внимание! Говорит штаб местной противовоздушной обороны города. Воздушная тревога! Воздушная тревога!
Сигнал немедленно продублировали по госпиталю. Истошно завыли местные сирены. Было семь часов тридцать минут вечера. Вот уже несколько дней подряд немцы в это время пунктуально принимались бомбить Ленинград.
— Опять! — схватилась за виски Кувшинова. — Боже мой!
— По местам! Раненых в бомбоубежище! — распорядился Муратов.
Схватив с вешалки противогаз, он выбежал из ординаторской.
На улице забухали зенитки. Донеслись глухие разрывы бомб.
— Первое носилочное звено! — кричал в коридоре политрук Скридулий. — Второе носилочное звено!..
Санитары, медицинские сестры и врачи несли тяжелораненых в бомбоубежище. Едва разместили людей по отсекам, как сильный удар потряс здание. Потух свет.
— Кажется, где-то около нас, — послышался женский голос.
— Да… метров сто, не больше, — прикидывал кто-то в темноте.
Чиркнули спичками. Заработали «жужжалками» — карманными фонариками.
В отсеке появился начальник бомбоубежища Тихомиров с «летучей мышью».
— Куда легла? — спросили одновременно несколько человек.
— Кажется, в мост Строителей…
После отбоя воздушной тревоги Муратов получил приказ: к утру перевести наше отделение из третьего этажа на второй, чтобы ускорить переноску тяжелораненых в бомбоубежище во время налетов.
Переезд закончился на рассвете. Стали располагаться в новой ординаторской из двух смежных комнат: в маленькой — Муратов и я, в большой — Горохова, Наумченко, Кувшинова и Звоницкая.
Пришли Ягунов и Долин.
— Еще одно такое переселение, и руки отвалятся, — заметила Наумченко.
— Ваше отделение, Петр Матвеевич, теперь будет называться восьмым, — сказал Ягунов, как бы не слыша реплики Наумченко. — Развертываем еще два отделения. Сегодня ожидается много раненых.
— А вы, Валентина Николаевна, — обратился Долин к хирургу Гороховой, — назначаетесь начальником седьмого медицинского отделения. Зайдите ко мне через полчаса.
В дверях Ягунов обернулся:
— Кто переутомился, пусть немедленно подаст рапорт. Направлю… на Южный берег Крыма!
И, бросив косой взгляд на Наумченко, вышел.
Солдат Павлов и тетя Даша
операционной негромкие возгласы:
— Кохер!
— Ножницы!
— Палочку с йодом!
— Салфетку!..
Все, что просит Муратов, ему быстро подает операционная сестра Ирина Тертышникова, студентка третьего курса медицинского института.
Петр Матвеевич оперирует спокойно. В войну с белофиннами он был начальником хирургического отделения военного госпиталя. Потом работал в клинике профессора Самарина, в больнице имени Ленина.
До поздней ночи наши ординаторы под руководством Муратова, у которого золотые руки, удаляют неглубоко засевшие осколки, накладывают гипс, делают сложные перевязки.
Какую радость испытала Наумченко, когда впервые самостоятельно удалила небольшой осколок из ступни раненого.
— Смогла!
Надежда Никитична Наумченко, которую раненые называют доктор «Вот и всё», — самый молодой врач в нашем отделении. Как только раненые начинают стонать или кричать, Надя неизменно говорит:
— Сейчас все пройдет! Вот и всё, детка!
Накануне войны Надежда Никитична закончила Педиатрический институт. Однако детей лечить Наде не пришлось: началась война, и она оказалась в военном госпитале.
В моем ведении две палаты. В одной из них вызывает тревогу Павлов, с которым я встретился еще в приемном покое.
— Малость ногу попортило, — сказал он тогда.
Эта «малость» оказалась осколочным ранением в левый коленный сустав.
Степан Иванович Павлов — старый кадровый рабочий и солдат. Он дрался с немецкими полчищами® первую империалистическую, сражался в гражданскую войну. Несмотря на свои пятьдесят пять лет, старый солдат Степан Иванович в третий раз встал на защиту Родины.
Старший по возрасту в палате, он пользовался любовью и уважением. Раненые ласково называли его Папаней.
Сердечное отношение к Папане началось с рассказа о том, что ему «очень повезло в добровольческом пункте», куда он явился на второй день войны.
Там Павлову отказали:
— Отец, в ваши годы в армию — нельзя!
— Кто же спорит! — согласился Павлов. — Но я не в армию прошусь, а в народное ополчение. Что же я — не народ, что ли?
Аргумент Павлова сработал.
Степан Иванович — человек редкого обаяния и простоты. Если в палате возникали споры и разногласия, Павлов всегда умел мягко и тактично все «поставить на свое место».
Состояние здоровья Степана Ивановича ухудшалось. В палате с нескрываемой тревогой наблюдали за ним. Он без стона и крика переносил трудные перевязки, а ночами молча лежал с открытыми глазами. На бледном, осунувшемся лице выделялась русая бородка, запорошенная сединой.
— Доктор, — шепнул мне Вернигора во время обхода, — товарищи просили узнать: будет жив Папаня иль как? Шаль его, хороший старик.
Дела Павлова были плохи, но от операции он отказывается: почему-то решил, что такой операции ему не выдержать. А левый коленный сустав опухал. В полости сустава гнойный выпот. Павлов часто терял сознание. В бреду звал жену, командира части, сына. Иногда кричал и ругался.
— Кричи, милый, кричи! — по-матерински жалела его санитарка Дарья Васильевна. — Так тебе легче будет. Я-то знаю…
Но легче не становилось. Павлов слабел на глазах.
— Плохи мои дела, — тихо говорил старик.
В перевязочной Павлова внимательно и бережно осмотрел Муратов.
— Болит нога?
— Грызет… Моченьки нету…
— Осколок надо удалить, — мягко сказал хирург. — Обязательно!
— Вам виднее, — тяжело выдохнул раненый. — Только боязно мне, Петр Матвеевич…
— Понимаю. Перед операцией так бывает с каждым. Но вы не бойтесь! Все будет хорошо.
— Спасибо, ангел ты мой!
Много ли надо больному человеку? Искорку надежды. И она зажглась от слов Муратова.
Степана Ивановича отвезли в палату.
— По-моему, Павлову надо ампутировать голень! — безапелляционно сказала Наумченко.
— Вы в этом уверены, Надежда Никитична?
— Убеждена! У Павлова ведь…
— Ваши суждении слишком поспешны! — прервал Муратов. — Хотелось бы вам посоветовать, даже если вы будете маститым хирургом, — не спешите с ампутацией. Не забывайте, что ампутацию следует производить, сто раз подумав, если ты абсолютно убежден, что иного выхода нет.
Петр Матвеевич вместе с нами еще раз смотрит рентгенограмму коленного сустава Павлова. На снимке видно — внутрисуставного перелома нет. В слизистой сумке сустава — осколок.
— Да-а, — после некоторого раздумья произносит Муратов, — коленный сустав — большая сумка со многими, так сказать, «комнатами»…
И тут же объясняет, что это за «комнаты» и в какой из них находится осколок.
— Надо сохранить ногу Степану Ивановичу, — говорит начальник отделения. — Подготовьте Павлова к операции, — обратился он ко мне. — Встанете на наркоз.
И к Кувшиновой:
— А вы, Евгения Павловна, будете помогать.
С Кувшиновой мы зашли к Павлову. Он был совсем плох. Посмотрел на нас проницательным взглядом.
— Помирать, значит? — с щемящей тоской спросил старик. — На Пискаревку?..
— Что вы, Степан Иванович! — склонилась над ним Кувшинова. — Поживем еще!
— Нет! Мне сказали…
— Кто?
— Даша…
— Нашли кому верить!
Много дел у санитарки. Переложить раненого. Накормить. Умыть, поправить подушку, одеяло. Это — ее обязанность. А ласковое слово, теплое человеческое участие — это от души. Это не каждый умеет.
Дарья Васильевна умела. Вечно чем-нибудь занятая, с ласковым торопливым говорком, она являла собой поистине образец трогательной заботливости и внимания к своим подопечным.
И раненые очень уважали Петрову — «тетю Дашу».
Но тетя Даша, «знаток всех болезней», страдала одним недостатком: она любила ставить свои «диагнозы», помимо врачей… «Ежели захрипел — значит, помрет. Стал есть — пойдет на поправку. Шумно дышит — быть беде. Посинел — в землю просится…» Кроме того, Дарья Васильевна стремилась быть в курсе всех событий, которые ее совсем не касались. Тетя Даша поставила «диагноз» и Павлову: антонов огонь… Помрет!
Неизвестно, каким образом ее «заключение» стало ведомо Степану Ивановичу.
Павлова на каталке доставили в операционную и положили на стол. Он с тревогой посмотрел на врачей и еще больше заволновался, когда его левую руку и правую ногу привязали к операционному столу манжеткой и широким брезентовым ремнем.
— Что же вы меня привязываете? — чуть дрогнувшим голосом спросил старик. — Я ведь не убегу!..
— Так надо, Степан Иванович, — ласково сказала Кувшинова. Она встала напротив Муратова, а он склонился над Павловым и вдруг озорно подмигнул: не волнуйся, мол, все будет хорошо!
Раненый испуган ярким светом, обстановкой операционной: хирургические инструменты, запах эфира, вода, люди в белых халатах и марлевых масках, делающих их похожими друг на друга.
Смотрю в лицо Степана Ивановича. Вздрагивает седоватая бородка, В широко раскрытых глазах — страх и надежда.
— В атаки ходил, а вот сейчас страшнее! — признался Степан Иванович.
— Не бойтесь, Павлов! — успокаивал его Муратов, обрабатывая йодом кожу коленного сустава. — Сколько вам лет?
— Пятьдесят пять…
— Вы в какой губернии родились?
— В Костромской…
— Да ну! Я ведь тоже костромич.
— Земляки, значит! Усыплять будете?
— Да. Так лучше. Вы где ранены?
— На Невской Дубровке…
Муратов знал и раньше о возрасте Павлова. Знал о том, где был ранен Степан Иванович. К тому же Муратов родом вовсе не костромич, а горьковчанин. Но он понимал состояние пожилого бойца. Вопросы хирурга сводились к одному: отвлечь раненого от его тревожных дум. Это была своего рода психоанестезия.
Я закрыл лицо Павлова маской, но он рванулся, стараясь сбросить ее, и закричал:
— Ногу отрезать не дам! «Какой губернии…» Знаю я эти губернии! Ты мне зубы не заговаривай — не обманешь! Лучше с ногой помру! Отцепляй от стола!
— Что вы, Степан Иванович, никто и не собирается отрезать. Мы только осколок вызволим. — Петр Матвеевич мягко ощупывал колено. Темно-коричневое от йода, оно стало похоже на большой каштан.
— Обманываешь?
— Честное слово!
— Ну, смотри! Я верю…
— Считайте, Степан Иванович! — сказал я, давая наркоз.
— Раз, два, три… Четыре, пять, шесть, — шептал Павлов. — Семь, восемь… Девять…
— Так! Считайте дальше! — подбодрял Муратов.
— Девять, десять!.. Один… Три… Восемь… Двенад… Четырнадцать. Тридцать. Двадцать два… Маня, холодно… закрой форточку! Ты не плачь… Андрей, обходят гады!..
Раненый сделал глубокий выдох, и сразу наступило расслабление всех мышц. Он дышал ровно, спокойно. Кувшинова приподняла руку Павлова. Она упала как плеть. Я сдвинул маску, посмотрел зрачки и кивнул Евгении Павловне.
— Павлов спит! — доложила Кувшинова.
Муратов пальцами в желтых прозрачных перчатках определил анатомические участки будущего разреза.
— Скальпель!
Петр Матвеевич работал спокойно, уверенно. Кратко и четко говорил, что делает. Он учил нас хирургии не только на теоретических занятиях и советами на консультациях. Он закреплял эти знания показом работы у операционного стола.
Время тянется очень медленно. Но вот в руках Муратова небольшой осколок. Еще немного — и операция — будет закопчена.
Однако лицо Павлова бледнеет. Пульс становится неправильным, слабого наполнения. Дыхание частое, поверхностное. Посинели крылья носа, побледнели губы. Зрачки расширены. Пульс уже нитевидный. Исчез!
— Петр Матвеевич! Пульс не прощупывается!
— Снять маску!
Смерть? Нет еще. Коллапс — внезапно возникшая острая сердечно-сосудистая недостаточность. Один шаг до страшной черты.
— Камфору под кожу!
Проходит тридцать секунд, бесконечных секунд. И каждая может стать последней. У нас появилась тревога: возраст — пятьдесят пять лет — союзник плохой!
Сердце! Бейся! Ну! Скорее!
— Пульс?
— Не прощупывается!
— Кофеин внутривенно!
Проходит томительная операционная минута. Что для хирурга минута? Она может решить все!
— Пульс? — снова приглушенно, негромко спросил Муратов.
— Нет…
— Эфедрин под кожу!
Еще тридцать секунд грозного состояния! И вот он — первый вдох! Второй! Третий! Бледное, обескровленное лицо порозовело. Пульс еще слабый, потом лучше, лучше. Сердце бьется равномерно, без перебоев.
Грань между жизнью и смертью миновала! Операция прошла успешно.
Муратов глубоко вздохнул. На лбу — крупные капли пота.
— Ногу мы спасем! — сказал он, снимая перчатки.
Павлову на ногу наложили гипсовую повязку.
Осторожно перекладываем его на каталку и везем в палату вместе с Дарьей Васильевной.
— Ну как, тетя Даша? — спрашивает Вернигора.
— Все обошлось! — сказала санитарка. Сказала так, словно она сама делала эту операцию. — Разве я не говорила?
— Вона как! Что ты предсказывала, мы знаем! — добродушно засмеялся краснофлотец.
— Обидел тебя бог духом кротости! — не осталась в долгу Дарья Васильевна.
Павлова положили на койку. Вскоре он открыл глаза. Дрогнули ноздри. Затрепетали веки. Он как-то еще неуверенно огляделся по сторонам, словно внимательно рассматривая что-то для себя значительное, чего раньше не замечал.
Густые брови вразлет легонько шевельнулись. Потом он бережно провел пальцами по загипсованной ноге. И, не веря, — еще раз. Он ощупывал ногу, как слепой. Цела!
— Не обманули!
— Как самочувствие, Степан Иванович?
Старик поправил одеяло. В уголках губ чуть заметная улыбка.
— Повоюем еще, товарищ доктор!
— Папаня, а ведь с тебя приходится! — радостно воскликнул Вернигора.
— Обязательно!
Вечером в ординаторскую явилась Дарья Васильевна Петрова:
— Папаня осколочек посмотреть хочет.
— Какой папаня? — строго спросил Муратов.
— Известное дело какой — Павлов. Из третьей палаты…
— Запомните, Дарья Васильевна: у нас нет папаней. У раненых есть фамилии. Ясно?
— Понимаю.
— Осколок возьмите, пусть посмотрит. А теперь, кто вам сказал, что Павлов умрет?
— Кто? Дык у Пап… у него — антонов огонь. Такие завсегда умирают. Я уж знаю! — авторитетно заявила тетя Даша.
— Я вам в следующий раз такой антонов огонь пропишу за вашу болтовню, небу будет жарко! Сами ухаживайте за Павловым. С вас спрошу, если ему станет хуже!
— Не сомневайтесь, Петр Матвеевич, все сделаю! — уверяла растерявшаяся санитарка.
А хирург и не сомневался. Муратов уверен: за каждым движением Павлова будет наблюдать тетя Даша.
Минут через двадцать Петрова остановила меня в коридоре:
— Зовут вас в третью палату. Пить чай… Очень приглашают…
Дарья Васильевна торжественно внесла в палату кипящий самовар. На конфорке красовался заварной цветастый чайник. Это был тот самовар, что принесла старушка до открытия госпиталя. Дотошная тетя Даша нашла его на складе.
Самовар действительно ворковал, как голубь. Вся светясь добротой хозяйки, Дарья Васильевна разливала чай в кружки и разносила раненым.
Вернигора играл в шашки с Махиней. Матрос то и дело подсмеивался над пулеметчиком. Они громко спорили.
— Доктор, вы играете в шашки? — спросил меня Махиня.
— Имею некоторое представление…
— Скажите, пожалуйста, за «фук» берут шашку?
— По-моему, нет.
— Что я тебе говорил! — обрадовался Махиня.
— Ладно, будем без «фука».
Вскоре он проиграл партию.
Удрученный проигрышем, Махиня попросил гитару. Взял несколько аккордов. Потом возникла знакомая мелодия «Рэвэ та стогнэ Днипр широкый». И непонятно было: то ли гитара рассказывает пулеметчику что-то очень близкое и дорогое, то ли сам Григорий делится с ней своими задушевными мыслями.
На столе воркует самовар. Мы пьем чай, ведем разговор о боях, о событиях на фронтах, о будничных происшествиях в госпитале. О житье-бытье, о том о сем…
Сахар на столе. Но раненые пьют чай вприглядку. По предложению Павлова сахар берегут для ребят подшефной школы. Завтра они посетят госпиталь. Будут и у нас на отделении.
Степан Иванович заканчивает свой рассказ, как он был ранен на Невской Дубровке, при форсировании Невы.
— Боялся небось? — допытывается Дарья Васильевна. — Страшно ведь!
— Испугался я в медсанбате. Хватился — очки в бою потерял!
Павлов вприщур добродушно смотрит на тетю Дашу.
— Ты что же, за дурочку меня считаешь? — обиделась санитарка. — Смерть кругом, а он про очки! Ишь ты, пересмешник!
— И все-то тебе надо знать! Конечно, страшно… Но бояться, Даша, некогда было!
— Федор Федорович, — отложив гитару, обратился ко мне Махиня, — обыграйте его, — показал он на Вернигору. — Я вас очень прошу! Сладу с ним никакого нету! А?..
— В самом деле, товарищ военврач, давайте сыграем? Одну партию! — лукаво предлагает матрос.
Что делать? Уважить просьбу Махини? А вдруг проиграю? Верно, еще будучи слушателем Военно-медицинской академии, я неплохо играл в шашки. Но с тех пор прошло четырнадцать лет. Вот уж действительно — «давненько я не брал в руки шашек». Рискнул сыграть.
Нас окружили легкораненые.
В игре краснофлотца сказывался его характер — ершистый, напористый.
Но партию, сам не знаю почему, я все-таки выиграл, даже запер шашку соперника.
— Дюже гарно! — радовался Махиня.
— И с «уборной»! — смеялся Павлов.
— Няню звать не надо! — поддакнул танкист Данилов.
— Чья бы корова мычала, а твоя молчала! — буркнул Вернигора. — Курица!
Курицей называли Василия Данилова вот почему. Он по профессии шофер. Как-то в один из вечеров Данилов рассказал, что однажды он вел машину на очень большой скорости. И вдруг на дороге появилась курица. Машина проскочила над ней, и она осталась стоять на асфальте, «каб что», но без перьев!
Надо сказать, что у рыжеватого, сероглазого танкиста Данилова было прекрасное качество — ободрять товарищей своими рассказами-побасенками. «Травить», по морской терминологии. Делал он это с блеском. Обладая неистощимой фантазией, он увлекался до того, что и сам глубоко верил в подлинность своих. «случаев».
В палате были и охотники, и рыболовы, и моряки. Каждый старался внести свою лепту в вечерние «тары-бары». И здесь Данилов был вне конкуренции. О таких в жизни обычно говорят — веселый парень. Но танкист — не просто веселый человек. Его шутки, юмор и побасенки имели другую цель: он старался ими облегчить страдания раненых, хорошо понимая роль «смехотерапии».
…Дарья Васильевна убрала со стола самовар, посуду. С ее легкой руки чаепития потом появились и в других палатах нашего отделения. Они прочно вошли в быт, напоминая домашнюю обстановку. За самоваром все чувствовали себя словно в одной семье. Мы работали и жили в госпитале, как на корабле в продолжительном походе: все вместе, у всех на виду.
Кровь!
тро 22 сентября. Раненые прибывают и прибывают. По всему фронту враг яростно атакует наши позиции.
Санитарные машины доставляют бойцов 4-й морской бригады, раненых солдат и офицеров 115-й стрелковой дивизии. Они сражались в районе Невской Дубровки.
Я работаю с хирургом Коптевым в сортировочно-перевязочном отделении. Нам помогает Евгения Михайловна Виленкина. В помещении тошнотворный запах эфира, хлороформа, крови и гноя… Извлекаем пули и осколки. Оперируем. Час за часом. Кружится голова. Слабеют ноги. Надо бы отдохнуть. Нет, нельзя. Нет времени для передышки. Раненых несут и несут. Беспрерывный поток искалеченных.
На стол положили лейтенанта Николая Прошина. Ожог лица и осколочное ранение правой голени. Он очень бледен. Холодные руки. Пульс едва прощупывается, частый, слабый, нитевидный. Дыхание учащенное. Лейтенант в сознании, но молчит, на вопросы не отвечает, безучастно относится к окружающему.
Травматический шок! Необходимо как можно скорее вывести раненого из этого состояния. Пока это не сделано, хирургическое вмешательство невозможно.
Раненого быстро обложили грелками.
— Шприц и морфин! — потребовал Коптев.
Но тепло и морфин не помогли. Подкожно — кофеин.
— Евгения Михайловна, будьте так добры — кровь! — мягко сказал Коптев.
Неуместное в такой обстановке «будьте так добры», да еще в устах опытного хирурга, поразило меня. Обычно Иван Сергеевич коротко требует: «Кровь!»
Взглянув на Виленкину, я был удивлен: отсутствующий взгляд, замедленные движения, опущенные, безжизненные руки — все это не похоже на энергичную, подвижную Евгению Михайловну.
С тем же отсутствующим взглядом Виленкина начала переливание крови. Коптев пристально следил за каждым ее движением.
Я бросил взгляд на флакон, из которого она брала кровь. На нем было написано: «Флакон № 89/566. Донор Е. М. Виленкина».
— Пи-ить! — наконец прошептал раненый, еле шевеля губами.
Глубоко вздохнув, Прошин два раза глотнул теплого, крепкого чая из поильничка и спросил:
— Сейчас день или вечер? — Руками он сделал такое движение, словно ощупывал воздух.
— Семь часов вечера, — ответил Коптев.
— Доктор, у меня очень ослабло зрение, — уже более явственно произнес лейтенант. — Скажите правду, я буду… видеть?
— Не сомневаюсь в этом. Но пока прошу вас лежать спокойно.
Раненому удалили из голени небольшой осколок снаряда. Потом наложили на лицо новую повязку со слабым раствором марганцовокислого калия и отнесли в наше восьмое отделение.
Прием раненых закончен. Иван Сергеевич моет руки и время от времени участливо поглядывает на сестру Виленкину. Она убирает хирургический инструмент.
Вдруг худенькие плечи ее вздрогнули, она всхлипнула и поспешно вышла.
— Что с ней? — спросил я Коптева.
Иван Сергеевич глубоко вздохнул:
— Утром она получила известие — под Пулковом от ран погиб ее муж. Он умер от потери крови. Я хотел освободить Виленкину от дежурства, но она так возражала, что пришлось уступить.
Вскоре в нашу ординаторскую вошел Луканин:
— К вам поступил раненый Прошин?
— Да, Федор Георгиевич. Он в четвертой палате. Ожоги лица, осколочное ранение правой голени.
Комиссар протянул Муратову небольшую, вчетверо сложенную бумажку.
— Прочтите. Принесли из приемного покоя. Лежала в кармане гимнастерки Прошина.
Петр Матвеевич пробежал глазами записку и спросил:
— Кто этот капитан Самойлов?
— Не знаю. Надо полагать — Командир батальона. Как вы считаете, можно надеяться?
— Относительно ноги Прошина я не беспокоюсь, — ответил Муратов. — А что касается зрения, то с окулистом надо посоветоваться. Подождем с ответом…
— Хорошо. Приложите записку к истории болезни.
В записке было сказано:
«Начальнику госпиталя.
Просим спасти лейтенанта Николая Прошина. Он гордость нашей части.
Капитан Самойлов».— И надо обязательно…
Комиссара прервали сирены госпиталя. Воздушная тревога! В который раз!
После отбоя воздушной тревоги опять прибыли раненые.
В приемный покой доставлены две женщины: Пелагея Петровна Григорьева и Устинья Сергеевна Игнатьева. Они швеи артели «Ленмехпром», в Гостином дворе, в который попало несколько бомб. В развалинах много пострадавших…
Григорьеву и Игнатьеву поместили в соседний госпиталь. Там были женские палаты.
Ленинградский «Донбасс»
вадцать восьмого сентября Луканин проводил партийное собрание. Кабинет комиссара находился рядом с кабинетом Ягунова. Это = небольшая комната с одним окном. Обстановка в ней напоминала каюту корабля — ничего лишнего. На письменном столе строгий деловой порядок. Порядок человека, знающего цену времени. Чернильный прибор, аккуратно отточенные карандаши. Календарь. Стопка газет и журналов. Тетради, блокноты. На стене — карта Ленинградской области, на карте флажками обозначено расположение наших войск и войск противника. Достаточно беглого взгляда, чтобы сделать вывод о тяжелом положении Ленинграда.
Во время доклада Луканина о военной обстановке я обратил внимание на отсутствие начальника госпиталя. Оказалось, что Ягунов беспартийный.
Свой доклад комиссар Луканин закончил совсем неожиданно:
— Из всех многочисленных забот, товарищи, самая главная сейчас — раздобыть для нашей котельной уголь. Запаса хватит от силы на три-четыре дня. Но где достать топливо? Какие будут соображения на этот счет?
Наступила пауза. Все невольно смотрели на Зыкова: что скажет начальник материального обеспечения? Он ведь главный добытчик.
Иван Алексеевич сказал, что когда-то он работал на железной дороге и знает места, где скопились залежи угольной пыли. На Финляндской-Товарной, в Новой Деревне и на Навалочной можно накопать немало угля.
— Копать лопатами? — Галкин с сомнением покачал головой.
— А разрешат? — спросил Луканин.
— Думаю, что договорюсь, — ответил Зыков. — Но кто будет копать? Из отделений народ брать нельзя. Наступают холода, и нужно промазать триста пятьдесят три оконные рамы, утеплить двери. Люди к тому же измотаны приемом раненых, переноской их во время воздушных тревог. Трудно, Федор Георгиевич!
— Кто будет копать уголь? — переспросил Луканин. И сразу же ответил: — Коммунисты! Нас двадцать девять человек плюс комсомольцы. Составим бригады. И давайте без жалостных слов. А что касается измотанности, то, я думаю, на время войны нам это слово лучше всего забыть!
Единогласно принято решение — копаем уголь.
На другой день после обхода палат и перевязок раненых я спустился в склад вещевого снабжения. Надел кирзовые сапоги, ватные штаны и куртку. В нашей бригаде «угольщиков» был секретарь партийной организации Галкин, Сулимо-Самуйло, политрук второго медицинского отделения Богданов и я.
— Ну, шахтеры, садитесь! — скомандовал бригадир Галкин. — Едем в ленинградский «Донбасс» рубать уголек.
Машина быстро дошла до Финляндской-Товарной, и мы взялись за дело. По обычным людским понятиям работа была просто непосильной. Угольная пыль, скапливаясь годами, плотно слежалась. Чтобы вонзить лопату в этот пласт, требовались немалая сила и сноровка. Когда не брала лопата, приходилось действовать ломами. При рубке пласта поднималась угольная пыль, напоминая черную поземку, а когда лопатами бросали в машину — метелицу. Черная пыль, подобно пудре, оседала на потные лица.
Ведущим в бригаде по производительности труда был политрук Богданов.
Иван Семенович Богданов — доброволец. До войны работал мастером корпусно-сборочного цеха на Балтийском заводе.
— А ну-ка, братцы, нажмем еще разок! — то и дело покрикивал Иван Семенович, ловко орудуя ломом и лопатой.
И мы «нажимали». Но уже через два часа начали выдыхаться. Даже коренастому крепышу Богданову и тому стало невмоготу.
И все же в этот день наша бригада успела сделать два рейса. Третий не удался: помешал интенсивный обстрел Финляндской-Товарной.
Добычей угля занималось сорок человек, разбитых на десять бригад. Каждая совершила пять рейсов. Накопали и доставили в госпиталь более ста тонн угля.
Когда подводили итоги «шахтерской» работы, в комнату комиссара вошли декан исторического факультета профессор Владимир Васильевич Мавродин и доцент кафедры основ марксизма-ленинизма Вера Ивановна Евчук.
— Партком университета постановил взять шефство над вашим госпиталем, — начал Мавродин. — Избрана шефская комиссия в составе девяти человек. Председатель — товарищ Виленкина. Вот список. А это — план лекций и докладов на октябрь. Ориентировочный, конечно. Вносите свои предложения, поправки и пожелания. Вам виднее, что наиболее важно.
Профессор подал план Луканину.
— Сколько в госпитале раненых, не имеющих в городе родственников и знакомых? — спросила Евчук.
— Уточним к завтрашнему дню, — пообещал Луканин.
— Пожалуйста! Наши товарищи их будут навещать.
— Это добрая инициатива, — сказал комиссар. — Спасибо вам!
После разговора с шефами коммунисты госпиталя отправились во двор заканчивать сооружение четырех подставных лестниц, чтобы в случае необходимости спасать раненых через окна.
Это далеко не излишняя предосторожность. У летчиков сбитых фашистских самолетов находили карты Ленинграда, на которых крестиками воздушные пираты обозначали объекты своих нападений. В числе объектов были и госпитали. 19 сентября в большой госпиталь на Суворовском проспекте попало несколько фугасных бомб. От взрыва обрушились перекрытия этажей. Возник пожар. Под завалами перекрытий и в огне погибло много раненых. Об этой ужасной трагедии официальных сообщений не было, но мы-то знали о ней…
Будни госпиталя
то второй день войны, двадцать шестой — блокады.
Госпиталь в осажденном городе.
Многие раненые по состоянию своего здоровья больше не нуждались в специальном уходе, были транспортабельны. Их надо эвакуировать за пределы фронта, в глубокий тыл, для дальнейшего длительного лечения.
Но такая возможность исключалась. В конце августа из Ленинграда ушел последний санитарный поезд, после чего никакой эвакуации не было.
В этой очень сложной обстановке Военно-санитарное управление фронта изыскивало пути эвакуации раненых в тыл страны хотя бы в самых небольших размерах.
Вывоз раненых начался только с 19 сентября при обратных рейсах самолетов, доставлявших в блокированный город продовольствие. С первых дней октября прибавилась эвакуация на пароходах через Ладожское озеро. И пока что каждый госпиталь ждал своей очереди, до нас она еще не дошла. Наши раненые залеживались. Госпиталь «отяжелел», а койки очень нужны.
Кроме лечения работы было много. Запаслись углем, теперь стали возить дрова — ломали в Новой Деревне опустевшие дома. Конечно, когда разрушали их, щемило сердце. Ведь для кого-то это был родной очаг.
В середине октября госпиталь был укомплектован медицинским и обслуживающим персоналом. Работали полностью все десять медицинских отделений, физиотерапия, рентген, клиническая лаборатория, аптека, зубоврачебный кабинет. И все подсобные службы.
Начальники медицинских отделений — опытные хирурги: Шафер, Коптев, Муратов, Горохова, Чинчарадзе, Ровинская.
Госпиталь обеспечен квалифицированной консультативной помощью. Кафедра факультетской хирургии Военно-морской медицинской академии почти в полном составе, во главе с профессором Э. В. Бушем, работает в операционных и перевязочных, участвует в научно-практических конференциях госпиталя, в руководстве курсами переквалификации врачей других специальностей в хирургов.
В третьей палате, ординатором которой был я, находились и моряки. Радист 1-й морской бригады Егор Ильич Пелюбин, командир отделения 2-го особого батальона 5-й морской бригады Михаил Матвеевич Сигаев. Краснофлотец с госпитального судна «Андрей Жданов» Иван Тимофеевич Щербаков и мой старый знакомец, с которым плавал на пароходе «Луга», кочегар Борис Иванович Киселев.
После избрания старостой палаты Вернигора — сын портового рабочего — стал именовать ее «морской» и сухопутные термины не употреблял. Лестницу называл трапом, пол — палубой, окно — иллюминатором, табуретку — банкой, палату — кубриком. В этом сказывался Вернигора, считавший службу на флоте превыше всего.
Однажды, когда я намеревался начать обход раненых, меня в коридоре остановила санитарка Петрова.
— Доктор, в третьей палате несчастье!
— Что случилось?
— Вот как перед богом! Не скажу! Ни-ни!..
После нагоняя от Муратова за свой прогноз состояния здоровья Павлова — «такие завсегда умирают» — Дарья Васильевна стала менее словоохотливой.
Вместе со мной в палату вошла медицинская сестра Клавдия Лобанова. На этот раз Вернигора не доложил, что «в нашем кубрике полный порядок». Староста молча и угрюмо лежал на койке.
— Доброе утро, товарищи!
— Здравствуйте, доктор!..
И больше ни слова. Ни обычных реплик, ни вопросов. В палате царила настороженная тишина.
Что бы это значило? Тем более что только вчера здесь царило оживление. За мужество и отвагу в боях были награждены орденами и медалями несколько раненых.
Вернигора украдкой показал мне на раненого красноармейца Пряхина.
Я подошел к Пряхину:
— Как ваше самочувствие?
Пряхин медлил с ответом. Что здесь произошло? Я видел, что Пряхину не по себе. Склоненная голова и скорбный, как бы ушедший в себя взгляд, отрешенный от всего окружающего. В палате знали, что семья Пряхина находится на оккупированной территории в Волосовском районе, что о судьбе жены и сына солдат ничего не знает. Каждый день он встречал надеждой — придет весточка.
— Поправляюсь, — глухо отозвался наконец Пряхин.
— Поправляешься, а настроение плохое? Почему?
Раненый покусывал губы. Глаза потускнели, будто выцвели. Он опять замолчал. Пальцы теребили края одеяла.
— Письмо получил, — тихо сказал он. — Из батальона. Учительница нашего колхоза туда написала. Немцы расстреляли жену и сына. Вы это понимаете? — задохнулся криком раненый.
— Понимаю, — растерянно сказал я, не находя слов для утешения.
— Ничего вы не понимаете!
— Клавдия Ивановна, принесите бром, — попросил я Лобанову.
— Да будьте вы человеком! — вскочил с койки Пряхин. — Не надо мне вашего брома… Пейте сами! А меня выпишите в батальон. Немедленно! Я здоров… Что вы меня здесь держите? Хотите, я левой рукой переверну койку? Хотите?
— Состояние вашего здоровья требует…
— Невмочь ему, товарищ военврач! — сказал молчавший до сих пор Вернигора.
— Сердце зашлось! Выпишите меня! — кричал Пряхин.
— Не волнуйтесь, доложу начальнику отделения, — согласился я, чтобы успокоить раненого…
К концу обхода отворилась дверь. На пороге женщина в белом халате.
— Рады вашему приходу, Ольга Николаевна! — встрепенулся Вернигора.
— Ваш заказ я выполнила. — Женщина положила на стол книги.
— Спасибо, Ольга Николаевна! Почитайте нам что-нибудь, — просит Вернигора.
— Почитайте, почитайте! — поддержали разом несколько человек.
Мне понятен замысел палаты: отвести Пряхина от тяжких дум.
— Хорошо, — согласилась Ольга Николаевна. — После обхода почитаю.
Ольга Николаевна Радкевич — профессор-биолог. По инициативе библиотеки университета в госпитале организован передвижной книжный фонд. В те дни палаты нашего госпиталя навещало сорок чтецов художественной литературы: студенты, преподаватели университета, работники библиотеки.
Однако вернемся к расскажу о Константине Пряхине.
Закончив обход, я доложил Муратову о просьбе раненого.
— Мне понятно состояние Пряхина, но вы не сумели убедить его, что этого делать нельзя, — сказал ровным глухим голосом Петр Матвеевич. — И неправильно поступили, обещав мне доложить. Напрасно обнадежили человека. А что касается чуткости, то, подлинная, она диктуется только заботой о здоровье раненого. Придется исправить вашу ошибку. Поговорю с Пряхиным…
Муратов в преждевременной выписке из госпиталя Пряхину отказал в моем присутствии.
А поздно вечером после отбоя воздушной тревоги Пряхин исчез. Поднялся переполох. Такое чрезвычайное происшествие грозило большой неприятностью не только нашему отделению, но и всему госпиталю. Муратов и я немедленно доложили о «чепе» Ягунову и Луканину.
— Как это могло случиться? — схватился за голову Ягунов. — Позор! Да еще у вас, товарищ Муратов, лучшего начальника отделения!
— Ума не приложу! — развел руками Петр Матвеевич.
Ягунов нажал кнопку звонка.
Появился дежурный по госпиталю.
— Чернышева ко мне!
— Он в приемной.
— Позвать!
— Слушаюсь!
В кабинет вошел комендант госпиталя Чернышев.
— По вашему приказанию явился! — отрапортовал он. — Разрешите доложить, что…
— Не разрешаю! — побагровел Ягунов. — Исчез раненый! Вы кого охраняете? Военный госпиталь или дом отдыха?
— Раненый не исчез, — спокойно возразил Чернышев. — Об этом я и хотел доложить. Он задержан в бомбоубежище, когда одевался.
— Где он?
— В приемной.
— Доставить сюда!
Вошел Пряхин. Не в госпитальном халате, а в обмундировании.
Ягунов встал.
— Садитесь! — предложил он Пряхину.
— Я не могу сидеть, когда стоит старший по званию, — ответил Пряхин.
— Садитесь! Вы раненый! — настаивал Ягунов.
— Был ранен. А теперь здоров!
— Объясните нам, чем вызван ваш поступок?
— Я об этом уже говорил начальнику отделения товарищу Муратову и ординатору Грачеву. Не могу я больше валяться в госпитале…
— Прошу сказать, где вы достали обмундирование?
— Об этом знаю только я!
— То есть как это — только я? — осторожно и мягко спросил Ягунов.
— Людей, меня понявших, я подводить не должен…
— Вы что же, хотите, чтобы ваше дело приняло более неприятный оборот?
— Нет, товарищ начальник госпиталя. Я хочу одного — на фронт. И больше ничего добавить не могу. Разрешите идти?
— Пожалуйста.
— Вот это разговор! — сказал Ягунов, когда Пряхин покинул кабинет. — Человек с большой буквы! Что предпримем, Федор Георгиевич?
— А ничего! — ответил комиссар. — В его поступке нет тени. Один свет!
— Каков боец! Орел! — воскликнул Ягунов. — Товарищ Муратов, приложите все усилия для скорейшего выздоровления раненого.
Поднимаясь по лестнице в ординаторскую, я сказал Муратову:
— Пронесло, Петр Матвеевич. Думал, что нам здорово влетит!
— Я был далек от такой мысли.
— Почему?
— Они отлично поняли Пряхина.
В ординаторской на столе нас ждала записка Константина Пряхина. Он просил прощения за то, что своим поступком причинил Муратову столько неприятностей.
«За себя я не боюсь, — писал красноармеец. — И сдается мне, вам не будет взыскания, потому что начальник нашего госпиталя толковый…»
Я зашел в палату. Пряхин спал.
Возвращаясь в ординаторскую, я встретил в коридоре Ирину Митрофановну Покровскую — научного сотрудника географического факультета, одну из наших «родственниц». Студенты и преподаватели университета приходили навещать раненых, у которых не было в городе ни родных, ни знакомых. С легкой руки секретаря комсомольской организации госпиталя Харитонова наших шефов стали называть «родственниками».
— Так поздно, а вы еще в госпитале? — спрашиваю Покровскую.
— Что поделаешь, раньше не могла выбраться, — ответила она. — Панкратова навестила. Каков прогноз врачей относительно его руки? Ведь он скрипач.
— Знаем. Муратов уверяет — самое опасное уже позади. У нас с Панкратовым взаимная договоренность: вылечим ему руку, и он перед выпиской из госпиталя даст концерт в нашем клубе.
В палатах мы часто видели и декана исторического факультета Владимира Васильевича Мавродина, читавшего лекции раненым, студентку комсомолку Лиду Володину, ассистента Григория Лептова, молодого геолога Тину Балашову, члена шефской комиссии Евдокию Марковну Косачевскую. Евдокия Марковна к тому же была донором. Ее иногда вызывали в госпиталь и ночью, когда это требовалось.
Восемь человек из университета успешно руководили лечебной физкультурой. Кто-то из них проявил очень хорошую инициативу, решив использовать для лечебной физкультуры лестницы госпиталя. По ступенькам вниз и вверх медленно брели раненые — они учились ходить после снятия гипса.
Вот по лестнице, придерживаясь за перила, медленно спускается высокий и широкоплечий раненый в коротком, до колен, халате. Он очень осторожно ступает по лестнице.
— А вы смелее, Олег Николаевич! Не волнуйтесь! — подбадривает его геолог Мария Хошева. — Не сгибайте спину! Выше голову! Надо идти вот так… — И сама показывает. — Дальше, дальше! Превосходно!
Хошева говорит это с таким оттенком радостного удовлетворения, с каким мать учит свое дитя ступать по полу ножками.
— Мария Федоровна, мне это очень трудно! — с боязливым беспокойством отвечает раненый. — Ей-богу! Ноги трясутся, коленки подгибаются…
— Уверяю вас, одолеете! А теперь обратно поднимайтесь!
Лечебная физкультура сочеталась с различными формами массажа. Он занимал достойное место в комплексе лечения раненых, ускоряя восстановление подвижности мышц и суставов.
Бывает в жизни, незнакомый человек в трудную для вас минуту проявит к вам такое отношение, что еще раз вспомнишь славную русскую пословицу: «Мир не без добрых людей».
Аспирант географического факультета Розалия Львовна Золотницкая, как никто, умела находить необходимые задушевные слова в беседах с ранеными. Помню случай с лейтенантом Николаем Беловым. В госпитале ему ампутировали голени. Лейтенанту двадцать два года. Возраст кипучей молодости, неиссякаемой энергии. Еще полгода назад он был веселым, беззаботным студентом. Сегодня Белова захлестывает крайняя степень отчаяния. Кто решится заговорить с ним о будущем, зажечь в нем хоть искорку надежды? С юношей, который готов в любой момент покончить с собой?
Но Золотницкая решилась.
— Что я буду делать, Розалия Львовна?! — с горечью восклицает офицер. — Без ног! На роликовой тележке? Вот так… Руками, что ли, отталкиваться? Нет! Лучше петля.
— Это малодушие! Не уступайте ему! Не уступайте! — взволнованно убеждает раненого Золотницкая. — Ни на йоту! Вы слышите? Ни на йоту! Я слепая! Это очень страшно! Не видеть красоты на земле! Но я живу и работаю, Николай Васильевич!
Разговор трудный. Лейтенант подтянул одеяло к подбородку. Шапка взъерошенных, спутанных волос. Бледное лицо исстрадавшегося человека. Глаза ввалились от бессонных ночей. Золотницкая не может прочесть в этом взгляде безысходное горе, но она слышит его в голосе юноши:
— Ну как мне без ног? Кому я нужен? Кто мне поможет?
— Люди вам помогут! — не отступает женщина. — Так же, как помогли мне. Люди!
В голосе Золотницкой непреклонные интонации. Офицер молчит. В раздумье всматривается в лицо Розалии Львовны. А она задушевно и мягко рассказывает ему про свою жизнь, про выпавшее на ее долю страшное испытание. И постепенно разглаживаются мучительные морщины на лбу лейтенанта.
День за днем приходит к нему Розалия Львовна. И при каждом ее появлении Белов, словно ребенок, сам того не замечая, протягивает к ней руки. Розалия Львовна помогла ему победить не только свое увечье, но и самого себя. Поверить в свои силы. А это тоже подвиг. И не менее трудный, чем тот, когда лейтенант поднял людей в атаку под ураганным огнем врага.
В начале октября в госпиталь пришли студенты, преподаватели, научные сотрудники университета. Они принесли несколько вечнозеленых растений: пальмы, кактусы, папоротники из оранжереи ботанического сада университета.
Наши шефы хотели украсить госпиталь этими растениями и в то же время спасти их от морозов. Взрывом бомбы в оранжерее выбило все стекла.
— Присматривайте за пальмами! — просил директор ботанического сада университета Григорий Григорьевич Коломыцев. — Мы в них вложили немало труда. Жалко! Как детей…
— А это подарок для раненых! — Софья Александровна Гуцевич подала Ягунову корзиночку.
Там были шампиньоны. Софья Александровна успешно занималась их разведением в лаборатории кафедры морфологии и систематики растений.
Пальмы и кактусы поместили в шестое медицинское отделение.
Кроме растений шефы принесли шесть патефонов, узкопленочный киноаппарат и несколько фильмов.
Шло время. В госпитале блокированного города стал ощущаться недостаток медикаментов.
На врачебной конференции вспомнили о целебных средствах народной медицины, известных еще в древности. Достали литературу, где говорится, что применение сока дикорастущего растения алоэ благоприятно действует на процесс заживления, например, язв туберкулезного характера.
В ботаническом саду университета удалось раздобыть зеленые мясистые листья алоэ. После промывания их водой, высушивания стерильными салфетками и протирания спиртом снималась кожица листьев. Студенистая мякоть разрезалась на мелкие кусочки, и отжимался густой сок растения.
Двукратное наложение повязки, смоченной соком алоэ, уже давало хороший результат: рана почти очищалась. При следующих перевязках поверхность раны становилась меньше. Но запасы алоэ быстро исчезли. Тогда выручила хвоя. Свежие иглы после предварительной обработки растирались в стерильных ступках. Кашицеобразная масса накладывалась непосредственно на рану с марлевой прокладкой. Раны хорошо заживали.
Каждый новый день блокады таил в себе новые трудности. В один из таких дней мы поняли, что к нам подкралась новая беда: иссякает запас перевязочного материала, которого много расходовалось на гипсовые повязки. Тысячи метров бинтов и марли, пропитанных гипсом, выбрасывались на свалку. Кто-то предложил восстанавливать эти бинты и марлю. Но как? Стали советоваться с химиками университета. Они обещали подумать. Подумать, когда время не терпит! И, как это часто бывает, решение пришло оттуда, откуда его не ожидали.
На врачебной научно-практической конференции госпиталя с ошеломляющим предложением выступили начальник второго отделения Маргарита Захаровна Чинчарадзе и начальник седьмого отделения Валентина Николаевна Горохова. Они, кажется, нашли способ восстановления бинтов и марли после гипсования. Надо только еще раз все тщательно проверить.
Их предложение нашло сторонников, но еще больше скептиков: бинты после гипса? Где это видано? Ни в учебнике, ни в практическом руководстве этого не найдешь! Просто курам на смех!
Но Чинчарадзе и Горохову решительно поддержал Ягунов:
— Такая инициатива заслуживает одобрения. Мы должны повседневно решать вопросы не только лечебного, но и организационного характера. Что это означает? Активно докапываться, изыскивать наиболее доступные методы и способы для скорейшего восстановления здоровья раненых. Это сегодня — главное!
Чинчарадзе и Горохова настойчиво бились над своей идеей и вскоре на очередной врачебной конференции доложили об успехе своих поисков.
Предложенный ими способ заключался в следующем. Прогипсованный перевязочный материал на сутки замачивался в пятипроцентном солевом растворе. Подвергнутый такой обработке размоченный гипс отделялся. Освобожденные от гипса бинты и марля очень легко расслаивались. Их стирали, а потом стерилизовали.
Бросовые, казалось никуда не годные, бинты и марля вновь пошли в дело. Они мало чем отличались от новых.
Такой способ, простой, быстрый и дешевый, дал возможность экономить перевязочный материал не только нашему госпиталю. Фронтовой эвакопункт издал специальную инструкцию, обязывающую все госпитали использовать по нашему способу перевязочный материал из-под гипса.
Вследствие продолжительных воздушных тревог жизнь госпиталя все чаще перемещалась в бомбоубежище. Раненые подолгу оставались здесь на нарах, спали. Здесь, в подвале, делались врачебные обходы. Сюда же приносили пищу. В бомбоубежище наши шефы читали лекции, выступали с докладами. Надо сказать, что каждое из десяти медицинских отделений имело своего шефа в университете. Шефом восьмого отделения был физико-математический факультет университета.
Вспоминается такой эпизод.
В один из дней октября город бомбили. Гул самолетов. Залпы зениток. Слышим глухие удары, от которых содрогается здание.
А в бомбоубежище своеобразная перекличка. Ее проводит Скридулий, назначенный недавно начальником клуба.
— «Народ, разгромивший Наполеона, разгромит и Гитлера»?
— Я, — отзывается профессор Молок.
— В пятый отсек. «Партизанская война в тылу врага»?
— Есть! — отзывается профессор Корнатовский.
— В седьмой отсек. «Судьба гитлеровской империи в зеркале истории»?
— Я здесь, товарищ Скридулий, — слышен голос профессора Гуковского.
— Вам в четвертый отсек. «Фашизм — лютый враг человечества»?
— Есть! — отвечает очередной докладчик.
— Вам в третий отсек. «Когда и как мы били немцев»?
— И ныне, и присно, и во веки веков! — отозвался профессор Мавродин.
— Вам, Владимир Васильевич, во второй отсек…
Напоминаю, пишется это не только по записям, но и по памяти. Может быть, некоторые темы или фамилия докладчика не совсем точны.
Профессор Мавродин и доцент Геронтий Валентинович Ефимов, заведующий кафедрой истории Востока, жили в первом этаже нашего госпиталя, в библиотеке исторического факультета. Профессор Мавродин писал статьи о героическом прошлом русского народа, говоря о неизбежности разгрома фашистов. Владимир Васильевич часто читал лекции в воинских частях и госпиталях. Геронтий Валентинович выступал главным образом по вопросам текущей политики и международного положения.
Виктор Соловей
рожит месяц. Госпиталь набирает силы. Здание обжито и освоено.
Будучи на казарменном положении, мы жили все это время бок о бок и малость познали друг друга — кто есть кто. Почувствовали взаимопонимание. Верно, у каждого свой характер, но у всех одно общее — готовность в любую минуту сделать все возможное для раненых.
Двадцать первого октября шел очередной прием раненых. Около носилок хлопотала невысокая женщина — опытный хирург седьмого отделения Евгения Львовна Соловей. Ее сын, восьмилетний Витя, жил за шкафами в коридоре отделения. От мужа, находившегося на фронте, она не получала никаких вестей. Но у Евгении Львовны еще теплилась надежда. И все окружающие поддерживали это чувство, оберегая ее от мрачных предположений, тем более что она готовилась вновь стать матерью. Собственно, Евгении Львовне вовсе не полагалось находиться на работе — ей был предоставлен отпуск по беременности. Однако она продолжала работать. И вот во время приема раненых начался массированный обстрел района. Совсем рядом — оглушительный разрыв снаряда. Здание качнуло так, что с потолка обрушилась штукатурка. В приемном покое вылетели стекла. Запахло не то серой, не то жженой резиной.
— Ой! — вскрикнула Евгения Львовна и, побледнев, присела на скамью. — Помогите!..
К ней подбежала Эдя Золотницкая, сестра-хозяйка приемного покоя. Скамью быстро оградили ширмой. Оттуда послышались глухие стоны. Потом они стихли. Затем раздался жалобный писк человечка, заявившего о своем появлении на свет.
Под грохот разрывов снарядов — родился человек!
Евгению Львовну увезли в родильный дом. А Витя по-прежнему жил за шкафами в коридоре. Раненые очень любили его, делились с ним своим пайком.
Знали ли об этом Ягунов и Луканин? Не могу утверждать, но согласно приказу пребывание в госпитале посторонних лиц воспрещалось. За нарушение виновные подвергались взысканию.
И вот, вскоре после того как Евгения Львовна была отправлена в родильный дом, Ягунов, делая обход седьмого отделения, увидел в коридоре Витю. Мальчуган юркнул в одну из палат. Дети в то время быстро взрослели. Витя тоже понимал что к чему.
Вслед за ним в палату вошел Ягунов. В палате Вити не оказалось. Как в воду канул!
От приметливого Ягунова не ускользнуло, что раненые ведут себя по-иному, не как всегда. На вопросы отвечают быстро и односложно, словно желая, чтобы поскорее закончился обход.
Но Ягунов не торопился, стал проверять чистоту в палатах. Начальник отделения Горохова и старшая медицинская сестра Сорокина — начеку! У Ягунова зоркий глаз. Когда он был доволен, то всегда говорил:
— Вот так хорошо, хотя можно лучше!
Но если проведет пальцем по прикроватной тумбочке или подоконнику и — боже упаси! — обнаружит пыль, тогда — беда!
На сей раз все обошлось благополучно, без замечаний.
Закончив обход, Ягунов задержался около шкафа, оставленного еще осенью кафедрой философского факультета, и взялся за ключ, торчавший в дверце.
— Товарищ начальник, там книги! — приподнялся староста с койки.
— А-а! — протянул Ягунов. — Книги? Ну-ну… — И пошел к выходу. Но вдруг оглянулся и запросто сказал: — Может быть, лучше эти книги отправить в детский дом?..
В детский дом Витю не отправили. Он остался в госпитале.
Евгения Львовна возвратилась из родильного дома одна: младенец умер от истощения. Она проработала у нас до февраля сорок второго года, потом была назначена начальником хирургического отделения в другой госпиталь.
После нам стало известно: летом Евгения Львовна получила горестное извещение о смерти мужа. В августе сорок второго, вместе с Витей, она эвакуировалась на Большую землю.
Ныне Евгения Львовна живет и работает в Ленинграде. Витя, теперь уже Виктор Михайлович, — старший художник по свету в Большом театре кукол.
Новое назначение
епе произошло внезапно: меня вызвал Ягунов. Его серые глаза смотрели на меня доброжелательно, даже мягко.
— Вот какое дело. Назначаю вас врачом-диетологом. Временно, конечно.
Я ошеломлен: ожидал чего угодно, только не этого.
— Вопросами питания больных я никогда не занимался. Диетология требует…
— …правильной ориентировки в назначении диеты, — подхватил Ягунов. — Она должна не только поддержать силы раненых, но и способствовать скорейшему выздоровлению. Вы это хотели сказать?
Начальник госпиталя зашел мне «в тыл», отрезая «пути отступления». Но я еще пытаюсь сопротивляться:
— Согласен, это очень важно. Но, повторяю, вопросами диетологии я никогда не занимался…
Кончики ягуновсних усов, как крылья бабочки, вздернулись кверху. Все в госпитале уже знали: это плохой симптом.
— Я до войны, к вашему сведению, не обследовал гигиену уборных, не выводил вшей и клопов. А теперь занимаюсь и этим.
— Да, но я хочу объяснить вам, профессор…
— Не профессор, а начальник госпиталя! Военного! Вы намерены выполнять мой приказ?
Ягунов встал. Поднялся и я:
— Слушаюсь, товарищ начальник госпиталя!
— Примите дела от доктора Введенской. Действуйте! Желаю успеха.
Ягунов взял с письменного стола толстую книгу.
— Это руководство по клинике лечебного питания, — сказал он. — Возьмите! Приказываю: хорошенько проштудируйте! Учебник вам поможет. Как надо есть, знают все. А вот как накормить больного, раненого — это настоящая наука.
Побрел в ординаторскую. Положил книгу в шкаф. Никак еще не мог смириться с приказом Ягунова.
Принимать от Введенской было почти нечего. Своей кухни госпиталь пока не имел. Пищу приготовляли в университетской столовой и приносили к нам в бидонах из-под молока. В пути все остывало. Моя «диетология» пока что заключалась в составлении меню. Я продолжал работать на отделении.
Госпиталь начал строить пищевой блок в бывшем общежитии, в первом этаже. Начальник пищеблока Мельник достал котлы, инвентарь и оборудование. Окончание работы задержала кладка плит. Кирпичи есть, а печников нет.
Помог комиссар. Он созвал всех политруков отделений:
— Есть ли у нас ранены® печники?
В ответ — молчание.
— Не знаете? Это очень плохо, — сухо заметил Луканин. — Ведь я говорил вам: надо знать о раненых все, вплоть до деталей их биографии. Да будет вам известно, что у нас есть два печника: один — в третьей палате пятого отделения, другой — в седьмой палате шестого отделения. А нам надо хотя бы восемь печников. Через час жду ваших сведений.
Раскрывался Луканин более трудно, чем Ягунов. Молчаливый, медлительный, он казался скрытным. Но с каждым днем мы убеждались, что Луканин обладает замечательным качеством: оставаясь незаметным, он замечал во много раз больше, чем мы.
Через час восемь печников с увлечением взялись за работу.
Санитары, медицинские сестры, дворник Голубев подносили со двора кирпичи.
Плиты сложили в три дня. С 4 ноября пищу для раненых стали приготовлять в собственной кухне.
В отсутствие руководящего повара Ларисы Николаевой составлять меню приходилось с поваром Дмитрием Ивановичем Смирновым. Ему было под шестьдесят, всю жизнь он проработал в первоклассных ресторанах. Отсюда соответствующие привычки и манеры. Составлять с ним меню-раскладки было сплошным мучением. Сидя за столом и обтирая платком лысину, повар говорил:
— Что? Опять каша овсяная! Да разве это работа! Ни одного серьезного блюда. Сегодня мне знаешь что приснилось? Будто делаем мы с тобой раскладку и я тебе диктую: на первое — суп Пьер ле Гранд и суп тортю. По выбору. На второе — пуляр фарси и канар де Руан с груздями. Тоже, значит, по выбору. А на сладкое — тутти-фрутти… Э, да что там сны рассказывать! — тяжело вздыхал старик. — Ну, как там дальше у нас?
Большинству блюд повар давал ресторанные названия. Неприятности по этому поводу доставались, конечно, мне.
— Выбросьте эти дурацкие консоме из головы! — злился Ягунов, утверждая меню. — У нас не «Европейская» гостиница…
Мне приходилось только виновато молчать.
Спустя некоторое время после моего вступления в новую должность меня вызвали к Ягунову.
— Садитесь! Как дела с книгой, которую я вам дал? Одолеваете?
Я смешался: дальше первых страниц я не двинулся. Просто не было времени.
— Понемногу одолеваю, товарищ начальник! — неуверенно ответил я.
Глаза Ягунова посветлели.
— И что вы успели почерпнуть из учебника?
— Автор предлагает разграничить два понятия: диетическое и лечебное питание. Первое — для здорового человека, второе — для больного…
— Очень похвально! — обласкал меня Ягунов своим иронически-лучезарным взглядом. — Дальше?
— Лечебное питание — мощный терапевтический фактор, имеющий большое значение при всех без исключения заболеваниях…
— Благодарю! Молодец! Можете идти!
Надо ли говорить, в каком состоянии вышел я из кабинета Ягунова.
— Зачем вызывал? — спросил Савицкий.
— Подвел ты меня! — сказал я.
Дело было в том, что в день назначения меня диетологом я поделился своей тревогой с Савицким, сетуя на приказ Ягунова — штудировать объемистый учебник, когда и без того дел невпроворот.
— В этом нет никакой необходимости, — успокоил тогда меня Савицкий. — Ягунов вертится с утра до ночи. Не будет же он тебя экзаменовать? Толковый повар и сам знает, как кого кормить…
Я согласился с Петром Устиновичем. Нам обоим тогда искрение казалось, что вся история с этой книгой — ненужная затея Ягунова. Ох как мы оба заблуждались! Ягунов умел смотреть далеко вперед. И как бы он ни «вертелся с утра до ночи» — никогда и ничего не забывал.
Семеныч
род окаянный! Что у тебя, руки отвалятся дать лишнее полено? — кричала на дворе уборщица.
— И до чего же ты непонятливая бабенка! — удивлялся Голубев. — Ну чего скандалишь? Дрова-то не мои. Я человек государственный! У соблюдаю, что мне велено! Получай, что полагается. По приказу…
Семеныч, конечно, прав. В госпитале введен строжайший учет расходования топлива. Площадку для дров и угля огородили проволокой. Жесткий контроль за расходом топлива был возложен на начальника КЭЧ интенданта третьего ранга Сидорова, а отпускал его из склада по талонам сам Семен Ильич.
Он теперь уже — «большой начальник». Пятнадцать уборщиц госпиталя переведены на должность дворовых рабочих для пилки, колки и подноски дров. Ими командовал Голубев.
— А я что, для себя прошу! — не унималась уборщица. — Для стирки бинтов надо! Креста на тебе нет!
— Не тарахти, православная! — уговаривал Семеныч. — Давай талон и тово, уходи! Знаешь мой характер…
По-своему была права и уборщица. И Семеныч, конечно, понимал это. Действительно, много дров расходовалось и на стирку использованных бинтов и марля из-под гипса по методу, предложенному Чинчарадзе и Гороховой.
Но что поделаешь, норма оставалась нормой. А Голубев, которого в шутку называли королем топлива, за этим тщательно следил.
Голубев числился в штате госпиталя дворником, но фактически он был правой рукой начальника КЭЧ Сидорова, ибо знал здание как свои пять пальцев. И чего только не было в его кладовой! Гвозди, топоры, молотки, лопаты, пилы, тачки. Всякие хозяйственные принадлежности, которые выручали работников госпиталя в минуту жизни трудную. Семеныча любили вот за эту хозяйственность, за грубоватую, но приветливую простоту, общительность и постоянную всем помощь. Ладный, крепкий, с прокуренными усами — вот таким Семеныч всем нам и запомнился.
Он воевал в германскую и гражданскую. В эту войну Семеныч с первых же дней явился в добровольческий пункт, но его не взяли в армию: к чему-то придралась медицинская комиссия.
Шли дни. Положение в осажденном городе ухудшалось. Уже в конце сентября в столовой университета, где мы питались, стало голодновато. Меню выглядело так: суп, где «крупинка за крупинкой гонялась с дубинкой», на второе — кусочек мяса, к нему гарнир из свеклы или чечевицы.
Наступил ноябрь. Госпиталь готовился к двадцать четвертой годовщине Великого Октября. Во всех помещениях проводилась уборка. Одновременно с этим командование госпиталя принимало меры по борьбе с воздушными налетами врага. Еще раз хорошо проверена подготовка подразделений противовоздушной обороны госпиталя, пожарной команды и восстановительной дружины.
Все мы понимали, что в ноябрьские дни немцы будут злобствовать больше, чем всегда. Они сбрасывали листовки: «Сегодня будем бомбить, завтра будете хоронить».
Четвертого ноября, в холодный и пасмурный вечер, я в числе прочих был назначен в усиленную охрану госпиталя.
Темень — хоть глаз выколи! В двух шагах ничего не видно. И будто нет ни города, ни улицы, ни домов, ни людей…
Вокруг здания ходят четыре человека.
Со стороны Менделеевской линии — начальник материального обеспечения госпиталя Зыков.
По Тифлисской улице — политрук Харитонов, секретарь комсомольской организации.
Позади госпиталя — секретарь партийной организации Галкин.
По Биржевому проезду — я.
Обхожу свой участок под сводчатой каменной галереей. Сто метров в одну сторону, сто — в другую. Вслушиваюсь в затаенную тишину.
Вдруг вблизи послышались чьи-то шаги.
— Стой! Кто идет? Пароль?
— «Винтовка», — голос Ягунова. — Отзыв?
— «Смерть гитлеровцам!»
— Как проходит дежурство?
— Спокойно. Только очень темно…
Меня прервал отчаянный кошачий вопль.
Карманными фонариками мы освещаем тротуар.
Почти рядом — форточка окна. В ней по пояс застрял боец пожарной охраны госпиталя Михаил Смирнов. В руках — мешок. Из него — кошачий вопль.
— Это что за… оперетта? — крикнул Ягунов.
— Вот… домой собрался…
— Через окно? Как это называется?
— Увольнительной не дали.
— А почему с кошкой?
— Семью… крысы одолевают.
— Немедленно обратно! А утром — ко мне!
Из мешка вырвался пушистый рыжий кот санитарки Петровой — Микеша, которого в нашем отделении раненые называли Микентием. Микентий заметался у нас под ногами и скрылся в темноте. А Смирнов исчез в форточке.
— Надо же придумать такое, — буркнул Ягунов. — Смотреть в оба!
— Есть смотреть в оба!
Под сводчатой галереей здания глохнут шаги начальника госпиталя.
«Узнает Дарья Васильевна о попытке Смирнова утащить и съесть ее Микешу, устроит она Смирнову скандал», — подумал я.
Хожу и хожу. Сто метров в один конец, сто — в другой.
В памяти всплывают картинки мирного быта. Год назад в это время ленинградцы возвращались с торжественных праздничных собраний.
Сейчас вокруг — никого. Люди только на крыше госпиталя. Там дежурят посты противовоздушной обороны. Уличный репродуктор разносит монотонный звук метронома: «тук-тук! тук-тук!». Паузы между воздушными тревогами. Тишина длится недолго. Раздается пронзительный вой сирен. Холодный воздух темной ноябрьской ночи наполнил нарастающий надсадный гул авиационных моторов.
Засверкали зарницы зенитного огня.
В темном небе встали голубые столбы прожекторных лучей. Они, как щупальца, шарили, рыскали по небу. Пересекались, сплетались, останавливались, будто советуясь между собой. Наконец шесть лучей, прочертив небо, нащупали фашистский самолет и взяли его в перекрестие. Он плыл серебряной точкой.
Из госпиталя выбежали люди. Запрокинув головы, теснясь друг к другу, они следили за самолетом. Не обращая внимания на холод, выстрелы зениток, все жаждали одного: гибели фашистского стервятника.
Совсем близко от госпиталя послышалась частая дробь выстрелов.
— Ростральцы! — раздался одобрительный возглас.
Так мы называли зенитчиков, которые занимали позицию близ Ростральных колонн.
Зенитный огонь становился плотнее, интенсивнее. Вокруг бомбардировщика возникли разрывы зенитных снарядов.
— Мажут! — возбужденно и громко крикнул кто-то в темноте.
— Уйдет, подлец! Ей-богу, уйдет! — раздался тревожный женский голос.
— Тише!
— Не уйдет, стерва! — услышали мы голос Голубева.
— Ну, раз Семеныч сказал, тогда…
В это время рядом с бомбардировщиком пронесся наш юркий «ястребок». От него — нити трассирующих пуль. Вражеский летчик сделал маневр и скрылся в темноту. Но нет! Опять схвачен прожектористами. И снова наш «ястребок»! Что это? Яркая вспышка!
— Аминь!
— Долетался!
— Одним стервятником стало меньше!
— Как сказал Семеныч, так и вышло! — освещая друг друга карманными фонариками, шутили работники госпиталя.
— Ну что, друг! Наша взяла! — сказал Ягунов Семенычу.
— Наша всегда возьмет, Сергей Алексеич! — уверенно ответил Голубев, видимо польщенный тем, что начальник обратился к нему, как к равному.
И мне невольно вспомнились годы моей учебы. Кто учился в Военно-медицинской академии в Ленинграде, тот помнит, наверное, Матвея — служителя клиники профессора Турнера.
Для больных и посетителей клиники Турнера этот чуть сгорбленный седой и усатый человек был всего-навсего простым служителем. Но мы-то знали ему цену. Тридцать с лишним лет работал он в этой клинике и был неразлучен с Генрихом Ивановичем Турнером, обаятельным ученым с мировым именем. Крупнейший советский хирург, травматолог и ортопед, он пользовался исключительной любовью и уважением слушателей академии. Турнера и Матвея связывала долголетняя, крепко устоявшаяся дружба.
Матвей был неплохо знаком с десмургией, учением о наложении различного рода повязок. На практических занятиях он являлся для нас незаменимым советчиком и консультантом. Неизменно присутствуя на всех лекциях своего профессора, Матвей помогал Генриху Ивановичу при демонстрации больных, муляжей и препаратов.
Однажды во время одной из таких лекций Матвей увлекся своими объяснениями и начал громко разговаривать.
— Матвей! — крикнул ему профессор Турнер. — Кто из нас будет читать лекцию? Ты или я?
Матвей вздернул очки на лоб и, взглянув на профессора сверху вниз, невозмутимо ответил:
— Ладно уж, читай! — И махнул рукой.
Аудитория вздрогнула от смеха.
И вот теперь, слушая разговоры Ягунова с Семенычем, я вспомнил профессора Генриха Ивановича Турнера и Матвея.
На другой день, 5 ноября, выяснилось, что прошедшей ночью мы были свидетелями исключительного героизма молодого летчика-истребителя. Младший лейтенант Алексей Севастьянов, преследуя вражеский бомбардировщик, настиг его и таранил. Сбитый «хейнкель-111» рухнул в Таврический сад, а Севастьянов благополучно опустился на парашюте.
По этому поводу в госпитальной газете «За Родину» появилось стихотворение «Сало и могила». Автор — Григорий Махиня из «морской палаты». Пулеметчик восторгался стихами Ольги Берггольц и сам писал стихи. Смысл стихотворения Махини сводился к ответу на вопрос: «Зачем немцы пришли в Россию?» «За салом, — отвечал Махиня. — Но сала не будет, а фашистов злую силу мы уложим всю в могилу!»
Для наглядности под этим стихотворением Сулимо-Самуйло поместил выразительную карикатуру: за решеткой сада — сбитый бомбардировщик. Над обломками торчит хвост с фашистской свастикой. В нее вбит кол.
Этот кол редактор стенгазеты снабдил краткой, но выразительной надписью: «Во! И боле ничего!»
Что же касается эпизода с котом в мешке Михаила Смирнова, то он стал известен всему госпиталю. Вызванный к Ягунову, боец пожарной охраны откровенно рассказал о настоящей причине своей попытки — хотел помочь голодающей семье…
В праздничный день
тро 7 ноября началось артиллерийским обстрелом. Впервые ленинградцы праздновали годовщину Великого Октября в тяжелой и суровой обстановке осажденного города.
Здание госпиталя украшено флагами. Они огнем полыхали в морозном воздухе. К раненым пришли родные и знакомые. Принести что-нибудь из продуктов они не могли. Кое-кто поделился помидорами. В праздник взрослым выдали по пять соленых помидоров.
Начальники отделений, политруки, врачи, медицинские сестры — все находились в коридорах, встречали посетителей и провожали их в палаты.
Многолюдно было в клубе и красных уголках, которые организовали и оборудовали наши шефы. Пришли, разумеется, и университетские «родственники» раненых. К празднику общественные организации университета собрали три тысячи пятьсот рублей и на эти деньги купили подарки. Сегодня они раздали их раненым, не имеющим в Ленинграде ни родных, ни знакомых. Студенты пришли с музыкальными инструментами. Из красных уголков доносились негромкие песни, переливчатые звуки гитар и мандолин.
Заглянул в третью, «морскую палату». Ну, конечно, как я и ожидал, там тоже гости.
Рядом с койкой Григория Махини сидела Дарья Васильевна Петрова. Санитарка штопала кому-то носки. Она могла в этот день штопать и не в палате, а у себя в комнате. Но разве может она не присутствовать в палате, когда пришли гости? Ни в коем разе!
Гости сидели за столом. Их трое: девушка и два молодых человека.
— Что же нам еще спеть? — спросила девушка, черноволосая студентка, положив пальцы на гриф гитары.
— «Раскинулось море широко!» — не задумываясь, ответил Вернигора.
— «Закувала та сыва зозуля…» — просит Махиня. Гости сконфуженно переглянулись.
— Мы это плохо знаем. Лучше споем «Широка страна моя родная».
Ровно, слаженно звучат голоса. Слышен тенорок Вернигоры, бас Григория Махини, им вторит Папаня. И вскоре начинает петь вся палата. Дверь открыта. Около двери столпились легкораненые и посетители. Они тоже запели. Песня вырвалась в коридор, и звучит она ввысь и вширь, по всему этажу здания.
— Спасибо вам от всей палаты! — благодарит Вернигора, когда кончилась песня. — Девушка, как вас зовут?
— Лида. А вас?
— Володя. Вы в магию верите?
— В магию? Что вы! Конечно, нет…
— Тогда смотрите!
Вернигора засучивает левый рукав. Правой достает из-под подушки гривенник. Показывает его Лиде и всем. После этого «втирает» монету в обнаженную руку. Показывает пальцы. Гривенника нет!
— Подойдите ко мне! — приглашает Лиду Вернигора.
И вынимает гривенник из кармана кофты нашей гостьи.
Смех, аплодисменты.
— Никакого мошенства, одно проворство рук! — смеется Вернигора. — Два года в Маньчжурии учился!..
Время для посещения раненых истекает. Посетители покидают палаты. Встала и тетя Даша.
— А теперь чтобы в палате было тихо! — произнесла она таким тоном, словно хотела сказать: «Ребята, не баловаться!»
Позднее в этот день я увидел в вестибюле госпиталя нашего «короля топлива» Голубева. Семеныч о чем-то не мог столковаться с начальником приемного покоя Елизаветой Михайловной Михайловой.
— Ну хорошо! Согласна, возьмем! Но сейчас идите спать! — уговаривала Семеныча Михайлова. — А то неровен час — увидит Ягунов, пропишет вам ижицу!
— Я пойду… Михална. А Мгу мы возь-мем! Истинный господь! Ка-ак пить дать.
Семеныч был изрядно навеселе.
— Семен Ильич, а где вы раздобыли? — спросил я.
— Вытря-хивал. По кап-лям!
На праздник раненым было выдано вино. Бутылки после раздачи сдали на склад. Семеныч не поленился и «вытряхивал» из каждой посудины «по каплям».
Чрезвычайное положение
ноябре на Ладоге начали бушевать жестокие шторма. Движение судов вынуждено было приостановиться. Вследствие этого эвакуация в глубокий тыл раненых, нуждавшихся в длительном лечении, почти прекратилась. Пришлось организовать лечение таких раненых на месте.
К этому времени медицинские учреждения Военно-санитарного управления Ленинградского фронта размещались в самом Ленинграде или в его пригородах. Ленинград превратился в своеобразный колоссальный лазарет. Он был в состоянии одновременно принять десятки тысяч раненых и обеспечить их не только общехирургической помощью, но и лечением по специальностям в многочисленных больницах, клиниках медицинских институтов и Военно-медицинской академии.
До наших войск было рукой подать. Они под Ленинградом. Вследствие этого эвакуационные пути — на своем протяжении от переднего края и до фронтового госпиталя — сжались, сократились. Войсковые и Армейские лечебные учреждения и госпитальная база фронта были близко друг к другу и как бы «сложены в гармошку», по меткому выражению заместителя главного хирурга Красной Армии генерал-лейтенанта профессора С. С. Гирголава.
Это обстоятельство ускоряло поступление раненых во фронтовые госпитали.
После зажата противником Тихвина положение с питанием в городе продолжало ухудшаться. В середине ноября прекратился подвоз продуктов по Ладожскому озеру. Ранний ледостав затруднил плавание барж, пароходов с продовольствием.
В то же время лед на озере еще не настолько окреп, чтобы по нему могли двигаться автомашины. Все бремя доставки продуктов легло на транспортную авиацию. Но она, конечно, не могла обеспечить нормальное снабжение жителей огромного города и оборонявших его воинских частей.
Тринадцатого ноября населению Ленинграда в четвертый раз снизили норму выдачи хлеба: по рабочей карточке стали выдавать 300 граммов в сутки, а по другим карточкам — 150 граммов.
Обстановка в городе отражалась и на питании раненых и больных. 8 ноября сократились нормы довольствия для госпиталей: хлеба — 400 граммов на человека, мяса — 50 граммов. Рыбных продуктов не было. Полноценность суточного рациона в сравнении с довоенным снизилась с 3500 калорий до 2173.
Приказом по госпиталю был установлен строжайший контроль за расходованием продуктов питания. Начальники медицинских отделений, политруки и старшие медицинские сестры отвечали за то, чтобы, как было сказано в приказе по госпиталю, «буквально каждый грамм положенного по нормам питания дошел до больного».
Сестры, санитарки и работники управления сдали свои продовольственные карточки и были зачислены «на все виды котлового довольствия» в столовую, которую открыли при госпитале.
Ежедневное меню в столовой состояло из жидкого супа и каши-размазни. На лицах работников госпиталя появились предвестники дистрофии: резко обозначенные складки кожи, потускневшие глаза, очерченные скулы. А работать надо было не покладая рук. Жизнь в госпитале продолжалась под интенсивными воздушными налетами и обстрелами. Враг стремился измотать силы населения осажденного города.
В середине ноября в ординаторскую нашего отделения пришли Ягунов и Луканин. С ними был высокий молодой человек в наглухо застегнутом белом халате.
— Петр Матвеевич, познакомьтесь, — сказал Ягунов. — Товарищ Самойлов, командир части, где воевал лейтенант Прошин. Помните, нам тогда записку прислали?
— Отлично помню. Записка в истории болезни. И Прошин идет на поправку.
— Я хотел бы повидаться с ним, — сказал Самойлов.
— Сейчас сестра проводит вас в палату…
Через час командир части Самойлов вернулся в ординаторскую.
— От всего сердца спасибо вам за Прошина. Можете не сомневаться, бойцы нашей части запомнят врачей, которые спасли нашего лейтенанта…
День в госпитале начинался врачебной конференцией. Она проводилась начальником медчасти Долиным и старшим хирургом Шафером. Докладывались вопросы текущей медицинской работы. Потом, как в обычном лечебном учреждении, наступали трудовые будни. Только рядом бомбежки и артиллерийские обстрелы. Но если пристальней всмотреться в то давнее и суровое время, разве назовешь, например, будничным день, когда в госпитале сделано восемнадцать операций, которые вернули воинам здоровье и жизнь, а двадцать два офицера и солдата поправились и выписаны в часть.
К сложной работе врача, может быть, и неприменим арифметический подход. Но судите сами, какова была обстановка, если на одного ординатора в нашем отделении приходилось около сорока раненых и больных. Характеры их были различны, и каждый нуждался в индивидуальном подходе. Надо было лечить не болезнь, а больного. Начнешь обход — и на тебя пристально смотрят десятки пар глаз. В каждом раненом — его взгляде, жесте, интонации голоса — сразу замечаешь малейшие изменения за прошедшую ночь: лучше ему стало или хуже. В беседах требовалась сосредоточенность и настороженность. На волнующие вопросы надо было найти выверенные, весомые слова, чтобы тебе поверили, чтобы они создали воину балл душевного равновесия, пробудили у него уверенность в успешном лечении. А ведь надо было не только лечить. Мы, например, обучали ходячих раненых оказанию доврачебной помощи на поле боя — самому себе и товарищу.
Были у нас еще и другие обязанности: военные занятия, строевая подготовка, изучение огнестрельного оружия. Далее — курсы для повышения врачебных знаний, переквалификация в хирургов — подлинный военный университет, серьезная профессиональная учеба. Преподаватели и консультанты у нас были известные всей стране профессора — Буш, Надеин, Бабчин, Раздольский, Лимберг, главный хирург Ленинградского фронта профессор Куприянов. А мы сами, в свою очередь, учили средний медицинский персонал терапии, фармакологии, гипсованию, лечебной гимнастике, массажу, рецептуре.
А беды, словно вода через пробоину в корабле, проникали в госпиталь. На отделениях и в аптеке стал ощущаться недостаток различной посуды для лекарств. Где ее достать? Что нашлось, каждый из нас принес из своих квартир. Помогли и жители ближайших домов.
В конце ноября морозы стали крепчать — термометр показывал больше двадцати градусов. А с продовольствием становилось все хуже. Населению в пятый раз снизили хлебный паек: рабочие получали 250 граммов, служащие, иждивенцы и дети до двенадцати лет — 125 граммов.
Суточный рацион питания для рабочих и инженерно-технического персонала в калориях составлял одну треть потребности взрослого человека, служащих — одну пятую.
Войскам первой линии, тыловым частям и госпиталям с 20 ноября сократили норму хлеба на 100 граммов в день. Правда, кроме хлеба Военный совет фронта постановил выдавать дополнительно еще сухари: войскам первой линии — по 100 граммов, а остальным — по 75. Но это продолжалось три недели, потом выдача сухарей была прекращена — выдавали только хлеб.
К этому времени хлеб в госпиталь вдруг стал поступать белым. Зрительно он привлекал своей белизной, но на вкус был горьковатый. Но до вкуса ли тогда было!
Вскоре мы узнали секрет этой белизны. Оказалось, что ученые и инженеры, поддержанные горкомом партии, разработали технологический процесс превращения целлюлозы в гидроцеллюлозу, а последней — в муку.
В то тяжкое время эта помощь ученых для голодавшего населения была неоценима. Еще бы! Добиться, чтобы сырье для бумаги стало подспорьем для пищи!
На продскладе госпиталя в те дни частенько не оставалось даже суточного запаса. Пищу для раненых приходилось готовить не по утвержденному распорядку: трижды в день отправлялись машины на центральный склад, и только после доставки продуктов последовательно рождалось меню завтрака, обеда и ужина. Госпитальный паек раненых в те дни составлял всего 2183 калории, а паек медицинского персонала — 1390 калорий.
Работники госпиталя менялись на глазах. Лица сначала бледнели, потом становились желтыми. Затем окраска кожи принимала синевато-землистый оттенок. Глаза тускнели, виски заваливались. Выпирали скулы, утрачивали подвижность лицевые мышцы. Исчезала мимика. Не лицо, а маска!
Появились неизменные спутники дистрофии: быстрая утомляемость, вялость, скованность в движениях, раздражительность, сонливость.
Вольнонаемным служащим госпиталя было еще хуже. Студень из столярного клея и технического желатина, лепешки из казеина и всевозможных сортов жмыха — все это расценивалось как неоценимое благо.
Все, кто пережил блокаду, хорошо знают: это время — до конца января сорок второго года — было самым тяжелым в обороне осажденного Ленинграда.
В воспоминаниях об этом периоде, опубликованных в издательстве «Наука», начальник МПВО Ленинграда Е. С. Лагуткин пишет:
«Подходила зима, с каждым днем жизнь в городе становилась труднее. В октябре и ноябре начались холода, выпало много снега. Все сильнее сказывалась недостача продовольствия: его выдача исчислялась граммами и доходила до минимума… Многие жители перестали реагировать на сигналы воздушной тревоги и предупреждения об артиллерийских обстрелах. Появилось безразличное отношение к окружающему».
Все верно за исключением последней фразы. Люди не реагировали на сигналы опасности, они работали каждый на своем посту. Погибал один — на его место вставал другой. Не могло быть безразличия у тех, кто не сомневался в своей победе. В трагическом заключалось героическое.
В это тяжкое время, в начале декабря, ко мне неожиданно пришел военный моряк — Зиновий Григорьевич Русаков, с которым мы вместе плавали. Известный на Балтике механик, в прошлом буденновец, участник гражданской войны, сейчас он служил командиром боевой части корабля Ладожской военной флотилии. Естественно, о ней сразу и возник разговор. Вопросы, ответы. Задушевная беседа.
С непередаваемым волнением слушал я его рассказ о том, как в сентябре гитлеровские стервятники потопили караван барж с зерном почти у самого мыса Осиновец. Водолазные команды проявили подлинный героизм, подняв со дна озера все баржи.
— Бывший штурман Балтики Федор Ходов, — рассказывал Русаков, — командир тральщика Ладожской военной флотилии, вышел с острова Валаам, чтобы эвакуировать гарнизон, с острова Коневиц. Шторм десять баллов… Это, друзья, такой ветер, когда на ногах не стоит человек. Тральщик сильно мотало. Волны, как молотом, били судно. В такой обстановке с тральщика увидели: на обломках баржи плавают наши бойцы. Моряки поспешили к месту катастрофы. Команда подобрала двести человек! Представляешь, каков был труд! Двести человек!
Тральщик перегружен, в машинном отделении появилась течь. Что делать? До берега около четырех миль. Ходов направил судно к берегу, на малую глубину. И тут в воздухе появились три «юнкерса». Стервятники пикируют на тральщик. Одна из бомб попала в корму, другая — в машинное отделение. Тральщик начал медленно погружаться в воду. На выступающих из воды палубных надстройках, на трубе, мачтах держатся окоченевшие бойцы и моряки. Спустя тринадцать часов, когда стих шторм, подоспела помощь.
— Все спаслись?
— Да, все… кто мог продержаться. Это было какое-то чудо. Ходов до сих пор не верит сам себе, что жив! А он не только жив, а перевез на своем тральщике двенадцать тысяч человек на Большую землю.
Русаков ушел от нас поздно вечером. И все мы, кто слушал его рассказ, были благодарны неизвестному нам герою-балтийцу Ходову, и думалось: сколько же этих неизвестных героев, которые защищают наш город, бьются с чудовищным врагом, готовы на смерть, на муки, лишь бы не дать врагу ступить на священную землю города трех революций!
Грузовая машина только что привезла ржаную муку. Повар Смирнов, поразмыслив, решил приготовить ржаную кашу и… осрамился. Никогда он такого блюда не готовил, вместо каши у него получилась клейкая похлебка.
Пришлось раздать на обед эту ржаную похлебку. А через полчаса на кухню вбежал политрук пятого медицинского отделения Иванов.
— Вы в своем уме? — набросился он на меня.
— Что случилось?
— Чем кормите раненых? В четвертой палате раненые отказались есть ваш клейстер.
— Вы разговаривали с ними? Объяснили положение?
— Ничто не помогает. Немедленно требуют повара!
— Смирнов тут не виноват. Пойдемте…
В палате находилось четырнадцать легкораненых бойцов.
— Кто у вас староста? — спросил я.
— Я. Ну и что из этого? — вызывающе ответил молодой солдат, сидевший на койке в лихо сдвинутой набекрень пилотке.
— Как ваша фамилия?
— Леонтьев.
— Что у вас произошло?
— Мы требуем повара.
— Он занят. В чем дело?
— Такую кашу мы жрать не станем! Глотаешь, а она в горле застреёт: ни туды и ни сюды. Мы кровь проливали, а вы чем кормите?
— В госпитале сейчас, кроме ржаной муки, ничего нет, товарищи, — начал я. — Вам ведь известно, как трудно с продовольствием в городе. Население не имеет даже такой каши, от которой вы отказываетесь.
— Население! Нечего нам про население!..
— Поднимите руки, кто отказывается есть ржаную кашу? — приказал политрук Иванов. — Раз… Два…
В это время мы увидели входящих в палату Ягунова и Луканина.
— Что здесь происходит? — яростно спросил Ягунов. — Опустите руки!
— Несколько человек отказались от ржаной каши, — доложил политрук.
— Товарищ Иванов, что это за «голосование»? — не повышая голоса, спросил Луканин.
— Выяснял, товарищ комиссар, кто отказывается есть кашу…
— Отказывается есть кашу? — шагнул к раненым Ягунов. — Эт-то что такое? Да где вы находитесь? А вы, товарищ Иванов, почему вы не доложили мне о таком чрезвычайном происшествии? Почему? А?! — Голос Ягунова сорвался на фальцет.
Иванов переступал с ноги на ногу, смотрел на Луканина, как бы спрашивая, что ответить Ягунову?
Но комиссар молчал, о чем-то раздумывал. Взгляд Луканина — зоркий и цепкий — скользил по лицам раненых. В палате воцарилась настороженная тишина. Та тишина, которая тяжело придавливает плечи. Раненые наблюдали за комиссаром. Они тоже ждали от него разноса. А Луканин продолжал молчать. Эта пауза длилась считанные секунды.
— А с теми, кто отказался есть кашу, — разговор будет дополнительный! — пригрозил Ягунов. — Товарищ Иванов, вызвать их ко мне в кабинет! Пойдем отсюда, комиссар! Позор!
— Пойти-то мы пойдем, — согласился Луканин, — но вызывать пока никого не будем. Пусть они сами обсудят свой поступок, а потом доложат нам…
В инциденте с кашей еще раз выявился контраст характеров начальника госпиталя и комиссара: легкая возбудимость Ягунова столкнулась со спокойной рассудительностью Луканина. Но эти противоположности в конце концов не мешали им прекрасно понимать друг друга.
Откуда у нашего комиссара это умение в любой обстановке оставаться внешне совершенно спокойным? Долгое время мы не могли ответить на этот вопрос. Никто в госпитале о прошлом Луканина ничего не знал. Сам о себе он никогда не рассказывал. Лишь много позднее мы узнали: у тихого, медлительного Луканина за спиной такая жизнь, которой хватило бы на хорошую повесть.
Он родился в бедной крестьянской семье, в селе Черное, что на берегу Ладоги, под Шлиссельбургом. Окончил четыре класса сельской школы. Первый шаг в самостоятельную жизнь сделал четырнадцати лет, когда нужда погнала его на ситценабивную фабрику в Шлиссельбурге. Фабрика для крестьянского паренька была сущим адом. Не выдержав, Федор через два года вернулся в родную хату. Стал работать с рыбаками на бурной Ладоге. В первую империалистическую — солдат. Три года фронта. Фронт многому научил молодого Луканина. Понял он, по его словам, «где верх, где низ». В июне семнадцатого года — тяжелое ранение. Госпиталь. Ограниченно годен к военной службе. Эвакуация в Петроград. Назначен в нестроевую команду — охранять военные склады на Суворовском проспекте. В Октябрьские дни Луканин в рядах красногвардейцев, штурмующих Зимний дворец. Дальше — события, полные неповторимого революционного пафоса. Гражданская война мотала его с фронта на фронт. Нарва и Псков. Дрался с юденическими бандами под Петроградом. Потом события революции занесли его в дальние дали, в Сибирь, на борьбу с Колчаком. Гнал с советской земли белополяков, участвовал в подавлении кронштадтского мятежа. Две войны, две революции, героические предвоенные пятилетки вместила биография этого человека.
Война с гитлеровской Германией застала сорокашестилетнего Луканина заместителем директора одной из ленинградских фабрик. Подал заявление с просьбой направить на фронт. Но командование назначило его комиссаром военного госпиталя.
Дмитрий Иванович Смирнов курил на кухне и смотрел невидящим взглядом в одну точку.
Вошел Ягунов.
Смирнов попытался было спрятать окурок, но поздно — начальник заметил и сделал повару замечание: на кухне курить нельзя.
— А где мне курить, товарищ начальник? — раздраженно сказал старик. — Я здесь с утра до вечера.
— Чем в обед накормили раненых?
— Ржаной нашей. По меню…
— Вашей кашей, Смирнов, только обои клеить!
— А что я из такой муки могу сделать, по-вашему? Антрекот? Продуктов-то хороших не даете!
— Из хороших всякий дурак приготовит!
— А я из плохих не учился готовить…
— «Не учился»! — вскипел Ягунов. — Души нет в работе! Забыли, кого кормите!
— А вы не кричите! Я вам в аренду на это не сдавался! Не нравлюсь, прошу уволить. Подам заявление — хоть сейчас…
— По этому вопросу зайдите ко мне в шестнадцать ноль-ноль.
Ягунов вышел.
Вскоре на кухне появился Луканин.
— Начальник был? — спросил он Смирнова.
— Да.
— Попало, наверное?
— За что попадать-то? Да я и не из пугливых…
— Вот что, Дмитрий Иванович. В третьем медицинском отделении, пятая палата, находится легкораненый — Андрей Пухов. Он знает, как из ржаной муки хорошую кашу приготовить. Посоветуйтесь с Пуховым, поучитесь…
— Я в советах не нуждаюсь, товарищ комиссар!
— Не о вас речь, раненые нуждаются. Требую выполнить мое распоряжение!
В шестнадцать ноль-ноль Смирнов побывал у начальника госпиталя и вернулся от него красный, словно был в бане.
— Уволился? — встревожился я.
— Куда там! Приму, грит, заявление об уходе, когда кончится война. Дельный человек!
Потом на кухню пришел раненый Пухов, коренастый, приземистый человек лет тридцати, с веснушчатым, округлым лицом.
— Здравствуйте, товарищи! — приветливо сказал он. — Комиссар меня прислал. Кто здесь повар?
— Я, — насторожился Смирнов. — А дальше?
— Дальше не будет. А будет ближе. Что ж ты, братец, обмишурился! Мастер, наверное, всякие фигли-мигли делать, а вот простую кашу приготовить — ни тпру ни ну! Чудно! Да это же плёвое дело!
— А ты можешь? — с ехидцей прищурился Смирнов.
— Совладаю. Ты какой области, батя?
— А тебе какое дело?
— Да ты бомбой не смотри, чумичка! У нас в Тамбовской из аржаной муки такую кашу готовят — разлюли малина!
— А ты готовил?
— Еще бы! Давай, батя, обмундирование. Покажу…
Пухова облачили в куртку, передник, поварской колпак.
— Ну, смотри, сват, голубые глазы! Учись, пока я жив. Перво-наперво, — Пухов засучил рукава, — берут, значит, воду. Потом…
Через час Смирнов был «положен на обе лопатки». Пухов приготовил такую кашу, что старик только кряхтел, когда пробовал.
А вечером Дмитрий Иванович ходил понурив голову и слегка покачиваясь. От него за версту несло одеколоном.
— Где вы успели «замусориться»? — спросил я старика.
— С горя, доктор. В парикмахерской. У Бабурина… побрился! Тройной одеколон с водичкой. Получается вроде молока.
Когда я принес Ягунову на утверждение очередное меню, у него сидел комиссар. Вслед за мной появился Савицкий и доложил, что двое старост пятого отделения и политрук Иванов просят принять их.
— По какому вопросу?
— По поводу ржаной каши…
— А почему старосты двух палат? Каша ведь, кажется, на совести одной?
— Не знаю.
— Вы всё должны знать, прежде чем докладывать! Передать, я приказал явиться не старостам, а тем, кто отказывался есть кашу! Понятно? — Голос Ягунова звучит резко.
— Так точно! Сейчас передам…
— Подождите, товарищ Савицкий, — вмешался Луканин. — Сергей Алексеевич, нам все-таки надо их принять, — мягко и тихо заметил Луканин.
— Почему?
— Послушаем, что скажут.
Ягунов в раздумье смотрел в окно, будто там искал ответа на предложение комиссара. Нижняя губа его выпятилась совсем по-ребячьи. Он барабанил пальцами по краю стола. Потом порывисто провел ладонью по гимнастерке и в знак согласия молча кивнул Савицкому.
В кабинет вошли трое.
— Староста четвертой палаты пятого медицинского отделения сержант Михаил Самарин! — четко доложил первый.
— Староста второй палаты Александр Никитин! — отрапортовал следующий.
— Политрук Иванов. Докладываю: поступок относительно ржаной каши обсужден ранеными. Они просят извинить их… Осознали…
Ягунов вскинул на политрука серые умные глаза.
— Но мы знаем, что старостой четвертой палаты является Леонтьев, — прервал политрука Луканин.
— Леонтьев отстранен от своих обязанностей, товарищ комиссар, — ответил Самарин. — Старостой избран я.
— Сержант Самарин, а кто лично инициатор такого мероприятия? — спросил Ягунов.
— Личностей не было, товарищ начальник! Всей палатой так решили.
— Подобно остракизму в народном собрании греков, — уточнил староста Никитин. — Голосованием…
— Гм! Остракизм! Древние греки! Вы, очевидно, историк?
— Никак нет, агроном, но в свое время увлекался историей.
— Ну хорошо, — кивнул Ягунов. — Что же дальше, староста Самарин? Я слушаю…
— Уполномочен передать вам, товарищ начальник, вся палата возмущена и осудила недостойный поступок Леонтьева.
— Принято к сведению. А вы здесь почему? — обратился он к Никитину.
— Потому что Леонтьева решили перевести к нам. А мы протестуем!
— Чем это вызвано?
— Наша палата награждена вымпелом за образцовый порядок. И разумеется, нам Леонтьев — не украшение!
— Не многовато ли на одного такого наказания? — как бы между прочим заметил Луканин чуть громче обычного. — Товарищ Иванов и староста Самарин, вы подумали об этом?
— Нет, товарищ комиссар, — ответил Иванов.
— Мы рекомендуем подумать.
…Леонтьев остался в четвертой палате. А через шесть дней выбыл в свою часть.
Сто семьдесят девятый день войны, сто первый — блокады. Я переселился в комнату диетолога.
За три месяца госпиталь покинуло более тысячи солдат и офицеров. Большинство из них снова вернулось в строй. Неплохой показатель нашей работы!
В декабре меня направили на десятидневные курсы повышения квалификации врачей-диетологов.
Учились мы в бомбоубежище одного из госпиталей на Петроградской стороне, в здании, где до войны помещалось военно-топографическое училище.
Большая комната в подвале с низким сводчатым потолком. На стенах — таблицы, диаграммы, красочные плакаты: мясо, колбасы, ветчина, фрукты. Фантастические рисунки!
Ох уж эти курсы! В помещении дьявольски холодно. На стенах белый мох — иней. Сидим в полушубках, валенках, рукавицах. За партой, рядом со мной, Анна Федоровна Меншинина, диетолог соседнего с нами госпиталя, который помещается в здании Института акушерства и гинекологии. До войны работала в этом институте акушером.
Меншинина приносит с собой химическую грелку. Мы с ней по очереди пользуемся этим благодатным источником тепла.
Преподаватели в ватниках, валенках. У профессора Иванова валенки до того велики, что каждый шаг требует от него больших усилий. А может быть, он просто ослаб от голода.
Профессора я знал, будучи слушателем Военно-медицинской академии, где он преподавал военную гигиену.
Собравшиеся диетологи с большим вниманием относились к его лекциям.
— Напрасно иметь хорошие войска, если не уметь охранять их здоровье, утверждал еще Вегеций, римский военный историк, — начал он свое вступительное слово. — В службе здоровья питание — это наука, а диетология — правофланговый медицины. Вы диетологи военного времени, вы должны знать и помнить…
Иванов учил нас уму-разуму в работе, исходя из обстановки блокады. Но вот лекции профессора Каневской вызывают у нас приступы отчаяния. Талантливый педагог и знаток своего дела, она витала в облаках, с увлечением рассказывая о диетических свойствах фруктов и ягод, демонстрируя муляжи и картинки с изображением всевозможных кулинарных изделий, от одного вида которых у нас, блокадников, темнело в глазах.
Как-то, возвращаясь с этих лекций, я встретил в вестибюле госпиталя Сулимо-Самуйло, который к этому времени из помощника начальника продовольственного отдела превратился в начальника противопожарной охраны госпиталя.
— С курсов? — спросил он.
— Да.
— О чем шла речь?
— Как надо подавать фрукты и жарить лангеты. А ты откуда?
— Тоже с курсов. Учились без воды тушить пожары. Заодно пообедали в городе. Вот, посмотри, захватил для потомства. Да ведь не поверят.
Сулимо-Самуйло протянул мне небольшой серенький листок — меню фабрики-кухни Володарского района:
Суп из дрожжей Раскладка: Дрожжи… 15 г. Соль………. 3 г.…Трудности по-прежнему «прописаны» в госпитале. Еще в ноябре был установлен жесткий режим потребления электроэнергии. В декабре госпиталю этот лимит снова сократили. Из медицинских отделений изъяты все электронагревательные приборы. Хирургические инструменты теперь кипятят на кухонных плитах в буфетах отделений. В маленьких палатах оставили по одной лампочке, в больших — по две. Палаты и ординаторские освещаются утром в течение полутора часов, вечером — в течение пяти часов.
В остальное время свет выключается. Все механизмы пищевого блока отключены от электросети.
В стационаре госпиталя двадцать дистрофиков. Долго крепился начальник девятого отделения Коптев. Но силы сдали. Коптева уложили в ординаторской, за шкафом. Врачи Романова и Гордина устроили ему там нечто вроде отдельной палаты.
— Для Ивана Сергеевича, — говорит то та, то другая, отливая в столовой несколько ложек из своей порции супа. Сами же с трудом передвигают ноги от истощения.
А Коптеву все хуже. Перенесли его в стационар.
Слабеет и начальник нашего отделения Петр Матвеевич Муратов. Сделав операцию, он подолгу сидит на табуретке, опустив руки и закрыв глаза. А один раз упал в перевязочной, когда там находился Степан Иванович Павлов. Муратов «отошел» только в ординаторской. Неожиданно появилась тетя Даша:
— Петр Матвеевич, вас срочно просят в третью палату. Очень большое дело…
— Какое?
— Я молчу, молчу! — запротестовала Петрова. — А то, бают, что много говорю…
Мы с Муратовым идем в палату. Еще в коридоре слышим: там шумно.
При нашем появлении шум затих. Староста объясняет Муратову, что здесь происходит.
— Товарищ начальник отделения, — начинает докладывать Вернигора.
— А вы садитесь, на костылях стоять трудно.
— Спасибо! Степан Иванович Павлов внес предложение, — продолжает староста палаты. — И мы с ним полностью согласны. А предложение такое — всем раненым в госпитале ежедневно выделять из своего пайка по пятнадцать граммов хлеба. Для того чтобы поддержать ослабевших хирургов госпиталя. Нам-то что — лежать, а вам работать. Операции делать…
— Благодарю вас за такую доброту и внимание, — ответил Муратов. — Но что касается меня, то есть еще силы. И я, как бы вам это сказать, чтобы вы не обиделись, с таким предложением согласиться не могу…
— Тогда мы просим вас передать об этом командованию госпиталя, — настаивал Вернигора. — Правильно я говорю, товарищи? — обращается староста к раненым.
— Правильно!
— А как же иначе!
— Обязательно!
— Хорошо, я выполню вашу просьбу, — обещает Муратов.
Когда Ягунову доложили о решении раненых, он долго молчал. Никогда — ни до, ни после — не видел я у него такого растроганного лица.
— Это удивительно… удивительно! — повторял он, часто моргая глазами. — Как мы еще мало знаем людей! Сами недоедают и… Федор Георгиевич, надо доложить об этом желании раненых в Военный совет.
— Обязательно!
Через два дня Савицкий вызвал меня к телефону. Говорил Ягунов:
— Я в санитарном управлении. Срочно требуются данные о количестве предельно ослабленных раненых. Сколько таких у нас?
— Точно не помню. Необходимо уточнить.
— Сколько потребуется времени?
— Часа два…
— Позвонить мне через час. Делайте списки в трех экземплярах.
Ничего себе — за час обойти ординаторские десяти отделений! И ведь успел!..
Оказалось, что готовится постановление Военного совета фронта: не только предельно ослабленным, но и всем раненым и больным ежедневно выдавать дополнительно яичный порошок, какао, сушеные грибы. Не остались забытыми и ведущие хирурги. Им, если мне не изменяет память, стали выдавать не тыловой, а фронтовой паек.
Десятого декабря радио сообщило: войска Волховского фронта овладели Тихвином. Семь тысяч фашистских солдат и офицеров полегло в снегах Тихвина и Волхова.
Отбили Тихвин! Радостное известие прозвучало по всему госпиталю. Немедленно возник митинг. В самый разгар митинга — погас свет.
Забегали электромонтеры. Не сразу удалось понять, в чем дело. Наконец выяснилось, что госпиталю попросту перестали давать электроэнергию. Палаты и операционные окутала темнота. Рентгеновский кабинет вышел из строя. Врачи оказались в тяжелейших условиях, при которых возможны ошибки, чреватые опасными последствиями.
В соседнем госпитале удалось призанять сотню маленьких аккумуляторов. Зыков раздобыл елочные лампочки.
С помощью раненых работники госпиталя смастерили самодельные фонарики — четыре аккумулятора укладывались в деревянную коробочку из фанеры. Такую коробочку носили на груди.
Появились карманные фонарики с маленьким динамо. За характерный звук при нажатии рычажка — «жиу-жиу» — их прозвали «живу-живу!». Но как осветить госпиталь? В порту достали автол. Им наполняли консервные банки и налаживали фитиль. Получалось нечто вроде лампад. Они очень коптят. Такое «фитильное освещение», как его называют раненые, не может, конечно, нас устроить. Кухню пробовали освещать небольшими кострами из автола, которые разводят на противнях. Но от дыма и копоти не продохнуть. Слезятся глаза.
Перешли к лучине. Она горит с треском, осыпая людей искрами, отбрасывая на стены и потолок колеблющиеся причудливые тени. Жутковатое это было зрелище!
Беда рождала беду. Едва погас свет, как вышло из строя центральное отопление. Это в тридцатиградусные морозы! Казалось, наступил предел, хуже быть не может. Но это только казалось…
Чтобы немного согреть хотя бы тяжелораненых, кухня на ночь готовит кипяток. Его наливают в грелки, в бутылки и кладут раненым под одеяла.
А тут еще хочется спасти растения, которые передали госпиталю в октябре наши университетские шефы. Пальмы и кактусы собрали в одну палату шестого отделения, где стояли две большие круглые печки. Их кое-как топили. Эта «оранжерейная» палата, так ее называли раненые, самая теплая в госпитале.
Очередная утренняя конференция врачей не состоялась. Вместо этого всех начальников отделений, ординаторов, политруков и работников подсобных служб собрали на срочное совещание.
Совещание началось с того, что Луканин неожиданно спросил начальника квартирно-эксплуатационной части (КЭЧ) Сидорова:
— Сколько на здании госпиталя водосточных труб?
— Понятия не имею, — ответил начальник КЭЧ.
— Плохой ты хозяин, Ефим Сергеевич. Садись… Труб у нас — сорок четыре. Мы собрали вас для очень короткого разговора, — продолжал комиссар. — Завтра надо снимать все водосточные трубы. Они нужны для печей-времянок. Иван Алексеевич, сколько ты подобрал печников из раненых?
— Двадцать, — доложил Зыков.
— Хорошо. Время не терпит. Будем работать по сменам. Не сомневаюсь, что мы сложим печи. И как можно скорее. Максимум — пять дней…
— Это невозможно, — доказывал Сидоров. — Одного кирпича сколько надо достать! А глины, песка! Подумать только!..
— Успокойся, Ефим Сергеевич! Может быть, ты и прав. Но я хотел бы знать, что скажут нам другие специалисты? — повернулся комиссар в сторону, где сидели легкораненые.
Один из них, не торопясь, посмотрел на ладони своих рук, как бы ища в них советчика, и ответил:
— Знамо дело, это трудно — в пять дней… — И потом сказал как отрезал: — Но раз надо, сделаем, товарищ комиссар!
— Спасибо вам!
Утром стены госпиталя были облеплены люльками.
— Давай! — кричит старший хирург госпиталя Шафер, сидя в люльке.
Его люльку подтягивают на веревке. Поднявшись до карниза, хирург начинает по частям снимать водосточную трубу, звенящую от мороза.
А рядом покачиваются в люльках на лютом морозе хирург Муратов, политрук Богданов, художник Сулимо-Самуйло, дворник Семеныч и другие «кровельщики».
— Федор Георгиевич, почему меня не пускают снимать трубы? — огорченно вздыхает стоящая внизу Горохова. — Какой же я начальник отделения, если мои люди работают, а я…
— Нельзя, Валентина Николаевна, — втолковывает ей Луканин. — Работа тяжелая. Ваши руки нужны для операций.
— А Муратов? А Шафер?
— Они мужчины.
В те же часы к госпиталю подходили машины, груженные кирпичом, который медицинские сестры и санитарки добывали из разрушенных зданий.
За два дня все водосточные трубы были сняты, но стационар госпиталя пополнился тремя обмороженными.
Двадцать печников из выздоравливающих раненых приступили к делу. Отогревая дыханием руки, они старательно колдовали над составом глины, аккуратно укладывали кирпичи. Волновались, торопились: им ведь предстояло вдохнуть тепло в госпиталь.
За три дня в палатах установили девяносто шесть добротных печей. Водосточные трубы пошли на дымоходы. Они были выведены в форточки окоп.
Вечерами, в часы досуга, вокруг этих печей собираются легкораненые, врачи, медицинские сестры, санитарки. Здесь проводятся политинформации, читки газет, люди обсуждают положение на фронтах, делятся своими раздумьями. Говорили и о любви, о семьях, о давно прочитанных книгах, о довоенных фильмах, о войне… В это тяжелое время весь наш коллектив, все мы — врачи, медицинские сестры и раненые — были как одна семья, сплоченная всеобщим уважением и доверием.
В декабре контуженный батальонный комиссар Кузнецов написал в госпитальную газету «За Родину»:
«Такое постоянное общение и единение с вами, дорогие товарищи, морально поддерживает нас. А успешное лечение зависит не только от врача, но и от душевного состояния больного».
У огонька печурок раненые вслух читали долгожданные весточки от семей с Большой земли. И в каждом — стремление оградить раненого от невзгод семьи в эвакуации. Об этом, как правило, ни слова.
Вспоминается одно письмо, полученное весной сорок второго года раненым связистом Николаем Поповым. «…Что касается Андрея, то управы на него нету, — громко читал он в отблеске огня из раскрытой печки. — Уж такой характер — весь в тебя. Недавно явился из садика с синяком под глазом и шишкой на лбу. Оказывается, дрался с „фашистами“».
В письмо был вложен любительский снимок шестилетнего «активного бойца». Мальчик был в военной форме, сшитой по росту: шинель, фуражка, погоны, петлицы.
Фотография ходила по рукам раненых. Каждый держал снимок бережно, как малую птаху. Смотрел, вертел, давая оценку.
— Да, молодец! Эх, обнять бы такого!..
— Братцы! Очень похож на моего Петьку!
— Без отцов растут… Что поделаешь — война!
А на обороте фотографии — три надписи:
«Папа, убивай немцев! Андрюша».
«Товарищ цензор! Эти каракульки нацарапали вместе с сыном. Если карточка выпадет из конверта, отправьте, пожалуйста, ее по адресу: Пятигорск, Теплосерная ул., д. 36, кв. 4. Е. Л. Поповой. Буду очень благодарна».
Просьба была понятна. В ней завуалированное беспокойство матери: не изымут ли эту фотографию.
И сбоку надписи краткий ответ: «У нас ничего не выпадает». Чуть выше — штамп: «Просмотрено военной цензурой. Ленинград. 160».
Много с тех пор утекло воды. Но время сохранило фотокопию с этого снимка.
Госпиталь продолжает работать в напряженной обстановке осажденного города. Бедам, кажется, не будет конца.
Госпитальные запасы топлива тают с каждым днем, дрова для печей выдают предельно скупо. Ходячие раненые спят в шапках, поверх одеял — шинели.
В палатах понемногу исчезают стулья, табуретки, прикроватные тумбочки, доски из-под матрацев. Раненые называют это «приварком» к дровам. С этим «приварком» запаса дров должно хватить до середины января.
И все-таки раненые строго выполняют постановление старостата палат: из дровяного пайка от каждого отделения ежедневно выделяют по два полешка для отопления «оранжерейной» палаты.
События одного вечера и ночи
осле работы, в дни, установленные по строгому графику, в главной аудитории госпиталя начинала свою работу научно-практическая конференция врачей.
Сегодня я опоздал к началу на три минуты. Дверь закрыта. Опоздал — пеняй на себя. Однако мне повезло. Врач Зинаида Светлова подошла со свертками диаграмм. Постучалась в дверь.
Я попытался юркнуть на конференцию за спиной Светловой. Но не тут-то было. Это заметил Ягунов:
— Грачев! Вы почему опоздали и вошли без разрешения?
— Виноват!
— После конференции явиться ко мне! Садитесь.
В аудитории как бы прошелестел ветерок. «Будет мне бенефис», — подумал я. Это слово «бенефис», с легкой руки Савицкого, вошло в терминологию госпиталя. Под ним понимали ягуновский «разнос».
На трибуне начальник седьмого отделения хирург Горохова. Тема ее доклада: «К методике тренировки ходьбы раненых в тазовой повязке с целью подготовки их к эвакуации».
Очень важный и актуальный вопрос. Дело в том, что лечение переломов бедра проводилось по общепринятому принципу щадящей терапии — дать больной ноге полный покой гипсованием до пояса. Но для этого требовалось лежать продолжительное время: от двух до шести месяцев. Такое длительное лежание сопровождалось довольно часто неприятным осложнением: жизненный тонус раненых падал, мышцы атрофировались, терялся аппетит, психика была в состоянии депрессии.
— Какое там самочувствие! — жаловались раненые. — Лежим бревно бревном! И конца-края не видно…
И вот теперь Валентина Николаевна Горохова предлагает учить раненых ходить раньше принятых сроков. Тем более что условия перевозки по Дороге жизни позволяли эвакуировать только тех раненых, которые в пути могли хоть немного передвигаться и сидеть. Схематично говоря, метод Гороховой сводился к следующему: медицинская сестра спускала загипсованную ногу раненого на пол. Больной садился. После тренировки в сидячем положении раненого ставили на костыли — приучали ходить по ровному полу, а потом и по лестнице.
Конечно, предложение Гороховой было смело и необычно. Да и сами такие «ходоки» чувствовали себя неуверенно, боясь сломать ногу. А часть из них относилась к такому методу даже с возмущением. Командование госпиталя, руководствуясь существующими нормами и показаниями, не разрешило эвакуировать раненых в тазовом гипсе. Подготовка их оставалась прежней — длительной. Но Горохова продолжала такие тренировки на своем отделении. Кто был прав? Раненые, командование госпиталя или хирург Горохова. Об этом речь позже.
Несмотря на то что конференция закончилась поздним вечером, «бенефис» от Ягунова я получил…
А в полночь меня разбудил работавший в нашем госпитале Владимир Андрианков:
— Сколько у вас патронов к нагану?
— Двадцать.
— Быстро одевайтесь!
— Что случилось?
— Есть предположение — немцы выбросят десант…
Для охраны госпиталя каждую ночь назначался караульный патруль. В эту ночь он был усиленный.
В числе других я облачился в валенки, полушубок, шапку-ушанку, теплые рукавицы. Поверх полушубка кобура с наганом.
Мой маршрут по Менделеевской линии. От госпиталя до набережной Невы и обратно. Смена — через час.
Ночь. Непробиваемая тьма. Лишенные света дома. Гулкие и размеренные звуки метронома — бьется сердце Ленинграда.
От лютого мороза потрескивают деревья. Сугробы снега. Стынут лицо и руки. Постепенно мерзнет тело. Мышцы словно бы костенеют. Стараюсь двигаться быстрее, но согреться, конечно, невозможно. Так проходит час.
У госпиталя — долгожданная смена.
Стакан горячего морковного чая без сахара — и на койку. Ночью снился десант. Немцы стреляют в меня, но всё мимо, всё мимо…
Бомба
едьмого декабря занятие кружка по изучению истории партии прервала воздушная тревога. Руководитель кружка Евгения Виленкина схватила со стола конспекты и побежала в перевязочную, а врачи — каждый на свое место.
Опять прерывистое нудное гудение моторов в вышине, залпы зениток. Опять завыли сирены в госпитале. Надо переносить раненых вниз, в полутемное бомбоубежище.
В одном из отсеков бомбоубежища натыкаюсь на… заседание Ученого совета исторического факультета. Идет защита кандидатской диссертации.
Диссертант — офицер. В свое время защита была назначена на 23 июня 1941 года. Но шел второй день войны, и было не до того. А на шестом месяце войны уже стало «до того».
Фамилии диссертанта не помню. Кажется, это был военный юрист первого ранга. Он прибыл прямо с переднего края, с винтовкой за спиною. Ему дали отпуск на шесть часов.
В бомбоубежище — ни стола, ни кафедры, ни аудитории. Сидят только члены Ученого совета и официальные оппоненты.
Защиту диссертации я не дослушал. По крыше госпиталя забарабанило: посыпались «зажигалки». Я выбежал во двор, поднялся по темной лестнице на чердак. Вместе с другими начал орудовать лопатами и щипцами. «Зажигалки», распространяя зловоние, летели с крыши в снег.
Над нами гул моторов. Залпы зениток.
Пушкинская площадь усеяна кострами. Горят зажигательные бомбы, озаряя своим светом бойцов МПВО.
— Сейчас начнут жарить фугасками, — говорит политрук Московкин. — Знаю их повадки. Подожгут, осветят, а потом бомбят.
На Московкина зашикали со всех сторон:
— Типун тебе на язык!
Но политрук оказался прав. Так и случилось. Совсем близко воздух прорезал нарастающий свист падающей бомбы.
— Ложись! — крикнул Луканин.
Раздался глухой удар. Но взрыва не последовало. Второй удар. Султан огня позади госпиталя, а где — не разберешь! Третий взрыв…
Утром выяснилось — вторая бомба грохнула в Малую Неву. Около моста Строителей зияла громадная полынья с большими зазубринами. От нее по снежному покрову льда тянулся длинный след выброшенного со дна реки черного ила.
Третья бомба взорвалась на территории ботанического сада университета.
А первая бомба упала напротив главного входа в наш госпиталь, у столовой университета. Сто сорок шагов от нас. Точно выверено. До ноября мы ведь питались в этой столовой.
Бомба ушла глубоко в землю и не взорвалась. Специалисты утверждали — бомба замедленного действия.
Опасное место немедленно огородили и сделали предостерегающие надписи. Движение транспорта направляется в объезд Менделеевской линии, кружным путем. Все жители ближайших к столовой домов временно покидают свои квартиры.
На командирском совещании было предписано раненым ничего не рассказывать. Но уже к вечеру весь госпиталь знал, что рядом лежит невзорвавшаяся фугаска. На место падения бомбы пришел саперный отряд МПВО. Рыли двое суток в мороз и метель. Все это время мы жили словно на дремлющем вулкане. А саперы работали медленно — не было сил. К тому же они очень осторожно выкапывали землю, работая с точностью ювелиров. Неловкое движение, случайный удар могли вызвать страшный взрыв.
На третий день стало известно: они докопались до корпуса бомбы и обезвредили взрыватель. Жители окрестных домов и мы в госпитале с облегчением вздохнули. Опасность миновала!
Саперы продолжали работать, им теперь оставалось извлечь и увезти корпус бомбы.
Внезапно раздался оглушительной силы взрыв. Госпиталь содрогнулся. С треском лопалась в окнах фанера. С потолка сыпалась штукатурка. В коридоре — топот ног, крики людей.
— Носилки! Скорее!
В приемный покой принесли тяжелораненого сапера. Множественное ранение мелкими осколками. Жизнь едва теплилась в изуродованном теле, человек лишен малейших признаков сознания.
Считанные минуты решали судьбу сапера. Только переливание крови могло стать верным помощником врачей. А флаконы с кровью — на втором этаже, в операционно-перевязочной! Бежать туда некогда!
— Эдя! Скорее! — зовет начальник приемного покоя.
Эдя Львовна — донор первой группы. Ее кровь можно переливать всем.
Золотницкая ложится на стол. Проходит четверть часа — кровь донора перелита раненому.
И вот чуть шевельнулись веки сапера. Прерывистый голос:
— Уми… раю…
Но он не умер, Егор Михайлович Куракин. Семьдесят пять суток боролись хирурги за жизнь сапера. И врачи вышли победителями. Егор Михайлович выздоровел.
«Днем у нас шумно»
асад госпиталя по Менделеевской линии принял на себя всю силу удара взрывной волны полутонной бомбы.
Сорок два окна трех этажей были начисто выбиты. Мороз ворвался в палаты раненых.
На скорую руку бросились закрывать окна одеялами, досками из-под матрацев, шинелями и ватниками.
Через два дня экспертиза установила: фугасная бомба имела не один взрыватель, а два. Наши саперы впервые столкнулись с таким видом бомбы.
Но что делать с окнами: стекла выбиты, нужна опять фанера. И как можно скорее. В палатах холодно, очень холодно!
Опять в Лесной порт. Поехал на легковой машине. Это старенький «газик». Ему давно пора на свалку. Машина чихала, кашляла.
Даже опытные шоферы нашего госпиталя отказывались от такого драндулета. Одному лишь Николаю Кварацхелия удавалось «выжать» из этой «Антилопы-гну» все, что было возможно.
Наказ мне такой: если результат поездки будет положительный — сразу звонить из управления Балтийского пароходства. Там и ждать. Пришлют грузовую машину.
С Кварацхелия направляемся в пароходство. Поднимаюсь на третий этаж.
В кабинете Н. А. Хабалов и М. П. Панфилов. Первый — начальник пароходства, второй — его заместитель. У стены две койки.
Рассказываю о цели приезда. Прошу позвонить управляющему Лесным портом Черковскому.
— Телефонной связи сейчас с ним нет, — говорит Хабалов. — Сеть повреждена бомбежкой.
— Поеду к Черковскому…
Меня предупреждают: днем можно попасть под обстрел, порт работает только ночью.
— Здесь ведь передний край обороны, — уточняет Панфилов.
Спускаюсь к Кварацхелия. Он лежит под машиной. Что-то случилось с «Антилопой-гну».
— Скисла, стерва! Теперь и за час не управиться…
— Стой здесь до моего возвращения…
Главные ворота порта повреждены снарядами. На территории — дзоты и доты, траншеи, блиндажи. Зенитная артиллерия, пулеметы.
Группа людей разрывает лопатами снег.
— Что вы ищете? — спрашиваю снегокопателей.
— Все, что съедобно…
Вижу: кто-то стоит на коленях около дороги и шлюпочным топориком отрывает из снега какую-то железяку. Человек обернулся. Боже мой! Да ведь это Павел Пастерский, старший механик, с которым я плавал на теплоходе «Андрей Жданов».
Как он похудел и постарел! Пергаментно-бледное, осунувшееся лицо. С землистым, серым оттенком. Изборожденный морщинами лоб. Тусклые глаза, как будто обведенные тушью. «Остаточная трудоспособность», по выражению врачей.
— Паша? Ты ли это?
— Я, — глухо ответил Пастерский. — Как видишь… В натуральную величину. — И улыбнулся сухими, обескровленными губами.
— Что ты тут делаешь?
— «Андрей Жданов»… Нет его больше… — с горечью сказал Пастерский. — А я получил новое назначение — бригадир по монтажу блок-станции.
Моряки Балтийского пароходства решили собрать блок-станцию для снабжения электроэнергией Канонерского судоремонтного завода.
— Двигатель мы нашли. В отделе снабжения пароходства, — продолжал Пастерский.
— А при чем эта железяка, которую ты откапываешь?
— Не железяка, темнота! А кусок трубы, — недовольно отозвался Пастерский. — Для двигателя еще много надо… Вот и разыскиваем по всему порту. Подбираем, носим, переделываем… Есть только скелет, — объяснял Паша. — Надо в него вдохнуть жизнь. Понимаешь?..
Я понял только одно: в самого бригадира надо было «вдохнуть жизнь».
Иду дальше. Вот и Лесной порт, «лесное царство». До войны через него экспортировались лесоматериалы во многие страны мира. Сейчас здесь много снега. А там, где раньше у причалов стояли пароходы и шла напряженная погрузка, в небо подняты стволы зениток, дальнобойных орудий, прикрытых маскировочными сетями.
Разыскал управляющего Черковского. Марка Наумовича я хорошо знал. Ему за пятьдесят. В первую империалистическую войну служил в артиллерийском дивизионе, был награжден тремя Георгиевскими крестами.
— Как вы тут живете? — спрашиваю Черковского.
— Работаем и воюем. Как и все.
— Где семья?
— Жена в Куйбышеве. Борис на фронте — командир зенитного орудия…
В комнату вошел мужчина лет тридцати. В ушанке, полушубке, подпоясанном солдатским ремнем. Широкоплечий, плотно сбитый крепыш. От всей фигуры веяло физической силой, большим запасом прочности. Мужественное, покрасневшее от мороза лицо излучало добродушную улыбку. Чуть припухлые губы, крылатый разлет бровей. Внешность, которая привлекает с первого взгляда и надолго запоминается.
— Уф! — тяжело вздохнул он, снимая рукавицы. — Лопат мало, Марк Наумович. А снега много…
— Наш защитник, Корзун Андрей Григорьевич, — говорит Черковский. — Обожди, Андрей, я быстро вернусь.
Черковский куда-то уходит.
— Товарищ военврач, курево найдется? — застенчиво спрашивает Корзун.
Вынимаю кисет с махоркой. За самокрутными цигарками узнаю, что Корзун служит в батарее артиллерийской бригады, которая вместе с моряками из прославленного отряда острова Ханко держала оборону Лесного порта.
— Днем у нас здесь шумно, — говорит Корзун.
Слово-то какое простое — «шумно». Здесь не «шумно», а смерть витает на каждом шагу! Враг совсем рядом. По прямой всего четыре километра. И куда ни глянь — следы от осколков бомб и снарядов.
Вернулся Черковский.
— Вот и накладная готова. Только лучше приезжайте за фанерой ночью, — советует он. — Днем могут накрыть.
Темнеет. Обратно удачно «голосую» попутной грузовой машине, покрытой брезентом.
На снежных ухабах машину трясло и подбрасывало, будто корабль на штормовой волне.
— Как жизнь? — спрашиваю водителя.
— Вот как эта дорога! Неровная. Сегодня жив, а завтра нет…
Кабина пропитана кисловатым, терпким запахом.
— Что везете?
— Бараньи кишки. На обработку. Говорят, их можно есть…
Кварацхелия ждет меня. Ему удалось исправить «Антилопу-гну». Звоню Ягунову — наряд на фанеру получен. Ответ: сейчас пришлют грузовую машину. Быть у телефона. А Кварацхелия — в госпиталь.
Теперь есть возможность поговорить с друзьями. Спрашиваю Панфилова о судьбе теплохода «Андрей Жданов».
— Он хорошо послужил, — отвечает Михаил Петрович. — Сделал восемь рейсов и доставил из Кронштадта более пяти тысяч раненых.
— А когда он погиб?
— Одиннадцатого ноября. Подорвался на двух минах. На траверзе Таллина, когда шел на Ханко.
— А экипаж теплохода?
Погибли двое. Остальные обязаны жизнью отваге старшего механика Пастерского.
— Где сейчас балтийцы?
— Разбрелись кто куда. В народном ополчении. Партизанят в тылу врага. В навигацию были на Ладоге… В Борисовой Гриве. Много на Севере, на Каспии, Дальнем Востоке. Обеспечивают работу пароходов по перевозке стратегических грузов из Америки…
— «Луга» наша тоже погибла, — сокрушается Хабалов.
«Наша» потому, что я с Николаем Алексеевичем плавал на этом пароходе.
— При каких обстоятельствах?
Хабалов рассказывает. 28 августа «Луга» вместе с другими судами пароходства вышла из Таллина. Около полуночи наскочила на плавучую мину. Через пробоину хлынула вода. Судно начало быстро погружаться в воду. Триста раненых в трюме и медицинский персонал — все погибли…
На заделку фанерой каждого окна госпиталя выделено по два человека. Им охотно помогали легкораненые.
Толстая фанера плотно закрыла окна. Надолго ли?
Окончание этой работы совпало с радостным известием: удар наших войск в снегах Подмосковья развивается успешно.
Политруки проводят подробную информацию среди раненых.
В приемной начальника госпиталя при свете «летучей мыши» внимательно слушаем доклад доцента Геронтия Валентиновича Ефимова — «Положение на фронтах». Еще бы! Такое волнующее сообщение Совинформбюро:
«После перехода в наступление с 6 по 10 декабря частями наших войск занято и освобождено от немцев более четырехсот населенных пунктов».
Началось! Враг откатывается от столицы! Это поможет и Ленинградскому фронту. А пока — «наступление на берегу Невы успеха не имело». Трудно было нашим воинам в то время: силы для прорыва не хватало.
На стене приемной висит карта Советского Союза, на которой красной чертой обозначено расположение наших войск. Около карты стоит Г. В. Ефимов, опираясь на толстую указку, как на посох, — слаб от истощения.
Ему задают вопросы. Он отвечает. Тихо, но внятно.
Прежде чем продолжить дальше рассказ о тех днях, хочется поведать о судьбе артиллериста Андрея Григорьевича Корзуна, с которым я встретился у Черковского в Лесном порту.
Уже после войны, будучи главным врачом поликлиники Ленинградского морского торгового порта, я присутствовал на митинге у здания управления Лесного порта, посвященном открытию мемориальной доски в честь отважного защитника Ленинграда А. Г. Корзуна.
О его подвиге рассказал собравшимся секретарь парткома Лесного порта Арнольд Иванович Савин.
Вот как это было. 6 ноября сорок третьего года немцы ожесточенно обстреливали территорию Лесного порта. Дальнобойное орудие 6-й батареи, где служил Корзун, немедленно открыло ответный огонь. Началась артиллерийская дуэль. Гитлеровцы обрушили на батарею шквал огня. Один за другим падали у лафета артиллеристы орудия. И наконец остался только Корзун.
Но и один в поле воин. Гвардеец сам подносил снаряды, заряжал и стрелял. Осколком он был тяжело ранен и потерял сознание. Очнувшись, он увидел горящий ящик с боеприпасами. Сейчас возникнет взрыв. Собрав последние силы, Корзун пополз и успел полушубком накрыть огонь. В это время новый осколок снаряда смертельно ранил бесстрашного бойца.
Андрей Григорьевич Корзун был похоронен на территории Лесного порта, рядом с павшими от артобстрелов, бомбежек и голода. Потом его прах захоронили в Дачном.
Мужественному воину Корзуну посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. А одна из улиц Кировского района Ленинграда названа его именем.
В библиотеке университета
от люди! С какой любовью относились они к книгам! Речь идет о работниках научной библиотеки Ленинградского государственного университета. Я познакомился с ними в начале октября.
Большой, длинный и широкий коридор — основная магистраль главного здания университета. Здесь студенты, преподаватели, военные. Учебный год начался 1 сентября на всех факультетах.
Впервые вижу этот университетский коридор. Он такой длинный, что в конце его и стены, и пол, и потолок, уходящие вдаль, будто сходятся в одной точке. Слева поблескивают стекла больших окон. Справа — длиннейший ряд книжных шкафов. Они сплошь заставлены книгами, журналами, брошюрами. Между шкафов — двери в аудитории и кабинеты различных факультетов.
В конце коридора, в его тупике, дверь. Над ней надпись: «Научная библиотека имени М. Горького».
Меня приветливо встретил заведующий справочным отделом Андрей Владимирович Уржумцев. Высокий, весь какой-то размашистый, худощавый и подвижной, с живыми, умными глазами.
Уржумцев мне понравился с первого взгляда. Объясняю ему цель прихода: нужна литература о военно-полевой хирургии.
— Приходите завтра…
Я не поверил, что в такие дни библиотека столь быстро выполнит мой заказ, и я пришел через день.
— Что же вы, доктор, не пришли вчера? — Уржумцев показал мне на стол, где лежала стопка книг. — Для вас все готово.
В ответ на мою благодарность Уржумцев замахал руками:
— Я здесь ни при чем. Благодарите Софью Николаевну Эрбатову. Старая школа! Тридцать лет работы в библиотеке!
Познакомил меня Уржумцев и с Екатериной Алексеевной Шахматовой, дочерью академика Шахматова, выдающегося русского лингвиста.
— Тонкий классификатор и блестящий знаток книг! — восторженно отозвался Уржумцев о Шахматовой. — А вон там, у стеллажа, — Елена Александровна Лукашевич, заведующая отделом периодики. Милейший, должен сказать, и скромный человек. Работает у нас двадцать лет…
Случилось так, что в следующий раз мне удалось попасть в библиотеку лишь в конце декабря.
Поднимаюсь на второй этаж. На площадке лестницы стоит женщина в черном поношенном пальто, стоптанных валенках. Поверх пальто укутана большим шерстяным платком. Под мышкой папка для бумаг и кусок фанеры.
— Ирина Митрофановна!
— Она самая…
Ирину Митрофановну Покровскую мы уже хорошо знаем по частым посещениям раненых, дежурствам в палатах и перевязочных.
До работы в госпитале Покровская участвовала в строительстве оборонных рубежей под Ленинградом, а затем была в команде МПВО университета.
— Куда бредете, Ирина Митрофановна?
— В библиотеку. Одолела пятнадцать ступенек, отдыхаю… У вас давно не была — выполняю задание командования фронта по составлению географических характеристик Ленинградской области. Нужно для партизанских отрядов.
По сравнению с сентябрем университетский коридор стал неузнаваем. Разбитые стекла окон. Стены промерзли, покрылись инеем. Лопнувшие от мороза радиаторы отопления. Под ними снег, замерзшие лужи. На обледеневшем полу осколки битого стекла, куски обвалившейся штукатурки. Ящики с песком. Обрывки бумаг, газет и всяческий мусор. В многочисленных шкафах — разбухшие книги и журналы. Они смерзлись. Корешки и переплеты пупырчаты. Раздулись, покрылись плесенью. Запах старой бумаги, старых книг…
В коридоре сутулые люди. Закутаны в шарфы, шали, кашне, платки. Одни, с трудом отколов наледь, вынимают книги из шкафов, другие, пошатываясь, куда-то несут их.
Читаю устаревшую надпись: «Тише! Здесь лекция!» На двери геологического факультета висит объявление: «Закрыт до конца войны». А внизу, печатными буквами, приписка красным карандашом: «До победы над Германией!»
По коридору две закутанные женщины везут на детских санках ослабевшего мужчину.
— Куда?
— Из общежития… в наш стационар…
Над дверью библиотеки сверкал инеем барельеф Горького. Проходя отдел каталога, я сначала не понял, почему в нем так темно. Потом разобрался: окна зала превращены в узкие бойницы.
В отделе выдачи книг на дом тоже темно и холодно. На столах ящики с картотеками. В комнате — закутанные сотрудники библиотеки.
Около печки бельевая корзина. В ней все, что может служить топливом. Старые журналы, картон, бумага, газеты. Разный хлам. Тлеющий огонек такого топлива чуть-чуть освещает комнату, столы с неразобранными книгами. Люди работают, с трудом передвигаясь…
Беру со стола том Большой Советской Энциклопедии. Листаю.
— Снимите, пожалуйста, перчатки, вы портите книгу, — сделала мне замечание сидевшая напротив женщина. Как потом узнал — Анна Герасимовна Сиротская, главный библиотекарь.
…Придя в библиотеку через несколько дней, захватил два полена.
— Это штраф за мой поступок, помните, я в перчатках перелистывал Энциклопедию, — сказал я Сиротской.
Она не улыбнулась.
— Пожалуйста, расколите сами… Сил нет…
Топор валялся здесь же, у «буржуйки».
Все мы собрались на огонек, к теплу. На столе около печки сушатся древние фолианты. Их спасают от сырости.
— Вот она какая неказистая, — говорит Надежда Александровна Кузьмина, поглаживая корешок старой-престарой книги. — А ей цены нет! Старушке — за три века! Посмотрите!
«Старушка» — грамматика Мелетия Смотрицкого. Издана в Москве, в 1648 году.
— По этой грамматике учился Ломоносов, — объясняет Надежда Александровна. — Обратите внимание и на такое сокровище…
Перелистываю толстенный фолиант Магницкого «Арифметика, сиречь наука числительная». Возраст — двести лет.
Эразм Роттердамский. Коперник. Русский первопечатник Иван Федоров. Платон. Галилей. Что ни книга, то глубокая древность.
Надежда Александровна о чем-то пошепталась с Сиротской и потом обратилась ко мне:
— Помогите, пожалуйста, принести одну инкунабулу! Люся, проводи доктора в отдел редких книг и рукописей.
Вместе с Люсей идем в хранилище уникальных изданий. Знакомимся. Люсе Шерцер девятнадцать лет. В библиотеке работает второй год.
Наш путь среди длинных и высоких полок. На них громоздится великое множество книг. В этом лабиринте стеллажей легко заблудиться.
Вот и хранилище редкостей. Дышу тем особым запахом, которым пахнут в хранилищах книги, пережившие своих авторов на многие века.
В сопровождении Люси Шерцер инкунабулу доставил на плече. Это — «Историческое зерцало», изданное в Нюрнберге четыре с половиной века назад. Очень толстый и тяжелый фолиант. Наверное, килограммов десять, если не больше!
Потом принес «Саксонское зерцало» — тоже очень объемистый уникальный фолиант.
Тряпочками с формалином женщины осторожно протирали страницы книги. Руки у библиотекарей красные, будто долго полоскали белье в проруби.
— Вы лечите раненых, а мы — книги, — говорит Анна Герасимовна Сиротская.
И впрямь они книжные доктора. Заботливо и тщательно осматривают «больные» книги, ставят диагноз, восстанавливают их здоровье, возвращают жизнь.
У моих собеседниц глаза закрываются от усталости.
Записываю в блокнот: «До войны в библиотеке работало сто двадцать сотрудников. К началу блокады — пятнадцать. А теперь осталось только девять. Остальные — кто эвакуировался, кто лежит дома, кто в больнице, кто умер…»
— Книжные фонды законсервированы, — уточняет Анна Герасимовна Сиротская. — Изредка кое-что выдаем по заявкам фронта.
— А где Андрей Владимирович Уржумцев?
— Подорвала проклятая дистрофия… В конце ноября…
— А Эрбатова и Шахматова?
— Их тоже… Софья Николаевна спустилась вниз за какой-то справкой. Там ее нашли в обмороке. На полу. Умерла в больнице. А Шахматову подобрали на улице…
Женщины много курили. Особенно Екатерина Павловна Прохорова и бухгалтер библиотеки Нина Павловна Куремирова.
— Это в какой-то степени заглушает голод, — говорит Куремирова.
В печке догорали угли. Красноватые блики освещали потемневшие от копоти лица моих собеседниц.
Тепло печки возымело свое действие. Опустив голову на грудь, задремала Кузьмина.
— Надя! Проснись! — тормошила ее Сиротская. — Надя!
— Ой, батюшки! — очнувшись, тревожно вскрикнула Надежда Александровна.
— Что с тобой?
— Курица приснилась! Жареная! С печеными яблоками! Зачем ты меня разбудила! Только половину съела…
— Подкрепилась, теперь давай разбирать книги, — прервала Сиротская. — Остальное завтра доешь…
Возвращаясь, в коридоре университета встретил женщину. Она молча поклонилась. Я ответил. Но кто она? Лицо закрыто кашне по самые глаза.
Обернулся. Женщина — тоже.
— Не узнаёте? Гуцевич Софья Александровна. Помните, в октябре наши принесли в госпиталь пальмы и прочее, а я — корзиночку шампиньонов? Неужели не помните?
— Теперь вспомнил. Ваши пальмы живы…
— Спасибо. Теперь нас волнуют не пальмы, а совсем другие растения.
Оказалось, что Софья Александровна вместе с другим научным сотрудником — А. Н. Шивриной — подготовляют к изданию научно-исследовательскую работу по изысканию дополнительных пищевых ресурсов из дикорастущих растений.
Летом Гуцевич и Шиврина будут собирать эти травы.
Вот ка: сие заботы одолевают мужественных женщин в холодную и голодную зиму!
Встреча с другом
вадцать пятого декабря — радостное известие: населению города увеличили хлебную норму. Рабочие и инженеры будут получать на 100 граммов больше прежнего, а остальные на 75 граммов.
Первая и заметная прибавка после стольких снижений. Значит, Дорога жизни — ледовая трасса, проложенная через Ладогу, — действует нормально.
По-прежнему трудно. Артиллерийские обстрелы, голод, холод, отсутствие света, воды с каждым днем подрывают силы людей.
В такой обстановке продолжал работать госпиталь.
Слегла старший ординатор нашего отделения Евгения Павловна Кувшинова, начальник второго отделения Маргарита Чинчарадзе. Редко стали появляться родственники, друзья и знакомые раненых.
Вольнонаемные служащие — санитарки, уборщицы, поломойки — приходили на работу с большим опозданием, а иногда и вовсе не являлись. Они жили в разных концах города. Добираться до госпиталя им стало почти невозможно, — пеший путь выматывал последние силы. Трамвай к концу декабря окончательно перестал ходить.
Но те, кто оставался в строю, продолжали работать за себя и за обессилевшего товарища.
Двадцать восьмого декабря в газете «На страже Родины» был опубликован приказ войскам Ленинградского фронта. От имени Президиума Верховного Совета СССР за доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе и в тылу против немцев, награждена орденами и медалями большая группа моряков-балтийцев. Сорок пять человек!
Радостно было мне встречать знакомые имена друзей: Семен Марков, Григорий Вольперт, Николай Чигиринский, Борис Хирхасов.
В тот же день в нашей ординаторской зазвонил телефон. Спрашивали меня.
— Здравствуй, друже! — послышался в трубке приглушенный, простуженный голос.
— Кто говорит?
— Забыть так скоро! Боже мой!..
— Не узнаю. Скажите еще что-нибудь. Голос, голос!
— Голова! — на сей раз раздалось громко в трубке. — Позор всей дивизии!..
Узнал! Любимое выражение приятеля, электромеханика турбоэлектрохода «Балтика».
— Марков? Сеня?
— Он самый…
— Как ты узнал, что я в госпитале?
— Земля слухом полнится.
— А где ты сейчас? Откуда говоришь?
— Из Ленинграда…
— Понимаю. Я тебя увижу?
— Приду, поговорим…
Вечером мы встретились. Широкоплечий Марков в бурках, полушубке. Серая заячья шапка-малахай. Рукавицы. Лицо похудевшее, но, как всегда, добродушное.
— Что ты так смотришь? Я или не я?
— Ты, конечно. Но…
Передо мной не Сеня, а комиссар партизанского отряда моряков Балтики. Завтра в Смольном будет получать орден Красного Знамени. Он рассказывает о борьбе партизанского отряда моряков Балтийского пароходства. Многие ранены: второй помощник капитана Чигиринский, старший механик Злобин, матрос Дмитриев.
— Арутюнова помнишь? — спрашивает Марков.
— Жоржа? Еще бы!
Я знал Георгия Матвеевича Арутюнова, ресторатора турбоэлектрохода «Балтика». Аккуратно подстриженные волосы, пружинистая походка и присущая кавказцу жестикуляция. Он был жизнелюб, верный, приветливый и внимательный товарищ. Осколок снаряда сразил Арутюнова.
Мы продолжаем беседу.
— Вот ты говоришь: война изменила людей, — продолжает ходить по ординаторской Марков. — Это не совсем точно. Очевидно, война выявила скрытые черты характера, о которых сам человек и не подозревал. Жорж, судовой ресторатор, становится партизаном, закладывает взрывчатку, обезвреживает мины, выводит из строя связь… Идет на смелое дело. Без оглядки!..
— Сеня, а как ты узнал, что я в этом госпитале?
— Гриша Вольперт сказал. Он ведь у тебя лежал? Кстати, Григорий награжден орденом Красной Звезды. Он начальник штаба партизанского отряда. Завтра ему тоже вручат орден.
— Почему же он не пришел?
— После ранения ему тяжело ходить…
Григорий Вольперт — инженер Балтийского пароходства — был ранен на Невской Дубровке, доставлен в наш госпиталь 30 сентября и выписан в конце ноября в часть «по собственному желанию», как было записано в журнале госпитальной медицинской комиссии.
— Григорий лежал в «морской палате», — говорю я. — Есть у нас и такая.
— В «морской»? — встрепенулся Марков. — Наши там еще есть?
— Двое.
— Надо навестить…
В «морской палате» Марков рассказывает раненым о смелых рейдах балтийцев за линией фронта, по вражеским тылам.
— Земля там — крестьянская, леса — партизанские, шоссе — немецкое, а власть — советская!
Он рассказывает о взрывах мостов, аэродромов, гитлеровских эшелонов, о разрушениях телефонной и телеграфной связи и многое другое.
— Горит у них земля под ногами…
— Кирпициней по бациней! — громко смеется староста палаты, по-детски закинув голову.
Вернулись в ординаторскую. Отпраздновали награду Семена Николаевича — выпили по три стакана горячего чаю. Это было кстати: в госпитале холодно.
На двоих был кусок сахару, который Марков извлек из противогаза. Вынув из кожаных ножен финку, Сеня расколол кусок на четыре части…
Ночь. Провожаю друга до набережной Невы. Всполохи прожекторов. Мороз пробирает до костей. Хрустит снег под ногами.
Марков время от времени светит себе под ноги карманным фонариком.
— Ну, Сеня, прощай! Живы будем — увидимся… Ты куда сейчас?
— Разрешено навестить семью.
— Где она?
— В Парголове. А твоя?
— Эвакуирована в Омскую область. А после семьи ты куда?
— Туда, куда нужно, Сусанин сказал. Понимэ?
— Чую!
У Дворцового моста мы пожали друг другу руки…
В новогоднюю ночь…
сли смотреть правде в глаза, то надо прямо и откровенно сказать — для госпиталя наступили поистине трагические дни: нет хлеба, нет света, нет тепла. Дрова на исхода. На улице — тридцатиградусные морозы. Немыслимое испытание в борьбе за жизнь раненых.
В такой обстановке заболел Ягунов. У него паратонзиллярный абсцесс — нарыв в горле.
Последний день декабря. Через несколько часов — Новый год. Зашел навестить Ягунова. В кабинете пахнет сыростью, лекарствами.
— Чайку сейчас согреем, — хлопотал Савицкий около Ягунова, напоминая заботливую няньку.
Выхожу на улицу. Щедрая луна, которую блокадники ненавидят: в лунную ночь чаще бомбят город. Но сейчас вокруг тихо. Казалось, город оцепенел от холода.
Поздним вечером в приемной начальника госпиталя Савицкий тяпкой разламывал какой-то ящик, бросая топливо в печку. Она дымила.
— Организуем здесь концерт самодеятельности. Новогодний, — говорит Петр Устинович.
— Концерт? В такую пору? — Это было так неожиданно, что я вначале не понял: шутит Савицкий или говорит всерьез.
— Да, концерт, — повторяет он. — А ты что… смотришь, словно воробья проглотил? Жизнь!
Концерт начался в одиннадцатом часу. Укутанный одеялом, в каталке, около печки сидит больной Ягунов. На пианино мерцают две коптилки, скудно освещая аккомпаниаторшу, чуть подальше, в темном, холодном и неуютном «зале» сидят зрители. В пальто, шинелях, полушубках, ушанках. Конферансье Савицкий представлял участников концерта самодеятельности.
— Темно! — крикнули в «зале». — Плохо видно!
— У кого есть карманные фонарики, прошу осветить сцену! — не растерялся конферансье. — Я прочту поэму Джамбула «Ленинградцы, дети мои!».
Нашлись и певцы. Аккомпанировала буфетчица второго отделения Ольга Дмитриевна Дашкова.
— Не торопитесь, пожалуйста, со сменой артистов! — просила Ольга Дмитриевна. — Не успеваю дыханием согреть пальцы.
— Подождем! — сказал Савицкий. — А пока выступит доктор Грачев. Он будет петь! Громко! Без аккомпанемента!
И надо же, что выдумал!
— Не могу! Забыл ноты дома! — откликнулся я из третьего ряда «зрительного зала».
— Ария Хозе из оперы «Кармен», музыка Бизе! — не унимался Савицкий. — Исполняет без нот и без аккомпанемента известный певец Федор Федорович Грачев.
Меня выталкивают на «сцену». Надо что-то сказать.
— Вот пройдет время, кончится война. Темнота, холод и прочий неустроенный наш быт станет легендой. И доживу я, дорогие товарищи, до той поры, когда не услышу грозного окрика: «Грачева ко мне!» — С этими словами я как бы подкрутил усы, вздернул их и влево и вправо!
Дружные аплодисменты зрителей. Всем понятно. Попал, что называется, в «десятку»! Это жест Ягунова, когда он взрывается. А сам адресат дернулся всем телом, схватился за шею, захрипел и уткнулся в одеяло.
Все вскочили со своих мест.
— Антракт пять минут! — выкрикнул Савицкий.
Что случилось с начальником? Оказывается, от смеха абсцесс в горле прорвался!..
Концерт самодеятельности окончился в половине двенадцатого.
Ко мне подошел Шафер.
— Поднимайся сейчас к нам, — пригласил он. — Кулькова, представь себе, сэкономила немного водки от ноябрьской выдачи.
В кабинете старшего хирурга стояла небольшая елочка с красной звездой на макушке. На ветках — незамысловатые игрушки, изделия раненых. Свежий, смолистый запах хвои.
Политрук шестого отделения Кулькова аккуратно раскладывает на тарелки новогодний ужин — гомеопатические дозы пшенного концентрата, пахнущего бензином. Бокалы — градуированные мензурки. Хозяйка стола наливает по черточку — пятнадцать граммов.
В полночь мы подняли свои мензурки…
Так начался январь
клонившись над столом, пишет Коптев. Иван Сергеевич сегодня избран секретарем партийного собрания.
Первым вопросом на собрании слушается заявление начальника госпиталя, военного врача первого ранга, профессора Сергея Алексеевича Ягунова о приеме его кандидатом в члены партии.
Рекомендуют: Луканин и Долин — члены партии с 1919 года.
Ягунов рассказывает о себе.
Первая империалистическая война застала его слушателем Военно-медицинской академии. В 1915 году, в порядке прохождения практики, его направили на фронт.
Тяжелая контузия. Оправившись, снова попал на фронт. На этот раз Ягунов «понюхал» газа, пущенного немцами, крепко «понюхал». Опять госпитальная койка.
Военно-медицинскую академию Ягунов все же окончил. И пошел служить в Красную Армию. Опять тяжелая контузия. Комиссия признала Ягунова негодным к дальнейшей военной службе.
Началась «гражданка». Школьный врач, заведующий родильным отделением Стрельнинской больницы, преподаватель гигиены в средней школе, лектор на курсах РОКК. И параллельно — упорная работа над повышением своих знаний, над решением ряда научных медицинских проблем. Защита диссертации на ученую степень кандидата, а потом доктора медицинских наук. Утверждение в звании профессора.
Тема докторской диссертации — исследование влияния на человеческий организм больших высот. Вопрос, который кропотливо изучал и разрабатывал Ягунов, имел очень важное значение в обороне нашей страны. Нацеливаясь далеко вперед, будущий профессор шел по неизведанному, но смелому пути теоретического и экспериментального исследования. Для этого Ягунов решил испытать на себе все каскады высшего пилотажа: «иммельман», «штопор», «листик», «мертвую петлю»…
В июле сорок первого года профессор Ягунов был назначен начальником лечебного отдела армии народного ополчения. А через два месяца он получил приказ организовать военный госпиталь в здании исторического факультета Ленинградского университета.
Мнение коммунистов единодушно: принять Сергея Алексеевича Ягунова кандидатом в члены партии.
Второй вопрос повестки дня партийного собрания — отопление и освещение госпиталя.
Во время обсуждения возникла мысль: подключиться к электроэнергии водопроводной подстанции, которая снабжала водой Васильевский остров. Она была расположена во дворе университета, меньше чем в километре от госпиталя.
Мы надеялись, что подключиться нам разрешат. А будет электроэнергия — тогда два мотора нашей котельной обеспечат полностью циркуляцию горячей воды по отопительным трубам госпиталя.
Но подключиться непросто. Нужен кабель. Где и как достать тысячу метров кабеля?
Закрывая собрание, Луканин сказал:
— Не может быть, товарищи, чтобы мы не нашли выход. Давайте все думать, как нам раздобыть кабель. Дальнейшая работа в темноте и холоде грозит госпиталю катастрофой.
Так начался январь сорок второго года.
Завыли метели. Сугробы вокруг здания подбирались к окнам первого этажа. Навалились всеми наличными силами на «белую беду». Одолели. Но воды нет — замерз водопровод. Нет воды, А ведь сколько нам ее нужно! И для приготовления пищи, и для грелок, и для мытья раненых, и для стирки белья!
Где же выход?
И вот на Неву побрели врачи, медицинские сестры, политруки, санитарки, работники служб госпиталя. Пятьсот метров до Невы и столько же обратно. Один рейс — километр.
Нева окутана туманом. Река замерзла очень неровно. Торосы. Сугробы. Куражит, взвивается снежная поземка. Увязая в сугробах, люди волокут за собой санки. С бидонами, бочками, ведрами. Лютый мороз, холод пробирается под одежду. Колючий ветер перехватывает дыхание. Заряды снежной крупы обжигают лицо.
Я работаю с политруком Ильей Московкиным, медицинской сестрой Клавдией Лобановой. Наши санки оседают в снег, застревают. Вода расплескивается, быстро замерзает на санках и одежде.
Рядом трудятся начальник материального обеспечения госпиталя Зыков, прачка Лидия Самохина и хирург Муратов. У Зыкова сбитый на затылок малахай. На лбу прядь взмокших волос. Вспотел на таком морозе! Тридцать два градуса!
Я слышу прерывистое дыхание Зыкова, Самохиной и Муратова. Изо рта каждого, словно из самовара, клубится пар.
И так ежедневно. График — по пять рейсов каждой бригаде. На Неву и обратно. Диву даешься, какой путь одолевали. Теперь самому не верится.
Беда беду родит. Вышла из строя прачечная. Вольнонаемные прачки прекратили работу еще в декабре — кто умер, а кому не дойти до госпиталя из дому. Но стирать белье надо во что бы то ни, стало!
Сложили своими силами большую плиту, раздобыли корыта, тазы. Но в чем кипятить белье? Надоумил Голубев: зубилами разрубить пополам бочки из-под бензина. В таких самодельных баках и кипятили белье.
Нет мыла — его заменили щелоком, завязанным в узелки. Щелок разъедал кожу на руках. А стирали врачи, медицинские сестры, санитарки. Работали круглосуточно, по сменам — по три часа, за счет своего отдыха. В течение пяти суток сделали порядочный запас чистого белья.
Одна беда миновала — пришла другая: куда класть раненых? Верно, по Дороге жизни началась эвакуация раненых, которые нуждались в длительном лечении и были транспортабельны. Но эта эвакуация пока что не удовлетворяла эвакогоспитали. Наш госпиталь переполнен. В палатах нет места. Даже если бы и нашлось — нет коек. Что делать?
Выручили широкие, в три метра, коридоры. Вдоль них расставили носилки с ранеными. Но и носилок не хватало. Вынесли в коридоры все диваны из ординаторских, клуба, красных уголков.
Зыков с большим трудом достал две машины досок. Для этого сломали заборы в Новой Деревне.
Из досок делали топчаны. В работе нам помогали выздоравливающие. Среди них были специалисты всех профилей: печники, плотники, столяры, водопроводчики. Но для такой помощи они допускались только с учетом, насколько тот или иной вид работы способствовал выздоровлению. Это была трудовая терапия, входившая в комплекс лечения раненых.
Скользят рубанки по старым доскам в коридоре, снимают с них вихрастую стружку.
За четыре дня из таких досок сколотили топчаны.
В забитых до отказа коридорах темно и душно. Дым печурок, табак, терпкий запах пота, копоть от «фитильного» освещения.
Свет! Свет! Он нужен как воздух!
Ох какой тяжелый месяц январь! Госпиталь живет на пределе своих сил. Раненых значительно больше нормы, а штат медицинских сестер и санитарок поубавился. Лежат в стационаре.
Слегла и тетя Даша Петрова. У нее колит — тяжелое осложнение при алиментарной дистрофии.
Госпиталю очень трудно. Значительно уменьшилось количество операций, гипсования и других видов лечебной работы. Не работают рентген, клиническая лаборатория, аптека, физиотерапевтическое отделение. Недостает медикаментов. Недостает дистиллированной воды. В двадцатых, числах января госпиталь был вынужден перейти на приготовление стерилизатов из снеговой воды.
Среди этих бед в конце января — радостное событие: вторично увеличили хлебный паек. Рабочие стали получать 400 граммов хлеба, служащие — 300, иждивенцы и дети до двенадцати лет — по 250 граммов. Повысились нормы снабжения хлебом и войскам Ленинградского фронта: первой линии — 600 граммов, тыловым частям — 400.
И еще одна огромная радость — наши войска окончательно выгнали немцев из Московской области.
Ночью я заявился к Луканину. Он что-то писал при свете мерцающей коптилки.
— Федор Георгиевич, а не сходить ли мне в порт? Там должен быть кабель. Может, и дадут?
— Твое предложение пока оставим в резерве. Сегодня вечером я говорил с больным Городецким, из шестого отделения. Он инженер-электрик. Так вот, он натолкнул на мысль — попытаться достать кабель на заводе. Не выйдет — пойдешь в порт. А сейчас ложись спать. Зайди ко мне после утренней врачебной конференции.
Командировка за светом
тром в кабинете Луканина я застал небольшого роста бойца в полушубке. Это был Емельян Никитич Городецкий, с которым мне предстояло идти на «Севкабель».
Комиссар протянул мне бумажку с бледным, едва различимым машинописным текстом: от холода высохла лента.
Командировочное удостоверение.
Предъявитель сего военврач 3-го ранга тов. Грачев Ф. Ф. командируется на завод «Севкабель» для переговоров о приобретении 1000 метров кабеля, необходимого для подвода госпиталю электроэнергии.
Батальонный комиссар Ф. Луканин.Путь на «Севкабель» не близкий — в Гавань. В оба конца километров семь.
Вышли на Университетскую набережную. Закутанные во все теплое, медленно бредут студенты и преподаватели. Встречаем Ирину Митрофановну Покровскую.
— Как жизнь, Ирина Митрофановна?
— В трудах и заботах. У нас зимняя сессия. Экзамены…
— Ну и как?
— Сами понимаете…
Дымят вмерзшие в Неву корабли. Стволы башенных орудий подняты к небу. По берегу расставлены зенитные батареи.
На Неве — проруби. Над ними — завитки морозного пара. От жуткого мороза вода выпирает из-подо льда. Она не успевает застывать, как на нее накипает новая. И кажется, что дышит скованная льдами широкая река.
У обледенелого гранитного спуска люди с ведрами, бидонами, чайниками, кастрюлями.
Снега, снега. Исчезли тротуары, завалены сугробами подвальные окна. С крыш домов свисают большие снежные карнизы. Того и гляди обвалятся!
По дороге разговорился с Городецким. Доброволец армии народного ополчения. Его часть была окружена противником. С боями вышли из окружения. Партизанил в тылу врага. Был обморожен.
До войны Городецкий — начальник одной из теплоэлектроцентралей Ленэнерго. Емельян Никитич хорошо знал директора завода «Севкабель» Алексея Корнильевича Козловского: вместе учились в Политехническом институте. К Козловскому мы сейчас и бредем.
Большой проспект — главная магистраль Васильевского острова — завален сугробами. Лучшие в городе громадные дубы, ясени, клены — все в инее. Зимняя сказка! Но тут же занесенные снегом трамвайные вагоны, повисшие, скрюченные провода.
Редкие прохожие закутаны до самых глаз — мороз около тридцати градусов. Заиндевевшие ресницы. Густой пар от дыхания.
Витрина, забитая щитом из досок. На щите объявления. Почти все написаны карандашом: чернила в нетопленных квартирах давно застыли.
Одно объявление запомнилось:
«Срочно меняю прекрасный рояль „Беккер“ на все, что можно есть!»
Последние слова дважды подчеркнуты синим карандашом.
Городецкий шел медленно, он еще не совсем поправился после обморожения.
— Зайдемте ко мне, — предложил он. — Это по пути. Хочу повидать семью. Жена с детьми не успела эвакуироваться.
По обледенелым от воды ступенькам поднялись на пятый этаж. Дверь отворила ссутулившаяся женщина С покрытым копотью лицом.
— Емельян! Выписали!
— Нет, Таня, пока еще в госпитале. Зашел ненадолго.
В холодной комнате на кровати лежали два мальчика.
— Папа пришел! Папа! — встрепенулись ребята, увидев отца.
— Лежите! — прикрикнула мать. — Не тратьте сил!
— Папа, ты насовсем? — высунулся из-под одеяла давно не стриженный мальчишка.
— Нет еще.
— А скоро совсем придешь?
— Не знаю, Валя.
В углу комнаты «буржуйка». Труба выведена в форточку, заделанную жестью. — Под ножками печки — противень.
— Садитесь! — предложил мне Емельян Никитич, но, окинув взглядом комнату, почесал в затылке.
— Стулья сожгли, — сказала жена.
— Правильно сделали! — одобрил Городецкий.
Емельян Никитич выложил на стол свои приношения: завернутую в бумажку пшенную запеканку и кусок хлеба — остаток от дневного пайка в госпитале.
Каша замерзла. Дров не было. Городецкий, не долго думая, вынул два ящика из письменного стола и быстро превратил их в дрова.
И вот вспыхнуло чудодейственное пламя. «Буржуйка» не имела кирпичной футеровки и потому быстро нагрелась. Глухо ворчит блокадная печка. На ней — сковородка. Порывшись в ящике закопченного трельяжа, жена Городецкого взяла пузырек и показала мне:
— Думаю, что это можно употребить?
«Олеум персикорум», — прочел я на этикетке.
— За неимением гербовой, пишут на простой…
Через несколько минут персиковое масло, пузырясь, шипело на сковородке. Разогрев на этом масле запеканку, Городецкий аккуратно разделил ее на три равные части. Две из них поднес ребятам в кровати, третью протянул жене.
— А ты? — спросила она.
— Я сыт…
…Мы продолжали свой путь по Большому проспекту. Наконец добрались до завода «Севкабель».
В проходной завода неподвижная фигура. Очень трудно понять, кто это. Мужчина или женщина? Лицо так укутано, что мы видим только одни ввалившиеся, поблекшие глаза. А на руках — обрезанные перчатки, какие обычно зимой носили кондуктора трамвая.
Нам выдали пропуск на завод.
В кабинете за большим столом сидел в полушубке мужчина лет сорока с седыми висками. Он медленно встал, по-старчески опираясь на ручки кресла.
— Емельян! Какими судьбами? Садитесь, товарищи!
Мы объяснили цель своего прихода.
— Что-нибудь придумаем, товарищи.
Где-то совсем близко грохнул снаряд. Второй… Зазвенели стекла в кабинете.
— Начинается! — нахмурился директор, снимая трубку. — Козловский говорит. Куда кладут?.. Так… Извините, придется подождать. Выйду посмотрю, что там делается…
Директор вернулся минут через двадцать с главным инженером завода Быковым.
— Дмитрий Вениаминович, вот о чем речь. Надо помочь большому госпиталю. Холод у них, тьма! Рентген не работает. Хирургам невозможно делать операции. Как твое мнение?
— Тысяча метров? Для завода это, конечно, не цифра. Кабель нам сейчас не нужен, отправлять-то его все равно некуда, — как бы вслух размышлял Быков. — Я — за!
Козловский молча взял командировку и написал: «Отпустить из остатков довоенных заказов. Для временного пользования».
— Но ведь кабель занесен снегом, — напомнил директору главный инженер. — Его надо еще откопать, черт возьми!
— Где взять рабочих? — сказал как бы про себя Козловский. — Надо подумать…
— Для этого госпиталь даст людей, — обрадованный таким результатом, сказал Городецкий.
— Тогда все в порядке!
Прощаясь с нами, Козловский открыл ящик письменного стола и вынул оттуда пять толстых свечей:
— Передайте начальнику госпиталя… Пригодятся…
Электротрасса
так, кабель есть.
Теперь надо получить разрешение подключиться к Василеостровской водопроводной подстанции.
Ягунов на «Антилопе-гну» поехал в «Электроток». А в это время в тесном клубе, слабо освещенном фонарем «летучая мышь», было созвано внеочередное партийное собрание. Это было самое короткое партийное собрание из тех, на которых мне пришлось присутствовать. На нем обсуждался один вопрос — порядок работы на трассе: водопроводная подстанция — госпиталь.
Вскоре вернулся Ягунов. Разрешение получено!
Немедленно десять человек во главе с Луканиным, вооружившись лопатами, отправились на грузовой машине отрывать кабель из-под снега.
Но они быстро вернулись. Рабочие «Севкабеля» заявили:
— Ваше дело лечить раненых, мы сами все сделаем!
Через два дня кабель был доставлен в госпиталь. Теперь дело за тем, чтобы поставить столбы, на которые надо подвесить кабель. Но где взять столбы? Достал их вездесущий Зыков. Можно приступать к работе. Об этом узнали раненые. Они осаждали просьбами Ягунова и Луканина.
— Товарищ начальник, вы народ хлипкий, а мы люди физического труда, — настаивал председатель старостата раненых всего госпиталя старший лейтенант Николай Вахрамеев.
— Слышишь, комиссар, хлипкие? — улыбнулся Ягунов.
— Он не это хотел сказать, — уточнил Луканин. — Я его мысль понимаю…
— Вы не обижайтесь, товарищ начальник, — продолжал Вахрамеев. — Вот посмотрите на этого сибиряка, — показал раненый на стоявшего рядом с ним коренастого мужчину. — Он котельщик будь здоров! Стол может зубами поднять!
— Я родом из Красноярска, — поддержал сибиряк. — У нас морозы — птицы на лету падают. Я морозоустойчивый. И к тому же «морж»…
— Это как надо понимать? — заинтересовался Ягунов.
— Купаюсь в реке зимой, в проруби…
— Вот выздоровеете, тогда поговорим.
— А печи мы складывали? Топчаны делали? — перечислял морозоустойчивый «морж». — Как же так? Не годится такое дело, товарищ начальник. С чем мы вернемся к нашим товарищам в палаты? Засмеют!..
— Земля-то ведь промерзла, — продолжал Вахрамеев. — Гранит! Ее и киркой-то не сразу возьмешь. Товарищ начальник, а что если так, — скороговоркой произнес старший лейтенант, — мы только пройдем по первому разу, ямы для столбов выроем. А вы — остальное? — предложил «первопроходец».
Но Ягунов был непоколебим. От помощи раненых отказались. Работу мы начали посменно. Медицинский персонал, политруки, санитарки, дворник Семеныч — все вышли на трассу.
Бригады возглавляли Ягунов, Луканин, Зыков и секретарь партийной организации Михаил Галкин. Общее руководство взял на себя Городецкий.
Подстанция находилась около километра от госпиталя. Надо было ставить столбы.
Начали с рытья ям. Сухой морозный воздух обжигал горло. Мерзлая почва казалась железной. Она поддавалась с большим трудом. Поди угрызи ее! Орудовали вручную — ломами и пешнями. Все это нашлось у «хозяйственного мужичонки», по словам Ягунова, — у Семеныча.
Руки в теплых варежках, но и сквозь них пальцы поламывает от холода. Людей окутывают пары клубящегося дыхания. Все побелели от инея.
Мой напарник — Коптев. Лом, конечно, — не скальпель. Удивляешься, откуда у хирурга рождаются силы.
Ягунов обходит цепочку работающих. Останавливается около Коптева. Снимает с усов сосульки. Смотрит на него ласково:
— Иван Сергеевич, одолеем мы эту трассу? — и, зябко передернув плечами, размашисто похлопывает руками по бокам.
— Обязательно! Надо — еще не то сделаем!..
Ягунов молча показывает хирургу растопыренную пятерню — отлично! Оценка правильная. Тон всем землекопам задавала бригада Коптева.
Поединок с землей, скованной морозом, продолжался три дня.
Наступил вечер 30 января. И словно по мановению волшебной палочки, из конца в конец госпиталя, в закопченных палатах, в операционных, перевязочных — везде ярко зажглись огни электрических ламп, разогнав гнетущую темноту.
Честно говоря, «ярко» — это не то слово, лампочки горели тускловато. Но тогда нам казалось, что в госпитале засияло солнце!
Вот он, свет! Что творилось в госпитале! От неописуемой радости люди обнимали друг друга! Пожалуй, можно с полным основанием сказать, что если бы у каждого госпиталя в Ленинграде был свой герб, то, конечно, на фронтоне нашего здания водрузили бы вот такую простую электролампочку! Она бы символизировала трижды благословенное чувство взаимопомощи ленинградцев в обороне своего города.
Теперь под наблюдением Емельяна Никитича Городецкого осторожно приступили к запуску моторов. Ожила котельная! Появилось тепло! Эта радость на некоторое время заглушила многие наши огорчения.
«На некоторое время» — потому, что через пять дней к нашей электротрассе подключился соседний госпиталь. Он стал тратить свет без всякого учета возможностей. Расплата не заставила себя долго ждать: от перегрузки сгорели предохранители. Тогда нас… отключили от подстанции.
Ягунов немедленно вскочил в «Антилопу-гну» и опять помчался в управление «Электротока». Сердобольный инженер «Электротока» А. А. Принцев вновь разрешил подключиться, но установил госпиталю очень жесткий лимит. Этот лимит строго выполняли, помня предупреждение: малейший пережог — и нас отключат навсегда. Во всех помещениях, кроме операционной и перевязочных, горело по одной двадцати-пятисвечовой лампочке. Но и это было таким облегчением, о котором мы еще недавно могли только мечтать.
«Дом-сказка»
конце января с младшим братом Иваном я решил сходить домой. Оба давно там не были. Брат — начальник штаба 264-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона — только что выписался из госпиталя после ранения.
Улицы погружены в темноту. Редкие прохожие да патрули. Тишина. Тишина затаившего дыхание города.
Пересекаем Неву по пешеходной дорожке, протоптанной по льду. Где-то далеко полыхает пожарище.
На площади Труда зарево обозначилось ярче. Миновав Поцелуев мост, вышли на просторную Театральную площадь. Горело в конце улицы Декабристов.
Чем ближе мы подходили к горящему дому, тем теплее становилось на улице. На лицо садилась сажа.
Пожар захватил три верхних этажа большого дома на углу проспекта Маклина и улицы Декабристов, расписанного по мотивам русских сказок. Здание это так и называли: «Дом-сказка».
Огонь бушевал. Языки пламени то вспыхивали в окнах, озаряя покрытые лазурью яркие картинки на стене, то исчезали в рыжем косматом дыму. Под ногами хрустели осколки стекол.
От жара вблизи дома таял снег. Вокруг неторопливо бродили люди. Кружками и кастрюлями они черпали воду из луж и наливали в ведра. Нет, не для того, чтобы попытаться этими каплями погасить пожар. Просто видели, что натаяло столько снега, и торопились сделать запас драгоценной воды. Ведь водопровод не работал.
— Давно горит? — спросил я у женщины, закутанной в платок.
— Третий день…
Погревшись у огня, мы пошли дальше.
Под воротами родного дома сидел дворник.
— Как живешь, Антон?
— Жену похоронил. Да и сам еле ноги таскаю…
Я поднялся на площадку, открыл дверь квартиры.
Из темного коридора пахнуло сыростью и плесенью.
— Кто дома? — громко спросил я, засветив фонарик.
Ответа не последовало.
Вошел в свою комнату. Вещи целы. Два окна без стекол. На полу слой снега. Стены, диван, стол и книжный шкаф затянуло инеем.
На книжном шкафу любимая игрушка сына: бархатная, с оторванным хвостом, собачка. Покрытая инеем, она похожа на зайца.
«Надо обязательно забить окна, — подумал я, — иначе все в комнате погибнет».
Пошел на кухню в надежде найти гвозди и молоток. В коридоре услышал глухой стон. Он исходил из комнаты моего соседа, архитектора Игоря Нипоркина.
Войдя туда, засветил фонарик. На кровати, укутанная одеялами, поверх которых было еще пальто, лежала мать Игоря, Вера Матвеевна. Рядом стул. На нем — оцинкованное ведро, наполненное снегом.
— Федя, подойди поближе, — узнав меня, тихо попросила Вера Матвеевна. — Согрей кипятку…
Старая женщина была в состоянии крайнего истощения. Дров в комнате не оказалось. Пришлось разрубить на кухне деревянное корыто и растопить кастрюлю снега.
— Где Игорь? — спросил я.
— На работе. Недавно был. Он на казарменном положении. Плохо мне. В землю прошусь…
Я поправил одеяло на кровати и сел рядом.
— Ты слушай меня, — продолжала старушка. — Передай управдому: пусть он позвонит Игорю. Номер телефона под подушкой.
— Игорю я позвоню сам, Вера Матвеевна. И не хороните себя раньше времени…
Я говорил слова утешения, но понимал: женщина обречена. Как я мог в такой момент думать о своем барахле, забивать окна? К черту все это!
Пошел ночевать к брату: его квартира помещалась на той же площадке, что и моя.
— Спать лучше не раздеваясь, — посоветовал брат. — Теплее. И потом, того…
«Того» не пришлось долго ждать. Едва мы уснули, завыли сирены. Дом потряс глухой удар. По крыше забарабанили осколки зенитных снарядов. Добрались до чердака. Над нами топот ног, лязг лопат.
— Спокойно! Сбрасывать на улицу! — раздался на крыше повелительный бас.
— Кто это? — спросил кого-то брат.
— Плешаков Иван Иванович.
— Разве он не эвакуировался?
— Нет. Когда театр уезжал, у него тяжело заболела дочь.
Плешаков — солист Академического театра оперы и балета имени Кирова, бас, — спустился с крыши. Мы встретились с Иваном Ивановичем на площадке лестницы.
Брат осветил фонариком знакомое лицо. Плешаков был в распахнутой шубе. Мне невольно вспомнился довоенный эпизод. В такой же морозный зимний день я встретил Ивана Ивановича у дома и о чем-то спросил его. Он молча показал на укутанную шарфом до подбородка шею и, нагнувшись к моему уху, прошептал:
— Извините, завтра спектакль. На улице не разговариваю.
Я напомнил ему об этом. Иван Иванович невесело усмехнулся:
— Сейчас я в другой роли: начальник жактовской команды местной противовоздушной обороны! Тоже в своем роде премьер!
Утром я возвращался в госпиталь. Колючий ветер обжигал лицо. Сугробы на улицах напоминали застывшие волны. По узеньким, протоптанным в снегу тропкам, шатаясь и падая, брели люди.
Слышен скрип салазок. Чуть живые везут мертвых. Завернутых в простыни, во что попало, без гробов.
Гробы делать не из чего. Да и сил на это нет.
На саночках же везут в стационары и дистрофиков.
Санки стали единственным доступным населению видом транспорта.
Обгоняя прохожих, по улице прошел грузовик, оставляя за собой резкий запах хвои. На машине приделан блокадный самовар-газогенератор. Бензина нет. Топливом для газогенераторных машин служат чурки.
На улице Декабристов, у булочной, прижавшись к стене, стояла очередь, скованная лютой стужей. Люди ждали, когда привезут хлеб.
Два человека в полушубках и подшитых валенках везут санки с каким-то грузом, покрытым брезентом. Остановившись около очереди в булочную, сняли брезент. Кинохроника. Кадры, которые сняли эти полуживые кинооператоры, вошли впоследствии в фильм «Ленинград в борьбе».
«Чернорабочий литературы»
ожелтевшие от времени листки. На сгибах они протерлись. Из глубин памяти будто пахнуло дымком коптилок блокадных дней. И кажется, что слышишь разрывы снарядов, грохот рвущихся бомб…
В декабре, когда в госпитале не было света, поздним вечером меня вызвал Луканин. В кабинете комиссара коптила «лампада». Было прохладно, чтобы не сказать — холодно.
В кожаном кресле с высокой спинкой сидел старик. В черном пальто с потертым каракулевым воротником. Черный малахай с расстегнутыми тесемками был надвинут на самые брови.
Откинувшись на спинку кресла, незнакомец вытянул ноги в больших подшитых валенках с задранными вверх носками.
— Вот и Грачев, — сказал комиссар, когда я вошел в кабинет.
Старик чуточку улыбнулся и, протягивая мне руку, слегка приподнялся:
— Кугель.
Потом добавил:
— Иона.
И опустился в кресло.
— Вот какое дело, — устало сказал Луканин. — Иона Рафаилович будет писать очерк о нашем госпитале. Хочет побеседовать и с тобой.
— Это правда, что вы кое-что пишете? — спросил Кугель, пощипывая седую бородку.
— Да.
— Тем более мне хотелось бы поговорить с вами.
Я пригласил старика к себе. Слегка сгорбившись, заложив руки за спину, Кугель ходил по комнате как-то боком, выдвинув левое плечо вперед.
Старейший журналист, начавший свою карьеру еще в дореволюционных изданиях, он сейчас работал в журнале «Звезда». Когда началась война и враг подошел к Ленинграду, товарищи посоветовали Кугелю уехать в тыл, но он отказался.
— Почему вы остались в Ленинграде? — спрашиваю я.
— Почему? — резко остановился Кугель. — Просто не мог иначе. Понимаете, не мог! Я полвека тружусь в этом городе «чернорабочим литературы». А в такое время, как сейчас, мне обязательно надо быть здесь. Все увидеть и понять.
Иона Рафаилович, помолчав, продолжал:
— Повторяю, я должен находиться на передней крае жизни. Все увидеть и понять. Вот в чем суть! А мой приятель, профессор-геолог, на такой же вопрос, какой вы задали мне, ответил очень кратко: «Я люблю Неву!» Да, да. Не улыбайтесь, пожалуйста. Он прав по-своему. Я тоже бесконечно люблю наш город. Уверен, Ленинград — лучшее место на земном шаре!
Все увидеть и понять! Эта страсть захватила «чернорабочего литературы». Он жадно прислушивался к дыханию осажденного города, искал встреч с людьми. Для этого он и пришел в госпиталь.
— А чтобы растить розы литературы, необходима земля, — продолжал старик. — Алишер Навои, например, убеждал своих учеников: «Если хотите растить розы — землею будьте, я говорю вам, будьте землею».
Рассказывал Кугель образно, увлекательно, порой по-юношески темпераментно. Двумя-тремя фразами очень красочно обрисовывал людей, обстановку. Иона Рафаилович оказался обаятельным, остроумным собеседником, человеком пытливого ума, большой культуры.
— Э, батенька мой, так мы, пожалуй, до ночи проговорим! — воскликнул он, взглянув на часы. — Так что же вы пишете? Показывайте!
— Нечем хвастать, Иона Рафаилович. Мякина всё.
Плавая до войны судовым врачом, я часто бывал за границей и вел дневниковые записи. Теперь, когда выдавалась свободная минута, работал над. «литературным оформлением» своих путевых впечатлений.
Кугель настоял на своем, и я дал ему папку с записями. В это время меня вызвали в приемный покой — прибыли раненые.
— Если приду поздно, ложитесь спать на диване, — предложил я Кугелю.
В ответ он что-то пробурчал в бородку и раскрыл рукопись.
Вернулся я очень поздно. Иону Рафаиловича застал за чтением рукописи. Наклонив седую взлохмаченную голову, он перелистывал страницы морщинистыми руками.
Я присел сбоку, взял прочитанное им, и у меня сразу заныло под ложечкой. Одни страницы зачеркнуты, на других — вопросы, восклицательные знаки. А на полях текста то там, то здесь — «плохо», «неясно», «длинновато», «проще». «Читатель и без вас поймет». «Слова — тот материал, из которого шьют пиджаки и брюки мыслям, чувствам». А в скобках: «Горький».
Я уже раскаивался в том, что показал старику рукопись. Кугель молча продолжал работать. Читал он как-то одним глазом, наклонив голову с поднятыми на лоб очками. Рукопись держал близко к лицу.
Так мы сидели довольно долго. Наконец он хлопнул ладонью по рукописи.
— Ну что же вам сказать, батенька? Работайте дальше. Кое-что я здесь сократил…
«Кое-что» оказалось доброй половиной рукописи.
Кугель, конечно, понял, что происходит у меня в душе.
— Не печальтесь, — мягко сказал он. — Так и должно быть. Чтобы найти верное слово, надо работать и работать, в муках и страданиях. Вот, например, французский писатель Жюль Ренан, тот говорил: «Садясь за стол — обливайся потом!» К читателю, дорогой мой, надо входить умывшись, помоляся богу. Вот так!..
Потом пошел разговор о нашем госпитале. Кугель умело вел беседу, все время поворачивая ее так, чтобы «выжать» из собеседника как можно больше. Время от времени он делал пометки в своем потрепанном блокнотике.
Мы легли спать поздно. Кугель устроился на диване.
Я не мог заснуть. Что греха таить — мое авторское самолюбие было сильно задето. Иона Рафаилович долго ворочался с боку на бок, потом тяжело вздохнул и закашлялся.
— Вы простужены, Иона Рафаилович. Примите кодеин с содой.
— Спасибо. Не в коня корм.
— Почему?
— Это не простуда. Сердце тово-с…
— Застойные явления?
— Застойные явления, говорите? И чего это вы, врачи, такие деликатные? Надо бы просто и прямо: от старости это, мил человек, от старости. Не сердитесь, но я гомеопатов больше уважаю. У них, знаете ли, меня очень дозировка пленяет. Очень! Вы слушаете?
— Да.
— Берете, скажем, каплю лекарства. Бросаете ее в Неву у Литейного моста. Потом черпаете скляночку воды у Дворцового моста и принимаете по единой капле через три часа. И не больше! Ни боже мой! Чудесно! Психотерапия!..
Кугель встал рано. Весь этот день до позднего вечера он провел в госпитале. Вернулся взволнованный и уставший, с пачкой фотографий, каких-то записок.
— Наговорился вот так! Вдоволь!
— Ваше впечатление о госпитале.
— Это, батенька мой, большой разговор, — ответил старик. — А кратко скажу — знаменательно! Это прежде всего — раненые. Кого ни спрошу — вовсе не совершали подвига, героического поступка. Невольно, понимаете ли, возникает вопрос: что за этим стоит? Откуда это изумительное качество? Конечно, оно возникло не как Афина Паллада из головы Зевса, а уходит своими корнями в нашу жизнь, батенька! В гражданскую зрелость советского человека.
— А мою просьбу выполнили?
— Какую?
— В третьей палате побывали?
— Конечно!
— С пулеметчиком Махиней беседовали?
— Еще бы! Был разговор… Ведь он такой заметный!
— Великан!
— Махиня — Голиаф не только физически. Духовно! Вот послушайте…
Кугель порылся в принесенных записках и прочитал мне небольшую заметку, переданную ему Махиней.
О чем писал Махиня? С поля боя его вынесла дружинница двадцатилетняя комсомолка Дуся Николаева. Пулеметчика спасла, а сама погибла. Григорий нам об этом неоднократно рассказывал. И всегда очень взволнованно. О доблестном поступке Дуси он написал письмо ее матери.
В ответном письме Махиня получил фотографию Дуси. Эта фотография стояла на его прикроватной тумбочке.
Григорий Махиня в своей заметке предлагал: в память женщин, сражавшихся на фронте, отлить после победы бронзовую фигуру. И поставить ее на Александровской колонне. Вместо ангела. И на это вносил все свое жалование за время пребывания в госпитале.
— Вот он какой, ваш Махиня! — восхищался Кугель. — В нем, как в зеркале, отражена вся природа советского человека. Духовная красота! И в этом, я бы сказал, интеграл жизни нашего народа.
В «морской палате» были очень довольны посещением Кугеля.
— Всласть побеседовали! По душам! — рассказывал мне Вернигора. — Бодрый старик! Стоять, говорит, Ленинграду навечно, а Москвой немцы подавятся и сдохнут.
«Бодрый старик» успел побывать не только в нашем отделении, но и во всем госпитале. И даже в приемном покое. Все его интересовало.
Через несколько дней по радио передавали очерк Кугеля «День в госпитале». Раненые и мы слушали со вниманием, даже с волнением. В нем была лаконичность, точность в характеристике людей и обстановки в госпитале. А главное, рассказ был проникнут оптимизмом. Написать так просто и сердечно мог только человек с большой душой и глубокой верой в победу.
Во второй половине декабря, войдя к себе, я увидел Иону Рафаиловича. Он неподвижно сидел в кресле.
— Случилось что-нибудь, Иона Рафаилович?
Кугель поднял на меня добрый, но тусклый взгляд.
На лбу пролегла глубокая морщина.
— Умер мой сын, — после большой паузы, тихо всхлипнув, произнес Кугель. — От голода. Лег спать и не проснулся…
Он встал и, шаркая валенками, с трудом подошел к окну, еле сгибая ноги.
— Иона Рафаилович, отдохните на диване.
— Не могу…
Кугель посмотрел на часы и сказал:
— В восемнадцать ноль-ноль я должен присутствовать на операции. — Он вынул записную книжку. — Да, так и есть, в восемнадцать ноль-ноль. Назначил Шафер. В шестом отделении. Не опоздать бы! Вы меня проводите?
В ординаторской шестого отделения при свете мерцавшей коптилки Иона Рафаилович тщательно ознакомился с историей болезни Петра Минакова. Подробно расспросил старшего хирурга о деталях операции и все это записал в свою книжечку, «канцелярию», как он называл.
Кугеля обрядили в халат, он молча встал около двери холодной операционной, тускло освещенной двумя коптилками. Перед самой операцией зажгли фонарь «летучая мышь». (Это было еще до того, как мы подключились к водопроводной подстанции.)
На каталке привезли Петра Минакова. «Летучая мышь» слабо освещала бледное лицо раненого красноармейца с белесыми бровями и чуть-чуть приплюснутым носом. Закутанный в одеяло, он повернул голову к Кугелю:
— Профессор, долго будете резать?
— Совсем недолго, — спокойно ответил Кугель. — Не бойся, голубчик, все будет хорошо…
Минакову дали наркоз. Зажгли еще одну «летучую мышь».
Шафер приступил к операции.
Операция закончилась благополучно.
Я решил проводить старика. Вместе вышли из госпиталя. На улице темень, мороз. Колючий ветер. Стук метронома в репродукторах. Окрики патрулей. Синеватые огоньки машин.
Дорога ныряла в сугробах. Втянув голову в плечи, Кугель шел неторопливо, экономя силы. Он молчал, казалось, забыл о моем присутствии.
— О чем вы задумались? — спросил я, чтобы нарушить молчание.
— Относительно операции Минакову, — глухо отозвался Кугель. — Тяжко было ему, а еще более — хирургу. Тяжелая это необходимость — быть хирургом, может быть, самая тяжелая профессия на земле…
— Куда вы сейчас идете?
— К подводникам. Поговорить надо с ними.
— О чем?
— Есть одна думка, — уклончиво ответил старик.
А на другой день в кабинет к Ягунову пришел военный моряк, капитан второго ранга Петр Сидоренко, командир дивизиона подводных лодок, что стояли на Малой Неве, около моста Строителей.
Кавторанг рассказал: вчера у них был журналист, по фамилии Кугель. Он поведал морякам о беде в госпитале — нет света. Очень трудно делать операции.
Вот какая думка была у Ионы Рафаиловича!
Подводники решили сократить у себя электрическое освещение и за счет этого осветить хотя бы операционную в нашем госпитале.
— Но у нас нет кабеля, — сетовал кавторанг Сидоренко.
Кабель заменили простым электрическим шнуром, который работники госпиталя сняли со стен своих квартир. Шнур лежал на рогульках, от набережной Малой Невы до госпиталя.
На рогульках были надписи:
«Не трогать! Свет для операционной госпиталя!»Не трогали!
Через неделю я был на совещании диетологов всех госпиталей во фронтовом эвакопункте на Кирочной улице. После совещания позвонил Ионе Рафаиловичу — решил зайти к старику в Дом писателя на улице Воинова. Это было по пути в госпиталь.
— Отыскался след, Тарасов! Заходите обязательно! — ответил Кугель. Голос глухой, точно из-под земли.
Я нашел его в небольшой комнате. На столе тускло горел оплывший огарок свечи.
— Сейчас мы устроим байрам на всю Европу! — похвастался Иона Рафаилович. — Есть два куска сахару и ломтик хлеба. Летчики снабдили. Вчера побывал у них. Замечательная была беседа, скажу я вам. Чудесный, батенька, народ!
На спиртовке Кугель стал готовить чай.
В это время в комнату вошла невысокая женщина в полушубке и валенках.
— К утру надо прочесть, Иона Рафаилович, — сказала она, кладя на стол оттиски гранок, которые пахли типографской краской. По-видимому, очередной материал в «Звезду».
— Хорошо. Сделаю еще до утра…
Женщина вышла.
— Елена Павловна Карачевская, — кивнул на дверь старик. — Сотрудница редакции нашего журнала. Ей давно лежать надо, так нет! Куда там! И слушать не хочет…
Мы сидели в холодной комнате, пили чай, вернее, кипяток. Во время разговора Кугель стряхнул крошки хлеба с прожженного ватника и аккуратно положил их в кружку тонкими, словно обтянутыми пергаментом пальцами.
Сомнений не было — старик совсем сдал. Лицо его как-то посерело, глаза потускнели и ввалились, уши стали восковыми.
Он не отдыхал, «чернорабочий литературы». Он не мог сидеть на месте сложа руки. Благородное стремление познать и раскрыть во всей полноте величие людей осажденного города не давало Кугелю покоя. Эта насущная для него необходимость была источником энергии в его неспокойной судьбе журналиста. Эта необходимость и подорвала его силы…
— Ох как много работы, батенька! — тихо говорил Кугель. — Вот так — сверх головы! Успею ли?.. А время, в которое мы с вами живем, — великое! Нам, может быть, сейчас не совсем легко точно разобраться во всем. Но сегодня пишется новая история, новая страница в истории. Она будет опираться на факты. Вот они, — показал Кугель на свои блокноты на столе. — Скромные, конечно, но все-таки. Кто и как может…
Старик прислонился к спинке старого дивана и устало закрыл глаза. Казалось, что он уснул.
Но нет. Минуту спустя Иона Рафаилович открыл глаза:
— Надо, чтобы после нас люди лучше поняли значение этих дней. Им-то будет виднее. С горы времени…
— Почему такие мысли! «Успею ли?», «После нас?».
— Я спускаюсь в долину Иосафатову[1], — очень тихо произнес журналист. — Никуда не денешься… Смерти бояться не надо. Ибо когда мы есть — ее нет, когда она есть — нас нет.
— Иона Рафаилович! Ну к чему ваши траурные афоризмы?
— Это Эпикур сказал. И мысль правильная. Я принадлежу к числу людей, которые часто видели смерть рядом. За мою долгую жизнь много поубивало людей. Ох как много! И я не боюсь умереть. Но пока жив, хочется говорить за тех, кто уже не может этого сделать…
— Я думаю, вам надо бы отдохнуть.
— Отдыхать мне некогда! Боюсь, что не успею. Сейчас каждый прожитый мною день — это дар природы. Этим надо пользоваться, если хочешь быть достойным такого дара…
Первого февраля поздно вечером раздался телефонный звонок.
Говорил Савицкий: нулей к Ягунову!
Спустился вниз.
— Петр Устинович, по какому поводу «пулей»?
— Не знаю. Но чую, Ягунова опять всколыхнула какая-то идея.
Наши размышления прервал резкий звонок над дверью начальника госпиталя. Пронзительный и нетерпеливый. Ягуновский. Он подбросил Савицкого со стула.
В кабинете были Луканин, Зыков, Кугель и еще какой-то незнакомый мне мужчина.
— Главное, чтобы все было весело и доходчиво, — говорил Ягунов. — Смех ведь обладает хорошей профилактической и лечебной способностью…. Дай бог памяти, кто это утверждал, что смех значительнее и глубже, чем думают? — Ягунов нетерпеливо потирал ладони.
— Гоголь, — подсказал Кугель. — А Луначарский говорил, что смех не только признак силы, но сам — сила.
— Вот-вот! Эту силу и надо направить против врага! У Савицкого весь репертуар нашей самодеятельности. Посмотрите, Иона Рафаилович. Там многое, думаю, вам будет полезно. Проверено в нашем клубе.
— Постараемся сделать как можно веселее! — заверял Кугель.
— Этого я и хочу! — согласился Ягунов. И ко мне: — Знакомьтесь: Константин Александрович Кардабовский, художник. Речь о спектакле ко Дню Красной Армии. Константин Александрович будет работать над декорациями и вкупе с Ионой Рафаиловичем напишет одноактную пьесу. Костюмы достанет Зыков. И вы с Савицким поможете авторам. Покажете главную аудиторию, клуб и прочее. Ясно? Вопросы есть?
— Нет.
— А сейчас время позднее, — посмотрел на часы Ягунов. — Товарищам надо устроить ночлег. Они, конечно, устали, отмахали от Политехнического до нас километров десять…
Авторам будущей пьесы отвели приемный покой. Мы узнали, что художник Кардабовский работал вольнонаемным санитаром госпиталя в Политехническом институте. Он настолько ослаб, что получил больничный лист.
Кугель и Кардабовский легли спать. А на утро не встали. Сказались километры вчерашнего пути. Они были помещены в шестое отделение, в восьмую палату. У Ионы Рафаиловича началось воспаление легких. Но на другой день ему стало как будто легче.
— Пустяки! Мы еще поскрипим! — утверждал старик.
Работы было много. Я лишь урывками навещал Кугеля и Кардабовского. Около них всегда находился народ.
Девятого февраля я поднялся к Кугелю, чтобы передать две школьные тетради, которые он просил для работы над пьесой.
Иона Рафаилович лежал, закрывшись с головой одеялом. На прикроватной тумбочке — раскрытый том Теодора Драйзера. Прочел подчеркнутую карандашом фразу:
«Не нужно быть слабым. Только тот побеждает, кто жестокой действительности противопоставляет жизненную волю».
— Он просил разбудить его через час, — предупредил меня Кардабовский. — Он нам только что спел несколько арий из классических опер. Сожалею, что вас не было…
В палату вошла медицинская сестра со шприцем.
— Глюкозу товарищу Кугелю, — сказала она.
Я открыл одеяло. И вздрогнул. Кугель был мертв.
Эта смерть настолько не вмещалась в мое сознание, что в первый момент я просто не поверил. Неужели нет больше этого энергичного журналиста, влюбленного в жизнь, в людей, в весь добрый мир? Нет больше человека, не мыслившего своей жизни вне связи с великой героикой обороны Ленинграда?! Он ходил по земле осажденного города, уверенный в победе над врагом, стремился нести людям доброе, умное слово журналиста.
Через час медсестра шестого отделения принесла мне незаконченную статью и записную книжку Кугеля, найденные под его подушкой.
Статья под названием «Теория академика Павлова на практике». А сверху адрес: «ТАСС, Социалистическая, 5, тов. Тасину».
Переплет записной книжки Кугеля сильно потерт. Теперь ее уже не будут тревожить руки владельца, «чернорабочего литературы».
С большим вниманием перелистываю странички, но, увы, для меня в них много «белых пятен». Почерк абсолютно неразборчив. Буквы порой напоминали какие-то закорючки. Записи совершенно не поддавались прочтению. Поспешные, короткие, обрывистые строчки. Они служили старику вехами, по которым только у него самого могли возникнуть отчетливые, цельные представления. Кое-что все-таки удалось разобрать. В том числе несколько кратких, весьма своеобразных по форме, но удивительно верных замечаний о людях нашего госпиталя.
«Ягунов. Думает во все стороны. Запас энергии, огромен. Мотор сильный. Зажигание отличное. Тормоза слабее.
Луканин. Обыкновенный в необыкновенном. Сдержан и щепетилен. По-чеховски вежлив. Он лучше, чем кажется. Знает, с какого конца едят спаржу.
Вернигора. Горячая душа. И кипящая кровь, как у всех бойцов морской пехоты.
Долин. Верный паладин своего учителя И. П. Павлова.
Махиня. Большой. Настоящий рыцарь без страха и упрека. Мужественный. Сделать очерк для „На страже Родины“».
Тщательно просматривая книжечку, я нашел и такую запись: «„Пискаревка“. Закопали живую: Екатерина…» А фамилия неразборчива, ясна только вторая буква — «а». А первая не то «г», не то «ч».
Очень притягательна была эта интригующая запись. Должно быть, поэтому я ее и занес в свой блокнот.
Через несколько дней после смерти Кугеля я отправил его записную книжку в Союз писателей на улицу Воинова.
Где она теперь — неизвестно.
Живой труп
аинственную запись Кугеля удалось расшифровать только через восемнадцать лет.
Вот как это произошло.
Девятого мая 1960 года в составе делегации Балтийского морского пароходства я присутствовал на Пискаревском кладбище, где погребены сотни тысяч ленинградцев, погибших во время блокады.
У входа на кладбище воздвигнуты два двухэтажных павильона. В них музейные залы с реликвиями ленинградской эпопеи.
За павильонами широкая, выложенная массивными плитами площадка. В центре ее, обрамленном полированным гранитом, сегодня должен вспыхнуть вечный огонь.
Выдался погожий, солнечный, день. Тысячи ленинградцев пришли сюда в День Победы, чтобы поклониться праху родных и близких.
Скоро начнется митинг. Все ждут негасимого огня с Марсова поля. Факел оттуда пронесут через весь город. Вечный огонь на кладбище зажжет токарь Кировского завода П. А. Зайченко.
Участники обороны Ленинграда беседуют между собой:
— А помнишь?..
— А знаешь?..
Мы сидим на скамейке. Мы — это механик парохода «Жан Жорес» Владимир Яковлевич Маслаков, секретарь парткома Балтийского морского пароходства Дмитрий Кириллович Зотов, я и милиционер, фамилию которого не помню.
— Да-а… Тяжелое было время, — говорит милиционер. — Много было страданий, горя и ужаса. Мне вот, например, известно, что здесь чуть-чуть не закопали живую женщину…
— Ну, это, наверное, из легенды! — усомнился Маслаков.
— Не легенда, а быль. Женщина жива и по сей день.
И тут я вспомнил таинственную запись Кугеля, на которую я не раз натыкался в своем блокноте.
— Как ее фамилия? — спросил я.
— Забыл. Если вас это интересует, могу познакомить с моим другом. Он знает. И, кстати, он сейчас здесь…
Меня, конечно, не пришлось упрашивать. Товарищ нашего собеседника, Иван Алексеевич Коробов, подтвердил этот факт. Мало того, оказалось, что Коробов — сосед этой женщины по квартире. Зовут женщину — Екатерина Кирсановна, а фамилия — Галкина. Но я и теперь не верил в историю с заживо погребенной. Мне казалось это чистым вымыслом. И на другой день я отправился по адресу, который мне дал Иван Алексеевич Коробов.
На пороге меня встретила невысокая худенькая женщина.
Объясняю цель моего прихода. Галкина пригласила меня в небольшую комнату.
— Говорите, что не верите? — началу Екатерина Кирсановна. — А я и сама иной раз думаю — было ли такое? С ума чуть тогда не сошла. Но хотя и прошло столько времени — ничего я не забыла. Тогда мне было тридцать восемь лет. В начале войны я была на оборонных работах под Ленинградом. До глубокой осени. Потом вернулась на завод. В конце января сорок второго года шла с работы домой. Попала под сильный обстрел. Бегу скорее в подворотню. Что случилось потом — не помню…
Галкина поправила скатерть на столе, тщательно разгладила ее край и продолжала:
— Когда очнулась — темень. А вокруг лежат люди. Стала я барахтаться… Громко закричала: «Отодвиньтесь! Вы же меня придавили!» Еле-еле выползла. Лежу, а где — и сама не знаю. Подходит какая-то женщина с фонарем в руках и говорит мне: «Не бойтесь!» Помогла мне встать. Я вся дрожу от страха, зуб на зуб не попадает… Подошли еще несколько человек. Спрашивают мою фамилию, кто я такая. Я сказала. Поднесли фонарь, я вижу — в траншее покойники. Много покойников… Мне рассказали, что меня подобрали на улице среди убитых при обстреле. И вместе с ними привезли на кладбище.
Жутко мне стало. Я упала.
Очнулась — лежу на койке. Спрашиваю: «Где я?» Мне отвечают: «В больнице Коняшина», Ощупываю себя вот так… Руки, ноги — целы. Ран нет. Но в голове бум-бум! Все ходит перед глазами вверх тормашками. Потолок, палата…
В этой больнице я находилась больше трех месяцев. Выписалась уже летом. На улице тепло, а я иду в валенках и полушубке. В той одежде, в которой попала в больницу.
Потом я поступила опять на работу на свой завод. Вот и все. Старики мне говорят — жить тебе теперь, Катя, два века! Вот и живу. Работаю…
Так была расшифрована запись Кугеля в его блокноте.
Что же дальше?
тром 30 января Дарья Васильевна разбудила меня в ординаторской.
— Идите скорее в третью палату! — торопливо шептала она. — Скорее! Терентьев приказал долго жить… Иван Тимофеевич…
Рана минометчика осложнилась сепсисом. Врачи делали всё возможное, чтобы спасти Терентьева, а вот смерть все-таки одолела его.
Я вошел в палату. Терентьев лежал покрытый простыней. Санитары хотели было положить его на носилки.
— Подождать! — властно потребовал вдруг побледневший Вернигора.
В палате напряженная, гнетущая тишина. Краснофлотец медленно, с трудом поднялся на костылях. Поднес руку к горлу.
— Встаньте все, кто может! Дорогие мои товарищи! — Голос Вернигоры дрогнул. — Умер Иван Терентьев… Он был солдат… хороший человек! Храбро сражался с фашистами. Жизни своей не пожалел и спас своего командира. Не каждый может решиться на это! Возьмет теперь Ваню мать сыра земля… Прощай, друг!
Смолк староста, пряча глаза под густыми сросшимися бровями. Щеки и подбородок вздрагивали. Он лег на койку, уткнувшись в подушку…
Санитары бережно положили Терентьева на носилки, не снимая простыни с умершего.
Ушел из жизни человек большого мужества и великого подвига. Одну только строчку вписал Терентьев в историю защиты Ленинграда! Но какую! Не раздумывая, прикрыл он своим телом командира, когда тому грозила опасность. Что может быть выше этого прекрасного воинского самопожертвования!
Прожит еще месяц. Самый тяжелый, самый голодный. В госпитале умерло сорок раненых. В стационаре лежало тридцать шесть человек: врачи, медицинские сестры, политруки, обслуживающий персонал. Из них в январе умерло четыре человека.
В городе по-прежнему трескучие морозы.
В конце января встретил в коридоре медицинскую сестру седьмого отделения Клавдию Михайловну Тамаеву, студентку пятого курса Института железнодорожного транспорта.
Она две недели лежала в госпитальном стационаре. Истощенная, похудевшая Тамаева, напрягая последние силы, работала над дипломным проектом.
— До свидания, Федор Федорович! Я уволилась…
— Почему?
— Надо защищать дипломный проект.
— Когда?
— Через два дня.
— Хватит силенок?
— Уверена!
Вскоре я узнал, что Клавдия Михайловна защитила дипломный проект, и даже на «отлично».
В феврале начались метели.
— В такую погодушку в самый раз охотиться за «языками», — рассуждали раненые.
Зима с каждым днем сдает свои позиции. Последние морозы. Чуточку теплеет солнце. Днем на припеке С карнизов иногда падают капли.
Одиннадцатого февраля ленинградцам в третий раз увеличили хлебный паек. Повысились нормы питания и для раненых.
Улучшились и условия госпитальной работы: есть свет, тепло и вода. Ожили рентгеновский кабинет, клиническая лаборатория и частично физиотерапевтическое отделение. Но все же недоставало медикаментов и перевязочного материала.
Начавшаяся в январе эвакуация раненых через ледовую дорогу Ладожского озера продолжалась и в феврале. По сравнению с январем эвакуированных было в три раза больше.
— Всего хорошего, дорогие доктора! — обнимал всех Вернигора. — Большое вам спасибо за лечение и заботу! И тебе, тетя Даша, большое спасибо! — благодарил матрос санитарку Петрову. — Что бы мы без тебя делали? Пропали бы! Ей-богу пропали! Прощай, голубушка!
— Будет болтать-то! — смущенно возражала Петрова. — Давайте-ка присядем по русскому обычаю — перед путь-дороженькой!
Присели.
— Володечка, а ты пиши! — всхлипнула тетя Даша. — Как ты там… устроишься-то?..
— Обязательно! Вот такое будет послание! — развел руками Вернигора.
— Три фута под килем! — пожелал я этому большому дитяте.
— Есть так держать!
— Куда теперь, Владимир?
— Вы знаете, я один, как якорь на грунте. Подамся служить на маяк. Может, возьмут?.. Ближе к морю. Без него мне ведь нельзя!
— Входи в автобус с правой ноги, — советовала Дарья Васильевна. — Тогда все будет хорошо! Верная примета!
— А мне как быть? Правой-то ноги у меня нет, — вопрошал Вернигора.
— А ты с костыля, с костыля! — Санитарка чистосердечно верила в разные приметы. Но многие придумывала сама, смотря по обстоятельствам места и времени.
Эвакуируемые садились в автобус. Мы стояли у ворот и смотрели им вслед. Дорога сделала крутой поворот. Автобус скрылся за углом. Тетя Даша вздохнула, но ничего не сказала…
Эвакуация раненых — весьма трудоемкая и ответственная работа. Каждую историю болезни, «этот грустный слепок с чьей-то жизни» (цитирую слова писательницы Галины Серебряковой), — каждую историю болезни надо тщательно закончить. В ней должен быть эпикриз — обоснованное и обстоятельное диагностическое заключение о состоянии здоровья раненого.
А тут выяснилось, что иссяк запас бумаги. Эпикризы приходилось писать на упаковочной бумаге для махорки, которую Зыков раздобыл на табачной фабрике имени Урицкого. Немного обрезков бумаги удалось достать в типографии «Печатный двор».
Мы прощались со старыми ранеными и принимали новых. Было заметно, что дистрофия в армии пошла на убыль. Но в результате недостатка овощей и фруктов у раненых появились симптомы авитаминоза. Витамин С у нас был в ограниченном количестве. Мы стали усиленно проращивать горох.
Кто-то из врачей прочел в книге о дрейфе в Арктике «Георгия Седова», что судовой медик А. П. Соболевский таким горохом предохранил экипаж от цинги. И мы успешно воспользовались опытом Соболевского — горох-то ведь у нас был. Вскоре наша инициатива получила «прописку» во всех госпиталях Ленинграда. Здесь не лишним будет упомянуть, что любое ценное предложение какого-либо госпиталя быстро принималось «на вооружение» другими госпиталями. Один пример. Мы применили лечение ран методом фумигации, заимствованном из госпиталя в текстильном институте, — копчения ран дымом.
Производилось это при помощи простого аппарата, изобретенного профессором Козловским, который работал хирургом в этом госпитале.
Основа такого метода лечения ран заключается в том, что дым содержит химические вещества, обладающие противогнилостными обеззараживающими свойствами.
На первых порах наши раненые относились к такому лечению с недоумением, иронией, заявляли, что, мол, копчение хорошо только для рыбы и мяса. Но потом они убедились в своей неправоте. Фумигация ран дала хорошие результаты.
Кстати, надо отметить, что госпиталь в текстильном институте был примечателен еще и тем, что в нем сотрудники кафедры химии занимались изготовлением противотанковой воспламеняющейся жидкости для бутылок. Удивительно, но факт!
В день Красной Армии мы наперебой читали газету «На страже Родины». Там был опубликован приказ войскам Ленинградского фронта. За образцовую организацию медицинской помощи раненым награждены пять человек из нашего госпиталя: Ягунов и Луканин — орденами Красной Звезды, Долин и Зыков — орденами «Знак Почета», старшая медицинская сестра госпиталя Божич — медалью «За боевые заслуги».
Кроме того, командование военно-воздушными силами Ленинградского фронта наградило Долина, который был консультантом авиаврачей фронта, именным оружием — бельгийским браунингом.
Шашлык Давтяна
ще в январе госпиталь принял большую группу дистрофиков. Все они были в состоянии частичного или значительного истощения. Одни очень худы — кожа да кости, другие — с одутловатыми лицами, большими животами, отекшими ногами.
Никто из нас толком не знал, как надо лечить дистрофиков. Ведь в мирное время не приходилось встречаться с такой болезнью.
— Хлебушка им побольше да супа — вот и все лечение! — говорили санитарки.
Так думали не только санитарки. Учитывая истощение этих больных, многие врачи полагали: корми хорошо — и больной быстро поправится. Но тут врачи столкнулись с парадоксальным явлением: если у одних больных был повышенный аппетит, то у других — пониженный. И даже — отвращение к пище. Разительное несоответствие! Голодные, а не едят! Невероятно! Что же делать?
Врачи, медицинские сестры всё это ясно видят, но ничего не понимают. Я листал страницу за страницей учебника «Лечебное питание» — теперь уже не для Ягунова, а для себя, — но ответа не нашел. Видимо, объяснений нужно было доискиваться не в учебниках. И я решил посоветоваться с начальником медицинской части Долиным.
— Вы должны знать основы павловской науки о физиологии и патофизиологии высшей нервной системы, — начал профессор.
Дальнейшие объяснения Александра Осиповича больше походили на лекцию. При этом Долин пользовался такой специальной терминологией, в которой я плутал словно в дремучем лесу, ибо мой багаж знаний по физиологии был мал.
— У академика Павлова можно найти ответ на эту загадку. У истощенного человека, дистрофика, ослабленный организм, с нарушенным процессом обмена веществ. Понятно?
— Да…
То, что я понял из этой «лекции», заключалось в следующем. Мучительное ожидание еды у дистрофиков повышает пищевое возбуждение, вызывает чрезмерную напряженную деятельность органов пищеварительной системы, что приводит к излишней и напрасной трате энергии ослабленного, истощенного человека. В этих условиях физиология диктует щадящий режим — дробное питание. На основании опытов лаборатории Павлова, пища в небольших дозах является щадящей мерой, ибо уменьшает частоту чрезмерного нервно-психического пищевого напряжения и не требует высокого тонуса желудочно-кишечного тракта. И чем короче интервалы между приемами еды, тем лучше.
Долин предложил кормить дистрофиков не три раза в день, как обычно, а шесть.
Так и было сделано. Этот метод дробного питания дал очень хорошие результаты. Снизилась смертность. Такие больные после лечения направлялись прямо в свою часть, минуя БВ — батальоны выздоравливающих.
Дистрофики выделялись чрезмерной нервностью, повышенной раздражительностью и капризностью. Эта высокая возбудимость могла быстро смениться полусонным состоянием. Лечение их было нелегкой задачей и требовало большого внимания и терпения.
У нас лежал командир картографической части Ленинградского фронта капитан Арутюн Давтян. Диагноз: алиментарная дистрофия в тяжелой степени. Врачи не имели никакой надежды на его выздоровление. Давтян ничего не ел. Пища, даже дробными, небольшими порциями, вызывала у него отвращение. Капитан лежал неподвижно, вытянув поверх одеяла исхудавшие руки с шелушащейся кожей, и только изредка пил морс маленькими глотками.
На третий день своего пребывания в госпитале Давтян стал просить, чтобы ему приготовили шашлык. Он убеждал врачей, что поправится, поев хоть один раз шашлык. Обязательно поправится! Он в этом уверен!
Я доложил его просьбу Долину.
— Отлично! — обрадовался Долин. — Значит, больной верит в свое выздоровление! От шашлыка? Пусть! Надо любыми мерами поддержать его убежденность! Это тоже может служить лекарством. И притом, запомните, очень мощным, так сказать сильнодействующим…
Значит, нужен шашлык. Но где взять баранину? В наших условиях — это задача невыполнимая. Пошел к Ягунову.
— Достать! Обязательно! — воскликнул Ягунов. Он нажал кнопку звонка.
В кабинет вошел Савицкий.
— Петр Устинович, сейчас же, пишите на склад просьбу от госпиталя. Срочно нужен кусочек баранины! На шашлык тяжелобольному офицеру! Двести граммов. Нет, четыреста. С запросом. Тогда дадут двести. И начпрода ко мне! Пулей!
— Понимаю!
Мгновенно появился начальник продотдела Полозов.
— На моей машине — быстро на склад! Необходим кусочек баранины. Не достанете — глаз не показывайте! Действуйте! Немедленно! Быстро!..
Обычно медлительный, человек олимпийского спокойствия, Полозов на сей раз не идет, а буквально бежит к машине.
— Кварацхелия! Давай, братец, на все четыре колеса!..
Тем временем повар предлагает Давтяну нечто вроде импровизированного плова. Есть у него «в загашнике» немного пшенного концентрата. Но больной не хочет этого «плова». Шашлык! Только шашлык!
Вернулся Полозов — баранины на складе нет. Куда еще обратиться? Поиски привели нас с Полозовым в «Асторию», где был городской стационар для дистрофиков. Стали просить баранину.
— На шашлык? — удивились там. — Вы что, с ума сошли?!
— Что будем делать? — тяжело вздохнул Полозов. — С какими глазами вернемся к Ягунову?
— Не волнуйся! Еще не все потеряно! Кварацхелия, в госпиталь!
В пути мы написали записку:
«Александр Осипович! С бараниной катастрофа! Были в „Астории“. Отказали. Помогите нам в беде!»
— Передай эту записку сейчас же Долину! — просим шофера. — Скажи — мы в машине…
Долин не заставил себя долго ждать. Через несколько минут он уже сидел с нами. В «Астории» после пространно убедительных доводов начальника медицинской части вняли нашей просьбе — дали двести граммов баранины. И даже кусочек бараньей почки.
Есть баранина! Будет шашлык. Ну, о лимоне, который полагается к шашлыку, думать нечего. Его заменили лимонной кислотой из нашей клинической лаборатории.
Теперь дело за луком. Где его взять? Выручили шефы — дали луковицу из фонда ботанического сада.
Все это положили на стол перед поваром Смирновым. Старик потер руки и заулыбался: это вам не ржаную кашу готовить, тут он себя покажет!
Шашлык вышел на славу! Давтян оживился и с жадностью съел несколько маленьких кусочков. Кормили больного с перерывами. Последний кусочек он съел перед сном.
Утром больной почувствовал себя лучше. С этого дня Давтян стал есть и поправляться.
Что же это? Чем же все-таки объяснить такой эффект у безнадежно больного Давтяна? Могут быть разные суждения, но верно только одно, о чем рассказал нам Долин на лекции: психологический настрой больного может в определенных условиях иметь решительное влияние на исход болезни.
Вскоре капитан Давтян был эвакуирован из госпиталя. А в июне на столе в ординаторской лежал конверт. «Ленинград, 34. Почтовый ящик 164-а. Военврачу Грачеву Федору Федоровичу».
На конверте три штампа. Один: «Проверено военной цензурой. Ленинград». Два других почтовые: «Тихвин. 7. VI. 42» и «Ленинград. 18. VI. 42».
Письмо большое, поэтому привожу здесь только некоторые строчки.
«Здравствуйте, уважаемый Федор Федорович!
Пишет Вам больной Давтян А. А., к которому Вы проявили большую заботливость в области питания дистрофиков.
Федор Федорович! Я очень признателен Вам и приношу Вам благодарность и скажу, что Ваша работа в области питания имеет важное значение для больных, оно является очередным толчком, попутно с лечением.
Имейте в виду, я еще раз подтверждаю, что благодаря шашлыку, который Вы преподнесли в первых числах апреля, я ожил. Это будет для меня знаменательным.
С приветом больной А. Давтян. 4. VI. 42. Тихвин».Ответить Арутюну Амбарцумовичу я не мог. Обратного адреса не было. И для меня Давтян затерялся на дорогах войны.
Но вот через двадцать три года после окончания войны дома раздался телефонный звонок.
— Это квартира доктора Грачева? — спросил мужской голос.
— Да.
— Федора Федоровича?
— Да…
— Вы не представляете, кто с вами говорит?
— Нет.
— Давтян. Арутюн Давтян!
— Прошу прощения, не помню…
— Тогда по-иному. Шашлык в госпитале помните? Умирающему дистрофику…
— Ой, Давтян!
— Он самый! Здравствуйте!..
Мы, конечно, встретились. На сей раз Давтян угощал меня шашлыком.
— Арутюн Амбарцумович, да как вы узнали мой номер телефона?
— Очень даже просто. Прочел в «Вечернем Ленинграде» ваш очерк «Командировка за светом» и сразу же — за список абонентов телефонной сети. Вот и вся недолга…
Оказалось, что Арутюн Амбарцумович живет и работает в Ленинграде по своей гражданской специальности — инженером-геодезистом.
Пальмовая ветка
оначалу некоторые из нас опасались, как бы наука о физиологии, которую так старательно пропагандировал профессор Долин и его сотрудники, не заслонила практической работы в нашем госпитале.
Но вскоре эти опасения оказались напрасными. Повседневно, исподволь привлекая внимание врачей к физиологии, профессор Долин сделал доступным для врачей новый арсенал физиологических методов и фармакологических средств для успешного лечения раненых и больных.
Все единодушно сошлись, что Александр Осипович нашел ключ к лечению дистрофиков дробным, шестикратным питанием. Этот метод вкупе с переливанием крови и применением кровезамещающих растворов дал хорошие результаты.
Больше того. В нашем госпитале концентрировались больные, перенесшие контузию и получившие на фронте сотрясение мозга. Для них были созданы специальные условия в неврологическом отделении — детище профессора Долина.
Еще при жизни И. П. Павлова Александр Осипович участвовал в работе павловской клиники неврозов, где было установлено, что сон — целебный фактор при нервных страданиях. Он охраняет и восстанавливает нервную систему.
Профессор Долин решил применить лечение сном при закрытых травмах головы. При лечении снотворными веществами больные спали в сутки от двенадцати до двадцати часов. В установленное время их будили (если они не просыпались сами) для принятия пищи. После очередной дозы снотворного больные вновь засыпали. С прекращением удлиненного сна назначали короткий курс нейростимуляторов.
Лечение сном значительно укорачивало сроки госпитализации больных и раненых, перенесших контузию и сотрясение мозга. Они выздоравливали быстрее, чем при обычных методах лечения.
Так учение «старейшины физиологов мира» Ивана Петровича Павлова об охранительно-целебной роли сна воплотилось в руках его учеников непосредственно в практику военной медицины.
Гуманный подход к лечению мозговых травм нашел свое отражение и в терминологии. Долин заменил общепринятый диагноз «сотрясение мозга» «ушибом головного мозга», по степени тяжести.
— Выбросьте, пожалуйста, из головы пугающие слова «сотрясение мозга», — увещевал Долин врачей. — Этот термин травмирует психику раненых, способствует их психической и физической инвалидности.
Успешно применял Долин учение И. П. Павлова об условных рефлексах и в целях военно-медицинской экспертизы. Были, правда очень редко, случаи, когда некоторые бойцы симулировали заболевание, жаловались на потерю речи, слуха, зрения.
Красноармеец Митрофан Грунин лечился в госпитале около месяца по поводу ушиба головы в легкой степени. Все болезненные симптомы после лечения сном исчезли, но Грунин продолжал жаловаться — ничего не видит. Офтальмологи утверждали: жалобы необоснованны.
Следовало убедительно разоблачить симулянта.
Его пригласили в ординаторскую. Грунин появился крадущейся походкой: не ступал всей ногой, твердо и уверенно, а шел на цыпочках, согнувшись. Часто облизывал губы, лицо было покрыто красными пятнами.
На стол перед Груниным поставили электрическую лампу.
— Видите свет лампы?
— Н-не! — вяло ответил Грунин, озираясь, как в лесу. — Туман в глазах…
— Будем лечить вас электричеством.
— Поможет?
— Несомненно…
Начали курс «лечения». Перед Груниным зажигалась лампа и одновременно с помощью приложенной к ноге электродной пластинки наносилось раздражение слабым электрическим током.
Грунин при воздействии током неизменно отдергивал ногу. Это — ответ на раздражение электрическим током, врожденный безусловный рефлекс.
Митрофан Грунин жаловался:
— Разве это лечение? У меня глаза не видят, а мне электричеством ногу лечат… Как не видел, так и не вижу…
После ряда повторных совпадений действия света и тока у «больного» образовалась прочная связь между светом и электроболевым ощущением в ноге.
На восемнадцатый раз свет зажгли, но ток включен не был. Грунин отдернул ногу и на этот раз, а также и в последующие сеансы, когда применялся свет без тока. Таким образом, симуляция Грунина была разоблачена неоспоримо.
Весть об этом вызвала в палате, где лежал Грунин, «короткое замыкание». Что там началось! Изящная словесность, конечно, отсутствовала. На другой день «слепой» был выписан из госпиталя в маршевую роту…
Еще один случай «выздоровления» симулянта.
В госпиталь поступил танкист сержант Антон Овчинников. Он был «контужен при разрыве бомбы на незначительном расстоянии от танка», как гласила медицинская карточка передового района.
Овчинников демонстрировал потерю речи и слуха. Глухонемой. С медицинским персоналом он общался только с помощью записок. Предпринятая терапия не дала эффекта. Но Долин еще раз сам тщательно осмотрел сержанта в неврологическом отделений и написал на листке бумаги: «Обещаю Вам, будете слышать и говорить». И дал это прочесть Овчинникову.
Долин начал с гипноза, чтобы под воздействием внушения заставить танкиста слышать и говорить. Но гипноз успеха не имел: сержант активно сопротивлялся. Однако Долин был настойчив. Новый прием — дача снотворного. Может быть, во сне заговорит. Это бывает. И на этот раз результата не было. Сержант хорошо выспался — и только.
— В перевязочную! — распорядился Долин.
Последовала новая проба: дача наркотической смеси через маску малыми дозами, стремясь к наиболее явственному, непрерывному развитию возбуждения больного. Когда такое возбуждение достигло достаточно высокой степени, Овчинников стал метаться и неожиданно отчетливо и громко выругался самым неприличным образом.
Маска была снята, и Овчинникова водворили в палату, где он продолжал свою брань.
В палате все враз смолкли и глянули на «глухонемого».
— Тебя же вылечили, что же ты ругаешься? — тихо спросил сержанта один из раненых.
— Здесь не лечат, а калечат! — огрызнулся Овчинников.
— Мать честная, да ты еще и слышишь! Вот чудеса!
— Попал, как черт в рукомойник.
— Сало было, стало мыло!
Далее в адрес сержанта щедро — посыпались четкие и меткие «комплименты», весьма далекие от изящной словесности…
По инициативе профессора Долина Военно-санитарное управление Ленинградского фронта и Ленинградский филиал Всесоюзного института экспериментальной медицины решили в июле созвать совещание по научно-практическим вопросам, посвященное шестой годовщине со дня кончины И. П. Павлова. Первое заседание намечалось в институте, второе — у нас, в госпитале.
Восемь врачей нашего госпиталя задолго до даты этого совещания начали готовиться к докладам. Главный докладчик — А. О. Долин. Тема: «Учение академика И. П. Павлова и военно-медицинское дело в условиях Великой Отечественной войны».
В конце февраля меня вызвали в кабинет Долина. Там были врачи, Ягунов и Луканин. Мне предстояло доложить о результатах метода дробного питания больных, страдающих алиментарной дистрофией.
На столе Долина бюст И. П. Павлова, а на стене привлекает внимание репродукция портрета академика работы известного художника Нестерова.
После моей информации Долин вне всякой связи с моим сообщением озабоченно спросил Ягунова:
— А как же все-таки будет с возложением венка на могилу Ивана Петровича?
Ягунов снял телефонную трубку:
— Мельника в кабинет Долина!
Вызванный явился без промедления.
— Вам поручается не позднее завтрашнего дня достать большой венок! — сказал Ягунов тоном, не терпящим возражений.
Начальник пищеблока растерялся:
— В феврале? Венок? Тогда надо лететь в Крым, в Никитский сад!
Остроумие Мельника не было оценено по достоинству. Пышные усы Ягунова вздернулись вверх. Всем нем было известно — это плохой симптом: буря могла родиться мгновенно.
— Сергей Алексеевич, — как всегда, не повышая голоса, сказал комиссар, — я уверен — он достанет.
Долин, повернувшись к Мельнику, пояснил:
— Двадцать седьмого февраля — шестая годовщина со дня кончины академика Ивана Петровича Павлова. До сих пор в этот день ученые и общественность Ленинграда всегда возлагали венки на могилу Павлова. И мы хотим, несмотря на фашистскую блокаду нашего Ленинграда, продолжать эту традицию. Мы надеемся на вас.
— Постараюсь, Александр Осипович!
Утром Мельник направился в Ботанический сад Академии наук. Путь дальний и по тому времени нелегкий. В оба конца — более десяти километров по сугробам.
Вот что рассказал Мельник, когда вернулся в госпиталь.
Ботанический сад разрушили гитлеровские бомбардировщики. Пятнадцатиметровая пальма, которая находилась в специально сооруженном здании, сейчас стояла мертвой среди груды железных обломков.
В одной из теплиц дымили печурки. По всей оранжерее на полках стояли горшочки с мелкими растениями. Здесь Мельник встретил закутанного в шерстяной платок мужчину с исхудавшим, почерневшим лицом и сказал, что ему нужен большой венок.
— Дорогой товарищ, — глухо ответил незнакомец, — цветов у нас нет с осени, да и зелени почти не осталось.
— Какая досада! Как же быть? — И Мельник рассказал, зачем госпиталю нужен такой венок.
— Подождите! — коротко сказал тогда мужчина и, шаркая стоптанными валенками, вышел из теплицы. Вернулся он минут через двадцать, неся в руках две большие пальмовые ветки и какие-то зеленые растения, напоминавшие папоротники.
— Венка нет, но из этих веток можно соорудить что-то наподобие венка.
Буквально на глазах ветка, украшенная зелеными листьями, превратилась в отличный венок.
— Поклонитесь, пожалуйста, и от нас могиле Ивана Петровича! — прощаясь, сказал незнакомец.
Это был ученый-садовод Николай Иванович Курнаков.
Через несколько часов Мельник добрался до госпиталя и торжественно протянул венок Ягунову.
— Теперь надо достать ленту. Шелковую! — потребовал начальник госпиталя. — И сделать надпись!
Но где достать черную ленту? Да еще шелковую!
Выручила медицинская сестра нашего отделения Клавдия Лобанова — принесла головной платок матери. Его разрезали. Получилась неплохая лента.
Достали и порошок золотистой бронзы. На ленте художник Сулимо-Самуйло сделал надпись:
Академику Ивану Петровичу Павлову от госпиталя 1012.Утром 27 февраля шофер Николай Кварацхелия с трудом завел свою «Антилопу-гну», и мы поехали.
Невский проспект. Он пустынный — ни трамваев, ни троллейбусов. Редкие прохожие. Середина дома, где был Малый зал Филармонии, разрушена бомбой. Напротив выгоревшего Гостиного двора люди черпают воду из пожарного колодца. Вокруг него — толстая ледяная воронка.
Заснеженная Фонтанка. Аничков мост. Но какой? Нет привычных каждому ленинградцу бронзовых Клодтовых коней. Они где-то надежно укрыты от вражеских бомбардировок и обстрелов.
На углу Литовского проспекта и Разъезжей улицы горел большой дом. На снег падала гарь. Пожар охватил пятый этаж. Огонь бушевал. Жильцы молча выносили мебель на улицу.
У ворот Волкова кладбища и дальше все занесено снегом.
Сугробы.
Ни единой тропы.
Пять человек взялись за лопаты.
По очереди, сменяя друг друга, рыли узкую траншейку. Работа продвигалась медленно — снег слежался, плотный.
Вот и могила И. П. Павлова.
Гранитное надгробие под белым покрывалом снега.
Отрыли лопатами. Обмели. Под барельефом скромная надпись:
ПАВЛОВ Иван Петрович 1849–1936Мы возложили венок и минутой молчания почтили память великого ученого.
«Отфевралило»
тшумел февраль своими метелями, полностью оправдав свой нрав — самого снежного месяца. «Отфевралило», по выражению нашего дворника Семеныча.
Земля еще покрыта снегом, но он уже поубавился и начал голубеть. Дрогнуло царство зимы.
Весна побеждает!
С каждым днем все раньше показывается солнце. Искрометный снег сияет нестерпимым блеском. Свет и снег. Куда ни посмотри — глазам невмочь. Те ясные дни конца февраля, которые тонкий знаток природы М. М. Пришвин называл весной света.
Начался март. Первый весенний месяц. Утро года. С карнизов свисают последние льдинки-сосульки. Они плачут, срываются и с хрустальным звоном разбиваются о снежный наст.
С перестуком падает капель, вымывая в зернистом снегу аккуратные лунки.
А небо — нежно-лиловое.
На улицах взъерошенные воробьи. Суетятся, щебечут, перекликаются.
В начале марта с Финляндского вокзала уходил последний эшелон Ленинградского университета. Мы тепло прощались с нашими друзьями, которые, не жалея времени и сил, помогали в лечении раненых.
Путь университета — на Волгу, в Саратов. А отдела редких книг и рукописей — в Елабугу.
Среди уезжающих нет моих знакомцев из научной библиотеки. Они остались работать в блокадном Ленинграде.
Вокзал изуродован бомбежками и снарядами. Вагонов в составе меньше обычного. Укороченный поезд покидает Ленинград…
Шли дни. Из них складывались недели, месяцы, Вот уже и полгода набежало. За это время мы многому научились. Наша учеба дала свои плоды. Врачи различных специальностей: терапевты, педиатры, фтизиатры — успешно осваивали хирургическую подготовку и неплохо справлялись с лечением хирургических больных.
Операционные и перевязочные медицинские сестры научились гипсованию, методике лечебной физкультуры, массажу. Младший медперсонал — санитарки — уходу за ранеными.
Теперь можно было с полной уверенностью сказать: госпиталь твердо стоит на ногах. Правильная организация медицинской помощи, возросшие специальные знания и практические навыки дали возможность возвратить Ленинградскому фронту не одну тысячу восстановивших свое здоровье бойцов и командиров.
Итак, на пороге весна — волшебное время года. Но в условиях блокады это грозило опасностью для военной медицины Ленинградского фронта: растает лед, не будет Дороги жизни — основного пути эвакуации раненых на Большую землю. Чтобы не терять драгоценного времени, согласно распоряжению свыше, мы направили в тыл страны в два раза больше раненых, чем в феврале. Были несколько расширены показания для их эвакуации. И госпиталь покинули даже больные в тазовом гипсе. Таким образом, сама обстановка подтвердила правоту хирурга Гороховой, о методе которой говорилось выше.
С приходом весны появилась неожиданная забота: заготовка льда, необходимого летом для хранения продуктов. Выручила Нева.
Своего ледника мы не имели. Сверкающие на солнце глыбы возили в ледник соседнего госпиталя, размещавшегося в клинике Отто. Работали с оттовцами вместе, заготовляя лед исполу.
Потом возникла тоже «ледовая» эпопея, но уже другого «профиля». За зиму во дворе госпиталя грязный снег слежался в плотную, толстую броню. Это уже не снег, а лед. Он был крепкий, тяжелый, как мрамор. Его надо обязательно убрать, иначе двор станет очагом инфекции.
И вот в марте, когда прилетели грачи — эти разведчики весны, — у нас опять аврал. Лед во дворе скалывают все — от начальника госпиталя до санитарки. На утренних врачебных конференциях докладывают не только о текущей медицинской работе, но и о количестве вывезенного льда и мусора.
Каждая бригада по сколке и вывозке льда состоит из пяти человек. Я работаю с Зыковым, секретарем партийной организации Галкиным, политруком Богдановым и хирургом Муратовым.
Сколку (так именуют дворники сколотый лед) на машинах вывозим на Малую Неву, к мосту Строителей.
На грузовых машинах, санках, фанерных щитах, в ящиках везли и волокли сюда грязный снег и жители прилегающих улиц и дворов. Нелегко тащить тяжелый груз, но люди начали обретать способность шутить — это уже хорошо!
Помню такой эпизод. По мосту верхом на отощавших лошаденках еле плетутся четыре бойца, затрудняя работу блокадных «дворников».
— Тетя Варя, поторопи солдат! — советует кто-то из работающих.
— Проезжай быстрей, эрзац-кавалерия! — властно кричит бойцам раскрасневшаяся от работы невысокая и худенькая тетя Варя, в ватной куртке, таких же штанах и кирзовых сапогах.
— А ты эрзац-баба! — озорно отзывается один из верховых.
— Это почему же? — озадачена тетя Варя.
— Потому что в штанах! Во как! — И красноармеец помахал ей рукой: — Будь здорова, дорогая!
На мосту рассмеялись: «Нашла коса на камень». А тетя Варя, сощурившись, тоже улыбается.
Две недели очищали мы двор госпиталя. К концу работы распространился слух, что после очистки улиц пустят трамвай. Мало кто верил: пути исковерканы, электроэнергии нет, а вагоны разбиты. Да и как наладить трамвайное движение под обстрелом врага?
Однажды, вернувшись, предельно устав, после уборки льда, увидел на столе записку: «Зашел бы ко мне, Савицкий».
Здоровье Петра Устиновича за последнее время резко ухудшилось. Вначале думали, что у него воспаление легких, но потом выяснилось — прогрессирующий туберкулез.
В маленькой палате, обложенный подушками, больной что-то писал.
— Закончил одноактную пьесу, над которой работал Кугель. Но только сюжет другой — из жизни нашего госпиталя. Хорошо бы поставить в клубе…
Савицкий замолчал и, вытянув тонкие руки, стал поправлять одеяло. Как изменился еще недавно такой подвижный и жизнерадостный человек! Лицо осунулось, на запавших щеках зловещий румянец. Глаза лихорадочно блестят…
Медицинская сестра принесла стакан чаю и попыталась с ложечки напоить Савицкого.
— Я еще в состоянии сам держать стакан! — рассердился больной.
Сестра записала температуру и покинула палату.
— Вот так все время, — кивнул на дверь Савицкий. — Не двигайся, не разговаривай!.. Скажи, это правда, что партизаны через линию фронта пришли в Ленинград?
— Да. И с обозом продовольствия. Много подвод!
— Непостижимо! Какое время! Очень хочется дожить до победы!
Он откинулся на подушки и закрыл глаза, под которыми легла синева.
С тяжелым чувством я вышел из палаты…
Весна
шорохом оседал рыхлый, талый снег. Его запах щекотал ноздри. Снег сочился водой. По улицам — ручьи. Весенняя распутица. На Неве — разводья. У берегов — вспученный лед. Но скоро и его проест быстрина реки. А над рекой курятся завитки легкого пара, наподобие тумана. Но это не декабрьский морозный пар — апрельский. Вешним раздольем дышит река.
Мы рады весне. Самое трудное — позади. Теперь жизнь пойдет по новому, лучшему руслу.
Но война продолжалась. Блокада — тоже. 4 апреля в восемнадцать часов тридцать минут взвыли сирены госпиталя. Воздушная тревога! Первый и большой массированный налет немецкой авиации после длительного перерыва. Несколькими эшелонами с различных направлений. «Звездный» налет.
Гул самолетов. Вражеские бомбардировщики над Невой, пикируют на корабли. Одновременно с бомбардировкой враг начал сильный артиллерийский обстрел.
А ночью — второй воздушный налет.
В кабинете Ягунова очередное совещание начальников медицинских отделений и всех служб госпиталя. Обсуждаются текущие организационные вопросы.
— Наши ближайшие задачи, — говорит Ягунов, — оборудовать физкультурную площадку, создать солярий и сад для прогулок и отдыха раненых, возделать огороды. Лето не за горами, нужен текущий ремонт. Нельзя забывать и о предстоящей заготовке дров…
Сидящий рядом со мной начальник девятого отделения Коптев подсовывает мне записку: «Ф. Ф! Физкультурная площадка! Сад! Огороды! Чародей наш Ягунов, да и только. И хороший мечтатель! Не правда ли?»
Ближайшие события показали: если Ягунов и был мечтателем, то мечты его всегда имели под собой реальную почву, он умел превращать мечту в действительность… В конце концов если бы нам в декабре сорок первого года сказали, как мы встретим весну сорок второго, это бы тоже показалось нам тогда мечтой.
Апрель. Из стационара возвращается медицинский персонал. Прозимовали! Продовольственное положение улучшилось. Появилась возможность не на словах, а по-настоящему заняться диетологией. Мы ввели пять различных диет, в том числе даже индивидуальный стол.
Голубое, безоблачное небо, солнце уже не только светит, но и греет. Население города выходит на улицы. На скамейках садов и бульваров сидят люди, вдыхают запах влажной земли, греются на солнце после многомесячной жизни и работы в промерзших стенах.
Едва сошел снег, как мы начали снимать булыжник с трех тысяч квадратных метров Биржевого проезда, от Менделеевской линии и до Тифлисского переулка. Здесь будет цветник для ходячих раненых.
Энергичный Зыков где-то достал доски. Сделали забор, натаскали земли из ботанического сада университета.
Пятнадцатого апреля после обхода раненых Муратов сказал мне:
— Сегодня день рождения Коптева. Не забудь поздравить.
— Без подарка?
— Предусмотрен коллективный, Гордина и Романова с утра ушли в город, ищут… Зайдем к имениннику.
Не успели мы войти в ординаторскую девятого отделения, как следом влетели Гордина и Романова. Не вошли, а именно влетели.
— Трамвай! — закричали они с порога. — Пошел трамвай! Поздравляем!
— Поздравляем! — точно по команде подхватили мы.
— Иван Сергеевич! Это в честь вашего дня рождения! — воскликнула Романова. — Идем с Ниной по Невскому, болтаем! — усиленно жестикулируя, рассказывала она. — Смотрим — батюшки мои! — трамвай идет! Чистенький такой, красивый, красненький. Только вместо стекол — фанера. Мы глазам не верим! Побежали к остановке, сели и поехали! Ей-богу!
Многое из тогдашних событий стерлось в памяти. Но эта первая блокадная весна никогда не забудется.
Жизнь налаживалась с каждым днем. Листвы на деревьях нет, набрякли только почки, но уже сняты неуклюжие одежды ленинградцев, в которые они были укутаны в холодную и суровую зиму.
К этому времени в пищевом блоке был организован новый цех, где запахло сосновым бором. Там занимались производством витамина С из хвои для раненых, больных и медицинского персонала.
Вопрос изготовления такого напитка разрешился — только через полгода, когда по инициативе горкома партии опытами извлечения витамина С из хвои для массового употребления занялись два института: Научно-исследовательский витаминный и Ботанический.
Учебным и практическим руководством его приготовления послужила статья кандидата биологических наук В. С. Соколова «Витамин С из хвои», опубликованная в начале апреля в «Ленинградской правде», и последующие инструкции.
На первых порах горьковатую настойку в госпитале пили неохотно. Потом удалось значительно улучшить ее вкусовые качества добавлением к настою клюквенного экстракта.
В конце апреля, когда после восьмимесячного перерыва возобновило работу хирургическое общество Пирогова, в ординаторской зазвонил телефон. Трубку снял Муратов.
— Тебя, — сказал Петр Матвеевич. — Ягунов…
— Грачев слушает.
— Немедленно ко мне!
Когда я вошел в кабинет начальника, он встал:
— Поздравляю вас с присвоением звания военного врача второго ранга!
— Служу Советскому Союзу!
Ягунов передал мне копию выписки из приказа по войскам Ленинградского фронта.
— Вот видите, ценят работу диетологов, — с удовлетворением заметил начальник госпиталя. — Садитесь. Сейчас вам, конечно, будет полегче. Но не забывайте, впереди у нас еще ох как много дел! Всяких… Очень много! Пусть сегодня у нас еще не все выглядит очень хорошо. Это не беда, если понимать, как надо работать завтра.
И потом незаметно для себя зажегся, разговорился о том, сколько еще надо сделать для того, чтобы в дальнейшем улучшить лечение раненых.
Слушая его, я понял — передо мной «капитан дальнего думания», по выражению А. С. Макаренко…
Третьего мая приказом Военно-санитарного управления фронта Муратов был назначен начальником крупного военного госпиталя.
Петр Матвеевич сдавал отделение Веронике Осиповне Раппе.
Вместе с ней Муратов сделал обход отделения, попрощался с ранеными. А когда закончились и наши прощальные разговоры, в ординаторскую вошли семь старост палат. Один из них с папкой в руках. Невысокого роста, приземист и широк в кости. До войны он занимался спортом, увлекался борьбой. Это сержант Павел Орешкин, раненный под Гатчиной. Орешкин почти поправился, и скоро его выпишут из госпиталя.
— К вам, товарищ начальник отделения. Делегация от раненых, — начал Орешкин.
Мы встали.
Сержант начал развязывать тесемки папки. Но они почему-то не развязывались. Когда это Орешкину удалось, он так расправил свои плечи, что казалось, халат на нем сейчас лопнет по швам.
Сержант раскрыл папку и начал громко читать:
— «Дорогой Петр Матвеевич! Солдаты и командиры войск Ленинградского фронта, которые находятся на лечении в восьмом медицинском отделении, узнали, что Вы назначены начальником крупного госпиталя.
Нам очень грустно расставаться с Вами! Вы достойно оправдываете звание советского врача-хирурга, ленинградского военного доктора.
В тяжкую годину пишем мы это письмо. Враг под стенами Ленинграда.
Спасибо Вам за то, что, невзирая на все трудности блокадной зимы, Вы денно и нощно исцеляли наши раны, оперировали, спасали от смертельной опасности…»
Пальцы Муратова теребили халат, то собирая его в складки, то распуская.
— «Золотые руки у Вас, Петр Матвеевич, — продолжал читать Орешкин. — Сколько Вы сделали операций, мы не знаем, но о Вашей медицинской помощи мы будем помнить всю жизнь. За это Вам — низкий поклон! В дни наших страданий Вы не только лечили нас, но и находили слова, вселявшие уверенность в нашем выздоровлении.
— Скоро мы пойдем опять в бой. И будьте уверены — мы с честью станем грудью, чтобы уничтожить ненавистного врага! Будем биться до последней капли крови!
Мы расстаемся с Вами, Петр Матвеевич! Желаем Вам от всего сердца доброго здоровья и успеха в Вашем благородном труде на благо нашей дорогой Отчизны!»
Сержант Павел Орешкин передал адрес Муратову. А другой староста, Николаев, преподнес Петру Матвеевичу солдатскую зажигалку из гильзы оружейного патрона. На патроне было нацарапано:
Хирургу П. М. Муратову — от раненых.Петр Матвеевич крепко обнял старост и поцеловал.
Когда мы остались одни, Муратов глубоко вздохнул.
— Федор, пройдемся напоследок по родным местам, — предложил он.
Вначале мы шли молча. На душе у каждого грусть, — нелегко расставаться после всего, что пережили вместе.
— Итак, мы проработали семь месяцев, — нарушил молчание Муратов.
— Да…
— Семь месяцев, а похоже — семь лет. Запомнится времечко! Много было разных эмоций, как любит выражаться Ягунов.
— Кстати, как твое мнение о нем?
— Хорошее.
— По-моему, он очень импульсивный.
— Ну и что ж? Ты пойми, Ягунов прост, непосредствен, как ребенок. Это хорошее качество. В этом смысле он чем-то похож на Григория Махиню. Помнишь?
— Конечно.
— А квартет госпиталя — неплохой…
— Ты кого имеешь в виду?
— Ягунова, Луканина, Долина и Зыкова. В общем, госпиталю повезло…
На Университетской набережной порядочно народу. Смотрят, как Нева несет ладожский лед. Льдины толстые. Минувшая зима была не только морозной, но и щедрой на снегопад.
Большие белые поля местами в черных трещинах. Плывут бревна, доски, какие-то ящики и бочки — остатки от ладожской Дороги жизни.
На Дворцовом мосту мы стали прощаться.
— Ну вот и все, друг дней моих суровых, — тихо произнес Муратов. — Адрес мой помнишь?
— Еще бы! А если и забуду, по памяти найду!
— Разгромим сволочей — встретимся! Будет что вспомнить! Бывай здоров!
— До победы, до встречи!
Боец второй Родины
то было в марте сорок второго года.
Ночь.
Я дежурил по госпиталю.
В ночное время Ягунов часто обходил госпиталь. При этом он надевал мягкие войлочные туфли и внезапно появлялся перед дремавшим на своем посту.
Разнос начинался немедленно.
В это дежурство я захватил с собой общую тетрадь. Будучи еще в батальоне народного ополчения, я наскоро записывал по горячим следам наиболее интересные события тех дней.
И вот сейчас, перелистывая тетрадь, прочел короткую фразу: «Эулохио Фернандес Гонсалес — боец второй Родины». Запись напомнила об одном из наиболее волнующих эпизодов первых дней войны.
Мне захотелось развернуть этот эпизод в подробный рассказ, чтобы когда-нибудь поведать советским людям об удивительном испанском юноше, бойце 264-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, где я был врачом санчасти.
Девятнадцатого июля сорок первого года ополченцы вышли маршем из Ленинграда под Новый Петергоф, Здесь, в деревнях Марьино, Ольгино, Низино, Костино, Сашино, сразу приступили к созданию укрепленного района. В работе нам помогало более трех тысяч человек, главным образом ленинградские женщины.
Объем оборонительных сооружений большой, сроки короткие. Дорог каждый час. Все взялись за лопаты, кирки, ломы. Полосовали землю окопами, ходами сообщения, противотанковыми рвами.
Одновременно строили доты, дзоты, блиндажи, бетонированные пулеметные точки.
Над деревней Сашино, где расположилась санитарная часть батальона, догорал теплый июльский день. С командиром батальона старшим лейтенантом М. С. Бондаренко мы возвращаемся из деревни Низино. Навстречу, поднимая облако пыли, с пастбищ бредет стадо коров и коз. У настежь открытых ворот их ждут женщины.
Вокруг запах вскопанной земли, недавно скошенной травы.
На лес, кустарники и цветы ложится вечерняя заря. Розовеют верхушки берез, а голоствольные сосны — оранжевые. В окнах колхозных домов — золотые блики.
Простор, ширь и теплота русской природы. Все светлое и ясное. И подумалось: как будто нет войны. А над мирной деревней, полем и рощицей небо утюжит фашистский стервятник. Враг в районе Луги, рвется к Ленинграду.
Возле двух дотов бойцы рубят лес, готовя сектор для артиллерийского обстрела.
Несколько человек трудятся у подножия мощного и высокого дуба. Сколько лет стоял он здесь в одиноком раздумье? Он и сейчас стоит величаво, спокойно, вопреки своей трагической судьбе, будто ему предстоит жить еще долгие годы.
— Берегись! — слышен громкий предостерегающий окрик, и могучее старое дерево с треском обрушивается на землю.
На лужайке, поставив винтовки в пирамиды, отдыхала группа бойцов нашего батальона. Среди них стоял юноша, невысокий и стройный, почти мальчик. С черной шевелюрой, с темными, но по возрасту задумчивыми глазами.
— Кто это? — спрашиваю командира батальона.
— Испанец. Зовут Эулохио. Рекомендую познакомиться. Судьба его заслуживает внимания.
Я подошел ближе. Смотрю — знакомое лицо. Где-то я его видел. Это точно. Но где и когда? Вспомнить не могу. Меня охватывает досадное ощущение: вот-вот, вертится на языке. Недостает какой-то детали, толчка в памяти.
И вдруг испанец порывисто проводит по лбу красным платком — жарко! Вот она, деталь! Вспомнил!
Месяц назад, в солнечный июльский день, сдав в Балтийское пароходство мореходную книжку, я направился в приемный пункт Октябрьского райвоенкомата.
В вестибюле длинная очередь людей самых разных возрастов. Накурено, шумно и душно. Но тут нет призванных и мобилизованных — ленинградцы добровольцами записываются в народное ополчение.
Подошел мой черед.
Я получил направление в 264-й ОПАБ — отдельный пулеметно-артиллерийский батальон, и в это время в комнату, минуя очередь добровольцев, не вошла, а прямо-таки вбежала шумная группа подростков.
«Кто здесь главный начальник?» — громко спросил один из них и быстро провел по лбу красным платком.
«Я начальник пункта», — ответил седовласый полковник, глядя на вошедших из-под очков.
Прерывающимся от волнения голосом, с заметным акцентом, юноши начали просить полковника, чтобы их приняли в армию народного ополчения.
Как выяснилось, это были воспитанники Дома испанской молодежи в Ленинграде. Многие из них еще не достигли призывного возраста.
«Нельзя, дорогие товарищи, — мягко возразил полковник. — Не имеем права брать в армию несовершеннолетних».
«А мы имеем право драться с фашистами! — рванулся к столу черноволосый доброволец. — Вдвойне! У нас две Родины — Испания и Россия!» И юноша снова провел по лбу красным платком.
Что ответили молодым испанцам, узнать мне тогда не пришлось — я очень спешил. В моем распоряжении было всего час сорок минут: из райвоенкомата я вышел в четырнадцать часов пятнадцать минут, имея предписание явиться в батальон в шестнадцать ноль-ноль. А надо успеть зайти на службу, в партком, домой за личными вещами.
И вот, кажется, один из этих испанцев стоит передо мной. Будучи судовым врачом теплохода «Сибирь», я встречался с бойцами героической республиканской Испании, которые направлялись в Москву. Я знал испанский достаточно, чтобы спросить:
— Де донде вьенес, камарада?[2]
— Де Астуриас, хефе![3] — бросился ко мне юноша, услышав родную речь. Я не ошибся, это был тот самый паренек из Дома испанской молодежи.
— Сколько же тебе лет? — перейдя на русский язык, спросил я.
— Шестнадцать!
— Значит, ты теперь испанский боец народного ополчения Советского Союза?
— Нет, товарищ начальник, — задумчиво ответил Гонсалес. — Советский Союз — моя вторая Родина! И я боец второй Родины!
Испанец был ординарцем начальника штаба батальона. Он родился в Астурии, в семье железнодорожника, отец погиб в первые месяцы борьбы против испанских мятежников.
В ожесточенных боях с превосходящими силами врага испанская народная армия отступила в город Хихон. Он был блокирован с суши и моря. А в городе скопилось много ребят — детей горняков, шахтеров, металлургов, крестьян и служащих. Среди них находился и Гонсалес.
Республиканские власти прилагали все усилия, чтобы эвакуировать ребят. На помощь пришли французские моряки парохода «Деригерма». Они успели взять на судно более тысячи детей. Капитан очень торопился. Бои шли в предместьях города, который подвергался артиллерийскому обстрелу. Дети были доставлены во французский порт Сен-Назер, а туда за маленькими испанцами пришел наш теплоход «Кооперация» и направился в Лондон. Там часть ребят взял на борт второй советский теплоход «Мария Ульянова».
В начале октября 1937 года дети республиканской Испании с воспитателями и педагогами прибыли в Ленинград.
Маленьких испанцев поселили в Пушкине, а ребят школьного возраста — в Ленинграде, где они учились в двух домах-интернатах.
Потом Гонсалес поступил в ремесленное училище, будучи воспитанником Дома испанской молодежи.
— Полковника я тогда все-таки уговорил принять меня добровольцем, — рассказывал Гонсалес. — Выручил диплом инструктора штыкового боя…
— Когда же ты успел получить такое звание?
— Занимался по вечерам в военном кружке. На городском соревновании завоевал первое место. Тогда и получил диплом.
Подвижной, жизнерадостный и отзывчивый Гонсалес — Леша, как звали его в батальоне, — был любимцем наших бойцов. Он старался показать себя заправским солдатом. Служба ординарцем начальника штаба батальона не прельщала паренька. Он рвался в разведчики. И он добился этого: его перевели в желанный взвод разведчиков, а потом он стал связным у начальника артиллерии батальона лейтенанта Михаила Черникова.
Шли дни. События на фронте развивались стремительно. Борьба с врагом приобретала все больший драматический накал. В конце августа Петергоф стал прифронтовым городом. Батальон бомбила фашистская авиация. Всем бойцам батальона выдали медальоны — коричневые трубочки, куда каждый вкладывал свернутый листочек со своей фамилией, должностью, определением группы крови и домашним адресом…
И вот теперь, воспользовавшись своим ночным дежурством в приемном покое госпиталя, я решил написать о моей дружбе с Гонсалесом. Но усталость была столь велика, что, написав несколько страничек, я крепко уснул.
Разбудил меня Ягунов. Было три часа ночи. Открыв глаза, я увидел в руках начальника госпиталя свою тетрадь.
— И надо же! Да ты, я вижу, писатель! — ехидно усмехнулся Ягунов. — Почти Чехов, ей-богу! Отчет составить — так неделями тянешь, а тут смотри сколько накатал! Нельзя так на дежурстве переутомляться. Вот кончится война — пиши на доброе здоровье. Аминь!..
И, положив тетрадь в карман, Ягунов быстро вышел из комнаты. Разноса, которого я ожидал, не последовало. Пронесло!
Но я ошибся.
На утренней врачебной конференции Ягунов устроил мне «бенефис». В мой адрес летели иронические комментарии, в которые Ягунов мастерски облекал свои сочные выводы о пользе сна для дежурного врача.
Рассказ мне все-таки удалось закончить. В начале апреля этот рассказ «Боец второй Родины» я понес на радио.
Лифт в этот день ремонтировали. Поднимаюсь на шестой этаж. С трудом одолел пятнадцать площадок, сто пятьдесят три ступеньки! Уф!..
Меня направили к редактору художественного вещания Н. А. Ходзе. Это блондин невысокого роста, с явно выраженными следами тяжелой дистрофии.
Пока редактор читал мой рассказ, я осматривал его кабинет. Вместо оконных стекол — фанера. В комнате пианино, столы и три дивана. На каждом диване свернутые одеяла. Невдалеке от окна расположилась «буржуйка», на которой стоят три алюминиевые кружки с водой. Труба «буржуйки» выведена в форточку. Около «буржуйки» аккуратно сложенное топливо — ножки от стульев и какой-то разломанный ящик. На стене у письменного стола — три противогаза, три пожарные каски и один финский нож.
Было ясно, что в этой комнате не только работают, но и живут. Редактор не успел дочитать моего рассказа — завыли сирены. Началась воздушная тревога. С проворством, которого я никак, по внешнему виду, не мог ожидать от Ходзы, он схватил противогаз, напялил на себя каску, сунул рукопись в карман и, бросив на бегу: «Спускайтесь в бомбоубежище!» — исчез.
Встреча продолжилась после отбоя воздушной тревоги. Оказалось, что мой редактор — боец противопожарного отделения МПВО и его местом во время налета вражеских бомбардировщиков является крыша Радиокомитета.
Воздушная тревога для квадрата, в котором помещался Радиокомитет, была на этот раз спокойной, — бомбили Выборгскую сторону. Поэтому Ходза успел прочесть рукопись на крыше.
— Рассказ пойдет в конце апреля, — сказал он.
Я поблагодарил. В это время в комнату вошла маленькая, хрупкая на вид женщина. Она была в мужских сапогах, ватных штанах и распахнутом ватнике. Шея обмотана темно-синим кашне.
На ее исхудалом лице выделялись большие красивые глаза с длинными ресницами. Она молча кивнула нам и, подойдя к пианино, по-хозяйски подняла крышку. Потирая руки, уселась поудобнее. Извлекла несколько аккордов и пропела:
Я вам пишу, чего же боле…Оборвав музыкальную фразу, женщина встала.
— Вытяну! — сказала она, не обращая на нас никакого внимания.
— Где у тебя концерт? — спросил Ходза.
— В подшефном госпитале. — И, снова кивнув нам, певица вышла.
— Кто это?
— Вера Ивановна Шестакова, — ответил Ходза. — Солистка Малого оперного театра… Отказалась эвакуироваться с театром и проработала у нас всю зиму. Вы не поверите, она пела в студии при температуре минус пять-шесть градусов…
В конце апреля, в назначенный день, я снова был в Радиокомитете. Понятно, с каким интересом ожидал я начала передачи своего рассказа. Интерес и волнение мои усугубились еще и тем, что я должен был в конце передачи выступить перед микрофоном — прочесть несколько строчек послесловия.
С душевным трепетом я внимательно осматривал студию. Отсюда говорят со страной защитники Ленинграда: рабочие, воины, партийные работники, матросы, ученые и писатели. И к голосу ленинградцев, к голосу города-героя с радостью и надеждой прислушиваются в самых отдаленных уголках нашей Родины.
Рядом со мной сидел голубоглазый молодой летчик-капитан. Военная форма хорошо облегала стройную фигуру офицера. Грудь его украшали три ордена.
Летчику предстояло поведать, как он защищает небо Ленинграда. Офицер то и дело поглаживал колени, не зная, куда девать руки. Наклонившись ко мне, он доверительно шепнул:
— Черт его знает, чего я волнуюсь?!
Летчик подошел к микрофону, тщательно поправил китель и сел на краешек стула. Зажегся красный глазок микрофона.
Внешне капитан держался спокойно, читал естественно, убедительны были его живые интонации.
Закончив рассказ, офицер показал диктору на микрофон:
— Чуть не задохнулся! Волновался, как в первом бою! Честное слово!
Я улыбнулся: мужественный летчик, с тремя орденами, — испугался микрофона.
— Не улыбайтесь! — сказал Ходза. — Здесь это бывает со многими, почти со всеми. Слова становятся, как гири…
Мой рассказ «Боец второй Родины» читал артист Борис Александрович Смирнов, ныне народный артист СССР.
Не знаю, может быть, мне это показалось, но я до сих пор уверен, что лучшего чтеца на свете не существует.
Мне предстояло сказать небольшое послесловие. Я неоднократно перечитывал его вслух, знал почти наизусть и не сомневался, что все будет хорошо.
Но едва я подошел к микрофону, сразу почувствовал — екнуло сердце. С первых же секунд «слова стали, как гири», а строчки наплывали одна на другую. От волнения у меня перехватило дыхание. Торопливо, будто в тумане, прочел свою страничку.
После передачи я снова оказался в кабинете редактора. На «буржуйке» по-прежнему стояли три солдатские кружки. Вода в них кипела. Ходза снял две кружки и одну протянул мне. Мы пили кипяток без сахара и, конечно, как все блокадники, обсуждали «текущий момент».
Я уже прощался с редактором, когда на столе зазвонил телефон. Ходза снял трубку.
Звонил помощник начальника госпиталя на Суворовском проспекте. К великому моему изумлению оказалось, что он — мой сослуживец по батальону, Георгий Михайлович Никитин. Он только что прослушал рассказ о Гонсалесе и связался с Радиокомитетом, чтобы узнать мой адрес.
Я немедленно выехал к Никитину. Он рассказал мне о дальнейшей судьбе Гонсалеса. После боев под Новым Петергофом он был отчислен из батальона по возрасту — шестнадцать лет. В ноябре Гонсалес разыскал Никитина. Мальчишка томился без дела, голодный и бесприютный.
Никитин устроил его на работу в госпитале. Гонсалес окреп и стал просить, чтобы его направили в Ленинградский Дом испанской молодежи, эвакуированный в город Николаев на Волге.
Гонсалеса собрали в дорогу: сшили по росту обмундирование, снабдили продуктами и эвакуировали на Большую землю.
Я просидел у Никитина до позднего вечера. Он подробно рассказал мне о судьбе нашего батальона. 17 сентября враг прорвался к берегу Финского залива на участке Лигово — Сосновая Поляна. 19 сентября бой приняли измотанные сражениями армейские соединения, моряки, ополченцы, в том числе и наш батальон.
Шесть суток днем и ночью — земля дыбом! Грохот бомбежек, огненные всплески снарядов. Казалось, нет никакой возможности остановить врага, удержать запятые позиции. Но выстояли наши воины. Не раз поднимал в атаку свой поредевший батальон комбат Михаил Степанович Бондаренко. Из тысячи пятисот человек осталось в строю не более ста. Никитин был ранен и направлен в госпиталь.
Прошло много лет. В конце 1964 года на теплоходе «Челюскинец» я направился в дальний и необычный рейс — в страну трех тысяч островов, в Индонезию. Побывал в Танджунг-Приоке, Джакарте, Сурабае, Белаване, Медане.
Возвратившись в Ленинград, я в сентябре 1965 года выступил в студии Ленинградского телевидения, делясь с телезрителями впечатлениями о своем путешествии.
После моего выступления студия переслала мне несколько писем зрителей. Автором одного из них оказался, к моей радости, Эулохио Фернандес Гонсалес. Нашелся через четверть века! Живет в Москве, работает в Институте натуральных и синтетических душистых веществ, руководитель отдела.
У нас завязалась дружеская переписка, которая завершилась встречей в Ленинграде, куда Гонсалес приезжал в командировку. Какая это была радостная встреча! Вот уж, действительно, ни в сказке сказать, ни пером описать!
Конечно, направились в Петродворец, побывали на местах боев, увидели развалины Розового павильона — место штаба нашего батальона. Неподалеку братская могила погибших товарищей. Священное пепелище! Сколько здесь пролито крови!
Сели на бруствер заросшего травой окопа.
— Было ли все это? — тяжело вздохнул Гонсалес. — Под Ленинградом лежат мои товарищи… Помнишь, амиго[4] когда мы пришли в добровольческий пункт?
— Помню…
— Их было трое, — продолжал Гонсалес. — Педро Ниэтто погиб на Ораниенбаумском «пятачке», Хосе Ортис — во второй дивизии народного ополчения. Анхель Мадера убит в бою на Невской Дубровке. Анхель был автором популярного гимна испанской молодежи. Давай встанем, почтим их память!
Сняв шапки, помолчали. Потом мой испанский друг наклонился к брустверу окопа. Взял горсть земли, аккуратно завернул в свой красный платок.
— Огненная земля! Сохраню на память!
Продолжение уроков диетологии
есна в разгаре. Солнце сияет вовсю. Город словно помолодел, воспрянул духом.
Пятого мая ко мне подошел врач лечебной физкультуры Н. Ф. Булашевич.
— Как ты относишься к футболу? — вдруг спросил он.
— В академии играл правого крайнего. А в чем дело?
— Завтра на стадионе «Динамо» будет футбольный матч!
— Здоров ли ты, Николай Федорович? — приставил я палец ко лбу. — Возможно ли, чтобы…
Оказывается, вполне возможно. На другой день несколько наших болельщиков добились разрешения пойти на стадион «Динамо». Мне это не удалось — дежурил по госпиталю.
— Удар! Слабый и неточный… — Еще удар! Го-ол! Вот как все произошло… — Голос комментатора глохнет в невероятном шуме. Казалось, репродукторы треснут от аплодисментов и выкриков азартных болельщиков.
Играли хозяева поля и команда Балтийского флотского экипажа. Победили динамовцы. Судя по восторженным рассказам очевидцев, игра была очень интересная. Подумать только — футбольный матч в осажденном городе на двести сорок первый день блокады!
Весна принесла госпиталю дополнительные хлопоты. На учете каждый час. Нельзя замешкаться, а то, глядишь, незаметно проскочит долгожданное время. А сделать предстоит много.
Неполноценная калорийность пищи в прошедшую зиму вызвала в госпитале вспышку цинги, витаминную недостаточность. Раненым нужны сейчас овощи, как можно больше овощей!
Еще в середине апреля мы стали готовить почву под огороды. Госпиталю отвели два участка: в Колтушах и в ботаническом саду университета. Всего восемь гектаров.
«Огородники» в Колтушах жили в двух избушках. Им туда доставляли продукты, они сами готовили себе пищу.
Отведенный участок земли в ботаническом саду университета разделили между медицинскими отделениями. График работы на огороде вывешен в каждом отделении.
У многих из нас появились справочники агронома-овощевода. На устах — агротехническая терминология: «открытый грунт», «вегетационный период», «перелопачивание», «компост». Особенно часто повторялось: «скороспелость» и «ранняя».
В ботаническом саду университета воздух напоен густым запахом не то грибов, не то прелой гниющей листвы.
— Пахнет спитым чаем, — уточняет Голубев.
Семеныч у нас за главного агронома. Он сжимает в руках ком земли и, жмурясь, вдыхает запах весенней почвы:
— Своя земля и в горсти мила!
Потом бросает ком под ноги, и ком земли равномерно разваливается.
— Поспела! — авторитетно заявляет наш «агроном». — В самый раз сажать овощи…
В весенней свежести ботанического сада стоит какой-то особенный, густой, насыщенный запахами воздух. Изумрудная, свежая, Пробивающаяся трава. И разлинованные грядки вскопанной, обработанной земли.
— Смотрите, смотрите! — кричит медицинская сестра Клавдия Лобанова. — Молодец! Удержался!..
— Кто?
«Кто» — это большой и разлапистый клен. Его ствол повредил осколок снаряда. Но листья на нем начинают зеленеть. И струится животворный сок по расщепленному, израненному дереву. Сколько же в нем силы и жизнелюбия!
Во время работы Семеныч организовал добычу березового сока. Процесс удивительно прост. Делается зарубка на стволе, в ней закрепляется кусочек шпагата, конец которого опускается в подставленную бутылку. Туда натекает березовый сок. С наслаждением пьем пахучий, сладковатый напиток.
На деревьях пересвистывались и пели неутомимые птицы. И с таким азартом, будто в саду олимпиада пернатых. Под такой концерт и работать как-то веселей.
Один из скворцов сел на жердочку скворешни. Поглядывает по сторонам, вниз. То ли рад весне, то ли нет.
— Запузыривай, братец! — закричал ему Семеныч. И, отогнув пальцами ухо, приготовился слушать.
Но певец юркнул в свою квартиру.
— Ах ты шаромыжник! — смеется Семеныч. — Знаю я его повадки! Старый знакомый…
Под птичий аккомпанемент мы занимаемся посадкой огородных культур: гороха, салата, укропа, моркови, щавеля, редиса, репы. Картофель — «второй хлеб», — капусту, свеклу и брюкву будем сажать в Колтушах.
Мы обрабатываем каждый клочок земли. Появились среди нас и «оккупанты». В один из дней «огородники» четвертого отделения переставили в свою пользу колышки на отведенном участке соседей. «Суд» на месте: виновники сами вскапывают эту землю.
Как-то при обходе огородной плантаций Ягунов заметил, что военврач третьего ранга Второва устроила со своим персоналом перекур.
«За отсутствие должного руководства и бездеятельность, — гласил приказ, отданный в тот же день, — военврача третьего ранга Второву арестовать на трое суток с исполнением служебных обязанностей и удержанием десяти процентов зарплаты».
Оговорюсь, что Второва — единственная вымышленная фамилия в этих воспоминаниях. Дело ведь не в фамилии. Рассказываю об этом эпизоде лишь для того, чтобы подчеркнуть, какой для всех нас тогда был установлен строгий рабочий режим — без перекура.
Запомнился нам этот ботанический сад университета, пронизанный солнцем, полный волнующих запахов влажной земли, березового сока и пения птиц.
Под посадку овощей были использованы даже газоны сквера перед зданием госпиталя.
Рассаду в июне мы получали в Ботаническом институте Академии наук СССР. Она там зеленела в парниках и теплицах. Это было сделано по указанию городского комитета партии и Ленсовета, повседневно проявлявших неустанную заботу о сохранении жизни населения осажденного города.
Работники госпиталя стали и садоводами. На территории Биржевого проезда под руководством политрука шестого отделения Александры Прокофьевны Кульковой готовили почву и высаживали семена цветов: астр, флоксов, клубни георгин, луковицы гладиолусов.
Семена цветов нам предоставила кафедра морфологии и систематики растений университета. И к принесла старший научный сотрудник С. А. Гуцевич, наша знакомая с октября прошлого года.
Вокруг цветочных клумб и на дорожки поставили скамейки. Их привез Зыков из ЦПКиО. Оттуда же появились двадцать шезлонгов для отдыха раненых и две большие чаши для «эстетического удовольствия».
Вскоре сюда вынесли из палат госпиталя пальмы и кактусы, полученные госпиталем на хранение из оранжереи ботанического сада университета.
В начале июни я был командирован на КУМС — так в то время называли курсы усовершенствования медицинского состава. И можно с уверенностью сказать, что если учеба врачей в госпиталях была для них военно-медицинским университетом, то КУМС — академией.
Вернулся через декаду. И в этот же день был вызван к начальнику госпиталя.
У Ягунова находились Луканин и еще два работника госпиталя: фельдшер приемного покоя А. С. Данилевский и В. М. Фромзель, начальник штаба МПВО госпиталя, по профессии архитектор.
На столе — алюминиевая миска с каким-то варевом и три ложки.
— Попробуйте вот этого борща, — предложил мне Ягунов. — Продолжайте, — повернулся он к Данилевскому.
— Применение в пищу таких дикорастущих, как щавель, крапива, купырь, сныть и прочие, дает возможность намного увеличить в пище содержание витамина С, — докладывал Александр Сергеевич Данилевский. — Известна и питательность этих растений. Мы собрали их и решили показать вам. Кроме того, это дает большую экономию крупы, вот я подсчитал… — Он раскрывает блокнот, странички которого испещрены цифрами.
— Вы экономист? — спрашивает Ягунов.
— Я кандидат биологических наук. Моя специальность — энтомология.
— Знаем, знаем, — поспешно говорит Луканин. — А ваша мысль — дельная!
По всему видно, что комиссар уже «вцепился» в предложение Данилевского и Фромзеля.
— Пожалуй, из этого может выйти толк, — поддержал Ягунов.
— Вам понятно? — спросил меня комиссар.
— Да.
— Изложите все коротко на бумаге, — сказал Ягунов Данилевскому. — Спасибо вам, Александр Сергеевич. Действуйте все трое!
…Через четыре дня дикорастущие съедобные растения стали добавляться в пищевой рацион больных и раненых, значительно увеличивая содержание витаминов.
Встреча с Фадеевым
юнь. Первый летний месяц. Светлый и ясный. Длинные дни. Белые ночи — северное чудо.
Воспользовавшись малым поступлением раненых, госпиталь принялся за косметический ремонт палат, перевязочных, операционных и приемного покоя.
Ну и работка! Копоть от печей-времянок и различных светильников покрыла потолки и стены плотным черным слоем. Все это надо перед покраской очистить.
После окончания малярных работ в восьмом отделении мне позвонила из редакции журнала «Звезда» Е. П. Карачевская.
— В Ленинграде писатель Фадеев. Хочет с вами встретиться и побеседовать, — сообщила Елена Павловна.
— А как он узнал обо мне?
— Александр Александрович был в редакции. Читал ваш очерк «Германия сегодня»…
Я получил увольнительную и пошел в гостиницу «Астория», где находился Александр Александрович Фадеев.
Солнце. Тепло. Широким полотном стелется асфальт чистых улиц. У большинства прохожих в руках лопаты. Сады, скверы, парки, пустыри, каждый мало-мальски свободный клочок земли — все вскопано под огороды.
С писателем Фадеевым я познакомился пять лет назад во Франции. Это произошло при следующих обстоятельствах.
Я был судовым врачом теплохода «Андрей Жданов». В июле 1937 года нашими пассажирами оказались артисты Московского Художественного академического театра имени Горького. Курс из Ленинграда в Гавр. МХАТ направлялся на гастроли в Париж, где в то время была Всемирная выставка.
Все пять суток рейса — шумно и весело! Мхатовцы как-то сразу запросто «вписались» в жизнь и быт экипажа. Артисты вместе с матросами драили палубу. Вербицкий и Чебан красили палубные надстройки. И как красили! Отменно! От изумления наш боцман Кудзелько только разводил руками.
В музыкальном салоне теплохода — сцены, скетчи и юмористические рассказы.
Вот Борис Петкер и Иван Кудрявцев в сценке «На примерке у портного». Петкер — портной, Кудрявцев — заказчик. И что вытворяют! Неудержимый смех зрителей с первой минуты и до конца.
— Точить ножи, ножницы, бритвы править! — кричит артист Владимир Попов нарочито простуженным голосом. С плеча как будто снимает точильный станок. И вот перед вами точильщик за работой. Движение ногой, — точит человек нож, да и только!
Для мхатовцев мы соорудили плавательный бассейн.
В благодарность за это они в музыкальном салоне показывают «Платона Кречета». Без грима и декораций. Но какой спектакль!
Борис Яковлевич Петкер в несколько репетиций организовал объединенный «морской джаз», нечто вроде ансамбля песни и пляски. Аккордеоны, гитары, деревянные ложки, балалайки, мандолины, губные гармошки и даже… медный таз — все нашло свое место.
Перед приходом в Гавр — концерт мхатовцев в двух отделениях. Для каждого члена экипажа — программа. Она написана от руки артистами. Один экземпляр, написанный концертмейстером Марией Николаевной Кореневой, сохранился у меня до сих пор.
Начался концерт в восемь часов вечера, а закончился за полночь.
Перед началом концерта внезапно заболел зуб у главного организатора и конферансье Бориса Яковлевича Петкера. Зуб надо удалить. Быть «ассистентами» добровольно вызвались Павел Владимирович Массальский и Василий Осипович Топорков — ныне народные артисты СССР.
— Будьте спокойны! — уверяли они меня. — У нас не вырвется!..
Булькает стерилизатор. Кипятятся шприц и щипцы.
— Боря, ты не волнуйся, — лениво тянет Массальский. — Моему знакомому вырвали вот такой же зуб, и он после этого жил еще целых два года…
Наконец «ассистенты» навалились на Петкера.
Но он вырвался! От страха перед «чеховской хирургией» боль исчезла, как рукой сняло! Я поверил Петкеру: такое случается в зубоврачебной практике. Поверил и облегченно вздохнул: мне никогда еще не приходилось удалять зубы. Я был на теплоходе врачом «за всё».
Оказывается, Борис Яковлевич схитрил. Почти через тридцать лет в своем письме он признался мне:
«Я обманул вас, сказав, что зуб перестал болеть. Он, черт его дери, омрачил мне и Гавр, и даже целый день в Париже. Дантист мсье Лебёф, по-русски — это бык, вырвал мне зуб».
В Гавре мхатовцев встречали Александр Александрович Фадеев и другие писатели, фамилии которых я не помню. Все примчались на машине из Парижа, где был международный конгресс писателей в защиту культуры. Им было известно, что МХАТ едет на гастроли, и они сочли необходимым встретить земляков еще в Гавре. Экипаж дружно принял писателей.
— Здрасьте, братцы! — приветствовал нас Александр Александрович Фадеев.
— Чем угощать дорогих гостей? — спросил капитан теплохода Николаев.
— Мы — русские люди. Щами, хлебом нашенским. И, конечно, — «тово». — Многозначительный жест. И всем понятно, что означает это «тово».
После обеда с «тово» — игра «в картошку». На палубе ставятся два ведра. Перед каждым, по прямой линии с интервалами через метр, кладется картошка — двенадцать штук. Кто быстрее соберет картошку в свое ведро?
Что творилось на палубе! Немолодые и даже весьма пожилые люди мгновенно превратились в подростков. С восторгом смотрела вся наша команда на играющих.
Вот о таком «мхатовском» рейсе, как его называли в нашем экипаже, я вспомнил на пути к Фадееву.
Огромное здание гостиницы «Астория», где в прошедшую зиму был городской стационар для дистрофиков.
Иду по мягким ковровым дорожкам коридора.
— Вам кого? — спрашивает горничная.
— Товарища Фадеева.
Горничная называет номер комнаты.
Тихо стучу в дверь.
— Войдите!
Увидев меня, Александр Александрович встал из-за стола.
— Военный врач второго ранга энского госпиталя приветствует вас в стенах нашего города! — отдав честь, подошел я к Фадееву, не говоря своей фамилии.
— Не могу узнать! — развел руками Фадеев, внимательно смотря на меня. — Но где-то я вас видел…
— Вспомните Францию, Гавр, теплоход «Андрей Жданов», МХАТ.
— Неужели Федор Грачев! — воскликнул Фадеев, положив руки на мои плечи.
— Точно так, Александр Александрович! Собственной персоной.
— Вот в какое время пришлось встретиться! Кто бы мог думать? Садитесь, садитесь…
— Да, Гавр, гастроли Художественного театра в Париже!.. Было ли это все, Александр Александрович? Художественный театр был и есть, а Париж?..
За чаем, беседой, воспоминаниями незаметно шло время.
Рассказываю Фадееву о формировании народного ополчения в Ленинграде, о людях, о работе в госпитале, о пережитой зиме. Наблюдаю за писателем, которого не видел пять лет. Александр Александрович почти не изменился, только стал как-то суше да больше побелела голова.
Он внимательно слушал, иногда прерывал вопросами, ходил по комнате широкими шагами, высокий, прямой. Потом садился, записывал что-то в тетрадь.
Я поинтересовался его впечатлениями о Ленинграде.
— Из нашей прессы, от друзей, по радио я знал, в каком тяжелом положении были ленинградцы в прошедшую зиму, — говорит Фадеев. — Но одно дело читать, слушать очевидцев, другое — увидеть все воочию. Я побывал в Колпине, в школах, на фронте, на заводах. Был у моряков, летчиков. Город готовится к решительной битве, это ясно…
Во всем облике Александра Александровича чувствовалась особая сосредоточенность, взволнованность.
— В редакции «Звезда» Карачевская поведала мне о вашей дружбе с Кугелем, — продолжал рассказывать Фадеев. — Покойный был прав. История организации вашего госпиталя и впрямь необыкновенна. И ценны не только факты, но и чувства. У вас в госпитале большое соцветие по-настоящему ярких характеров. Пишите об этом: труд милосердия, работа ленинградских медиков заслуживают пристального и большого внимания. Всматривайтесь в дни, в людей. Я был в двух госпиталях…
Писатель порылся на столе. Нашел нужный ему блокнот.
— Болевой порог, — прочел Фадеев. — Чем выше у человека этот порог, тем меньше он страдает. Это сказал мне главный хирург Ленинградского фронта профессор Куприянов. Какой высокий порог у наших раненых! Я не слышал от них ни одной жалобы…
Фадеев взял другой блокнот.
— Даже больше! — продолжал писатель. — Где же это у меня? Ах, вот. Нашел!.. Танкист, комсомолец двадцати лет. Слепое ранение правого бедра. От операции отказывается. Почему? Доказывает, что осколок ему не мешает. Не беспокоит. Просит выписать из госпиталя, а операцию сделать потом. «Когда потом?» — озадачены врачи. «После второго ранения, заодно». Вот какой довод нашел танкист! А! Заодно! — восхищался Фадеев.
— Александр Александрович, заглянули бы в наш госпиталь. У нас…
— Заглядывать — не в моем характере, — сухо прервал писатель. — Чтобы побывать в большом госпитале — надо время. А его у меня уже нет. Я в цейтноте… Тороплюсь, очень тороплюсь в Москву. Но сейчас не об этом, — встряхнул он головой. — Продолжайте ваш рассказ…
Передо мной сидел усталый и замотанный человек. А речь моя нескладная — волнуюсь: меня внимательно слушает выдающийся советский писатель и общественный деятель. Украдкой поглядываю на часы. Ощущение такое: зря отнимаю время у Фадеева. Александр Александрович, очевидно, заметил мое состояние.
— Вы торопитесь? — спросил он.
— Нет, но мне кажется, что я путаюсь в деталях. Я не могу выбрать главное…
— Не лиха беда. Постараюсь уловить главное, — улыбнулся мой собеседник. — Давайте условимся: вы говорите как бы не мне, не писателю, а, скажем, попутчику в поезде, в кругу товарищей. Вот так…
Я продолжал свой рассказ.
Фадеев слушал, откинувшись на спинку кресла. Осунувшееся бледное лицо, взъерошенные волосы, листки бумаг на столе, блокноты, записные книжки —* на всем отпечаток бессонной ночной работы.
— Вы устали, Александр Александрович?
— От людей я не устаю. — Фадеев поднялся с кресла. Подошел к открытому окну. Он слушал шумы, которые доносились с улицы.
— До чего же красив и строг Ленинград! — проговорил Фадеев. — Как он дорог советским людям, этот город трех революций!
И, глубоко вздохнув, продолжал:
— То, что претерпел Ленинград, — такого человечество еще не знало. Ни один город в мире не вынес бы столь жестоких испытаний, таких страданий. А он вынес все муки, не дрогнул!
Смотря в окно, Фадеев тихо произнес, словно кому-то на улице:
— Он придет, ленинградский торжественный полдень, тишины, и покоя, и хлеба душистого полный…
И ко мне:
— Ольга Берггольц. Драгоценные слова большой правды! Придет день победы человечности над бесчеловечностью!
Александр Александрович подошел к столу, опять порылся в ворохе бумаг:
— Вот что мне сказал один артиллерист: уверяем вас, мы фашистам дадим такую «кукарачу», что запомнят на десять поколений! Слово-то какое — «кукарача»! Не правда ли?
— Да, наши воины — люди подвига.
— Это кратко. Понятие подвига более широко, — уточнил Фадеев. — Подвиг — это кульминация, он является итогом жизненного пути, который ведет к такой кульминации.
Сделав глоток чаю, писатель добавил:
— Не помню сейчас, кто именно, но один крупный психолог утверждал, что способность человека на подвиг, когда он испытывает подъем духа, видимо, не имеет границ…
Александр Александрович знал много не только о Ленинграде. В августе сорок первого года он вместе с Михаилом Шолоховым и Евгением Петровым был на самых горячих участках Западного фронта, а потом Калининского.
Говорил Фадеев о людях лаконично, выразительно. Несколько впечатляющих, одушевленных штрихов, деталей. Потом все это сплавляется в единое целое? Из малого — в большое, значительное. И перед тобой как бы высвечиваются люди на войне.
Своим необыкновенно простым и теплым обращением Александр Александрович разговорил меня. Я словно обрел второе дыхание, рассказывая ему, «как попутчику в поезде». А Фадеев продолжал делать пометки в блокноте.
Он советовал понимать людей не только по анкетным данным, биографиям, но и кропотливо смотреть сквозь призму их чувств и поступков, «смотреть не на человека, а в человека».
— Тогда в оценке человека, — утверждал писатель, — не будет ощутимых потерь.
Нашу беседу прерывали телефонные звонки. Звонили писатели, друзья, моряки, летчики, журналисты.
В шесть часов мы тепло расстались.
— Не доверяйте памяти, штука коварная, — напутствовал меня Фадеев. — Полагаться на нее опасно. Советую собирать документы, фотографии из жизни вашего госпиталя. Ведь каждый день имеет свою мету. И старайтесь все записывать. Увидел, услышал — в блокнот, в блокнот. Детали, эпизоды, факты… Без этих следов пережитого все будет лишь в пределах сухой достоверности…
Тут я позволю себе нарушить последовательность воспоминаний и рассказать вот о чем. В августе 1945 года я направился в Омскую область за семьей. Доехал благополучно. Но выезд обратно в Ленинград неожиданно осложнился. Мне, военнослужащему, билет дают, семье — нет, семья должна ждать очереди для отправки в эшелоне наравне с другими ленинградцами, ожидающими своей очереди на станции Голышманово.
Ждем трое суток. Никаких сдвигов! А мне надо быть вовремя в госпитале. Что делать? Решаю ехать за сто километров в районный центр — Ишим. Может быть, там удастся достать билеты. Но, увы! Билет дали только для меня.
Вхожу в купе офицерского вагона экспресса Москва — Владивосток. В отчаянии сажусь у окна. Придется возвращаться в Голышманово и снова ждать у моря погоды.
Мои спутники открывают бутылку коньяка. Приглашают — за компанию. Отказываюсь.
— Почему? — спрашивает с удивлением один из них, летчик.
— Не до коньяка…
Излагаю свое горе и вдруг вижу на столике небольшую книжечку — «Ленинград в дни блокады». Автор — А. Фадеев. Торопливо листаю страницы. Натыкаюсь на главу — «Труд милосердия». Бог ты мой! Фадеев поведал о нашей встрече в «Астории»! Не выдержал, громко сказал:
— Грачев — это я!
И сразу же оказался в центре внимания.
— Братцы! — воскликнул летчик. — Надо как-то помочь доктору…
Летчик мгновенно исчез и возвратился с начальником поезда.
Мои спутники объясняют ему, в чем дело.
— Мест нет! — строго говорит начальник поезда.
— Надо найти…
— Повторяю, мест нет!
У открытой двери купе столпились пассажиры.
— Что же ему — бросить семью, а самому уехать?
— Доктор награжден медалью «За оборону Ленинграда»!
— Про него вот в этой книге сказано! — осаждают начальника поезда мои спутники.
— Но ведь не сажать же мне на головы пассажиров? — В голосе уже нет резкости и раздражения.
— А на головы и не надо! — возражает летчик. — Вот я, например, буду спать на багажной полке, а днем — в тесноте, да не в обиде! Одно место есть. Уверен, что еще одно тоже найдется.
Его поддержали:
— Несомненно!
— Какой разговор!..
«Общественное мнение» воздействовало. В Голышманове начальник поезда впустил мою семью в вагон.
— Билеты возьмете в Ялуторовске, — уже мягко сказал он…
Под впечатлением встречи с Фадеевым возвращаюсь в госпиталь. И вновь всматриваюсь в лицо города. Дома испещрены вмятинами от осколков снарядов и бомб. Как будто переболели оспой. А окна многих домов открыты настежь. На подоконниках, балконах — ящики с землей. Ленинградцы выращивают овощи и зелень не только на огородах, в садах и скверах, но и у себя дома.
Работники Эрмитажа — те свой огород возделали даже в Висячем саду, под открытым небом, среди беломраморных статуй. Не на земле, а на втором этаже! Нечто вроде легендарных садов Семирамиды, только там не выращивали картофеля.
В городе настороженная тишина. И если бы не замурованные окна подвалов и нижних этажей с бойницами, не зенитки, стерегущие врага в небе, где на длинных тросах плавно покачиваются аэростаты воздушного заграждения, можно было бы подумать, что течет самая обыкновенная, мирная жизнь и нет врага под стенами любимого города.
На Исаакиевской площади неожиданно услышал позади:
— Грачев!
Обернулся — глазам не верю: Павел Пастерский.
— Паша! Жив!
— И здоров! Старшим механиком на теплоходе «Челюскинец». А ты?
— Все там же. В госпитале.
Павел Теофильевич заметно поправился. Но в уголках глаз — лапки морщин. На висках чуть белеет седина.
— Помнишь железяку? — с радостью спрашивает Пастерский.
— Еще бы! Было времечко!
— А блок-станцию мы тогда все-таки построили! — с удовлетворением произнес Пастерский…
Смотрю вслед коммунисту Павлу Пастерскому и вспоминаю стихи Лебедева-Кумача:
Крепче камня и прочнее стали Ленинградский питерский народ!Пересекаю площадь Декабристов, миновал обшитый досками памятник Петру Первому.
На набережной Невы стоят с удочками старики и подростки.
Один из стариков дрожащими руками снимал с крючка взъерошенного подлещика граммов на двести-триста.
— Поздравляю вас с добычей, — сказал я.
— Это не добыча, а пища, — хмуро отозвался старик. И добавил — На троих!
В нашем госпитальном «Летнем саду» встретил Ягунова и Луканина.
Из окон госпиталя доносилась знакомая песня:
Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой С фашистской силой темною, С проклятою ордой…Ровно, слаженно звучали голоса.
— Маляры-то наши поют! Пойдемте, товарищи, посмотрим, что у них делается, — предложил Ягунов.
В палате девятого отделения, уже тщательно побеленной, мы увидели на лесах, под самым потолком, врача Гордину и медицинскую сестру Михайлову.
У раскрытого окна палаты в измазанном комбинезоне трудилась врач Романова. Она размешивала кистью краску в ведре.
— Как успехи, Анастасия Михайловна? — спросил Луканин.
— Стараемся, — ответила Романова, вытирая пот со лба. — Еще две палаты осталось…
А в парке соседнего госпиталя дружно поют соловьи. Нежно, страстно, любовно.
Бывая в городе, видишь в полный лист распустившиеся деревья. Исчезли объявления всяческого обмена вещей на продукты. Вместо них — афиши кино, концертов, спектаклей.
Открыты магазины. В киосках можно напиться воды с каким-то непонятным сиропом.
В городе стало больше автомашин. На лицах прохожих еще следы прошедшей голодной зимы, но говор громче, можно даже услышать шутку:
— Ну, дистрофик, пошли дальше!..
Если подобные шутки: «Ну, дистрофик, пошли дальше» — могли возникнуть среди ленинградцев, значит, жизнь изменилась к лучшему. И это было действительно так.
Изменился и облик нашего госпиталя. У нас светло, чисто и уютно. В «Летнем саду» буйно взялись цветы и трава. Вдоль забора раскинулись листья подсолнухов. «Директор» сада политрук Александр Кульков, засучив рукава, копается в большой цветочной клумбе, раскинувшейся пятиконечной звездой.
Желтеют посыпанные песком дорожки сада. В голубом небе легкие облака. Все, как на даче: солнце, воздух, трава, цветы.
Разросся наш «Летний сад», созданный добрыми руками на голом месте. А сейчас на клумбах яркие всполохи желтых, оранжевых, красных цветов. Они растут, набирают силы. «Летний сад» привлекает немало легкораненых и больных. Здесь они охотно проводят время. И наша стенгазета «За Родину» заполнена их заметками, посвященными этому саду.
На спортивной площадке сада медицинские сестры прекратили игру в волейбол и вместе с ранеными стоят у репродукторов, тревожно прислушиваются к военной сводке. На юге развернулись большие сражения. В начале июля, после двухсот пятидесяти дней героической обороны, советские войска оставили Севастополь. Враг рвется к Волге. Идут бои за Воронеж. Над Москвой нависла угроза нового удара.
В палатах госпиталя раненых сейчас мало: на Ленинградском фронте бои местного значения. Инициатива в руках нашего командования. Но в Ленинграде все понимают: враг не отказался от попытки взять город штурмом.
В разгаре летняя эвакуация населения. Военный совет фронта постановил объявить Ленинград военным городом. Улицы, площади, проспекты взъерошены баррикадами. В предместьях возведены дополнительные оборонительные сооружения. В подвалах домов — новые амбразуры для орудий и пулеметов.
Готовится к возможности штурма и наш госпиталь. В сортировочно-перевязочном отделении угловое окно заложено кирпичом и забетонировано. — Там укрытие для пулемета.
Созданы четыре группы самообороны госпиталя во главе с Ягуновым, Луканиным, Зыковым и Галкиным. По тревоге мы должны явиться к своим командирам.
Парад жизни
госпитале продолжалась усиленная подготовка к военно-физкультурным соревнованиям личного состава всех госпиталей Ленинграда, назначенных на 18 июля в Лесном.
Занимались мы каждый день. За тренировками тщательно наблюдал Ягунов, инициатор этих соревнований.
Не знаю, каким образом наш инструктор лечебной физкультуры врач Булашевич узнал, что у меня дома имеется велосипед, но этого оказалось достаточно, чтобы оказаться в числе участников спортивной велогонки.
Никакие мои ссылки на то, что уже лет десять как не садился на велосипед, не помогли.
Тренировал нашу команду известный спортсмен-велосипедист и чемпион СССР по конькам Николай Петров. На тренировках Петров втолковывал участникам премудрости велосипедной техники, всячески пытаясь пробудить в нас спортивный азарт. В госпиталь мы возвращались усталые, измотанные, принимали душ и подвергались массажу, по указанию тренера.
После того как мы дважды прошли дистанцию по будущей трассе велокросса и тщательно изучили весь путь, только тогда Петров разрешил нам отдохнуть.
Наконец наступил день соревнований. По улицам города пошли многолюдные колонны работников госпиталей Ленинграда.
Большая поляна, окаймленная мелким кустарником, вся заполнена участниками состязаний. Погода выдалась на славу. Сухо, солнечно. Справа, насколько хватал глаз, простиралось поле с россыпью цветов. Слева — манящая глубина рощи с пышными кронами дубов, с веселыми березками.
Вырвавшись на природу, радостные и возбужденные свежим воздухом, теплом, зеленью, мы вели себя, как школьники на перемене: играли в чехарду, пели, смеялись по каждому малейшему поводу и даже без повода. Еще бы! Мы так рады теплу, солнцу, свету после бесконечной, холодной, темной зимы.
На трибуне, украшенной лозунгом и зелеными ветками, собрались представители командования Ленинградского фронта, Военно-санитарного управления, фронтового эвакуационного пункта, партийных и общественных организаций города. Грянул духовой оркестр. Начался парад участников соревнований. Впереди — Ягунов, начальник штаба парада — старший лейтенант Хоментковский. За ними отряд знаменосцев. Все маршируют под правую ногу, а Ягунов — под левую. Наверное, от волнения.
Вслед за знаменосцами двигаются мотоциклы. Позади водителей, на приспособленных багажниках, девушки с алыми флагами.
Разноцветные спортивные костюмы участников напоминали жизнерадостную пестроту довоенных парадов физкультурников.
Пронзительные свистки судей возвестили о начале велокросса. В это же время начались матчи баскетболистов, волейболистов и соревнования легкоатлетов. Но были и необычные для спорта соревнования. На поляну выбежали «спортсмены» с носилками. Санитары, преодолев различные препятствия, по-пластунски ползут к «раненым», чтобы вынести их с «поля боя», прочесть приколотую записку с обозначением «ранения» и тут же оказать первую доврачебную помощь: сделать перевязку, наложить шины.
Поодаль демонстрируют штыковой бой.
В очерченные белым круги бросают учебные гранаты.
Выстрел! Первый мирный выстрел в Ленинграде. Старт для санитарной эстафеты.
Перенос раненых на руках, носилках.
Все, что здесь происходит, можно назвать парадом жизни.
Хочется рассказать об одном эпизоде. За день до начала соревнований занемог участник нашей команды, секретарь партийной организации Галкин. Он температурил. А на Михаила Никифоровича тренер Петров возлагал большие надежды в велокроссе.
Что делать? Заменить кого-нибудь в команде нельзя. Списки участников утверждены. Нависла угроза: не допустят к соревнованию всю команду велосипедистов.
— Я выйду на старт! — сказал нам Галкин. — Доктор разрешил.
И он так «крутил» на дистанции, что приходилось удивляться, откуда такая сила.
Велокросс закончился. Объявили результаты. Наша команда заняла второе место. Когда вернулись в госпиталь, температура у Галкина была тридцать восемь. Мы ахнули и напустились на врача. Тот встревоженно смотрел на больного:
— Ничего не понимаю! С утра у него было тридцать семь.
— Отстаньте от доктора, — сказал Галкин. — Утром у меня были те же тридцать восемь. Но я сбил градусник… Чтобы Петров не расстраивался…
Павловская сессия
леглись впечатления от парада жизни. Теперь — окончательная подготовка к павловской сессии в связи с минувшей шестой годовщиной со дня смерти замечательного русского ученого-академика Ивана Петровича Павлова.
Первое заседание, 26 июля, состоялось в конференц-зале Ленинградского филиала Всесоюзного института экспериментальной медицины. С докладом выступает наш Долин — «Учение И. П. Павлова и военно-медицинское дело в условиях Великой Отечественной войны».
Это яркий рассказ о том, что военная обстановка в госпитале требовала сугубо практических решений насущных вопросов: как улучшить лечение раненых бойцов, как ускорить их возвращение в строй. Блокада, холод и голод затормозили, но не остановили в Ленинграде исследовательской работы по проблемам наследства старейшины физиологов мира. В осажденном городе эту работу вели многие ученики И. П. Павлова. Физиолог Мария Капитоновна Петрова работала неподалеку от нашего госпиталя, в здании Института физиологии на Тучковой набережной, и частенько бывала у нас в госпитале на врачебно-научных заседаниях.
Марии Капитоновне под семьдесят, но она весьма энергичная женщина, и в дни суровых испытаний отказалась от эвакуации.
Чем тогда занималась профессор Петрова? На первый взгляд необычная тема — «Влияние устрашающих факторов, связанных с военными действиями, на высшую нервную деятельность различных по типу нервной системы собак».
Мария Капитоновна продолжала павловские эксперименты на собаках. В мирное время она изучала влияние на них различного рода положительных и отрицательных эмоций, изучала ресурс прочности, вернее, функциональной устойчивости нервной системы. Но в то время ей не представлялось возможным наблюдать на животных влияние устрашающих моментов — резко отрицательных эмоций страха. Это стало возможным при артиллерийских обстрелах и бомбежках, в обстановке грохота разрывов снарядов и бомб.
Стремясь к таким экспериментам, Мария Капитоновна пренебрегала всякой опасностью. Свои опыты она могла проводить только в часы интенсивных бомбежек и артобстрелов.
Еще в октябре сорок первого года в газете «Известия» была опубликована статья Марии Капитоновны «Ни на минуту не уходим с поста», где она писала: «Мы смотрим уверенно и бодро в будущее. Мы не страшимся опасности, ибо глубоко убеждены в нашей победе».
И вот после Долина профессор Петрова, женщина преклонных лет, поднимается на трибуну. В скромном одеянии, старомодной белой шляпе с бантом.
Логично и убедительно докладывает Мария Капитоновна о результатах изучения признаков заболеваний животных, схожих с неврозами людей. Докладывает просто и доходчиво, все каждому ясно.
— И представьте себе, дорогие товарищи, — говорит в заключение Петрова, — собаки привыкли к устрашающим раздражителям. Более того, значительных отклонений от нормальной нервной деятельности они не дали!
Следующее заседание павловской сессии было на другой день в стенах нашего госпиталя.
В клубе, вестибюле главной аудитории много народу. Здесь представители командования Ленинградского фронта, Военно-санитарного управления, городского комитета партии, Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Профессора, научные сотрудники Ленинградского филиала Всесоюзного института экспериментальной медицины и Института физиологии имени И. П. Павлова. Начальники госпиталей, врачи всех специальностей. Всего собралось около четырехсот человек.
У сессии непривычно мало времени. Поэтому докладчики предельно лаконичны. Каждый вопрос рассматривается прежде всего с одной точки зрения: что он может дать сегодня фронту.
Рассказывая о своей работе, ученые, врачи обязательно останавливались на том, какой вклад они сделали для успешной борьбы с врагом.
К такому вкладу следовало отнести и нашу новую методику восстановления перевязочного материала из снятых гипсовых повязок, и использование растительных ресурсов (алоэ и хвоя), и одымление ран (методика фумигации), и замену гипсов облегченными шинно-гипсовыми повязками при эвакуации раненых, и лечение дробным питанием.
С большим вниманием был выслушан доклад «Экспериментально-лабораторное и клиническое изучение сотрясений и контузий головного мозга и их лечение на физиологических основаниях». Это коллективный труд А. О. Долина, И. И. Зборовской, С. И. Резникова, М. Н. Сперанской и Ш. М. Замаховера.
Последним докладчиком выступала наш хирург Чинчарадзе. Маргарита Захаровна рассказала об эффективности действия сока растения пустырника и сока хвои на процесс заживления ран.
Всего на павловской сессии было сделано двенадцать докладов, из них шесть — врачами нашего госпиталя.
Заключал выступления Долин:
— Иван Петрович Павлов — гордость русской культуры, нашей великой Родины. В эти тяжкие дни мы, ученики академика, заверяем вас, что не пожалеем сил для всемерной помощи раненым воинам!
Научная сессия закончилась поздним вечером. Представитель командования Ленинградского фронта протягивает руку начальнику Военно-санитарного управления. Четыреста человек поднимаются со своих мест, аплодисментами приветствуют этот символический жест. Яркий свет юпитеров. Кинооператоры с разных мест большой аудитории снимают окончание научной сессии в осажденном городе.
Стихийно возник гимн. Все стоя поют «Интернационал».
Очень большой день был в госпитале 27 июля сорок второго года.
А утром президиум этой сессии побывал на Волковом кладбище, почтил память великого ученого и возложил венок на могилу Ивана Петровича Павлова. И не скромную пальмовую ветвь, как мы в холодном и голодном феврале, а большой венок из живых цветов.
Запас прочности
едро вознаградила земля наш труд. Снимаем урожай с огорода в ботаническом саду университета, с газона перед госпиталем: редис, салат, зеленый горох, лук.
В июле новая забота: заготовка дров. Их возили из леса, расположенного вблизи деревни Софолово, Токсовского района.
Там работало тридцать медицинских сестер госпиталя. Их изба стояла в нескольких километрах от фронта. Бригады работали по две недели, потом сменялись. Руководила работами политрук второго отделения Е. И. Ильина, очень энергичная женщина.
В конце июля из поездки в лес вернулся Зыков и рассказал об эпизоде, который лучше всего характеризовал обстановку, в которой нам приходилось добывать топливо.
После работы Зыков прилег отдохнуть на ветки около сосны. Шла погрузка дров на машины. Дрова вывозили на станцию. Немцы начали обстрел станции. Зыков побежал к вагонам. Потом вспомнил, что забыл под сосной планшет с разными документами, и поспешил обратно к сосне, под которой лежал несколько минут назад. Прибежал, а там — ни сосны, ни планшета! Глубокая воронка от разорвавшегося снаряда!
В августе мы начали рыть траншеи для прокладки новых водопроводных труб к госпиталю. Вновь мы землекопы.
К концу этой работы по госпиталю пробежала новость: приказом Военно-санитарного управления Ленинградского фронта Ягунов назначен начальником крупного сводного госпиталя в пригороде Ленинграда.
Сергей Алексеевич сдал свои дела военному врачу второго ранга Р. Е. Палей.
Шестого сентября, после обеда, все работники госпиталя собрались в главной аудитории, чтобы проводить Ягунова.
Он появился вместе с Луканиным, Долиным и Зыковым. Вошел на трибуну. Окинул всех взглядом. Поправил ремень. Посмотрел почему-то вверх, потом снова на собравшихся в аудитории.
В первый раз я видел Ягунова таким взволнованным.
— Дорогие друзья! — начал он тихим, едва слышным голосом. — Почти год я работал с вами в этом здании. За это время я многому научился у вас. Спасибо за такую науку! Я не намерен петь вам аллилуйю. Похвала приучает думать о себе лучше, чем мы есть на самом деле. Но справедливости ради должен сказать, вы работали хорошо! Но не будьте, друзья, в плену достигнутых успехов! Не размагничивайтесь! Много сделано, но, как говорится, лучшее лучше хорошего…
Всем было жалко расставаться с этим вспыльчивым человеком, обладавшим моторной энергией, экспансивным, но отходчивым, временами не в меру требовательным, но всегда готовым помочь тебе найти выход, казалось бы, из безвыходного положения.
— Продолжайте лучшие традиции русской хирургии, — говорил на прощанье Ягунов. — Помните, как не жалея сил и здоровья работал Пирогов. Это в высшей степени важно в нашем служении лечебному делу. Именно служении, а не службе. Без души, без нервов, без сердца, без постоянного беспокойства не будет у нас успеха в работе!
Мы проводили Ягунова до пресловутой «Антилопы-гну». Садясь в машину, он сказал мне:
— Были у меня с тобой крутые разговоры. А ты их забудь!
— Желаю успеха, Сергей Алексеевич!
Через пять дней А. О. Долин получил направление начальником госпиталя на Петроградской стороне.
Итак, на более ответственную работу ушли Муратов, Коптев, Ягунов, Долин. Конечно, грустно провожать людей, которых за год бедствий и успехов мы не только хорошо узнали, но и поняли. В то же время, надо признаться, было лестно, что наш опыт лечения раненых заслужил в Военно-санитарном управлении хорошую репутацию.
К новому начальнику госпиталя стали присматриваться, начали сопоставлять с Ягуновым. Это резко пресек Луканин.
— Требую прекратить такие разговоры, — говорил комиссар. — Подобное сравнение вредит работе…
Ко дню годовщины госпиталя художественная самодеятельность подготовила хороший концерт.
Мы снимаем цветы с клумб нашего «Летнего сада». Все лето ими любовались раненые и больные. Астры, крупные гвоздики, пышные пионы с томным, хмельным запахом, флоксы. Теперь они перекочевывают с клумб на прикроватные тумбочки раненых. Цветы приносят большую радость раненым. А радость, как известно, врачует!
У нас эти цветы вызывают размышления о прошедшем годе, о тех днях, когда, по словам Семеныча, «госпиталя и в помине не было», а Зыков писал Голубеву: «Выдайте тряпок профессору Колпакчи».
Эти цветы появились потому, что у нас сегодня есть свет, питание, вода, топливо. Достаточный запас прочности для дальнейшей работы. Припомнилось все, что пришлось для этого сделать. Красноречив наш послужной список. Кем только мы не были! Шахтерами и дровосеками, печниками и землекопами, водовозами и огородниками. Да разве все перечтешь!
Вторая осень
так, минул год с той поры, когда в многочисленных кабинетах и аудиториях исторического факультета возник большой военный госпиталь. За плечами у него своя история, своя биография. И в ней много страниц, насыщенных сложными, тяжкими и страшными событиями. За это время мы, как говорится, прошли огонь, воду и медные трубы.
У нас был уже опыт. Мы в полной мере сознавали, что второй год блокады будет тоже нелегким. Но госпиталь чувствовал себя во всеоружии перед предстоящими новыми испытаниями.
На опустевшие цветочные клумбы нашего «Летнего сада» падают листья с деревьев соседнего госпиталя. Еще совсем недавно здесь было многолюдно и шумно. Сейчас — тихо и пустынно. Убраны скамейки, внесены в палаты пальмы и кактусы.
Семеныч бродит по дорожкам сада, сгребает граблями пятнисто-ржавые палые листья…
Улетают птицы в дальние страны, покидают родные гнездовья. Пережили с ленинградцами блокадное лето. Вспоила и вскормила их земля осажденного города.
Осень. Вторая блокадная осень. Возим овощи с наших огородов в Колтушах.
Картофель, капуста, свекла, брюква дали возможность значительно разнообразить питание раненых. К этому времени в госпитале организовался совет питания. И меню теперь составлялось не на день, а на декаду. Совету было предоставлено право назначать дополнительно двести граммов хлеба больным и раненым, которые в этом нуждались.
В городе по-осеннему холодно. Над ним нависли сизые тучи. Пасмурно. Моросит дождь. Зябко от порывистого ветра.
На Ленинградском фронте бои. В госпиталь прибывают раненые. Среди них солдаты и офицеры 70-й и 86-й стрелковых дивизий. Бойцы этих дивизий шли на штурм левого берега Невы и вновь захватили Невский «пятачок», оставленный нами в апреле.
По радио узнаем, что в Сталинграде ожесточенные бои. Атаки противника на окраинах города отбиты, но он весь в огне.
Шестого ноября Луканин вернулся из Смольного. Он докладывает на партийном собрании, что там было торжественное заседание, посвященное предстоящей годовщине Великого Октября.
— В праздничные дни домам будет дано до полуночи электрическое освещение, — сообщает Луканин. — А теперь пожелаем товарищу Галкину успеха в работе. Получен приказ о переводе его в крупный госпиталь…
Мы тепло попрощались с Михаилом Никифоровичем. Новым секретарем партийной организации избрали старшего политрука Никанора Степановича Абрамова.
Через два дня госпиталь посетил начальник эвакуационного пункта Ленинградского фронта (ФЭП) И. М. Черняк. Он сделал обход медицинских отделений и подсобных служб. Потом меня почему-то вызвали к нему.
Черняк — мой однокашник, вместе учились в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.
— Товарищ полковник, явился по вашему распоряжению! — четко отрапортовал я.
— Не надо так громко! — сказал Черняк. — Садись…
И сразу приступил к делу. Оказалось, что Илья Михайлович готовится к докладу на первой конференции эвакопункта об итогах работы за шестнадцать месяцев войны. От меня требовалась подробная докладная записка о результатах лечения больных алиментарной дистрофией по методу дробного питания.
Я присутствовал на этой конференции.
В президиуме — командующий войсками Ленинградского фронта Говоров, член Военного совета Соловьев, представители партийных организаций, начальник Военно-санитарного управления Верховский, заместитель главного хирурга Красной Армии профессор Гирголав, главный хирург Ленинградского фронта профессор Куприянов.
В зале — врачи госпиталей, виднейшие деятели медицинской науки Ленинграда. С начала войны они возглавляют работу в эвакуационных и полевых госпиталях, активно помогая в организации военно-медицинского обслуживания фронта.
Хирурги, терапевты, консультанты, начальники госпиталей докладывали о своей работе в условиях блокады Ленинграда. Несмотря на все трудности, за первый год войны возвращено в части и выписано в батальоны выздоравливающих семьдесят два процента из числа находившихся на излечении защитников города-героя.
Декабрь принес радостное известие. Начавшееся в конце ноября наступление наших войск на Сталинградском фронте увенчалось неслыханным успехом. Там окружено двадцать две дивизии — триста тысяч немцев! Триста тысяч! Бои вышли из города на широкий простор приволжских степей.
Хорошо начали бить немцев и на Юго-Западном и Воронежском фронтах.
Радости в госпитале нет конца!
В главной аудитории митинг.
Радостный, очень радостный день в госпитале!
Зимний гром
овый год. Войне пятьсот девятый день. Блокаде — четыреста тридцать один.
В «Ленинградской правде» опубликованы итоги трех этапов наступления наших войск на Сталинградском фронте. Какой прорыв! На сотни километров! Разгром тридцати шести немецких дивизий! Сталинградский тайфун! Такой битвы не знал мир.
Вести с нашего, Ленинградского фронта пока скупые. «На отдельных участках… разрушено… сбили…»
Но от раненых нам известно: там, за Невой, идет бой. И наши продвигаются. Мы живем ожиданием, надеждой: близятся большие события.
И они наступили.
В морозное утро 12 января на обычной врачебной конференции дежурный врач докладывал, что произошло в госпитале за истекшую ночь. Доклад прервал начавшийся гул артиллерийской канонады. Он нарастал подобно грому.
— По местам! — дано распоряжение.
Обстрел? Нет, снаряды не падают на улице.
У набережной Невы толпа. Стволы орудий кораблей Краснознаменного Балтийского флота подняты кверху. Жерла изрыгают смертоносный огонь. Пламя выстрелов. Над кораблями не то дым, не то изжелта-сизый туман.
— Ать! — при каждом залпе громко приговаривает стоящий рядом со мной мужчина. — Будут рылом хрен копать!..
Впереди нас старушка с посохом. Заплесневелый темный салоп повязан шерстяным платком. Она то и дело крестится:
— Комуждо воздатся по делам его! Антихристы!..
— Бабуля, гроза грозная подымается! — кричит ей в ухо «атькающий» мужчина.
— Слышу, родненький, слышу! — обернулась богомольная женщина. — Так им, окаянным! Таскал волк — потащили и волка!..
Бабуля туже завязала за спиной платок и пошла дальше, шаркая подшитыми валенками.
Набережная содрогалась от залпов орудий.
«Не та ли это „кукарача“, — подумал я, — которую артиллеристы обещали писателю Фадееву дать фашистам, чтобы запомнили на десять поколений?»
Канонада продолжалась около двух часов.
На другой день, 13 января, наш госпиталь принял сто восемьдесят раненых. Они только что из боя. Почерневшие от копоти лица. Острые скулы с ввалившимися щеками. Запах пороха и гари. Крепкий дух овчины и крутого табака. Пробитые осколками шинели и полушубки.
В приемном покое дыхание январского мороза и ветра.
Нам не терпится узнать, что происходит на фронте.
— Бьем немцев…
На вторые сутки — двести раненых.
— Как успехи?
— Вгрызаемся в оборону гитлеровцев…
Заполняю историю болезни. Передо мной на носилках раненый. Он младший сержант, командир отделения 129-го стрелкового полка 45-й дивизии Шолохов Василий Михайлович. На первый взгляд бывалый боец: с потемневшим лицом и добротными, черными, лихо закрученными усами. К моему удивлению, сержанту, комсомольцу, двадцать лет.
Еще несколько раненых с усами. Это красновцы — бойцы 45-й гвардейской дивизии генерала А. А. Краснова, наступавшей в первом эшелоне на штурм вражеских укреплений, не раз громившей гитлеровцев на дальних и ближних подступах к городу.
Узнаю, что усы отращены по приказу Краснова. Этот приказ пересказал в стихах боец этой дивизии поэт Петр Ойфа:
Воинской ради красы, следуя доброй традиции гвардейских полков российских, во вверенной мне дивизии — всем отрастить усы.Ночь. Санитарные машины. Еще двести солдат и офицеров.
График хирургических бригад — шестнадцать часов работы, восемь часов отдыха — был только на бумаге. Врачи потеряли ощущение времени — принимают раненых пятые сутки.
Подхожу к носилкам. Боец 131-го гвардейского стрелкового полка Рыбкин Григорий Иванович. Тяжко пулеметчику. Ранен осколком в голову и правое плечо. Очень бледен.
— Подожду, — шепчет он. — Возьмите… нашего командира Мураева…
Двадцатитрехлетний лейтенант Алексей Васильевич Мураев здесь же, среди своих девяти однополчан.
Рядом бойцы 3-го батальона 269-го полка. Как мы потом узнали, этот батальон одолел шестьсот метров невского льда за семь минут. Восемьдесят шесть метров в минуту! Предельно стремительный бросок на левый берег Невы.
И вот свершилось! Прозвучали знакомые позывные. Репродукторы разнесли по госпиталю голос диктора:
— «На днях наши войска, расположенные южнее Ладожского озера, перешли в наступление против немецко-фашистских войск, блокировавших Ленинград…»
В ординаторской воцарилась напряженная тишина. Сияющие от радости лица. Жадно ловят каждое слово диктора Левитана. Это не скорбный голос тревожных военных дней: «Наши войска оставили…»
— «Прорвав долговременную укрепленную полосу противника глубиной до четырнадцати километров и форсировав реку Неву, наши войска в течение семи дней напряженных боев, — торжественно повышая голос, чеканил каждое слово Левитан, — преодолевая исключительно упорное сопротивление противника, заняли город Шлиссельбург, крупные укрепленные пункты Марьино, Московская Дубровка, Липка, рабочие поселки номер один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, станцию Синявино и станцию Подгорная.
Таким образом, после семидневных боев войска Волховского и Ленинградского фронтов восемнадцатого января соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда!»
— Ур-ра-аа! — послышалось в коридоре.
Начальник отделения Вероника Осиповна Раппе расцеловала всех врачей.
— А теперь в палаты! — заторопилась она. — Поздравим раненых!
В ординаторскую вбежала взволнованная санитарка Петрова.
— Слава те господи! — крестилась Дарья Васильевна. — Услышал бог мою молитву!
— Ты какому богу молилась? — улыбнулась Раппе. — Артиллерийскому?
Дверь в ординаторскую распахнулась. На пороге — раненый. Молчит. От нахлынувшей радости не может говорить. Стоит в дверях. Прижал ладони к лицу, будто защищаясь от хлынувшего слепящего солнца. Потом шагнул вперед.
— Товарищи… доктора! — поднял он руки. — Слышали? Блокада Ленинграда прорвана! Идемте к нам!..
В палатах восторг и ликование. Шум, гам. Знакомый, раскатистый голос диктора будоражил всех. Дожили!
Один из раненых хотел налить в стакан воды, но графин выскользнул из рук и разбился.
— Это к счастью! — крикнул кто-то.
Весть о прорыве блокады мгновенно облетела весь госпиталь. Репродукторы кричат об этом в коридорах, палатах, ординаторских, клубе. Атмосфера радостная, лихорадочно-восторженная.
Вот уже время и спать — «отход ко сну», согласно внутреннему распорядку в госпитале. Но он нарушен, его как будто волной смыло. Никому не спалось. Из палаты в палату, из ординаторской в ординаторскую по всем этажам шли люди. Вопросы, восклицания, объятия. Мне в своей жизни еще не приходилось видеть так много радости.
В эту удивительную ночь на 19 января мы слушаем по радио пламенное выступление Ольги Берггольц:
— Ленинградцы, дорогие соратники, товарищи, друзья! Блокада прорвана! Мы давно ждали этого дня. Мы всегда верили, что он будет!
Заглянул в третью палату. А там — дым коромыслом!
— Не можем уснуть. Дайте нам что-нибудь…
Вернулся к себе. Но вслед за мной Дарья Васильевна Петрова.
— Просят в третью палату, — говорит она с лукавой улыбкой.
— Что случилось?
— Просят чайку попить. Артиллерийского…
— Артиллерийского? Это что же такое?
— А бог его знает! Так староста сказал…
Иду в палату. На столе — заварочный чайник.
— Садитесь, товарищ военврач, — пригласил староста. — Просим чайку нашего отведать…
— Отче наш, что деется! — восторженно говорит Дарья Васильевна, наливая из чайника.
— Так ведь это не чай, а вино! Откуда? Не полагается это…
— Дорогой доктор, и мы так думаем! — смеется староста. — Дашенька, мне малость… Отче наш, народ русский, да постигнет кара твоя проклятых фашистов на земле и на небеси!
— Да постигнет! — хором поддерживают все…
Через некоторое время меня вызывают к Луканину.
— Завтра утром врачебная конференция отменяется, — говорит Федор Георгиевич. — Будет митинг. К нему надо позаботиться о срочном выпуске стенгазеты. Уверен, что успеем…
Всю ночь работала редакция. Корреспонденций не искали. Их несли сами авторы.
В небольшой комнате накурено, сизый табачный дым прядями тянется к потолку. Мы дружно составляем план газеты, подбираем фотографии, рисуем заголовки статей.
Редактор Скридулий склонился над небольшим листком бумаги. Дробно стучала пишущая машинка Нины Николаевны Мартинели, делопроизводителя административной части госпиталя.
— «…а когда нам подоспела подмога, фашисты бросились наутек», — диктовал ей редактор заметку раненого. — Есть?
— Да.
— Дальше. «И так они побежали, паразиты, что только пятки засверкали…»
— Константин Григорьевич, — прервала Нина, устало опустив руки, — меня одолевает сон!
— Еще одна закладка, и всё, — сказал Скридулий. — Продолжаем…
Комиссар не ошибся. Газету выпустили на рассвете. Большую, красочную, с фотографиями. В ней короткие, но взволнованные заметки: «Отомстим за все!», «Никакой пощады!», «Смерть варварам!», «Настал час возмездия!».
Здесь уместно вспомнить о нашей стенгазете «За Родину». Слово тоже было в строю. Газета выходила два раза в месяц. В холод и голод. В нетопленной комнате библиотеки Сулимо-Самуйло отогревал дыханием акварельные краски, рисовал заголовки. Раненые писали по горячим следам войны. Бывалые воины учили молодых, как надо бить врагов. А наши художники иллюстрировали заметки карикатурами, сочиняя под ними разящие тексты.
Но вернемся к митингу. Утром главная аудитория госпиталя не могла вместить всех желающих. Мест не хватало. Сидели в проходах, стояли у дверей.
Над большой черной доской аудитории полыхает лозунг: «Вперед, к победе!»
В аудиторию вошли десять старост медицинских отделений и командование госпиталя.
Митинг открыл Луканин.
— Поздравляю вас, дорогие товарищи, с прорывом блокады Ленинграда! — сказал он. — Великий час наступил!..
Комиссара прервало громкое «ура».
Один за другим поднимаются на трибуну раненые и больные, врачи, медицинские сестры, санитарки. Растревожились, разволновались. У каждого счеты с кровавыми гитлеровцами, свои потери, свои жертвы.
Сколько же слов нужно, чтобы выразить всю горечь страданий, что несла фашистская петля блокады!
К президиуму протискалась санитарка Петрова. Дарья Васильевна подошла к Луканину, наклонилась и стала что-то говорить. Федор Георгиевич слушал санитарку очень внимательно, с поощряющей улыбкой.
Потом он встал:
— Слово имеет санитарка восьмого медицинского отделения Дарья Васильевна Петрова.
Тетя Даша, не торопясь, взошла на трибуну. Надела очки, заушники которых когда-то были металлическими, а теперь вместо заушников — две петли из ниток.
— Ох как мы много страху повидали, милые вы мои! — начала Дарья Васильевна своим певучим говорком. — Хлебнули горюшка горького от супостата! Потеряли мужей, братьев, сынов. Я не могу… волнуюсь!
Она вынула из кармана халата какой-то пакетик и положила его перед собой.
— Здесь мои капиталы, что сберегла… Облигации займа. На тыщу рублей. Даю их на пушку, чтобы добить зверя! А если этого не хватит, кто-нибудь да и добавит! — уверенно посмотрела тетя Даша поверх своих очков.
Слова Петровой вызвали овацию. Аудитория проводила санитарку бурными аплодисментами. А когда они стихли, в верхнем, последнем ряду раздался громкий возглас:
— Дарья Васильевна, я добавлю!
Все обернулись. Там стоял раненый.
— Можно мне с места? Трудно пройти к трибуне…
— Пожалуйста! — ответил Луканин.
— Клементьев моя фамилия. Жена погибла от бомбежки, а двое детей — от голода… Остался я один. И еще три пальца! — поднял он забинтованную руку. — Но стрелять могу! Мы добьем зверя! И соберем денег не только на пушку, Дарья Васильевна. Вношу для победы над врагом шестьсот рублей!
Госпиталь и раньше принимал активное — участие в сборе средств на постройку самолетов и танков. Но призыв Петровой словно высек новый сноп искр неистребимой ненависти к врагу. Луканин едва успевал записывать взносы на разгром гитлеровцев.
Над стенами госпиталя развеваются красные флаги. Флаги и на всех домах. Улицы, несмотря на мороз, заполнены народом. Город праздновал победу, свою безмерную радость: прорвана блокада, душившая Ленинград более шестнадцати месяцев!
Послесловие
той поры прошло много лет. Но в памяти ленинградцев никогда не сгладятся героические девятьсот дней защиты осажденного города. Через каждые три минуты на него падали бомба или снаряд. Через каждые две минуты от голода или свинца погибал ленинградец…
Ныне то время — уже история.
Где сейчас мои госпитальные товарищи и друзья? Послевоенные дороги привели их в разные города нашей страны: в Тбилиси, Москву, Минск, Красноярск.
В Ленинграде живут и работают Луканин, Зыков, Горохова, Скридулий, Галкин, Муратов, Мельник, Богданов, Михайлова, Соловей. И многие другие…
Мы встречаемся, но не так уж часто, хотя и живем в одном городе. То ли сказывается возраст, то ли оттого, что спешим, торопимся по своим делам.
Но когда увидимся, каждая встреча вызывает в памяти далекие от нас годы. По-солдатски, крепко и трогательно обнимаемся. Каждому есть что рассказать!
Недавно вместе с Муратовым мы пошли на исторический факультет университета. И когда переступили порог здания, нас охватило волнующее чувство. Память мгновенно возвращает нас к дням суровой и грозной поры, голодной и холодной блокады.
И мы узнаем неузнаваемое, как бы видим темные и душные палаты, когда в темноте ориентировались не хуже, чем днем, и таким желанным был огонек самокрутки.
Даже четверть века спустя до нас доходит ощущение дыма печурок, табака, терпкого запаха пота и тощего «фитильного» освещения коптилок, при свете которых мы лечили раненых.
А сейчас здесь студенты, юноши и девушки — дети Победы. И ничто им здесь не напоминает о тех далеких и суровых днях.
Но мы помним! Разве можно забыть? Кто был здесь в то время, тот не забудет. А кто не был — должен знать.
Иллюстрации
Ленинградский государственный университет.
В дни войны здесь был госпиталь.
Начальник госпиталя военврач первого ранга профессор С. А. Ягунов.
Помощник начальника госпиталя по материальному обеспечению И. А. Зыков.
Военный комиссар госпиталя Ф. Г. Луканин.
Начальник медицинской части госпиталя военврач первого ранга профессор А. О. Долин.
Начальник восьмого медицинского отделения П. М. Муратов.
Военный комиссар госпиталя Ф. Г. Луканин на совещании с политруками медицинских отделений.
Школьница Таня Фомина читает раненым газету «Ленинградская правда».
«Оранжерейная» палата шестого медицинского отделения.
Семен Ильич Голубев.
Доставлено еще 200 кроватей.
Шестилетний Андрюша Попов, «гроза фашистов».
Три текста на обороте фотографии Андрюши Попова.
Главный библиотекарь университета Анна Герасимовна Сиротская.
Научные сотрудники Ленинградского университета С. А. Гуцевич и А. Н. Шиврина (в халате)
в лаборатории кафедры морфологии и систематики растений.
«Чернорабочий литературы» Иона Рафаилович Кугель.
Часть старинных книг XV века, спасенных в блокаду работниками библиотеки Ленинградского университета.
Письмо раненого А. Давтяна.
Посланец за пальмовой веткой В. М. Мельник.
Возложение венка на могилу академика Ивана Петровича Павлова 27 февраля 1942 года.
Сколка и вывоз льда со двора госпиталя весной 1942 года.
Для явки в батальон было дано один час сорок пять минут.
Воспитанник Дома испанской молодежи в Ленинграде Эулохио Фернандес Гонсалес.
Уборка университетского коридора весной 1942 года.
Госпитальный огород в ботаническом саду университета.
Госпитальный «Летний сад», созданный медиками на территории Биржевого проезда.
Политрук второго медицинского отделения И. С. Богданов читает раненым газету в «Летнем саду».
Стенгазета госпиталя «За Родину».
М. К. Петрова 26 июля 1942 года на заседании павловской сессии.
С. А. Ягунов и М. К. Петрова на Волковой кладбище после возложения венка на могилу академика Павлова.
Примечания
1
Библейский образ, означающий приближение к концу жизни.
(обратно)2
Откуда, товарищ?
(обратно)3
Из Астурии, начальник!
(обратно)4
Друг.
(обратно)



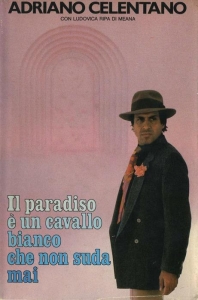
Комментарии к книге «Записки военного врача», Федор Федорович Грачев
Всего 0 комментариев